Онлайн чтение книги
Белый мыс
Часть вторая. Между мостами

I
Из кучки спящих пассажиров третьего класса неуклюже поднялся подросток. Пропотевшая рубаха прилипла к телу, черные шевиотовые брюки измялись и поседели от пыли. В трюме пахло конюшней – от соломенной подстилки под брезентом и множества потных тел. Слева от себя он увидел крестьянина-готландца; тот громко храпел с раскрытым ртом, раздувая светлые усы. С другой стороны лежала, крепко обнявшись, молодая пара – очевидно, туристы. Ярко накрашенные губы девушки улыбались неожиданно детской улыбкой.
Который же теперь час? И куда он дел свой чемодан? К счастью, чемодан оказался на месте. К ручке привязан адрес: Оке Андерссон, Нуринге. Пожалуй, следовало написать «Стокгольм» – ведь так называется город, в который он едет.
На палубе уже начали вылезать из-под одеял окостеневшие от утреннего холодка, растрепанные пассажиры, с опухшими от сна глазами. Оке осторожно пробрался между лежащими людьми. Судно накренилось и закачалось как-то по-особенному – приближалась земля. Свежий ветерок и собственное волнение сразу разогнали сон. Каждый раз, когда белый пароход зарывался глубоко в волны, привязанные на баке автомобили обдавало соленой пеной.
Но Оке бесстрашно пробрался на самый нос и стал смотреть вперед.
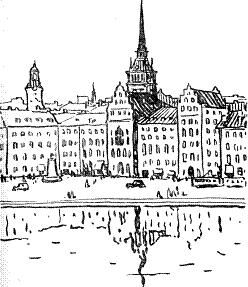
Далеко-далеко, на краю неба, показалась чуть различимая туманно-голубая полоска. Эта полоска земли – его страна, его отечество. Уж что-что, а эту истину не уставали твердить в школе…
И все-таки Оке чувствовал себя в чужом краю. Острое чувство чего-то непривычного охватило его еще в открытом море. Берег здесь куда более изрезан, чем дома, но ведь он к этому был подготовлен. Так в чем же дело? И только когда судно прошло Ландсурт, он понял причину своей растерянности. Глаза его тщетно искали светлых прогалин пониже темной полосы леса – нигде не было видно заливов с белым песчаным бережком. Зеленый приветливый Сёрмланд, о котором он так много слышал, смотрел в сторону моря строго и хмуро. Отполированные прибрежные скалы напоминали огромные сжатые кулаки, неумолимо перемалывающие прибой в мелкие белые брызги.
Гранит… Целая страна на сплошном древнем граните. Сойдя на берег в Нюнесхамне, Оке вновь обрел уверенность в себе: здесь, на материке, он ощутил твердую почву под ногами и в прямом и в переносном смысле.
Уже в поезде, усевшись на свое место, Оке вдруг вспомнил отца. Кто знает, может быть, Раллар[32]Раллар – так называют в Швеции рабочих, строящих железные дороги. -Лассе укладывал рельсы именно на этой дороге… Кстати, почему он решил в свое время покинуть Большую землю? Оке мало что знал об отце; кажется, он приехал на Готланд спустя год после поражения великой забастовки. Приехал с материка с большой группой рабочих, которые искали на каменоломнях спасения от безработицы, черных списков и преследований со стороны властей.
За окном вагона проносились волнующиеся под легким ветерком поля и сверкающие озера. Наконец-то Сёрмланд решил показать свою приветливую сторону. Зелень казалась здесь свежее, деревья – стройнее, чем дома, на опаленных солнцем меловых утесах. Но все же через несколько десятков километров ландшафт примелькался, и Оке задремал.
Когда он проснулся, мимо окна проносился крутой горный склон. Поезд глухо гудел и стучал в глубокой выемке; в купе стало темно. Прямо напротив Оке сидел крестьянин из трюма. Похоже было, что ему тоже успело наскучить путешествие.
– И куда же ты направляешься, парень? – спросил он с доброжелательным любопытством.
– В Стокгольм.
– В гости к родным небось?
– Нет, я получил там работу – в книжном магазине.
– Не иначе, по знакомству? – продолжал допытываться старик.
– Да.
Оке отвечал немногословно: ему вовсе не хотелось сообщать соседям по купе, что он положился на чужого человека, которого знал только в течение одной недели, когда тот отдыхал у них на пляже во время отпуска.
– А у меня в Стокгольме дочь. Вот хочу ее проведать. Давненько уж не виделись… Только я в толк не возьму, как узнать, что ты и в самом деле в городе. Ведь никакой стены там кругом нет, говорят, – продолжал крестьянин, вопрошающе поглядывая на попутчиков.
Оке смутился. И чего это старика красноречие одолевает? Неужели он не видит, что люди с Большой земли сидят и ухмыляются его словам! Оке и сам ломал голову над тем, как отделяется Стокгольм от сельской местности, но вовсе не собирался без нужды показывать свое невежество.
За окном потянулись дачи и жилые корпуса предместий. После длительной остановки в Эльвшё дело как будто пошло быстрее, и вот уже по вагонам объявляют:
– Следующая – Стокгольм южный! Стокгольм южный…
Поезд вполз в туннель, пассажиры принялись снимать с верхних полок свои вещи. Когда снова стало светло, состав шел по арке невысокого моста уже в самом городе. Оке почувствовал себя птенцом, который вылетел из темного дупла испытать силу молодых крыльев. Поток людей вынес его на перрон.
А вот и Хольм – на голову выше всех остальных, несмотря на легкую сутулость, словно он не успел еще выпрямиться после вежливого поклона. Его улыбка была чисто делового свойства, однако он сохранил еще товарищеский тон и обращение на «ты», сложившееся в ту пору, когда они ходили вместе с Оке по местам археологических раскопок и других туристических достопримечательностей Готланда.
– Добро пожаловать! Спасибо за гостеприимство на острове!
Выйдя с Оке на Центральную площадь, Хольм испытующе поглядел на него сбоку:
– Ну, как тебе город?
– Ничего-о… – протянул Оке.
Светло-серые близорукие глаза Хольма приобрели недовольное выражение. Похоже, парень делает вид, что Васагатан производит на него не большее впечатление, чем серые ряды построек в рыбацком поселке.
Оке поспешил сообщить, как он обрадовался предложенному месту. О городе он пока не стал отзываться. Первые впечатления были слишком пестры и сумбурны, и он решил, что будет умнее промолчать, чем поражаться, разиня рот, вещам, которые для горожанина, возможно, являются самыми естественными и будничными.
Букинистический магазин Хольма находился на узкой оживленной улице в районе Клара. В левом окне были выставлены гитара и большая лютня в окружении разложенных веером нот. Некоторые ноты пожелтели, корешки заметно поистрепались. В правом окне лежало множество книг, разбросанных, на первый взгляд, наудачу, без какого бы то ни было стремления соорудить эффектную рекламу.
Хольм остановился и самодовольно усмехнулся.
– Что, наверно, тебе показалось неаккуратно? В этом-то и кроется весь секрет. Специально рассчитано на покупателя, который ходит по букинистам в поисках редкостей.
Длинные и узкие помещения магазина соединялись аркоподобным проходом. Свет от окон не доставал до конца комнат, и в конторке позади полок с нотами царили постоянные сумерки.
Уже с порога Оке ощутил слабый, но характерный запах затхлой бумаги. Звук пишущей машинки с их появлением сразу же прекратился, и из полумрака конторки вышел приземистый человек средних лет в черном лоснящемся халате, таком же черном, как его густые, вьющиеся колечками волосы.
– Иосиф, вот наш новый сотрудник, Оке, – представил Хольм.
Иосиф бесстрастно приподнял верхнюю губу над короткими, словно сточенными зубами, однако его карие глаза смотрели приветливо.
– Восковки для осеннего каталога скоро будут готовы? – спросил Хольм.
– Да нет, еще несколько дней потребуется. Моя квалификация в роли машинистки оставляет желать лучшего, – ответил человечек с библейским именем.
Хольм достал из бумажника нечто вроде билетной книжечки и вырвал оттуда пару красных листочков:
– Можете пойти перекусить, а я пока присмотрю за магазином.
Иосиф принял купоны и сказал как бы мимоходом:
– Мне бы еще пятерку деньгами, на чаевые и сигареты.
– И на пиво, разумеется?
Иосиф получил смятую бумажку и поклонился.
– Ö ты, апостол трезвости Северных стран, пусть твои верблюды никогда не страдают от жажды! – провозгласил он торжественно.
Пораженный Оке последовал за ним в столовую «Стюре» на втором этаже большого углового дома на одной улице с букинистической лавкой.
Белые скатерти еще не успели украситься жирными пятнами, на большом столе стояло несколько высоких ваз со свежими цветами, и все помещение производило впечатление покоя и порядка – горячий час ленча еще не наступил.
– Венский шницель… Какая роскошь! Подумать только, в таком заведении! – комментировал Иосиф, изучая меню.
Оке не знал, что кроется за этим замысловатым названием, и хотя никогда не считал вареную треску, даже только что выловленную им самим, особенным лакомством, с явным облегчением обнаружил, что в меню есть блюдо, знакомое и ему. Правда, к рыбе подали прибор, в котором запутаться было почти так же легко, как в названии «венский шницель». Он чуть не полез в масло рыбным ножом!
Справившись с одним затруднением, Оке тут же столкнулся с другим. Как обращаться к Иосифу? Ведь он не знает его фамилии. Собеседник быстро заметил, что Оке с трудом подбирает слова для ответа на его оживленную болтовню, и тут же нашел выход:
– Будем на «ты», как товарищи по работе, хотя я и постарше тебя, парень.
– Как хочешь… А как твоя фамилия?
Иосиф глотнул пива и подмигнул:
– Меня здесь, в Клара, так давно зовут Иосифом, что я уж почти забыл, что написано в метрике. Кажется, Карл Петтерссон или что-то в этом роде.
Оке рассмеялся. Похоже, он начинал осваиваться с манерами Иосифа.
– Ну так… Скоро и Бруно Лильефорс[33]Лильефорс, Бруно (1860–1939) – шведский художник, рисовавший животныхбудет съеден, – сказал Иосиф, расплачиваясь, и указал на большую картину на противоположной стене.
Оке увидел знакомые но репродукциям изгородь, лису и птичку. Но почему это произведение искусства висит здесь, а не в Национальном музее? Или великий анималист был настолько привязан к этому мотиву, что только и рисовал лис с вальдшнепами в зубах?
– Что ты хочешь этим сказать – «Лильефорс съеден»?
– Купоны уже кончаются. Когда эта столовая открывалась, Хольм обменял своего «настоящего Лильефорса» и остальные картины, которые ты здесь видишь, на целую пачку купонных книжек. Это было на закате эры торговли произведениями живописи. Теперь, кажется, сбыт музыкальных шедевров тоже допевает свой последний куплет. Посмотрим, что последует затем… Хотя это будет уже без меня.
– Ты хочешь уходить?
Иосиф пожал плечами:
– Меня увольняют с первого ноября. У Хольма ведь нет работы для двоих.
Оке ощутил во рту клейкий вкус, как будто еще пережевывал не совсем свежую треску. Не так представлял он себе свои первые шаги на трудовом поприще. Когда Хольм предложил ему питание и жилье, а также необходимые деньги на одежду во время ученичества, Оке счел, что это не так уж плохо для деревенского парня, совершенно не знакомого с искусством продажи музыкальных инструментов, нот и книг. На деле же оказалось, что он лишил старшего товарища не только работы, но и жилья, согласившись на такую оплату. Иосиф уже успел рассказать ему, что приютился на диване в конторке.
– Не гляди так мрачно, юноша! Я всегда устроюсь, – сказал Иосиф беспечно.
Когда они вернулись в лавку, Хольм спросил Оке, не устал ли он с дороги, и показал ему кровать в одном из углов книгохранилища – большой комнаты в квартире на втором этаже, которую букинист переоборудовал для своих целей.
– Можешь поспать часика два, – сказал Хольм и оставил Оке одного.
Оке даже не обратил внимания на то, что в его необычной спальне не было, собственно говоря, никакой мебели. Вдоль всех четырех стен до самого потолка выстроились книжные полки, уставленные всевозможными книгами – тысячами книг… Он был потрясен.
«Вот бы бабушка увидела меня сейчас! – подумал Оке в веселом возбуждении. – Она-то всегда тревожилась, что я слишком много читаю!»
Тут он вспомнил, как бабушка силилась ободряюще улыбаться сквозь слезы при прощании, и ощутил прилив острой грусти. Он стал около одного из двух высоких голых окон и выглянул на улицу. Как раз напротив в ряду домов имелся просвет. Тут и там на пустыре лежали грязно-желтые доски для лесов и покрытые суриком железные балки. На этом месте намечалось выстроить универмаг – стекло и бетон, в полном соответствии со вкусами конструктивистов.
Усталость склеивала веки и пронизывала тело. Однако обстановка для сна была здесь лишь немногим лучше, чем на каменоломне в разгар рабочего дня. Насосы на пустыре полным ходом качали воду, раздраженно рычали злые компрессоры, и, перекрывая все остальные звуки, раздавался стальной перестук пневматических буров.
Примерно каждую пятую минуту по улице с грохотом проезжал красный автобус. Оке лег и накрылся с головой, но каждый раз, как шофер переключал скорость, чтобы одолеть каменистый подъем, он просыпался. Прошло больше часа, пока ему наконец удалось забыться у мысли растворились в дремотном тумане.
Вдруг он увидел себя идущим по большому песчаному холму, покрытому сероватыми зарослями камыша. Это были его родные дюны, но не такие, какими он видел их, когда подрос, а из ранних детских воспоминаний. Все ближе наплывала стена с остроконечными башнями, подобно миражу в перегретом воздухе. Ему нужно было идти навстречу стене, но песок заполнил ботинки, и они стали тяжелые, как свинец. В одном месте в стене виднелся проход в виде арки, наподобие городских ворот Висбю. Вдруг тишину над сверкающими в солнечном свете песками разрезала пулеметная очередь; мимо Оке промчался смуглый человек, одетый арабом, и забежал в тень старых ворот. Он медленно повернул окутанное бурнусом лицо и раздельно произнес, обращаясь к Оке:
– Пусть твои верблюды никогда не испытывают жажды.
Пустыня исчезла; они шли вместе по площади, где над городом возвышалась ослепительно белая башня, напоминающая маяк. Сверху доносился гнусавый, монотонный голос. Оке старался не слушать, но голос упорно пробивался сквозь уличный шум. Внезапно Оке как-то сразу различил слова – и тут же проснулся; вечернее солнце, склонившись над расчищенным пустырем, смотрело ему прямо в глаза.
– «Аф-тон-бла-а-дет», «Алл-ле-ханда»! «Афтонбла-дет», «Аллеханда»!
Одноногий газетчик на Дрбттнинггатан выкрикивал названия вечерних газет.
Дверь в коридор осторожно открылась, и со стороны лестничного окна донесся шлепающий звук, как будто выбивали ковры. Иосиф, выйдя на двор, выколачивал пыль из книг, беря по четыре – пять штук в каждую руку и ударяя ими друг о друга.
– Ты не спишь? – спросил негромко Хольм, заглядывая в книгохранилище.
Голос звучал очень дружелюбно, и Оке подумал, что более приветливого шефа он не мог бы найти.
– А что, для меня есть какое-нибудь дело? – спросил он бодро.
Хольм на минуту призадумался и указал затем на большой запыленный ящик.
– Можешь заняться сортировкой этих библий, а потом расставь их на полке. Просмотри и разложи погодам. Тетушка, у которой я купил лавку, была больше похожа на сборщицу утиля, чем на букиниста; так что не удивляйся, если увидишь самые неожиданные закладки. Тут может быть что угодно – от сухих клопов и черных локонов до засушенных растений.
Оке сразу же принялся рыться в ящике. Так вот какой оказалась его первая работа в городе! По сравнению со знойными, изнуряющими днями косьбы у богатых крестьян в его родном уезде она выглядела до смешного легкой.
В самом низу лежала библия в потрепанном кожаном переплете, отпечатанная на толстой, изготовленной кустарным способом бумаге. Не без благоговения пероворачивал Оке хрупкие желтые листы. «Библия сего года. Все священное писание на шведском языке. Напечатано в Упсале в 1541 году». Она, наверно, представляла огромную ценность для любителя. В ящике лежало немало библий в кожаных переплетах, но большинство было без титульных листов или с какими-нибудь другими повреждениями. Все же, сравнивая шрифт и разной давности правописание, Оке пришел к выводу, что самая древняя среди них та, что напечатана во времена Густава Васы. Особенно пришлось ему поломать голову над пожелтевшей брошюрой с затейливыми буквами, каких Оке еще не приходилось видеть.
В книгохранилище снова зашел Хольм – он искал французско-шведский словарь для покупателя-туриста.
– Ну, как дела?
– Во многих книгах я не смог найти год издания. А что делать вот с этой, греческой? – спросил Оке неуверенно.
– Это не греческий, а древнееврейский, – поправил его Хольм. – Поставишь ее в самом конце.
«Видно, он и сам не знает, когда она напечатана», – подумал Оке с облегчением.
II
Светло-коричневое здание в глубине улицы казалось декорацией, несмотря на две мощные круглые башни с напоминающими короны ярко-зелеными медными крышами. На небольшом возвышении – спасительном островке в бурном потоке уличного движения – стоял растрепанный Оке, поглядывая на большие часы между башнями. Вот уже пять минут он безуспешно пытается улучить момент, чтобы проскочить на тротуар.
Близилась осень, но широкая Васагатан жарко дышала размягченным асфальтом и зловонными голубоватыми бензиновыми дымками. Застекленный фасад большого нового типографско-конторского здания напротив Центрального вокзала сверкал ослепительным зеркальным блеском.
Но вот движение застопорилось, и автомобили выстроились плотными рядами, как вагоны товарного поезда. Между ними, небрежно посвистывая и непрерывно сигналя, пробирались на велосипедах мальчики-рассыльные, но и они застревали в конце концов в мешанине на Тегельбаккен. Здесь улицу перегородили трамваи, уткнувшиеся в железнодорожный шлагбаум.

Откуда-то со стороны громадного красного здания почтамта донесся нетерпеливый звук автомобильной сирены. Скоро гудел уже целый хор – хриплый и раздраженный. Как раз в эти дни газеты оживленно обсуждали преимущества езды без сигналов в городе, и можно было подумать, что водители решили воспользоваться случаем демонстративно выступить в защиту своего права сигналить сколько угодно.
Оглушенный душераздирающим концертом, Оке упустил момент, когда можно было проскользнуть между машинами, и вот уже весь караван снова пришел в движение. Увидев, что из ближайшего переулка на улицу выезжает широкий грузовик, он решился попытать счастья. В ту же секунду из-за грузовика выскочил мотоцикл и развернулся поперек улицы под аккомпанемент визжащих тормозов. Шофер грузовика первым обрушился на Оке:
– Тупая голова, надо смотреть, прежде чем вылетать вот так на мостовую!
Мотоциклист, сам едва не попавший под машину, ругался на чем свет стоит, давая выход своим чувствам. Перепуганный Оке поспешил с виноватым видом улепетнуть в ближайший переулок. Здесь смерть под колесами автомобиля угрожала ему, слава богу, только с одной стороны, так как движение шло в одном направлении…
Оке остановился перед зоомагазином, разглядывая зеленых попугайчиков. Они крошили семечки своими кривыми клювами и беспечно щебетали за проволочной сеткой. Ему показалось вдруг, что и он сам точно так же ограничен в своих движениях. С самого того первого вечера, когда они с Иосифом поездили по городу на трамвае и автобусе, ему так и не пришлось повидать еще что-нибудь новое. Боязнь заблудиться в незнакомых районах удерживала его, словно в заключении, в пределах двух – трех улиц. Когда же он все-таки отваживался выходить на оживленные магистрали, это явно оказывалось опасным не только для его собственной жизни, но и для других. К тому же он, как ни странно, быстро уставал от хождения по улицам. Казалось, серая тяжесть мостовых высасывает всю силу его мышц.
Кое-где сплошной массив домов рассекали сверкающие протоки. Несмотря на это Стокгольм представлялся ему каменным ландшафтом с нагромождением зданий, вывесок, фонарей, витрин. Все это могло показаться нереальным, если бы не назойливые звуки и запахи.
Со стороны ближайшей булочной доносился сладкий запах свежеиспеченного хлеба, напоминая, что до обеда в столовой «Стюре» еще далеко. У Оке засосало под ложечкой, и он почувствовал слабость. Последние два дня он экономил на какао и булочках, которые обычно составляли его завтрак.
По соседству с букинистической лавкой находился кинематограф, где показывали короткометражные комедии, хронику, мультипликационные фильмы и играл эстрадный оркестр. Благодаря дешевым билетам кино было самым доступным развлечением, да к тому же можно было входить в зал в любое время. Над входом, освещенным рядом молочно-желтых фонарей, простирал свои крылья орел, вытянув правую лапу навстречу посетителям. Растопыренные когти, напоминающие черный крест, должны были, очевидно, символизировать власть киноискусства над зрителем.
Оке колебался некоторое время, одолеваемый, с одной стороны, сильным приступом голода, с другой – настойчивым искушением укрыться в покойном мраке кинозала, усесться поудобнее в кресле и отдаться вихрю событий на белом экране.
Дойдя до молочной в самом конце подъема, он придумал выход. Если купить бутылку молока и немного хлеба, это обойдется дешевле, чем завтрак в кафе, а оставшихся денег хватит на билет в первом ряду. Правда, оттуда на экране поначалу видно только сплошную игру светотеней, но глаз постепенно свыкается с утомительным мельканием.
Получив покупки, он зашел в подъезд и стал пить прямо из бутылки. На узкой каменной лестнице послышались неуверенные шаги.
– Ччерт, до чего же тяжелы эти книги!
Энергичные обороты Иосифа свидетельствовали о том, что он опять зацепил что-то в темноте своей ношей. Хольм завел какое-то приспособление для переноски книг, но с ним было трудно управляться на крутых и скользких ступенях.
– Вот как! Ты сделал сегодня вклад в кассу «фирмы», – произнес Иосиф иронически при виде Оке, отставляя на время книги.
Оке уже приелась манера Иосифа говорить полунамеками, однако он невольно был заинтригован.
– Разве ты не знаешь, что Хольм, можно сказать, владелец молочной? – продолжал Иосиф.
– Он говорил как-то, что дал взаймы денег на переоборудование, но я не знал, что магазин принадлежит ему.
– А чем же, ты думаешь, он существовал все годы кризиса? Состоятельные люди не очень-то охотно приобретают подержанные вещи, а те, кто годами живет на пособие по безработице, идут к букинисту не покупать, а продавать книги, если только им попадет в руки такой предмет роскоши.
– Зачем же Хольм приобрел лавку, если она плохо окупается? – возразил Оке хмуро.
Из того, что Иосифа увольняют, еще не следовало, что надо охаивать «фирму».
– Это история длинная, но крайне простая. Его отец был обеспеченным человеком, пока не пустился в спекулятивные сделки, понадеявшись на спичечные акции. За самоубийством Крейгера[34]Крейгер, Ивар – шведский финансовый магнат, создал в 1914–1918 годах крупнейшую капиталистическую монополию, основным ядром которой являлся шведский спичечный трест. в Париже последовал крах также и Хольма-старшего. Сын еле-еле смог закончить свое образование, а потом у него просто не было никакого выбора – пришлось становиться за прилавок. Поскольку он раньше метил в просвещенные эстеты, то и остановился на букинистической торговле – все же «интеллектуальный» труд. На те крохи, которые старик ухитрился спасти, купили у старой хозяйки эту лавку, да, на счастье Хольма, хватило еще и на бакалейный магазинчик. А не то жить бы ему здесь в чулане, а не в собственной квартире со всеми удобствами в Бергсюнде.
Иосиф снова надел на плечи ремни; Оке отправился в книгохранилище – поставить пустую бутылку и взять охапку книг. Когда он спустился во двор, Иосиф спросил, где он думает провести вечер.
– Хотел в «Лондон» пойти…
– А, плюнь ты на кино – в такую погоду! Я задумал хоть раз внести разнообразие в наше меню. Сегодня получка, мне кое-что причитается, так что я угощаю обедом в «Пагоде», а потом можем заглянуть в парк Тиволи.
Оке был все еще не в духе и собирался ответить, что он не ожидает получки и не может тратиться, но в эту минуту Хольм позвал Иосифа:
– Тебе придется заняться покупателями. Я уйду часа на два.
– Не утонуть бы мне в потоке покупателей! – ответил Иосиф со своей неизменной язвительной гримасой.
Оке продолжал выколачивать книги в одиночку. Все-таки что-то похожее на настоящую работу… Плохое настроение постепенно выветрилось. Вдруг на него напало желание запеть, и он начал колотить переплетенные книги с таким шумом, словно кто открыл стрельбу из карабина. Очень скоро в первом этаже открылось окно и показалась седая старушечья голова с растрепанными прядями на лбу и опухшими глазами. Хриплым от негодования голосом старуха закричала на него:
– И долго ты собираешься тут безобразничать? Сейчас же прекрати, не то позову полицию! Кто не получит чахотки от вашей проклятой пыли, того уж, верно, ничем не проймешь!
Оке попытался возразить, что сквозь ее постоянно запертое окно и пылинке-то не просочиться, но это было все равно что гасить пламя керосином.
– Я пожалуюсь господину Хольму, и он тебя выгонит – вот увидишь! Уж он-то воспитанный и вежливый человек. Не понимаю, как он только уживается с такими работниками!
У окон мебельной мастерской на противоположной стороне двора столпились любопытные столяры, а в подворотне хохотал, соскочив с велосипеда, мальчик-рассыльный. Оке испугался, что какой-нибудь проходящий по улице полицейский услышит перепалку и в самом деле вмешается.
– Что вы тут расшумелись?
Иосиф высунулся из окна конторки и пристально поглядел сквозь очки на старуху. Эффект был быстрым и неожиданным.
– Цыган проклятый! – пробормотала она и захлопнула раму так, что только стекла зазвенели.
– Она грозилась полицией за то, что я хлопал книгами, – объяснил Оке.
Иосиф только расхохотался в ответ:
– Знай себе продолжай! Запрещение шуметь действует только с десяти вечера, и Хильда отлично это знает – она не один год работала консьержкой. А сейчас, видно, не в духе с похмелья и ищет, с кем поцапаться.
Весь остальной день Хильда не показывалась, но под вечео, когда Иосиф и Оке переходили Хёторгет по пути в «Пагоду», они снова столкнулись с ней.
Перед входом в рынок стояла тележка, нагруженная козлами и досками. На мостовой валялись сливовые косточки и листья цветной капусты, и над серым квадратом площади еще стоял запах свежей зелени, хотя торговля уже была закончена и товары убраны.
На смену георгинам, помидорам и моркови на площади появились огненно-красные шинели Армии спасения.[35]Армия спасения – религиозная благотворительная организация. Четыре христовых воина женского пола в траурных капо-пах на гладко причесанных головах пощипывали струны своих гитар и как раз приготовились запеть. С самого края окружившей их толпы стояла Хильда, опираясь на трость с ручкой из черного дерева. Она уже протрезвела и явно приняла меры к тому, чтобы выглядеть прилично; но сейчас по щекам ее катились слезы и свободная рука шарила в кармане пальто в поисках носового платка.
– Оплакивает собственное грехопадение, – констатировал Иосиф холодно. Потом прибавил с оттенком сострадания в голосе: – Она переживает адские мучения с тех пор, как уверовала, что попадет на небеса, если бросит пить.
* * *
Лифтер притормозил на пятнадцатом этаже Кунгстурнет, и лифт остановился с легким толчком. Иосиф и Оке вышли следом за группой дам, направлявшихся в кондитерскую.
– Я заказал столик в «Каюте» на восемь часов. А пока мы можем пройти наверх и полюбоваться видом, – предложил Иосиф.
Свежий ветерок встретил их уже на лестнице, ведущей на крышу. Казалось, сама осень шлет свой хладный привет с серебристо-белого неба. На зеленых островках в заливе Сальтшён и на кудрявом холме, возвышавшемся над крышами Норрмальма и увенчанном скромным зданием старой обсерватории, листва уже начала желтеть, переходя местами в ржаво-коричневый цвет.
Большая белогрудая чайка прервала свой парящий полет и устроилась на позолоченной верхушке флагштока рядом с ними. С террасы отчетливо было видно пятнышко на клюве и рыбьи глаза с красным ободком.
– Узнаёшь нашу улицу? – спросил Иосиф, указывая куда-то в море крыш с башенками и жестяными флюгерами.
Улица казалась глубоким оврагом, на дне которого непрерывно струились машины. Ослабленный расстоянием гул движения напоминал журчание потока. Внизу Оке никогда не замечал, насколько красив город. Дым из высоких труб в заводских районах расплывался в легкие облачка, острые контуры башен скрадывались в невесомой вечерней мгле. На западе, на краю неба, солнечный жар еще не успел потухнуть, и озеро Меларен пламенело медно-красным просветом между окутанными голубыми сумерками лесистыми холмами.
Чайка снова взлетела. Оке проследил за ее парением, и вдруг у него защекотало под ложечкой – на мгновение ему показалось, что он сам парит птицей над Стокгольмом.
Сидя за столиком в «Каюте», Иосиф и Оке видели очень мало. Поэтому, поев, они снова вышли на террасу, чтобы дождаться момента, когда загорятся уличные фонари. Внезапно вдоль всех набережных вытянулись цепочки огней. Их ясный белый свет контрастировал с ярко-желтыми квадратами окон на Сёдэр и Кунгсхольмен. Зато лежавший поблизости низкий район Клара казался темным, и церковная колокольня вырисовывалась черным силуэтом, прорезанным светящимся циферблатом курантов.
Оке стал глядеть в сторону Юргорден. Разноцветные огни Грёна Люнд отражались плавно колеблющейся гирляндой в заливе Сальтшён. Глядя на них, Оке невольно испытал чувство праздничной радости; он не знал еще, какую тоску нагоняют аллеи увеселительного парка на того, кто только что видел за игорным столом, как его последняя монетка исчезает в чужом кармане.
* * *
На следующее утро Иосифа уже не было в лавке. После него остался только лист восковки с надписью «Спасибо за все». Хольм смял бумагу и сердито выбросил в корзину.
– Я пожалел беднягу и приютил его, когда он торговал шнурками и не имел жилья, а он взял и удрал! Не мог подождать, пока ты освоишься с работой.
Внезапно Хольм подскочил к прилавку, выдвинул ящик и открыл небольшой металлический ларец.
– Хоть мелочь оставил – удивительное благородство!
Оке онемел. Неужели Иосиф вор? Неужели он бежал, ограбив кассу? Не так уж много денег там было, а если полиция станет разыскивать Иосифа, то у него нет почти никаких надежд спастись.
– Ты думаешь сообщить в полицию? – спросил Оке, запинаясь.
Хольм нервно забарабанил суставами по прилавку, взвешивая обстоятельства дела:
– Я бы это непременно сделал, да ему еще причиталось кое-что под расчет. А если бы этот идиот уволился как человек, он получил бы все сполна.
Оке был неприятно поражен резкими словами Хольма. Хоть Иосиф и производил странное впечатление, он все-таки был хорошим товарищем.
Оке ощутил отсутствие Иосифа в тот же день. Когда настал час ленча, Хольм вызвал Оке из книгохранилища:
– Ну что ж, придется тебе заняться тут делами, пока я схожу поем. Если будет что-нибудь особенное и ты не справишься, то скажи, что я скоро приду.
Оке неуверенно занял место за прилавком, слишком отчетливо сознавая, что он и в самом деле еще «не освоился с работой».
Поток пешеходов за окном сразу приобрел новый смысл. Вот к одной из витрин вплотную приблизилось узкое женское лицо и на секунду задержалось. Послышался стук каблуков около двери. Каблуки проследовали мимо.
Оке облегченно вздохнул и смог даже оценить весь юмор положения: будущий продавец-букинист стоит и мечтает, как избежать встречи со своим первым покупателем! Медленно, очень медленно тянулись минуты; полчаса прошло без происшествий. Но вот проем входной двери заполнило светло-серое демисезонное пальто. Пожилой строгий господин приподнял шляпу:
– У вас есть «Троймерай»?
Оке еле удержался от того, чтобы сразу же ответить: «Нет, к сожалению, как раз сейчас нет ни одного экземпляра».
Вместо этого он постарался принять возможно более независимый вид:
– Минуточку…
Он сделал несколько шагов по направлению к ближайшей полке, но покупатель остановил его ехидным вопросом:
– Может быть, лучше будет поискать среди нот?
Оке почувствовал, как краснеет до самых корней волос, и пробормотал извиняющимся тонем:
– Простите, так вам надо «Троймерай»?
Он поспешил схватить кипу нот с непонятными названиями. Что это за «Троймерай» и как оно пишется?
– Здесь у вас, похоже, одни французские песенки! – Покупатель взял у него ноты и стал сам просматривать их.
– Где господин Хольм? – спросил он нетерпеливо.
– Он ушел завтракать.
– Что ж, тогда мне, очевидно, придется обратиться в другую лавку.
Светло-серый господин безнадежно пожал плечами.
Оке снова остался в одиночестве, но не успел еще как следует обдумать свой провал в области коммерции, как дверь опять открылась. Вошли два гимназиста и небрежно разложили на прилавке пять учебников:
– Сколько вы дадите за эти?
Оке окинул товар критическим взором и потихоньку заглянул туда, где стояла первоначальная цена. Кажется, есть возможность совершить выгодную сделку и укрепить пошатнувшуюся веру в свои способности! Однако после того как Иосиф забрал большую часть того, что ему причиталось, в железном ларчике оставалось всего около полутора крон мелочью…
– Видите ли, у нас их скопилось так много, что я не знаю…
– Но вы же раньше всегда принимали учебники, – настаивал один из юнцов.
– Ну что ж, эта немецкая грамматика хорошо сохранилась. Мы можем дать за нее семьдесят пять эре, – сказал Оке, думая про себя, что совершает подлинный грабеж.
– Только-то?
Гимназисты изобразили разочарование, но согласились. Они как раз собрали остальные книги и двинулись к выходу, когда вернулся Хольм.
– А эти что тут делали?
– Предлагали подержанные учебники. Я взял вот этот за семьдесят пять эре.

Хольм бегло взглянул на книгу.
– Это устарелое издание, его никто не купит. На будущее предоставьте мне совершать закупки! – произнес он язвительно.
Оке проглотил выговор и побрел в конторку. Там стояла пишущая машинка, напоминая, что ему не хватает еще одного таланта в сравнении с Иосифом. Хольм вошел следом и начал обстоятельно и велеречиво разъяснять, как следует обращаться с теми, кто покупает и продает книги.
– Прежде всего ты должен хорошо ориентироваться, что у нас есть и чего нет. Книги расставлены по алфавиту, по авторам. Начинай изучение отсюда, потом переходи в коридор.
Оке пошел за лестницей, чтобы начать с самых верхних полок. Когда он наконец взобрался на нее, Хольм вдруг обратил внимание на печальное состояние его измятого и запыленного костюма.
– Ты должен выглядеть более представительно. Сходи купи себе пару спортивных брюк. Это практично и производит аккуратное впечатление.
Оке был очень доволен тем, что его коммерческая практика переносится в другую область, однако не испытал никакой чрезмерной благодарности: Хольм вручил ему примерно такую же сумму, какую Оке затратил на проезд из дома, а между ними было условлено еще заранее, что Хольм оплатит дорогу.
III
Холодный дождь стекал по водосточным трубам, смывал с тротуаров грязь и старые автобусные билеты, барабанил по стеклам витрин.
– Получите, пожалуйста, без сдачи!
Хольм протянул с поклоном завернутую книгу – первую, проданную после ленча. Мелочь упала в железный ларчик с тем же печальным звоном, какой производили дождевые капли, разбиваясь о крыши. Дневная выручка неизменно оказывалась угрожающе скудной, хотя книжный сезон был в разгаре.
Оке сидел в комнатушке в глубине магазина и подбрасывал топливо в камин. Уголь кончился, а тонкие доски от ящиков горели, как солома. Наличного запаса было явно недостаточно, чтобы прогнать сырость из помещения.
Тяжелые тучи накрыли задний двор серой крышкой. Где-то высоко на кирпичном карнизе дребезжал ржавый флюгер. Оке почувствовал себя загнанным в безысходный тупик. В чем состоит вся его нынешняя жизнь? Тупое ожидание конца рабочего дня, назойливое, сосущее чувство голода и возрастающее сомнение, что из него может что-нибудь выйти…
Внизу у стены приютился небольшой склад. Двери его были обиты длинными, выкованными вручную полосами, которые появились на свет еще тогда, когда Стокгольм не успел превратиться из купеческо-ремесленного в индустриальный город. В той части склада, которой располагал Хольм, хранились ящики, рулоны упаковочной бума-ги и кипы старых газет. На полу среди щепок и стружек лежал топор с зазубренным лезвием, насаженный на топорище, которое забраковал Зы самый невзыскательный дровосек. Вместо чурбана для колки дров служил порог.
В порыве внезапного ожесточения Оке с такой силой рубанул по дощечке, что топор засел глубоко в полу. И все-то тут не как следует!
– Какой молодец!
Из своего дровяного сарая вышла Хильда и с интересом стала наблюдать за его работой.
Голос Хильды звучал вкрадчиво, совсем, как у ее обожаемых проповедниц с рынка, и Оке взглянул на нее с удивлением.
– Какой молодец! – повторила она, но на этот раз уже с явным ехидством. – Давай руби весь дом, раз уж начал! Смотришь, домохозяину не придется тратиться на снос. Вот небось обрадуется, если я расскажу ему!
Оке выдернул топор. Его так и подмывало вырвать у Хильды трость и изрубить ее на мелкие кусочки. Тогда у старухи, во всяком случае, будет действительное основание жаловаться и не придется так настойчиво искать, к чему придраться. Однако мстительные планы остались неосуществленными; вместо этого он повернул топор и разбил дощечку обухом.
Когда Оке вернулся в магазин, Хольм по-прежнему стоял за прилавком и смотрел в раздумье на улицу. Чем-то заняты его мысли? Унылым ожиданием банкротства или мечтами о большом, шикарном магазине с неоновой рекламой в строящемся напротив здании?
С улицы доносился звонкий голос:
– Ап-пельсины, сладкие, сочные ап-пельсины!
Разносчик с лотком приютился под самыми лесами. Грязь от стройки размокла вокруг него, словно проселочная дорога, и прохожие бежали мимо под проливным дождем, не останавливаясь. Оке стал механически разглядывать внешность продавца. Из-под помятого козырька старой кепки свисал сальный чуб, пальто лоснилось от длительной носки, но молодое исхудалое лицо и вся фигура парня выражали гордый вызов.
Может быть, стоило выйти на улицу и кричать с еще большим вызовом: «Покупайте книги! Дешевые книги в прекрасном переплете!»
Апельсины или книги, бюстгальтеры или вакса – какая разница? Главное, что это все товар – товар, который нужно рекламировать самым настойчивым образом, чтобы только сбыть.
В отношении Оке к книгам произошла большая перемена, которая сильно печалила его самого, а главное, еще более подрывала уверенность в себе. Раньше они были для него чем-то труднодоступным и прекрасным, тая в себе волнующий аромат неизведанного и радость познания. Теперь же он обращался с ними, как с кирпичами; но хуже всего было то, что он скоро уже будет не в состоянии прочесть серьезную книгу. Он оказался в том же положении, что изголодавшийся человек перед уставленным яствами столом.
Возможность неограниченного выбора привела к тому, что он в конце концов уже не выбирал, а просто хватал, что попадется под руку. Классические произведения очень скоро перестали его привлекать. Зато он буквально глотал множество авантюрных и детективных романов с неправдоподобными приключениями и загадочными убийствами.
После таких книг он ощущал опустошенность и разочарование, сознавая, что только крал у самого себя дорогое время подобным бездумным бегством от действительности.
Производя опись в книгохранилище, Оке наткнулся и на порнографию. Хольм никогда не позволял себе иметь дело с так называемыми «пикантными» фото уличных женщин, которые определенные издательства в Клара распространяли среди мальчиков-рассыльных и учащихся. Он предпочитал поставлять пожилым, полнеюшим господам «занимательные» бытоописания с «изысканными» иллюстрациями, напечатанные на отборной бумаге, которая своей гладкой белизной напоминала девичью кожу.
Такого рода издания вызывали у Оке когда сильное возбуждение, когда глубокое отвращение.
Течение его мыслей никак не могло войти в определенные берега. То он был неотесанный деревенский парень, который с радостной пытливостью наблюдает шумную жизнь города. То все его чувства сосредоточивались на мрачном изучении собственного я. Книги изменяли ему, когда он пытался найти выход из лабиринта мыслей и настроений. Или, может быть, он сам изменил книгам? Порой ему начинало казаться, что прочитанные страницы – всего только расплющенная, безжизненная древесина, а его уставленная книгами комната – сплошное нагромождение мертвых слов.
Нет, в этом большом городе ему нужны были не вымышленные судьбы и образы, а обычные живые люди.
Дождь затянулся до позднего вечера, но Оке не мог усидеть в четырех стенах. Его влекла улица с ее шумами и толкучкой.
Тротуар был забит людьми; одни выходили из кино после только что окончившегося сеанса, другие ждали начала следующего. При желании Оке тоже мог бы зайти в какую-нибудь дешевую киношку – в этот день он получил целую крону сверх обычного на кофе. Перед входом в знакомый кинотеатр все так же протягивал вперед свои мощные когти орел. Вытянутая мокрая шея, как у ящера, голова и клюв напоминали сегодня крикливого попугая… Оке нерешительно посмотрел на рекламу очередной комедии. Нет, только на время приглушишь чувство тоски и одиночества, а после будет еще хуже.
Он пошел дальше, в сторону Кунгсгатан. Мокрый асфальт отражал карминно-красное, ядовито-зеленое и синее сияние газовых реклам; временами по нему пробегали лучи автомобильных фар, спотыкаясь о неровности мостовой. Истертые до предела подметки начали пропускать влагу. Правая подметка, очевидно, совсем отстала – с правильными, как у мигающей рекламы, промежутками ботинок всасывал и снова выжимал холодную воду. Никогда еще Оке не чувствовал себя таким продрогшим и жалким, как сегодня; однако возвращаться в книгохранилище ему не хотелось.
Из недавно открытого ресторана на улицу доносились говор и музыка. Навес над входом был сделан в виде балдахина, натянутого на каркасе из желто-зеленых неоновых трубок. Сквозь этот призрачный свет скользил бесконечный ряд чужих лиц, искаженных, как в кривом зеркале. Даже молодые девушки казались грубыми и отталкивающими, и ни в одном взгляде нельзя было заметить интереса к нему или к кому-нибудь другому.
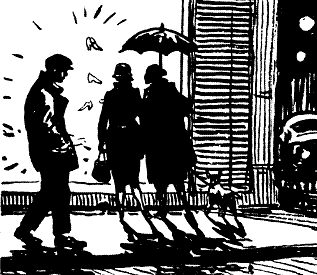
Ему расхотелось идти дальше, к Стюреплан, и он возвратился на Дроттнинггатан. Но и здесь глаза встречных смотрели холодно и равнодушно. Значит, дело не в неприятном зеленом освещении у ресторана… Независимо от того, прокладывали ли прохожие себе путь в толпе локтями или с механической вежливостью уступали дорогу. – на всех лицах было написано, что их обладатели витают в своем собственном, закрытом для посторонних мире.
Единственным исключением оказались две молодые женщины, которые с возгласом восхищения остановились перед витриной большого обувного магазина. Художник, действительно, оформил ее с большим вкусом. Окно представляло картину в золотой раме; лучшие модели сезона медленно парили в воздухе на кирпично-красных кленовых листьях. Тоненькие проволочки были почти незаметны, а искусно подобранное освещение создавало полное впечатление пронизывающего прозрачный воздух мягкого осеннего солнечного света.
Заглядевшись, Оке нечаянно ступил в водосток, и его эстетическое чувство разом захлебнулось в грязной воде. Теперь он видел только неутешительные надписи на ценниках мужских ботинок в соседней витрине.
Он побрел дальше, свернув в слабо освещенный переулок с двумя рядами черных деревьев. Дождь прекратился, но на площадке перед серым школьным зданием гулял пронзительный холодный ветер. Торчащие ветви роняли целый град крупных капель, и Оке стал искать укрытие, чтобы немного переждать. Как раз напротив, в центре длинного фасада, на высоких колоннах покоились своды трех арок. Удивленный тем, что никогда не замечал раньше этого своеобразного здания, расположенного к тому же совсем рядом от Норра Банторгет, он пересек мостовую.
В небольшой нише сбоку можно было различить когда-то белые буквы: «Торговля с рук в подъезде воспрещается». Тут же рядом висели под стеклом фотографии легко одетых танцовщиц, демонстрирующих свои стройные ножки в очередном ревю. Внимание Оке привлекла надпись: «Театр Народного дома». Ах, вот оно что! Он очутился в подъезде Народного дома, столичного штаба рабочего движения.
Но ведь именно здесь надо искать сочувствия и товарищества! Темные двойные двери были не заперты. Глубоко взволнованный, Оке поспешил войти… и услышал лишь эхо собственных шагов в большом, почти совершенно пустом зале.
Около скульптуры Менье[36]Менье, Константин (1831–1905) – выдающийся бельгийский скульптор, живописец и график. «Угольщик» сидел, прислонившись спиной к металлической ограде, старый рабочий – седые волосы, заросшие густой щетиной щеки, посеревший воротник заношенного пиджака. Рядом пристроился молодой мужчина, засунув руки в карманы грязного плаща и свесив голову набок.
Казалось, в скульптуре больше жизни, чем в дремлющих согнувшихся фигурах на скамье. «Угольщик» тоже слегка пригнулся, но его поза напоминала о стянутом тетивой луке. В усталых чертах бронзового лица можно было прочесть вызов.
Оке осмотрел бледно-желтые стены, пересчитал галереи и заметил не без гордости, что в доме, принадлежащем самим рабочим, головокружительно высокие потолки. На досках объявлений у ведущих наверх лестниц можно было прочесть, что собрание профсоюза чернорабочих состоится в зале «В», а парикмахеры собираются в зале «С». Следовательно, туда ему незачем идти. Оставалось поискать уголок, где можно выпить чашку кофе.
В конце концов Оке очутился в «Красной комнате» – прокуренном ночном кафе, где собирались обычно водители такси. На стене висел портрет Стриндберга[37]Стриндберг, Аугуст (1849–1912) – выдающийся шведский писатель. Кафе «Красная комната» названо так в честь одноименного романа Стриндберга – густые волосы, нервные, тонкие черты вдохновенного лица. Столики стояли почти вплотную друг к другу, и говор посетителей и звон посуды сливались в сплошной несмолкаемый гул. Оке сразу стало веселее на душе, и он решил поискать что-нибудь для чтения, чтобы задержаться подольше в этой теплой атмосфере. На одном из стульев он нашел «Хандельсарбетарен», оставленный кем-то из посетителей.
Еще одно удачное совпадение! «Работник торговли» – ведь он сам готовился стать одним из них. Оке с жаром углубился в статью о молодых служащих. Статья была написана мягче, чем он ожидал. Автор обходил наиболее жгучие вопросы осторожными оборотами, однако в конце Оке натолкнулся на слова, которые заставили его глаза загореться. «Молодые парни и девушки выполняют сложную, тяжелую работу, получая 12–15 крон в неделю. В целом ряде случаев было обнаружено, что работодатели пользуются наличием большого числа ищущих работу и принимают молодежь с испытательным сроком в один или несколько месяцев, в течение которого вообще ничего не платят. По окончании «испытательного срока» хозяин заявляет с театральным жестом, что, к сожалению, не может включить вас в штат. Парню или девушке приходится уходить – и все начинается сначала».
Оке перечитал этот абзац и вперил взор в сгустившийся табачный дым, словно надеясь почерпнуть оттуда ясность в отношении своего собственного положения. Ведь он сам тоже проходил как раз испытательный срок. А чему он научился? Колоть дрова, растапливать камин, подметать пол, так как уборщица появлялась слишком редко, – это он умел делать и раньше, и с этим трудно было надеяться на что-нибудь, если он в один прекрасный день будет выставлен на улицу…
Неужели Хольм сознательно растягивает срок ученичества, во время которого не обязан платить? Трудно было заставить себя поверить в это. Однако, раз зародившись, подозрение уже не исчезало. А что, если придется искать другую работу? Оке глянул на соседа по столу, державшего в руках зачитанный до дыр экземпляр «Дагенс нюхетер». Страницы объявлений пестрели заголовками: «Сдается комната…», «Ищу работу…». Несколько магазинов предлагали место мальчика-рассыльного, однако предпочитали «юношу из хорошей семьи».
Как же это понимать? Выходит, если у тебя скончались родители или если хозяин не пожелает признать твою семью достаточно «хорошей», значит тебе нельзя доверить доставку на дом покупок на велосипеде?!
Он прочел еще одно объявление:
«16 – 17-летний юноша может получить место с большими перспективами. Предпочтение будет оказано тем. кто живет у родителей в городе».
Да, неутешительно все это выглядело… Ну хорошо, можно согласиться с тем, что молодежи, родившейся в самом городе, следует предоставлять работу в первую очередь, но ведь Оке не навязывал себя Стокгольму! А уж если его сюда заманили, то он добровольно не отступит!
IV
В один из первых дней зимы, когда с свинцово-серого неба падал мокрый снег, к дому подъехал грузовик и остановился перед теми самыми воротами, которые Хильда была обязана запирать каждый вечер в девять часов. Несколько парней погрузили на машину ее жалкий скарб; саму старушку посадили в кабину рядом с шофером.
Оке наблюдал за ее отъездом с чувством облегчения. Последнее время она обращалась с ним, как какой-нибудь желчный фельдфебель с новобранцами.
Однако очень скоро ему начало казаться, что дни стали еще однообразнее с тех пор, как на дворе перестал раздаваться ее ворчливый голос. Она хоть интересовалась им настолько, что удостаивала своего гнева. Хольм – тот просто молчал.
В те долгие часы, когда в магазин не заглядывал ни один покупатель, тишина становилась нестерпимой, и Оке с томительным чувством ожидал взрыва.
– Так я никогда ничему не научусь! – сказал он как-то вечером. Пусть хозяин знает, что он не так уж дорожит этим местом.
Хольм состроил кислую физиономию и развел руками:
– Все зависит от тебя самого! Надо быть поинициативнее, проявить побольше напористости.
Это верно, ему следовало проявить побольше напористости, но на что направить ее, эту напористость, когда на дворе слишком холодно, чтобы идти выколачивать книги? У него совсем не было верхней одежды; стоило ему побыть немного на улице, и он замерзал, как мокрый пес.
У Оке не было никого, перед кем он мог бы излить свою душу. Дома, на острове, радовались тому, что он нашел себе работу, и он не хотел прибавлять забот бабушке. «В газете написано, что безработных уже почти не стало, – сообщала она в своем последнем письме. – Но это касается, видно, только материка. А у нас здесь хуже, чем когда-либо; в каменоломне работу трудно получить, а кроме нее – куда пойдешь? Стен и Хильдинг добиваются от муниципалитета, чтобы были организованы чрезвычайные работы, но, кажется, из этого ничего не выйдет. Одно верно – многим придется жить эту зиму впроголодь. Нам, слава богу, хоть повезло осенью с рыбой…»
Всегда-то бабушка найдет что-нибудь утешительное… Но он угадывал между строк, что она сильно обеспокоена тем, как им прокормиться.
Он должен найти себе такую работу, где бы ему платили наличными – другого выхода нет. Помощи из дому он не мог просить. Однако солидный счет от конторы, изготовившей каталог книг по заказу магазина, натолкнул Хольма на мысль, которая нарушила все расчеты Оке.
– Пожалуй, я пошлю тебя на вечерние курсы машинописи, – объявил он однажды. – За шестьдесят часов ты сможешь выучиться прекрасно писать на машинке, если днем тоже будешь упражняться.
Неожиданный энтузиазм Хольма заразил и Оке. Раз Хольм решил учить его на свой счет, то придется остаться, чтобы как-то оправдать его затраты с помощью приобретенных знаний.
Курсы находились на Хамнгатсбаккен; там размещалась маленькая канцелярия и вместительное учебное помещение, где трещали, словно пулеметы, около пятидесяти машинок. Узкий коридор был завешан женскими пальто, а около стенного зеркала держался устойчивый запах духов и пудры.
Оке получил именную папку, программу и кипу писчей бумаги, затем его провели через все поле боя к свободному столику.
Преподавательница была молода и хороша собой, не вела занятия по-деловому сухо.
– Будете обучаться по слепому методу, – сказала она и прикрепила к машинке черную дощечку, заслонившую от глаз клавиши.
С помощью небольшой схемы Оке стал искать нужные буквы; только теперь он начал понимать, что значит потерять зрение.
«Ля, ля, ля, ля…»
«Ляю, ляю, ляю, ляю…»
Левый мизинец, совершенно непривычный к работе, окоченел первым. Когда Оке через два часа встал из-за машинки, все тело ломило. Ныли сухожилия, болели мускулы рук, спина и шея не гнулись.
В ряду девичьих спин перед собой он заметил темно-синий пиджак, белый крахмальный воротничок и напомаженную голову. Этот ученик быстро стучал по клавишам тонкими пальцами пианиста. Оке глянул на свои собственные руки: широкие ногти – наследство от многочисленных поколений тружеников. Тяжелая работа с ранних лет сделала эти руки сильными, но, пожалуй, слишком деревянными, чтобы он мог рассчитывать на серьезный успех в подобного рода упражнениях.
«Ля, ля, ля, ля…»
На улице сыпалась с неба горстями белая крупа, тротуары обледенели. Придется всю дорогу домой бежать, чтобы не замерзнуть.
– Сила удара неровная. Далее, господин Андерссон не следит за интервалом, – заметила учительница, проверяя его труды. – На следующем уроке напишете еще две страницы «ля» и «ляю». Это должно помочь.
Постепенно пальцы стали привыкать, но Оке считал, что успехи на новом поприще заставляют себя ждать слишком долго. Однако его нетерпение привело лишь к тому, что он оказался предметом нелестного внимания со стороны преподавательницы. Тихо и мягко двигаясь среди машинок, она появлялась около него, когда он меньше всего этого ожидал.
– Господин Андерссон, следите за посадкой!
– Равномернее, соблюдайте темп!
– Выше кисти, господин Андерссон.
– Господин Андерссон, вам следует держать спину прямее и ноги вместе, когда вы пишете.
Это бесконечное «господин Андерссон» звучало просто по-дурацки, и ему казалось, что девушки, легко осваивавшиеся с ролью образцовых, вышколенных конторщиц, каждый раз прыскали за его спиной.
На самом деле все сидели сосредоточенно, целиком уйдя в свои задания. Курсы можно было сравнить с трамвайным вагоном, куда входят и откуда выходят, не обращая никакого внимания на других пассажиров.
После того как Оке прошел половину программы, Хольм лично устроил ему экзамен:
– Ну что ж! Основы ты уже усвоил. А дальше, пожалуй, и сам справишься? – Хольм подумал еще и добавил: – Все равно я не смогу внести плату за оставшуюся часть курса.
Оке оставалось только согласиться, хотя он и испытывал горькое разочарование. Новая неудача… Если бы Хольм считал, что Оке есть смысл продолжать обучение, он, конечно, смог бы уплатить такой пустяк.
Однажды ранней весной, когда с крыш падали подтаявшие звонкие сосульки и школьники уже начали играть в камешки на подсушенных солнцем тротуарах, случилось нечто неожиданное.
Оке сидел как раз в закутке и выгребал золу из камина, но сразу узнал мягкий девичий голосок.
– У вас есть какие-нибудь учебники по английской коммерческой переписке? – спрашивала девушка Хольма.
Карин! Оке вовремя удержался от того, чтобы выскочить в магазин: нужно было сначала хоть отряхнуться от золы.
– Минуточку, я посмотрю… Может быть, найду экземпляр почище в книгохранилище, – ответил Хольм.
Она осталась одна, и в этот момент вошел Оке, стараясь говорить самым обыденным тоном:
– Привет, Карин!
Длинные ресницы подскочили, открыв удивленные глаза.
– Оке! Ты… ты?…
– …стал букинистом? Нет, еще не успел.
Карин засмеялась, отчего у нее появились знакомые детские ямочки на щеках, хотя она уже превратилась в молодую даму с маникюром и подрисованными бровями.
– Станешь, если захочешь. Я всегда была уверена, что ты сам сделаешь себе карьеру. – Она добавила: – А я учусь в Высшей торговой школе. Папа хочет, чтобы я имела специальность. А то ведь сейчас такие ненадежные времена…
Оке подумал про себя, что уж кто-кто, а адвокат Бергман всегда выйдет сухим из любой переделки, и не удержался от ехидного вопроса:
– И ты предусмотрительно покупаешь подержанные учебники?
– Нуда. Понимаешь, я учусь бережливо относиться к деньгам! Папа вбил себе в голову, что я избалована, и стал прижимистым. Но он не знает, что я сняла комнату и кухню пополам с подругой и у меня остается половина тех денег, которые он дает на квартиру.
– Вот этот, кажется, выглядит получше. Может быть, вам нужно еще что-нибудь? – спросил вернувшийся Хольм с заискивающей вежливостью.
– Пожалуй… – Карин усиленно изучала полки с художественной литературой и делала одну находку за другой. – Вы не могли бы доставить мне эти книги на дом?
– Конечно, конечно, мы это организуем немедленно.
– Боюсь, что я буду дома только к вечеру, – произнесла Карин неуверенно.
– Наш рассыльный доставит вам книги, когда вам это будет удобно, – заверил Хольм, провожая ее к выходу.
– Вы разговаривали совсем как знакомые, – сказал он, когда Карин вышла.
– Она из Висбю, но у ее отца есть дача у нас в Нуринге, – объяснил Оке неохотно.
Он чувствовал себя так, словно его разбудило яркое, волнующее весеннее солнце. Увидел вдруг незамеченные Раньше пятна на своей одежде, обтрепанные манжеты рукавов. Пришлось полдня затратить на то, чтобы подновить костюм с помощью иголки с черной ниткой, холодного кофе и жесткой щетки. Перед самым закрытием он отправился в путь с книгами.
Следуя по указанному адресу, он пришел к новому дому в самом конце Норр Меларстранд.
По всему фасаду висели ящики балконов. Сквозь большие угловые окна можно было увидеть шикарные хрустальные люстры. Карин жила во дворе, но здешние дворы были покрыты зеленой травой, а не бетоном и булыжником; их освещало солнце и овевал ветерок с залива Риддарфьерден.
Оке осторожно позвонил и стал нетерпеливо ожидать звука шагов в коридоре.
– Может быть, ты войдешь, если есть время? Ведь не каждый день встречаешь знакомых из родных мест, – сказала Карин, открыв дверь.
Она предложила ему присесть на оттоманке с красивыми подушками. По ту сторону залива, над темной полосой Лонгхольмена, еще горела яркая полоса вечерней зари, но в комнате уже царили сумерки. Одна только шкала радиоприемника светилась в углу около книжной полки.
– Айни собралась сегодня в кино. А я тут сидела одна и слушала танцевальную музыку. – Карин зажгла стоячую лампу с приятным абажуром.
Оке вдруг растерял все слова. Он сидел молча, погружаясь в атмосферу уюта и мечтательное настроение, навеваемое музыкой.
– Ты спешишь?
– Нет, мы уже кончили на сегодня.
– Тогда можно предложить тебе чашку чая?
Пока Карин возилась на кухне, Оке изучал обстановку. На письменном столе стояла фотография какого-то артиста. Мраморно-белое лицо резко выделялось рядом с черным бархатным костюмом, строгие черты казались вытесанными античным скульптором, но жар глаз говорил о кипучей внутренней жизни. Оке встал и подошел к столу.
– Правда, Ёста Экман бесподобен? – сказала, входя, Карин. – Я видела его во многих ролях… Вот только в Гамлете, к сожалению, не пришлось.
Оке ответил уклончиво. Он ни разу не был в театре. Правда, в букинистической лавке он познакомился с произведениями Шекспира. Один отрывок запомнился ему наизусть.
…Ни мрачность
Плаща на мне, ни платья чернота,
Ни хриплая прерывистость дыханья.
Ни слезы в три ручья, ни худоба,
Ни прочие свидетельства страданья
Не в силах выразить моей души.
Вот способы казаться, ибо это
Лишь действия, и их легко сыграть,
Моя же скорбь чуждается прикрас
И их не выставляет напоказ. [38]Дается в переводе Б. Пастернака.
Карин слушала со смущенной улыбкой.
– Помнишь, как мы стояли у калитки и рассуждали о жизни? Что мы тогда понимали…
Оке вдруг стало даже жарко – что это на него нашло? Стать в позу посреди комнаты и декламировать! Захотелось произвести впечатление, показать, что читал Шекспира, – а она небось сразу разгадала его хвастовство.
– Это было как раз перед тем, как ты поехала на лето за границу, а я переехал в Стокгольм, – пробормотал он.
– О, я должна показать тебе фото, которые мы с папой сделали, когда ехали на машине через Францию! – воскликнула Карин и поспешила к полке за толстым альбомом.
Когда они вспомнили о чае, он уже остыл. Оба увлеклись разговором, обрадованные случаю посидеть рядышком на оттоманке.
Вот Карин на железной террасе Эйфелевой башни, и у ее ног простирается затянутый мглой город; а вот вся семья Бергман около своего автомобиля. В руках у них тяжелые, налитые солнцем гроздья винограда.
– Посмотри, что можно купить в порту в Марселе! Карин перевернула последнюю страницу и указала на снятый крупным планом ящик, наполненный какой-то сероватой блестящей массой.
– Осьминоги!.. Знаешь… иногда мне кажется, что этот город – тоже вот такое чудовище с длинными щупальцами. Он протянул их по всей стране и старается захватить все, до чего только может добраться.
– Совсем как… – Оке вовремя остановился. Он собирался сказать: «Совсем как Пароходная компания у нас дома», чуть не забыв, что отец Карин – старший юрисконсульт этой компании.
Он ощутил вдруг прикосновение плеча девушки и запах ее волос, но тут же подумал о разделявшей их невидимой пропасти.
– Я, наверно, никогда не привыкну к этим самодовольным людям здесь, в Стокгольме, – продолжала Карин. – Они думают, что видели все на свете, только потому, что они горожане. А если услышат, что ты из провинции, то смотрят на тебя с таким сожалением, точно ты родился уродом.
– Но зато здесь не сплетничают так. Никому нет дела до того, что делает другой.
Карин повернула к нему лицо и многозначительно улыбнулась:
– Да, что бы ты ни делал, никто об этом не узнает…
Оке осторожно поцеловал ее губы, напомнившие ему мягкие росистые лепестки розы. Девичьи руки, обвившие его шею, сразу согрели его своим теплом и прогнали леденящее чувство одиночества.
Долго сидели они щека к щеке, крепко прижавшись друг к другу, не говоря ни слова.
V
Освободившаяся ото льда вода струилась под свисающими прядями плакучих ив около здания Государственного банка, после чего протискивалась, покрытая темными завитушками, между прямыми, как стрела, гранитными набережными около риксдага и королевского дворца. Оке остановился на мосту и посмотрел в сторону ратуши. В весенней мгле над озером Меларен, над красной башней вздымался вверх, словно золотой трезубец, увенчанный тремя коронами шпиль.
Он заторопился дальше. На Мюнтторгет уже с утра царило шумное оживление, зато Вестерлонггатан по ту сторону площади встретила его приветливой тишиной. Движение автомобилей было здесь запрещено, и пешеходы спокойно вышагивали прямо посреди мостовой. Многочисленные магазины придавали улице сходство с рыночными рядами.
В одном из круто лезущих в гору переулков Оке увидел корабельную пушку, которая служила угловой подпоркой старому дому, а выйдя на Стурторгет, обратил внимание на датское ядро, застрявшее в доме на Скума-каргатан.
Следы прошлых войн и осад только подчеркивали мирную атмосферу. Около водоразборной колонки посапывала косматая ломовая лошадь; с лепного карниза биржи взлетела к солнцу стая сизых голубей.
Оке сел на лестнице биржи в ожидании, пока откроется. «Продовольственный магазин Стурторгет». Вскоре он увидел, как высокая светловолосая девушка принялась устанавливать в одной из витрин подносы с колбасой и фаршем. Как только часы на башне Большой церкви пробили восемь, молодой продавец отпер дверь магазина.
Оке переступил порог с ощущением неприятной сухости в горле:
– Я по поводу вашего объявления о свободном месте.
– Господин Энглюнд вон там, – сказала девушка сухо, указывая в сторону складского помещения.
Здесь вдоль одной из стен стоял громадный ящик для картофеля, рядом с которым выстроились картонные коробки, ящики с фруктами и несколько бочек с сельдями, окруженные бурыми лужицами рассола. У противоположной стены находились раковина и длинный прилавок. На одном конце прилавка стояла газовая плитка, а у другого сидел полноватый добродушный мужчина и пил кофе.
Он не спросил у Оке никаких рекомендаций, только записал фамилию и адрес.
– Старый город хорошо знаешь?
– Не так, чтобы каждый переулок… – протянул Оке, стараясь не вступать в слишком большое противоречие с истиной.
– Ну, это роли не играет. Быстро разберешься… Мы платим пятнадцать крон в неделю; кроме того, будешь получать утренний кофе и ленч. Блюда не очень шикарные, но голодным ходить не будешь… Да, и еще одно дело, – продолжал торговец. – Велосипеда для развозки у нас нет. По-моему, он и ни к чему – здесь, в Старом городе, все так близко.
Оке понял по тону, что Энглюнд все-таки считал это обстоятельство препятствием при найме рассыльного. Сам же Оке не имел ничего против того, что магазин не располагает велосипедом. Он по-прежнему считал, что передвигаться на двух колесах по кишащей машинами улице – предприятие чересчур рискованное.
Светловолосая продавщица доложила, что пришло еще трое желающих и хотят видеть шефа.
– Зайди вечером или позвони – получишь ответ, – сказал хозяин.
А Оке считал дело уже решенным!
Чем ближе к вечеру, тем больше росла его неуверенность. Телефон в букинистической лавке имел отвод в книгохранилище. Когда наконец подошло время звонить, Оке включил отвод и сделал вид, что ему понадобилось зачем-то выйти.
– Продовольственный магазин Стурторгет! – ответил молодой мужской голос. – Вы по поводу места? Уже занято… Ах, вы уже были здесь? Как ваша фамилия?
– Оке Андерссон.
– Минуточку, сейчас подойдет господин Энглюнд.
– Алло… Это Андерссон? Все в порядке – можете приступать к работе. Желательно завтра же с утра.
Завтра же? Оке рассчитывал иметь в запасе несколько дней, чтобы заранее предупредить Хольма об уходе, но если он сейчас заговорит о том, чтобы начать со следующей недели, то Энглюнд, чего доброго, возьмет кого-нибудь другого…
– А в котором часу надо приходить?
– Без четверти восемь. До открытия всегда находятся какие-нибудь дела.
Оке решил, что может с таким же успехом начать укладываться сразу. Только он застегнул свой чемодан, как вошел Хольм:
– Можно получить твои ключи от комнаты и от подъезда?… Спасибо! – Хольм убрал их с улыбкой в карман. – Итак, тебя можно поздравить?
– С чем?
– О, я слышал, ты получил новое место. Ты уж прости мое любопытство, но я всегда прислушиваюсь к твоим телефонным разговорам. Ведь платить за них приходится мне!.. А где ты собираешься ночевать сегодня? – продолжал он с интересом. – Или ты думал оставаться жить здесь?
Оке глотнул, но не мог выдавить из себя ни слова. Его благодетель продолжал улыбаться злой улыбкой, напоминая оскалившуюся овчарку.
– Ну, вон отсюда!
Разъяренный Хольм схватил Оке за руку и вытолкал его за дверь. Чемодан вылетел следом. Он проехал по полу, замок открылся от толчка. Выйдя на улицу, Оке замер было в нерешительности. Затем столь же нерешительно направился в сторону Центрального вокзала.
Когда дежурные в зале ожидания стали подозрительно коситься на него, словно догадываясь, что чемодан всего лишь маскировка, он вернулся к букинистической лавке и прокрался на двор. Хольм забыл спросить запасной ключ от висячего замка на дровяном сарае.
Стараясь не шуметь, Оке вытряхнул стружку из пары упаковочных ящиков и развязал несколько кип старых газет. Бумага защищала от сквозняка, но зато раздражающе шелестела при малейшем движении Оке на импровизированной постели.
«Где ты собираешься ночевать?» Оке снова увидел перед глазами язвительную улыбку Хольма, и вдруг внутри его что-то надломилось. Он затрясся в судорожных рыданиях и… уснул – большой ребенок, убаюканный собственными слезами.
Холодные лапки пробежали по его шее, и он вздрогнул от отвращения, когда проснулся и ощутил прикосновение длинного волочащегося хвоста. Крыса подскочила и улепетнула, стукнувшись по пути об ящик. Оке не мог ее видеть, но по сердитому шипенью понял, что это здоровенная бестия. У него пропало всякое желание спать в таком обществе.
На дворе слышались шаги и голоса, стучали мусорные ящики. Дождавшись, когда уйдут сборщики мусора, Оке распахнул дверь и подбржал к колонке. В трубе долго хрипело и булькало, наконец ударила тугая холодная струя и смыла чувство отвращения и следы слез на липе.
Все выглядело иначе при дневном свете. Кажется, он позабыл, что уже взрослый? Лядно, больше это не повторится. Наконеи-то он свободен и не зависит больше от Хольма! И что бы ни случилось с ним в пользовавшемся плохой славой городском районе между мостами, он больше не вернется сюда, к этим домам, покрашенным в желтый тюремный цвет.
Оставив ключ в замке и ощущая нечто похожее на то волнение, которое охватило его при расставании с Гот-ланлом. когда исчез последний маяк и пароход остался наедине с морем и небом, Оке зашагал с чемоданчиком в руках в Старый город.
Площадь Стурторгет производила такое же мирное впечатление, как и накануне, только из мрачного здания холостяцкой гостиницы на Чёпмангатан появилось несколько типов, словно вышедших прямо из «Людей бездны» Джека Лондона. Одетые в мешковатые, залоснившиеся костюмы, они щурились на Оке мутными, налитыми кровью глазами.
– Что, парень, в путь собрался?
– Будь другом, дай на кофе.
Оке ответил, что у него самого нет на кофе. Похоже было, что они ему не поверили, но один из них произнес все же с сочувствующей улыбкой:
– Разыщи меня как-нибудь в другой раз – может быть, у меня найдется на чашечку.
Было еще только полседьмого. Оке слонялся по переулкам, чтобы убить время, стараясь одновременно запоминать незнакомые названия. Все, что находилось в стороне от больших магистралей, было для него до сих пор неизведанным краем.
Когда он вернулся на площадь, продавец как раз отпирал заднюю дверь магазина.
– Меня зовут Курт, – представился он. – А тебя? Ты что, переезжаешь? – продолжал он расспрашивать, глядя на чемоданчик.
– Это грязное белье, думаю сдать где-нибудь, – соврал Оке.
Жизнь в букинистической лавке сделала его более сдержанным и недоверчивым по отношению к незнакомым людям. Курт повесил шляпу и пальто и надел халат. Он затянул потуже пояс, словно корсет, затем выпятил грудь и расправил плечи наподобие позирующего борца.
– Рассыпь по полу мокрые опилки и подмети, – скомандовал он Оке, а сам вытащил пилку, чтобы закончить отделку своих и без того блестящих ногтей.
Первой покупательницей оказалась тихая старушка, которая спросила битых яиц. Пилка исчезла в кармане, и Курт изобразил на лице сожаление:
– Очень жаль, но как раз сейчас нет. Загляните под вечер… Сегодня к нам пришел новый рассыльный, а новички обычно проявляют большие способности в этом отношении, – закончил он высокомерно.
Он то и дело манерно взмахивал рукой и смотрел на свои часы.
– Опять Ингрид запаздывает. И, как всегда, автобус окажется виноватым. А шеф, конечно, застрянет на полдня в Кларахаллен, очаровывая старых торговок! Сходи-ка в молочную и купи нам что-нибудь на завтрак.
Оке встретил блондинку на площади.
– Я – новый рассыльный, – представился он. – Что тебе купить к кофе? Я как раз иду в магазин.
Она холодно взглянула на него и произнесла заносчиво:
– Что-то я не припоминаю, чтобы мы с вами перешли на «ты», когда вы приходили сюда узнавать насчет места!
Оке замкнулся в себе, как устрица, и решил выполнять все поручения молча. Он развешивал картофель в пакеты по два кило, вскрывал ящики, расставлял консервные банки и все это так усердно, словно работал на сдельщине. Никто не мог отнять у него радостного сознания, что он делает настоящее дело.
– Все сюда! – послышался вдруг возбужденный голос.
На улице рядом с овощной машиной стоял Энглюнд. В петличке отлично сшитого пальто торчала красная гвоздика. Проседь на висках казалась заметнее теперь, когда он был в черном котелке.
Шофер стоял уже в кузове и кинул вниз большой кочан капусты. Энглюнд подхватил зеленый мяч и послал его прямо в открытую дверь магазина.
– Лови! – крикнул он, смеясь.
Вялое настроение разом улетучилось. Ингрид и Оке ловили на лету тугие кочаны и передавали их Курту, который ловко воздвигал зеленую пирамиду.
– Перекусить успели?… Хооошо! Скоро можно ждать первого наплыва, – сказал Энглюнд, когда разгрузка была окончена.
– Быстро переписывай ценники, Курт, – продолжал он. – Мне удалось выторговать немного на капусте и моркови, так что мы можем продавать на несколько эре дешевле, чем другие.
Зазвонил телефон, начали поступать заказы на доставку на дом. Первый маршрут привел Оке в один из самых узких переулков между Большой и Малой Нюгятан. Тяжелая дубовая входная дверь в подъезд была обита искусно выделанными железными скобами, напоминая о средневековье. Несколько более современная автоматическая пружина закрыла ее за ним.
В глубине подъезда виднелся какой-то просвет, несмотря на полное отсутствие окон. Лестница обвивала позеленевшее от плесени деревянное сооружение. Похоже было, что некогда здесь намеревались установить лифт, но прервали работы, даже не застелив снова крышу над лестничной клеткой и не убрав лесов. На темном квадрате земли, открытом дождю и снегу, рос кустик бледной крапивы. Сырость уже развернула свою разрушительную деятельность, и штукатурка местами совсем осыпалась.
Оке невольно вспомнил подозрительных типов, которые встретились ему около холостяцкой гостиницы, и старался угадать, что же он увидит здесь.
– А, вы уже принесли продукты! Заходите!
Просто, но со вкусом одетая женщина приняла у него корзину, пока он разглядывал уютную, обставленную хорошей мебелью квартиру.
– Вот и вам за услугу, – сказала она и протянула ему какую-то мелочь.
Вечером он принес картошку и копченую колбасу в семью портового рабочего с четырьмя детьми. Уже в коридоре его встретил запах стирки и мокрых пеленок. Обстановка в комнатах была бедная и ветхая, но здесь он получил целых двадцать пять эре. Вопреки его опасениям, оказывалось, что население Старого города дружелюбнее и щедрее, чем жители других районов Стокгольма.
Эхо разносило над крышами то затихавший, то усиливавшийся бой курантов немецкой кирки. Погас свет и в табачной лавке, которая закрывалась последней. Оке успел спрятать свой чемодан в мусоре, заполнившем до половины глубокий подвал под магазином, и стоял теперь в нерешительности перед телефоном-автоматом, сунув руки в карманы.
Решиться – позвонить Карин? Но если она назначит ему свидание в кондитерской или захочет пойти в кино, он не будет знать, что ей ответить…
Послышались четкие шаги двух полицейских, приближавшихся по улице Трбнгсюнд. Подсознательная неприязнь бездомного в отношении блюстителей порядка заставила Оке шмыгнуть в Сульгрэнд, чтобы затем выйти на Вестерлонггатан. Но там ему встретился новый патруль. Оке решил, что назревает что-то необычное, и стал выжидательно на углу Игнациигрэнд. Покосившиеся стены домов наклонились, казалось, еще ближе друг к другу в темноте. Деревянные ставни в первых этажах, низкие подъезды, железные решетки перед подвальными окошечками и в самом деле производили мрачное впечатление, однако нигде не было видно ни спекулирующих водкой, ни уличных женщин. Оке убедился, что все соседние переулки так же пустынны и в них царит та же провинциальная тишина; слегка разочарованный тем, что не оправдались его ожидания, он зашел в первое попавшееся кафе.
Здесь закрывали уже в десять, и Оке понял, что сделал глупость. В «Красной комнате» он смог бы просидеть за полночь.
На улице стало прохладнее, и он вдруг как-то сразу ощутил сильную усталость от дневной работы и долгого слоняния. Совершенно механически он зашагал в сторону моста Риксбрун и опомнился, когда уже прошел довольно большую часть Дроттнинггатан.
– Простите, у вас нет спичек? – спросил его элегантного вида пожилой господин.
– К сожалению, нет – я не курю.
– В самом деле? Это теперь редкое явление среди молодежи.
Он зажал сигару в тонких губах и вытащил зажигалку. В свете ее огня мелькнуло широкое золотое кольцо.
– Мне просто захотелось поболтать, – сказал он с улыбкой и поглядел с видом ломбардщика на изношенный пиджак Оке.
– Безработный?
– Нет… почему?
– Так, мне показалось. Платят плохо?
– Да, похвастаться нечем, – согласился Оке.
Господин подвинулся поближе и мягко положил ему руку на плечо. Было что-то неприятное в этом доверительном прикосновении.
– Может быть, я смогу предложить вам что-нибудь получше. Поедем ко мне и там за рюмкой вина или коньяка переговорим. Вам явно надо немножко согреться.
Вот оно что – новый благодетель сыскался! Оке хмуро отказался и поспешил свернуть за угол. Господин остался стоять на месте. Оке решил выступить в роли сыщика и стал следить за ним из подворотни. Маневр с сигарой повторился несколько раз без результата, пока в конце концов приглашение не было принято бледным долговязым юнцом. Оке проследовал за ними на некотором расстоянии до Тегельбаккен. Там они подозвали такси и уехали.
На трамвайной станции Оке нашел уголок, где можно было рассчитывать на несколько часов беспокойного сна. На стене над скамьей какая-то фирма, торгующая строительными участками, развесила идиллические фотографии, которые рекламировали новый дачный поселок и призывали Оке и других бездомных, приютившихся здесь, стать индивидуальными застройщиками…
VI
Оке сидел съежившись на ступеньках какого-то подъезда на Норртюлльсгатан и мерз. Он хотел было выйти за черту города и разыскать какой-нибудь сеновал или скирду в поле, но потом представил себе долгий обратный путь и передумал. Закрывая глаза, он видел перед собой одни сплошные лестницы – крутые и отлогие, с истертыми ступенями, узкие и широкие, перила с решетками из чугунного литья и простые, деревянные.
Он прислонился поудобнее к двери и вдруг почувствовал, что она подается. Дверь на чердак тоже оказалась незапертой. Оке стал пробираться на ощупь. Выключателя ему найти не удалось, но глаза скоро привыкли к темноте, и он разглядел несколько старых мешков.
Наконец-то можно снять ботинки и вытянуть затекшие ноги! Оке натянул на голову пиджак и улегся на грубой, пропахшей картофелем мешковине. Пол был выложен неровными кирпичами, неплотно прилегающими друг к другу. Они казались с каждой минутой все тверже и острее, заставляя его поворачиваться с боку на бок, так что в конце концов разболелось все тело.
Наконец он забылся и увидел во сне, что лежит голый на каменистом пляже. С моря дул пронизывающий ветер, тревожно кричали чайки.
Когда Оке проснулся, сквозь чердачное окошечко просачивался серый свет. Очевидно, еще только рассветало. Он встал, стуча зубами. Чердак был вовсе не таким уж обширным, каким показался ночью, и он ругал себя за то, что не осмотрелся получше сразу – в глубине чердака виднелся диван. Правда, сквозь большие дыры в обивке проглядывала вата, но Оке казалось, что он никогда еще не видел более уютного ложа. На диване лежало и одеяло – рваное и грязное, но все же теплое ватное одеяло.
Он сделал несколько шагов по направлению к дивану.

Потом замер на месте и уставился на тряпки. Что это – ему почудилось или они в самом деле шевелятся? Он затаил дыхание и прислушался. Ерунда, ведь это всего только старое, истрепанное одеяло…
Он как раз собрался приподнять его, как вдруг послышалось какое-то сопенье. Из-под одеяла вынырнула лохматая голова, и несколько секунд Оке смотрел прямо в чьи-то удивленные сонные глаза. Потом круто повернул и помчался вниз по лестнице. Выходит, не случайно двери в подъезд и на чердак оказались открытыми.
Часы в витрине часового магазина напомнили ему о том, что уже нужно спешить в Старый город.
– Что ты, собственно, делаешь ночью? Всегда такой сонный по утрам! – произнес язвительно Курт и многозначительно подмигнул Ингрид.
Она только презрительно тряхнула головой:
– Покупатели пришли. Займись-ка лучше ими, а я тем временем приготовлю кофе.
– Поосторожнее с этим пижоном, – сказала она предостерегающе, когда Курт удалился. – Он сын компаньона Энглюнда – у того магазин на Кунгсхольмен – и подослан, чтобы доносить обо всем отцу. Прежнему продавцу пришлось уйти, чтобы уступить ему место.
Оке начал беспокоиться, что усталость возьмет верх и он натворит бед за работой. Иметь бы хоть пятерку для задатка, тогда он мог бы попытаться снять себе уголок…
Когда пришел Энглюнд, Оке набрался храбрости и спросил, нельзя ли получить аванс.
– Так… сегодня уже пятница. Что завтра, что сегодня – большой разницы не составляет, – ответил хозяин покладисто. – Полнедели – значит, семь пятьдесят.
Во время перерыва Оке выбежал на улицу и купил газету. Под рубрикой «Город между мостами» можно было найти много объявлений, которые предлагали «Угол для молодого мужчины». Ближайший такой «угол» сдавался на Тронгсюнд.
Оке чуть было не повернул обратно, увидев в подъезде на лестнице никелированную крышку мусоропровода. Дом был подвергнут основательной модернизации и обзавелся, очевидно, не только лифтом, центральным отоплением и ванными, но и высокой квартплатой, так что прежние жильцы вынуждены были перекочевать в другие трущобы, где еще не прошла реконструкция.
Упитанная хозяйка показалась ему знакомой. Он видел ее несколько раз в своем магазине.
– Двадцать пять крон с человека, да и то это слишком дешево за меблированную комнату со всеми удобствами; но народ еще не знает, что теперь и в Старом городе живут приличные люди, – тараторила она самодовольно, показывая комнатку наподобие алькова, с окном в переулок.
Оке не мог обнаружить другой мебели, кроме двух стульев и низкого бюро, втиснутого между кроватями и заменявшего стол. Двадцать пять крон… Это означает, что ему надо собрать чаевых не меньше двух с полтиной, чтобы уплатить за комнату на будущей неделе.
– Можно оставить пять крон сейчас, а остальные внести в следующую субботу? – спросил он.
– В следующую субботу? Когда в понедельник первое число? – хозяйка посмотрела на него непонимающим взглядом, потом недовольно поджала губы. – Нет, я не так глупа. Платите вперед за месяц при вселении. В противном случае вам вряд ли удастся получить меблированную комнату!
Оке ретировался с таким чувством, словно его уличили в чем-то нехорошем, и решил попытать счастья в какой-нибудь семье победнее и не такой недоверчивой. В объявлении значился еще дом в Кольметар-грэнд.
Переулок встретил его запахом плесени и подвальной сырости. Между домами во всех направлениях были укреплены распорки, не дававшие им сдвинуться и окончательно заслонить узкую полоску дневного света, которая еще виднелась наверху между наклонившимися стенами.
Комнатка, предназначенная к сдаче, оказалась настолько маленькой, что между кроватями уже ничего нельзя было втиснуть.
Дверь на кухню приходилось все время держать открытой, чтобы пропустить хоть немного света, и воздух был насыщен чадом. На стене висела рабочая одежда. Ее владелец валялся на застеленной кровати и равнодушно изучал сырые пятна на потолке.
– Мы берем только двадцать крон, потому что комната проходная, – сообщила хозяйка.
Жестокий приступ кашля, поразивший жильца, прервал ее объяснения.
– Но мы, конечно, предпочли бы жильца постарше…
Она проводила Оке в коридор и продолжала вполголоса:
– Тот, на кровати, только что вернулся из туберкулезного санатория. Вам, такому молодому, может быть, нехорошо жить вместе с чахоточным.
Звук сухого кашля сопровождал Оке вниз по лестнице. При таком жилье не много потребуется времени, чтобы освободилась еще одна койка…
Оке вышел сквозь арку обратно на Вестерлонггатан. Улица напоминала устье пещеры. Дома, на острове, в скалах, много пещер – их стены закопчены дымом костров, которые горели тысячи лет назад. Обитателям этих пещер жилось лучше, чем бездомному в большом городе…
Навстречу ему шла старая женщина, погруженная, как и он, в свои заботы. Оке нечаянно задел ее локтем и пробормотал извинение.
– Нет, вы подумайте… Да ведь это Оке!
– Фру Блюм!
– Что за церемонии, называй меня Хильдой! Мы же старые знакомые.
Лицо Хильды сияло так, словно она вдруг оказалась лицом к лицу с блудным сыном. Она принялась расспрашивать, как шли его дела в букинистической лавке после ее переезда.
– Так вот оно что – Оке ушел оттуда и работает рассыльным здесь, в Старом городе? Ты должен обязательно зайти навестить меня! Я живу в последнем доме по Кольметаргрэнд. Там хорошо, солнечно, это как раз напротив стоянки автомашин.
Оке слушал ее с удивлением. Неужели она позабыла, как ругала его до хрипоты? Хильда оперлась обеими руками на трость с черной ручкой и долго рассказывала о своей чудесной комнате.
– Мне ее бог послал!
Оке не мог удержаться от улыбки.
– Оке не верит, что это правда? – настаивала Хильда с полной серьезностью. – Я не знала, куда деваться, когда меня уволили с места привратницы. Армия спасения помогла составить заявление, чтобы мне разрешили снять дешевую комнату в домах муниципалитета. Желающих было очень много, но я день и ночь молилась богу, чтобы комната досталась мне. И он услышал меня, хотя я и большая грешница!
Перерыв подходил к концу, и Оке спешил в магазин. Однако Хильде нужно было решиться что-то ему сказать, и она не отпустила его сразу.
– Не может ли Оке одолжить мне десятку? – спросила она наконец.
Оке не знал, смеяться или плакать. Так вот чем объясняется неожиданная приветливость… Он покачал головой:
– Нет, не могу.
– Ну, хоть кроны две? Милый, хороший Оке, только две кроны… – Голос дрожал от волнения, она уцепилась за его рукав. – Я не ела со вчерашнего дня. Вот иду как раз из магазина. Хозяйка не дает больше в кредит, пока я не рассчитаюсь со старыми долгами. А через две недели я получу пенсию.
Преодолев минутное колебание, Оке протянул ей свою пятерку:
– Вот, возьмите! Я берег ее для задатка, но мне все равно не найти себе комнаты.
– Постой, подожди минутку! – Хильда остановила его. – У меня только одна кровать, но если ты согласен спать на полу…
Оке даже обнял старушку в порыве восторга. Наконец-то он избавлен от необходимости патрулировать по городу ночью! Хильда проговорила сквозь смех:
– Я уже в достаточно преклонном возрасте, так что ничего не случится, если мы проведем несколько ночей в одной комнате.
Когда Оке пришел к ней после работы, она уже приготовила ему бутерброды и возилась с примусом столь древней конструкции, что Оке не мог припомнить, видел ли он что-нибудь подобное даже у скупщиков утиля в Старом городе. В квартире не было ни газа, ни электричества, и маленькая керосиновая лампа коптила вперегонки с примусом.
– Можно попросить Оке принести ведро воды? Колонка как раз у подъезда. Я решила вскипятить чаю, – объяснила она приветливо. – У адмирала всегда по вечерам подавали чай.
– У какого адмирала?
– Как – у какого? Который был ближайшим помощником короля. Я была у них домработницей двадцать лет!
Оке быстро понял, что в представлении Хильды существовал лишь один адмирал, а именно тот, который возглавлял последнее консервативное правительство. Она развлекала Оке бесконечным перечислением знаменитостей, виденных ею на обедах в доме адмирала, с упоением рассказывая о том, что они говорили и что делали.
– Однажды мне пришлось подавать самому королю – он был у адмирала с частным визитом… Оке видел короля?
– Нет… Хотя видел – нижнюю губу.
Хильда в ужасе вытаращила на него свои водянисто-голубые глаза, словно он позволил себе грубо оскорбить его величество:
– Разве можно так говорить!
– Но я и в самом деле только и видел от него, что нижнюю губу, – возразил Оке серьезным тоном. – Он ехал по Лейонбаккен в своей машине вчера днем. Занавески были задернуты, и я смог различить его только на один момент, когда он наклонился вперед.
За чаем Хильда продолжала рассказывать о годах своего величия. Вспоминая о дорогих винах, которые она подогревала к обеду и, по всей вероятности, допивала после обеда, Хильда вздохнула:
– Да, то времечко уже никогда не вернется!
– Пожалуй, теперь Хильде вряд ли что-нибудь уделят в доме адмирала.
– Ну, не скажи! Адмиральша была очень добрая, она мне часто помогала. Последний раз я видела ее в марте, во время выборов в муниципалитет. Тогда она приехала за мной на своем автомобиле и довезла меня до самого избирательного участка!
– И за кого же голосовала Хильда?
– За партию адмирала, разумеется. А за кого стал бы голосовать Оке, если бы имел право голоса?
– За моряков, – ответил Оке угрюмо.
Ему припомнились вычитанные где-то слова Бернарда Шоу: «В наши дни легче представить себе социалисткой графиню, чем ее горничную».
– Разве у моряков есть своя партия? – возразила Хильда и снисходительно посмеялась его неосведомленности в области политики.
Оке становилось все труднее бороться со сном и подавлять зевки. Хильда вытащила из гардероба перину и потрепанное одеяло, присовокупив к этому покрывало со своей кровати.
– Вот только верхней простыни у меня нет, – проговорила она озабоченно.
Оке поспешил заверить ее, что устроился отлично.
– Когда печь остынет, ты можешь замерзнуть. Вот, укройся этим сверху.
Она достала большую шаль и прикрыла его.
Старая женщина с заботливыми руками, желтоватый свет керосиновой лампы, маленькая комнатка с истоптанным дощатым полом – все это напомнило ему детство, и если бы не свет уличного фонаря в окне, он мог бы вообразить себе, что шум движения на площади Риддархю-сторгет не что иное, как гул весеннего шторма над Балтикой.
– Разве Оке не читает молитву на ночь? – удивилась Хильда. – Молитва помогает. Я получила хорошую комнату, когда уже потеряла всякую надежду.
Оке сделал вид, что спит, но ему и в самом деле вдруг захотелось помолиться. Вложить всю душу в молитву, обращенную к чему-нибудь реальному: к черным балкам, подпирающим разваливающиеся дома, или к пятнистому зеркалу на комоде. Чтобы ему никогда не пришлось познать такую униженную старость, испытывать такую рабскую благодарность за темный и холодный чулан посреди целого моря света и всевозможного комфорта!
VII
Чайки носились с криком вокруг рыбного рынка, около железнодорожного моста покачивались на воде утки, греясь в лучах солнца. На темном скалистом массиве Мариабергет вырисовывалась лестница крыш, уходящая вверх по склону к стройной медно-зеленой башне и к голубому небу.
Оке видел холмы Сёдэр, словно картину, вставленную в рассохшуюся оконную раму комнаты на третьем этаже в районе Меларторгет. Его впустили две девчушки; они тут же затеяли веселую возню вокруг отца, только что вставшего с постели. Он подметал улицы в ранние утренние часы и старался урвать хоть немного времени для сна в первой половине дня.
Мать сидела с самым младшим на руках и продолжала кормить его грудью, не смущаясь присутствием Оке. Малыш повернул с любопытством свою головку, покрытую легким пухом, и радостно щурился на солнце. Потом снова зашарил в поисках белой, отяжелевшей от молока труди и недовольно заворчал, потому что не мог сразу найти сосок.
За две недели Оке узнал значительно больше людей, чем за всю осень и зиму. Его уже не пугали темные подворотни и переулки. Часто у него было такое чувство, что к нему присматриваются и узнают повсюду, где бы он ни появлялся в Старом городе. В продовольственный магазин на Стурторгет приходили покупатели со всех концов, и Энглюнд никогда не упускал случая подчеркнуть это.
Сегодня в магазин набилось невероятное количество людей, и покупатели ждали своей очереди в напряженном молчании. С каждым часом все жарче становилось за прилавком. Электрическая кофейная мельница урчала почти непрерывно, настойчиво звонил телефон. С лица Ингрид не сходила механическая улыбка; она отпускала товар с головокружительной быстротой.
– Христос воскрес! Что вам угодно?
Курт старался сохранять важный и неприступный вид. На его темной, лоснящейся от помады голове не оттопыривался ни один волосок, только лицо было бледнее обычного.
– Маргарин кончился – открой еще пару ящиков!
– Подай мне две большие селедки!
– Развесь еще картофеля!
Оке едва успевал выполнять сыпавшиеся на него приказания. Энглюнд отвечал по телефону.
– Но парню и в самом деле трудно сегодня со всем управляться… Ну ладно, придется обменять товар.
Он положил трубку и тихо выругался, вытирая потный лоб грязным рукавом.
– Фру Бьёрк с Вестерлонггатан. Картофель ей, видите ли, плохой отобрали!
– Я уже был там два раза, – пробормотал Оке.
– Она у нас постоянный покупатель, таким приходится угождать, – ответил Энглюнд.
Оке невольно подумал о той колбасе, которую покупали на пасху только самые бедные. На страстной неделе ее никто не брал, и она уже покрылась серой плесенью, когда ее убрали в холодильник. Оке сам мыл эту колбасу в теплой воде и натирал потом снаружи постным маслом, чтобы придать ей аппетитный вид.
Из этого, однако, не следовало, что Энглюнд пренебрегал мелкими покупателями – напротив. Поздно вечером после закрытия, когда измученные продавцы ушли домой, позвонил компаньон.
– Я еще не подсчитывал, но уверен, что сегодня рекордная выручка, – сообщил Энглюнд таким тоном, будто выиграл сражение.
Подсобное помещение и в самом деле выглядело так, будто в нем недавно кипел бой. Вокруг колбасорезки валялись мясные крошки. Слой грязных опилок на полу был усеян овощами, клочками бумаги, пустыми картонными коробками и щепками от поспешно вскрытых ящиков.
– Что-о! Я слишком дешево продаю цветную капусту?
В голосе Энглюнда зазвучали металлические нотки, жилы на шее надулись, как от удушья.
– Этот… этот скряга будет учить меня, как вести дела!
Он швырнул трубку и тут же отвел душу перед Оке, стремясь дать выход своему гневу:
– Как этот тип не понимает – в Старом городе не придумать лучшей рекламы, как продавать кое-что по заниженной цене! Здесь ведь большинство вынуждено считать каждое эре. Чем был этот магазин до того, как я поднял его оборот? И в каком состоянии были дела у него самого, пока мы не вошли с ним в пару? Десятки тысяч крон долга! Да об этом весь город знает!
Оке продолжал усердно подметать, стараясь не расхохотаться. Уж и весь город! Оскорбленное самолюбие превратило пронырливого торговца в какого-то наивного ребенка. Неужели он и взаправду думает, что полумиллионному населению столицы есть дело до какого-то мелкого лавочника?
– Хватит на сегодня, – сказал Энглюнд, когда Оке навел относительный порядок. – После праздника уберем как следует.
Он вытащил из толстой пачки денег три пятерки:
– Держи зарплату. Если хочешь, можешь взять с собой фруктов или еще чего-нибудь.
Оке стал неуверенно отбирать себе апельсины.
– Возьми вон из тех, они намного лучше, – хозяин указал на самый дорогой сорт.
Энглюнд явно хотел показать, что уж он-то не такой скряга, как компаньон. Оке поблагодарил и чуть не бегом заспешил домой.
Хильда почти всю страстную пятницу читала пасхальное евангелие и псалмы и предпринимала отчаянные попытки завербовать Оке в Армию спасения. Она встретила его в дверях с кокетливым хихиканьем:
– О, подарок для меня!
Она взяла апельсин, но руки дрожали так сильно, что он покатился по полу оранжевым мячиком.
– Смотри, как он спешит!
Хильда заковыляла вдогонку за апельсином и упала бы, не подхвати ее Оке. Глаза у нее помутнели, изо рта пахлопивом.
– Я не пьяная! Я уже сколько месяцев ни капли в рот не беру, – заверяла она.
Оке разделся до пояса и наполнил их единственный умывальный таз холодной водой. Хильда посмотрела на его обнаженный торс, и ее путаные мысли устремились по новому руслу.
– Теперь я старая и некрасивая, и мой мальчик никогда не приходит навестить меня.
Она всплакнула от жалости к себе самой и сникла на кровати кучкой серого тряпья. Оке задумался было над тем, кого она понимала под «мальчиком», однако он спешил и продолжал умываться. Его молчание раздражало Хильду, и она снова стала ныть, что совсем не пьяна.
– Я выпила только две бутылки пива. Уж столько-то можно позволить себе в праздник! – твердила она воинственным тоном, который был ему знаком по букинистической лавке.
Следовало бы подыскать себе другую квартиру, однако новая куртка и шапка, лежавшие на стуле, говорили в пользу того, чтобы он принял предложение Хильды остаться и платить ей десять крон в месяц. Только при такой квартплате Оке мог надеяться, что у него будет оставаться что-нибудь на одежду. Теперь ему становилось понятно, почему фирмы и магазины искали рассыльных, живущих в городе с родными. Зарплата не была рассчитана на то, чтобы рассыльный мог сам себя обеспечить, хотя рабочий день длился по десять – одиннадцать часов.
Но сегодня Оке был богат и свободен от забот. В бумажнике лежало около двадцати крон, а там, в безликой массе людей, есть человек, который ждет его…
Взять куртку? Нет, она выглядит слишком просто. Он решил ограничиться джемпером под пиджак, хотя вечера еще были прохладные.
В Железнодорожном парке листочки еще не собрались с духом выглянуть из почек, зато на клумбах пестрели гиацинты и зеленела молодая травка. Карин уже пришла. Ее весенняя шляпка и пальто перекликались по цвету с голубыми цветочками. Она чем-то напоминала хорошенькую фарфоровую пастушку, но явно нервничала.
– Почему ты не сказал мне, что ушел от букиниста? – спросила она. – Я пыталась разыскать тебя там еще с утра.
– А что случилось?
– Ничего особенного. Просто папа вдруг решил приехать в город, чтобы отпраздновать у меня пасху. К восьми часам я должна идти с ним в театр на оперетту.
Оке постарался скрыть свое разочарование:
– Он останется до тридцатого апреля?[39]30 апреля – весенний шведский праздник.
– Вряд ли, но на этот день я уже договорилась с компанией из нашей школы. Давай лучше встретимся первого мая!
– Тогда я буду занят, – возразил Оке обиженно.
Карин раздраженно рассмеялась и взяла его под руку:
– Чем же, если не секрет?
– Пойду на демонстрацию!
Она выдернула руку и покраснела:
– Ты невыносим… но… но… позвони как-нибудь. Она подозвала проезжавшее по Васагатан такси и исчезла, прежде чем Оке успел что-нибудь ответить.
* * *
Первого мая магазин закрывался в час дня. Оке рассчитывал перехватить демонстрацию на Кунгсгатан. Ему хотелось посмотреть все шествие, а затем вместе с последними демонстрантами пройти до Гэрдет.
Однако, как он ни спешил, поручения все накапливались. Когда через узкий Кокбринкен донеслись звуки барабанов и громкая музыка духового оркестра, он стоял на Стурторгет, держа в руках корзину с продуктами. Первые колонны шли уже со стороны Сёдэр, над Мюнкбрукайен пламенели на солнце красные знамена.
Оке нужно было в обратную сторону, но он побежал вниз по переулку. Мимо него ряд за рядом проходили демонстранты.
– Да здравствует солидарность рабочего класса! Да здравствует борьба за социализм! – крикнул кто-то из руководителей.
В ответ ему раздалось оглушительное «ура».

Снова Оке ощутил, что стоит совсем в стороне от большой жизни. Солидарность – какое торжественное слово! Но ведь оно сохраняет свое значение не только по праздникам. А с кем ему быть солидарным в магазине? Ингрид никак не может простить ему, что он отказывается называть ее «фрекен Янссон», а отношение Курта к нему являет собой смесь хвастливого панибратства и наглости. Выходит, что его работодатель – единственный человек, который не старается поминутно напоминать Оке его место.
– Много их в этом году, – произнес какой-то полный парень в толпе, одобрительно кивая.
Из заднего кармана его комбинезона торчала плотничья мерка. Он бывал в магазине Энглюнда. Оке представлял себе, что он работает плотником где-нибудь на стройке. Они шли рядом в сторону Стурторгет, и новый знакомец Оке болтал о погоде, о демонстрации и о всякой всячине.
– Ты, кажется, живешь в Старом городе? Квартира хорошая? – спросил он.
Оке видел товарища в каждом человеке, одетом в синий комбинезон труженика, и потому без всяких церемоний рассказал, что не имеет даже кровати.
– Я знаю одну семью, которая охотно сдаст меблированную комнату порядочному парню. Если хочешь, могу им порекомендовать тебя, – предложил «плотник».
– Отдельную комнату? – переспросил Оке недоверчиво.
Это звучало слишком хорошо, чтобы можно было поверить.
– Ну да! Лучше всего будет, если ты забежишь туда и посмотришь сегодня же вечером. У меня канцелярия в том же доме, так что я могу их предупредить еще до твоего прихода.
– Вы подрядчик? – спросил Оке совсем другим тоном.
– Нет, я управдом, и у меня на попечении довольно много домов по эту сторону Вестерлонггатан.
Оке записал адрес и даже готов был радоваться тому, что у Карин не оказалось времени встретиться с ним. В противном случае у него, пожалуй, не хватило бы сегодня денег на задаток.
…С любого места Киндстюгатан была видна Немецкая кирка с ее черно-зеленой башней и страшными фигурами, да и сама улица сохранила что-то от чопорности торговых кварталов старой Ганзы, несмотря на всевозможное барахло, развешенное перед лавчонками для рекламы и для просушки. В этом укромном торговом районе, неизвестном большинству жителей города, сосредоточилась скупка и продажа поношенной одежды и обуви, старой домашней утвари, безделушек сомнительного качества и просроченных залогов.
На Горелом пустыре простирал свои ветви к небу одинокий каштан с такой черной корой, будто огонь только недавно расчистил здесь место для маленькой треугольной площади. Что ж, зато в окно не будут смотреть отсыревшие стены.
Никто не отозвался на его звонок.
– Они, наверно, просто вышли.
На лестничной площадке появился управдом и пригласил Оке войти в его маленькую канцелярию.
– Ты, видать, сильный парень, – сказал он одобрительно и потрогал бицепсы Оке. На лице его появилось какое-то странное, чувственное выражение. – А что, сможешь меня поднять?
Управдом обхватил шею Оке руками и повис на его спине. У него было жирное и рыхлое тело.
– Бросьте эти штучки!
Оке молниеносно высвободился и обернулся, вне себя от ярости. Управдом замигал мутными глазами с виноватым видом, однако тут же попытался прикинуться оскорбленным:
– Что с тобой, парень? Ты что, шуток не понимаешь?
Оке стоял уже на пороге.
– Спешишь куда-нибудь? Зайди завтра утром пораньше – наверняка застанешь их дома.
Мало того, что этот тип испортил ему праздник – он рассчитывал второй раз заманить Оке в ту же ловушку! Из дома напротив доносилась музыка; чей-то старый, изъезженный граммофон хрипел модную и уже избитую песенку:
О, Старый город,
Твои улочки сердце чаруют
Своею прелестью
И налетом таинственности…
Окно любителя музыки было распахнуто настежь, и, когда Оке вышел на улицу, слащавые слова песни с новой силой резанули его ухо.
VIII
Из-за деревьев, выстроившихся по ту сторону дороги, проглядывала блестящая поверхность залива Юргордсбрюннвикен, в густой листве заливалась какая-то ночная птаха. В камышах стелился туман, облизывая прибрежную траву серыми языками. Сквозь прохладный воздух плыли горячие, хмельные волны черемухового аромата. Оке одним ухом прислушивался, не приближаются ли чьи-нибудь шаги, и целовал Карин – не так, как прежде, а жадно, нетерпеливо.
Она высвободилась из его объятий, словно играя, достала из сумочки гребенку и стала приводить в порядок прическу.
– Пошли. Дойдем до моста и сядем на трамвай. Я не хочу засиживаться поздно сегодня, – сказала она.
Оке глянул на небо. Звезды были едва различимы, над городом висел печальный синий сумрак.
– Ты уезжаешь завтра?
– Да. Хорошо будет приехать домой и отдохнуть немного от зубрежки!
Мысль о том, что уже в следующий вечер Карин не будет в Стокгольме, жгла Оке, но одновременно он чувствовал облегчение – похоже, что намечается выход из нелепого положения. Что из того, что она всегда сама платила за себя, когда они куда-нибудь ходили вместе? Все равно он не мог позволить себе ничего, кроме редких субботних посещений самых дешевеньких кино и кафе.
Когда они встали со скамейки, она переплела свои пальцы с его пальцами и мягко улыбнулась:
– Ты обидишься, если я попрошу тебя не приходить на вокзал?
– Нет, почему же? – ответил Оке отсутствующе и ступил на гравий так осторожно, будто это было битое стекло.
В полупустом трамвае он тоже вел себя странно. Карин хотела войти в вагон и сесть на скамейку, но он не соглашался уходить с площадки.
– Ты все-таки обижаешься на меня!
Они уже подошли к дверям дома на Норр Меларстранд. Карин посмотрела на него с упреком, но в голосе звучала нотка скрытого торжества.
Оке только сжал ее руки в ответ и поспешил распроститься:
– Счастливого пути!
– Может быть, встретимся осенью, – ответила Карин. – Адрес ты знаешь.
Он понял намек. Она может не беспокоиться – он не напишет никаких глупостей, которые могли бы попасть на глаза ее родителям.
Идя один в сторону ратуши, Оке совсем позабыл об осторожности, и случилось то, чего он опасался весь вечер. Подметка на правом ботинке отлетела и стала громко шлепать о камни. Оке показалось, что его путь домой до Кольметаргрэнд растянулся на целую вечность и все встречные смотрят на него.
Хильда еще не легла. Она дрожала от волнения, торопясь объясниться с ним в сбивчивом потоке слов:
– Оке должен переехать как можно быстрее! Инспектор был здесь и спрашивал, есть ли у меня жильцы. Я сказала, что Оке – родственник из деревни, приехал погостить. Это пенсионерская квартира, и я не имею права сдавать площадь другим. Кто-то в доме насплетничал. Они сами хотят заполучить эту комнату. Они хотят выжить меня! – твердила она испуганно и чуть не плача.
– Успокойтесь. Я уйду послезавтра, – обещал Оке, снимая рваный ботинок, который тревожил его больше, чем неожиданное заявление Хильды.
На дне чемодана у него хранилась пара спортивных тапочек. Правда, они тесноваты, но придется обойтись, пока починят ботинки. После того как Оке полдня пробегал в тапочках по лестницам, ноги стянуло, словно отсыревшей веревкой, а каменная мостовая Стурторгет жгла сквозь тонкие подметки, как расплавленный свинец.
В час затишья перед вечерней гонкой ему удалось немного отдохнуть от пытки. Энглюнд снабдил его деньгами на трамвай, чтобы доехать до Эстермальма с арендной платой домовладельцу – несколько сотенных бумажек в конверте.
– Вот видишь сам – у владельца магазина тоже большие расходы! – подчеркнул он.
– Таких денег у него, наверно, никогда не было. Если не вернется через час, можно сразу звонить в полицию. Рассыльные ведь очень часто исчезают таким образом, – заметил Курт с кривой улыбкой.
Это было задумано как шутка, но Оке покраснел и ответил зло:
– Я не такой идиот!
Энглюнд расхохотался, а Курт состроил обиженную мину:
– Зато ты слишком нос задираешь!
Оке небрежно сунул деньги в карман. Он и в самом деле еще ни разу в жизни не держал в руках столько денег, но без намека Курта ему бы и в голову не пришло подумать о привлекательности такой суммы. Для Оке ассигнации имели не больше цены, чем клочки обыкновенной оберточной бумаги.
Тем не менее это поручение заинтересовало его больше, чем все остальные в тот день. Впервые ему предстояло позвонить у дверей в роскошных кварталах района Страндвеген. Здание, где жил домовладелец, напоминало упитанного английского бульдога с громкой родословной и злой мордой. Уже в подъезде он скалил зубы на случайных посетителей. По обе стороны звонка висели дощечки: «Сбор милостыни и предложение товаров на территории дома строжайше воспрещается», «Рассыльным следовать черным ходом». Оке поднялся по широкой мраморной лестнице, выстланной посередине мягкой дорожкой, и вошел в лифт, хотя это было «Запрещено детям, рассыльным и посторонним».
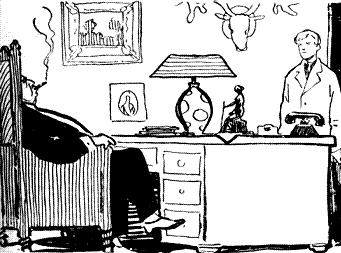
На специальной дощечке у двери было написано «Быв. губернатор», чтобы никто не оставался в неведении относительно того, как титуловать владельца многочисленных домов в трущобах Старого города. Его фамилия не свидетельствовала о знатности происхождения, зато холл был выдержан в духе старинного дворянского замка – по стенам висели охотничьи трофеи, скрещенные алебарды, рыцарские пистолеты и дорогие гобелены. В следующей комнате царил устоявшийся запах крепких сигар, и все в ней казалось основательно прокуренным, начиная от коричневых кожаных кресел около книжной полки и кончая громадным письменным столом.
Хозяин дважды пересчитал деньги, затем размеренно и педантично раскрыл счетную книгу, чтобы записать приход. Он держал себя по-деловому сухо и корректно, однако бросалась в глаза необычная деталь: мизинец левой руки оканчивался длинным, не меньше пяти сантиметров, желтым, как воск, ногтем, слегка изогнувшимся, словно птичий коготь.
Оке читал где-то, что у императорских чиновников в Китае был обычай отращивать ногти на пальцах левой руки. Каждому сразу становилось ясно, что подобным рукам никогда не приходилось копать землю, поднимать тяжести и иметь дело с орудиями более грубыми, нежели кисточка для писания тушью.
Правда, бывший губернатор писал вечной ручкой новейшей конструкции, однако имел, пожалуй, не меньше оснований, чем китайские мандарины, отращивать ноготь на мизинце. При ближайшем рассмотрении легко обнаружить, что многие обычаи и привычки, которые в разных концах света служат внешним признаком образованности и утонченности, исходят все из одного и того же: презрения высших классов к труду.
– Прошу! – проворчал домовладелец и протянул квитанцию.
Аудиенция окончилась. Оке медленно прошел через холл. Так вот она – вторая сторона медали… Первую он знал уже давно: зловонные уборные, отсутствие канализации, закопченные обои и рассохшиеся оконные рамы. За бывшим губернатором укрепилась слава человека, который не любит раскошеливаться на ремонт. К чему? Ведь все равно не было недостатка в жильцах, которые готовы набивать его мошну, лишь бы иметь возможность ютиться в этих древних домах с их скульптурами у подъездов и латинскими или немецкими надписями на фасадах…
На обратном пути Оке забежал на Кольметаргрэнд – сполоснуть ноги у водоразборной колонки, которую Хильда считала огромным удобством, потому что она находилась у самого дома. Стянув с распухших ног прилипшие носки, он увидел, как из многочисленных мозолей сочится кровь.
IX
Новая осень пришла в город – груды коричневых листьев в парках, блестящие от дождя автомашины перед театральными подъездами, сумеречное ночное небо…
В учебном комбинате АБФ[40]АБФ – Рабочий союз просвещения около раздевалки толпились девушки, исчезавшие вверх по лестнице, в классы языков, а в большом фойе члены ячеек социал-демократической молодежи изучали структуру муниципалитетов и технику проведения собраний.
В том же фойе работал буфет, но днем там обычно было пусто и тихо. Гораздо оживленнее было в кафе. От столика к столику проскакивали, как искры, зажигательные слова, из них родилась бурная дискуссия, и эта дискуссия долго кипела, пока не выродилась в вялое препирательство и молчаливое чтение газет.
– Как определить действия рабочего класса в международном масштабе – наступает он или обороняется?
В стороне от дискуссии оставались только несколько шахматистов и плотный мужчина с почти квадратной лысиной, обрамленной седыми кустиками волос. Он продолжал с философическим спокойствием изучать «Бранд». Матрос Бьёркнер, завзятый остряк, считал, что для этого требуется не меньшее напряжение ума, чем для игры в шахматы:
– Ведь в этой газете даже буквы настолько пропитаны анархистским духом, что никак не хотят выстраиваться прямыми рядами!
Вокруг столика у окна, за которым сидел анархист, сгруппировалась компания синдикалистов, а на «полатях», огороженных перилами с бронзовыми цветочными горшками, приютились члены Союза молодежи.
Пониже их, в узком проходе, ведущем на кухню, сидели Бьёркнер и безработный плотник, которого звали Рашпилем и который удивительно напоминал карикатурное изображение агитаторов в буржуазных газетах. У него была язва, и он утверждал, что только ею и кормится. Болезнь эта была его козырем в стычках из-за пособия с органами призрения, но зато она же была причиной его ужасающей худобы.
Оке услышал едкие тирады Рашпиля еще с улицы. Курт послал его в Клара с частным поручением, и вот он стоял теперь перед кафе с большим пакетом в руках.
Оке знал, что на широкой газетной полке есть отделение для «Фолькбладет». Эта провинциальная газета на четырех полосах содержала мало новостей, а передовица была, как правило, перепечатана из «Социал-демократен», но зато ему удавалось иногда находить в ней небольшие заметочки, которые позволяли быть в курсе событий на родном острове.
Рашпиль воинственно тряхнул головой; его черные, как смоль, волосы свалились на лоб:
– Где-где, а уж у нас в стране наступлением и не пахнет. Ничего не происходит, даже демонстраций! После Одален,[41]Одален – название местности в северной Швеции, где 14 мая 1931 года была расстреляна мирная демонстрация рабочих. Пять рабочих было убито. когда фараоны разогнали митинг протеста и въехали с обнаженными саблями прямо на конях в Народный дом, рубя налево и направо, работяги здесь, в городе, было ожили. А теперь все опять словно вымерло…
– Тогда совсем другое дело было, – возразил Бьёркнер. – Тогда четверть миллиона ходили без работы и добивались пособия.
– А теперь, когда кое-кому перепала работенка и есть чем брюхо набить, – куда только подевался наступательный дух! Все сразу стало совсем хорошо!
В своем тесном бушлате Бьёркнер казался школьником-переростком, а бескозырка делала его круглощекое лицо еще круглее, но губы изогнулись в вызывающей улыбке, когда он отвечал Рашпилю:
– Чем же ты объяснишь то, что коммунисты пользуются наибольшим влиянием среди высокооплачиваемых рабочих?
Рашпиль не оставался в долгу:
– Ты и в самом деле веришь, что у нас может возникнуть революционная ситуация или что мы хотя бы выйдем на улицы и окажем сопротивление нацистам, если им удастся прийти к власти с помощью немцев и крупных капиталистов? Ты можешь представить себе шведских соци отстаивающими каждый дом в уличных боях, как в Австрии в прошлом году? Да ты первый поспешишь спрятаться, если начнут стрелять, хотя и прошел уже военную подготовку!
– Зато ты, разумеется, будешь первым на баррикадах?
– Можешь не сомневаться! Если бы партия сказала мне: бери шпалер и отправляйся в Вену, я бы ни на минуту не задержался.
– Ну, тебе-то ничего не стоит давать такие заверения. Во-первых, партия никогда не даст такого распоряжения, а во-вторых, ты ведь не в партии! Если только я не ошибаюсь, тебя успели уже дважды исключить после раскола.
Рашпиль несколько приутих, и Бьёркнер продолжал уже более мирно:
– Вчера я говорил с одним беженцем; он недавно выбрался из Германии. Всех профсоюзных деятелей побросали в концлагери, эсэсовские бандиты каждый день забивают насмерть антифашистов. Никакого улучшения не намечается. Гитлер удержится у власти не меньше, чем Муссолини, если будет так продолжаться.
Оке весь превратился в слух, медленно попивая свое кофе. Кто они – коммунисты или нет? И почему нападают друг на друга? Он еще не отдавал себе ясного отчета, какие политические течения представлены среди завсегдатаев кафе. Все они называли себя социалистами.
Ему хотелось самому принять участие в обсуждении, а за соседним столиком уже рождалась новая тема:
– Энгельс подчеркивает, что движение – это форма существования материи, что материи без движения никогда не было и не может быть. Всякое равновесие относительно и имеет смысл только в отношении к той или иной форме движения…
* * *
– Долго же ты проходил! Или портной еще не закончил, когда ты пришел? – спросил Курт вернувшегося Оке. Он прикрыл дверь складского помещения, встал в углу подальше от селедочной бочки и картофельного ящика и начал осторожно, почти влюбленно, разворачивать бумагу.
– Подержи зеркало. Я посмотрю, как сидит пиджак, – скомандовал Курт. – Как спина?
– Ничего… по-моему, хорошо, – произнес Оке неуверенно.
Курт повертел своей талией танцора и вдруг помрачнел:
– Нет, ты посмотри на левый отворот! Я же сказал ему поправить, а он так ничего и не сделал! – Он сбросил пиджак и швырнул его Оке: – На, померь… Немножко велик, конечно. Плечи у тебя поуже моих, – продолжал он своим заносчивым тоном, от которого у Оке каждый раз появлялся желчный привкус во рту. – Курт протянул ему жилет и брюки. – Но это легко поправить и недорого обойдется.
– Что ты хочешь сказать?
– Можешь оставить его себе. Чтобы я надел костюм, который сшит не как следует!
– Но… но это ведь неразумно, – выдавил из себя Оке.
Такой костюм обошелся бы ему минимум в десять недельных заработков. Неужели Курт не мог придумать лучшего способа продемонстрировать свое самомнение? Или он только разыгрывает его?
– Не хочешь взять себе – отнеси в мусорный ящик.
Оке застыл в растерянности, зажав в руках костюм.
– В мусорный ящик! – повторил Курт раздраженно.
Оке вспомнил что-то. Именно вот так – грубовато и безыскусственно – помогали друг другу рабочие, когда хотели, чтобы человек, принимая подарок, не испытывал унижения. Весь вечер его грызло сомнение: может быть, он ошибся в своей оценке Курта?
Когда Оке пришел с работы в свою новую комнату, которую делил с другим съемщиком, и повесил костюм в гардероб, партнер спросил его:
– На свадьбу собрался или на похороны? Он развозил молоко – тридцатипятилетний холостяк, обычно не очень разговорчивый. Работа заставляла его ложиться рано. Скоро с его кровати послышалось сонное бормотание и тяжелое дыхание.
Оке снял рабочий халат и сел на свою скрипучую кровать. Он устроился здесь лучше, чем прежде, но иногда ему казалось, что стены комнаты и старый пробковый мат на полу буквально источают тоску и уныние – два пугала, которые являются неотъемлемой составной частью самой системы сдачи углов… Обои были щедро разукрашены пятнами помады, напоминая о предыдущих жильцах. Прямо посреди комнаты стоял чересчур большой стол, у одной из стен – бюро. Одни только гардины, чистые и сравнительно новые, вносили некоторое оживление.
А что, если Карин уже вернулась в Стокгольм?
«Может быть, встретимся осенью. Адрес ты знаешь», – сказала она тогда.
Он прошел мысленно по широкой красивой улице вдоль залива, срезал путь напрямик по газону, поднялся на лифте на четвертый этаж и… Но он сам не знал, что будет дальше.
…Ни мрачность
Плаща на мне, ни платья чернота,
………………………………
Не в силах выразить моей души…
Громкий храп возчика пробудил его от мечтаний. Новый костюм – это совсем не мало, когда у тебя за всю жизнь не было одновременно двух костюмов, а старый уже превращается в лохмотья.
Оке решил отложить свидание до тех пор, пока ему не исправят пиджак, и пошел вместо этого в «Красную комнату». Там все было, как обычно: густой табачный дым, перезвон посуды и бездомные люди, дремлющие над чашкой кофе.
Внезапно монотонный гул прорезал энергичный, настойчивый голос:
– «Стбрмклоккан»! Покупайте «Стормклоккан», старейшую молодежную газету страны!
– Небось уже мохом поросла? – не замедлил откликнуться какой-то шофер-острослов.
– Смотри, как бы у тебя мозги не заросли!
Это вмешался ночной сторож, копаясь негнущимися пальцами в кошельке.
– Подай-ка газету, парень. Я тоже продавал ее, когда был в твоем возрасте. Ты бы посмотрел, что делалось во время великой забастовки 1909 года или во время борьбы за избирательное право и голодных бунтов 1917 года!
Проходя мимо Оке, газетчик почему-то не предложил ему газету.
– Эй, ты, мне тоже одну!
– Пожалуйста.
Газетчик продолжал свой обход по кафе и вернулся в конце концов к столу Оке:
– Можно присесть?
Он порылся в одном из многочисленных карманов своей куртки, прежде чем заказывать себе что-нибудь, и пробормотал:
– Э, нет, здесь у меня лежат деньги по сбору средств… Меня зовут Гуннар Гоффен, – продолжал он общительным тоном. – Ребята зовут меня просто Геге. Ты, конечно, сочувствующий?
– Конечно, – ответил Оке, хотя и сам не понимал, что это значит. Во всяком случае, Геге произвел на него симпатичное впечатление. Лицо открытое, мягкие черты, но карие глаза светятся решимостью и спокойным юмором.
Геге проверил еще один карман, побренчал мелочью в третьем и объяснил с улыбкой свои манипуляции:
– Понимаешь, я кассир в нашей ячейке. А когда к тому же ходишь без работы, то нет ничего опаснее, чем начать путать свои деньги с общественными. Не успеешь оглянуться, как ты уже оказался растратчиком. Даже газетные деньги я никогда не кладу вместе с кассой ячейки.
Геге болтал с Оке непринужденно, как со старым другом, и Оке ответил ему тем же, рассказав кое-что о себе самом и своей работе.
– Ты живешь в Старом городе? – спросил Геге.
– Нет, я переехал несколько месяцев назад сюда, в Норрмальм, на Каммакаргатан.
– Тогда ты можешь вступить в ячейку Васа. Я дам тебе рекомендацию, – заключил Геге и стал рыться в своих бесчисленных карманах в поисках бланка вступительного заявления.
– Да я…
Оке не знал, что ответить. Он вспомнил горячую, но тем не менее бесплодную дискуссию о наступлении и обороне, относительности равновесия и формах существования материи. Исследование подобных вопросов и определений представляло, возможно, большой интерес для опытных революционеров, но Оке боялся, что лично он будет чувствовать себя в ячейке так же неловко и одиноко, как на курсах машинописи.
– Чего тут еще сомневаться – вступай в нашу ячейку! Взносы у нас невысокие. Когда получишь билет, рассчитаешься. Собрание – на следующей неделе.
Геге заговорил на чисто стокгольмском диалекте, который нелегко было понять, но уж никак нельзя было назвать высокомерным. Он записал адрес и фамилию Оке и обещал известить его поточнее о собрании. Затем поспешил в следующее кафе.
* * *
Для того чтобы с площади Святого Эрика спуститься переулочкам района Атлас, надо было пройти целый яд арок и длинных лестниц. Ячейка расположилась в маленькой подвальной комнатушке с белеными стенами, свернутыми лозунгами в углу и гудящими водопроводными трубами вдоль потолка. Очевидно, здесь помещалось правление районной организации, но в данный момент венский стул у шаткого письменного стола был пуст.
Куда подевались члены ячейки? Собрание должно было уже начаться – Оке пришел с опозданием. Сегодня, как назло, было столько дел, что он освободился уже много спустя после закрытия магазина.
– Привет! Долго искал нас?
В двери, ведущей в маленькую соседнюю комнатку, появился Геге. Он распахнул дверь настежь и представил:
– Знакомьтесь – вот наш новый товарищ.
Семнадцать юношей и девушек глядели на Оке приветливо и внимательно. Они все уже расселись по местам и ждали начала собрания. Аксель Линд, секретарь, нервно рылся в своих бумагах. Он был прямой противоположностью Геге – длинный, светловолосый, с напряженным выражением нервного лица. Его внешность, жесты – все казалось Оке знакомым. Он где-то видел секретаря раньше, но, сколько ни напрягал память, не мог вспомнить точно, где и когда. Остальные члены ячейки были самые обыкновенные молодые люди, которых можно встретить на фабриках, в небольших прокуренных кафе, на задних лестницах шикарных квартир и в очередях на бирже труда.
Место председателя занимала девушка с русыми волосами и спокойными голубыми глазами. Она была одета в простенькое коричневое платье и казалась бесцветной в сравнении с остальными шестью девушками, но это впечатление развеялось, как только она ударила молотком по столу и заговорила.
Оке больше прислушивался к ее голосу, когда она читала повестку дня, чем к содержанию отдельных пунктов. Красивый, звучный и размеренный голос как бы возвышал девушку над обыденностью. Да он, собственно, и кормил ее. Не будь у Эдит Бенгтссон столь подходящего для телефонистки голоса, начальник отдела кадров большой фирмы, где она работала, давно уже посадил бы кого-нибудь другого к коммутатору за стеклянной перегородкой. На нее падало сильное подозрение в авторстве нескольких статей, в которых критиковались методы фирмы при найме служащих.
Прием Оке был утвержден дружным хором, после чего он со смущенным видом выслушал обращенные к нему приветственные слова председателя. Вот уж чего он не ожидал, что руководителем ячейки окажется девушка!
На стене позади нее были развешаны два знамени. Красная материя пылала на фоне голой бетонной стены.
Мы наш, мы новый мир построим, Кто был ничем, тот станет всем.
Именно из недр общества, из его подвалов должны выйти преобразующие, смелые, обновляющие идеи! Вот где его место! Здесь Оке нашел тот дух товарищества, который тщетно искал до сих пор. Он почувствовал такое же облегчение, какое испытывает путник, когда после долгого блуждания по незнакомому лесу выходит наконец на дорогу, ведущую в поселение.
После обсуждения внутренних дел ячейки и утверждения отчетов об учебной работе и распространении газет Эдит передала слово докладчику, который должен был открыть сегодняшнюю дискуссию.
– Товарищ Свенссон из райкома прочтет сейчас доклад «Единый фронт против фашизма», – сказала она и села между Оке и Геге.
– Главное сегодня – это защита остатков буржуазной демократии, которые еще сохранились в отдельных странах Европы. Что толку в едином антифашистском фронте, если он возникнет только в концентрационных лагерях! – начал молодой оратор.
Введение было явно позаимствовано из какой-нибудь передовицы с тем же названием, что и доклад, и все ясно почувствовали, когда докладчик перешел на свой обычный язык.
– Мы не должны недооценивать наших нацистов, хотя их как следует поколачивают, когда они появляются на улицах Сёдэр с длинными финками на поясе. Серорубашечники, коричневорубашечники и как они там себя еще называют – все они только смеются над запретом носить форму. Никто не мешает им устраивать провокации в рабочих районах. Но мы не должны рассчитывать на то, что споры о том, кому быть «фюрером», помешают сколотить из них штурмовые отряды против рабочего класса, когда дело пойдет всерьез… В настоящее время международный рабочий класс вынужден вести оборонительные бои, – продолжал он и удивился, почему Оке вдруг улыбнулся.
X
Оке подошел быстрым шагом к остановке и глянул вдоль улицы направо. Автобуса не было видно. Легкий мороз начал покусывать кончики пальцев, и он спрятал руки в карманах основательно поношенного, но еще теплого пальто, которое приобрел к рождеству в одной из лавок на Киндстюгатан на свои чаевые.
Над парком Обсерваториелюнден быстро неслась серая туча так низко, что, казалось, ее царапают ветки голых деревьев. Но снег не пошел, лишь несколько легких хлопьев закружилось в воздухе, тая при соприкосновении со щекой.
Несмотря на ветер, три башни в дальнем конце улицы были окутаны дымкой. Между позеленевшими медными кринолинами Большой церкви и церкви Св. Катарины торчала темным наконечником копья Немецкая кирка.
Оке приплясывал от нетерпения, расстроенный тем, что прозевал автобус. Теперь Курт снова встретит его у заднего входа – уже в халате – и сделает этакое манерное и презрительное движение рукой, поднося часы к глазам.
Несмотря на рассыпанный песок, на Дроттнинггатан было скользко, и движение застопоривалось чаще обычного. Когда Оке наконец попал в Старый город, часы Большой церкви пробили восемь. Товары были уже разложены и гардина с надписью «Закрыто» на стеклянной входной двери скользнула с сухим щелчком вверх.
Запыхавшийся и виноватый, он искал какого-нибудь извинения за то, что переложил часть своей работы на Курта, но не успел и рта раскрыть.
– Ты опоздал на целых пятнадцать минут. Точнее, на шестнадцать. Если ты впредь не будешь аккуратнее, вылетишь! – пригрозил Курт.
«Точнее»! По утрам минуты считали очень тщательно, не то что вечером. Оке подумал о всех неоплаченных сверхурочных и о вечной предпраздничной гонке.
– Могу уйти хоть сейчас! – вырвалось у него в приступе неожиданного раздражения.
Курт поглядел на ноготь большого пальца, провел по нему несколько раз пилкой и спросил ледяным тоном:
– Ты еще не ушел?
Оке рванул дверь и зашагал прямо через площадь, ни на что не глядя. Злоба кипела в нем всю дорогу до набережной Шеппсбрун. Зимний ветерок с залива охладил его разгоряченное лицо, и он начал думать о том, что произошло.
За квартиру у него было уплачено за месяц вперед, но оставшихся денег хватит не больше чем на то, чтобы поесть раза два. Вместе с тем нет никакой гарантии, что он сможет тут же найти новую работу.
Оке почувствовал потребность посоветоваться с кем-нибудь и решил позвонить Геге. Тот всегда был спокоен и решителен и умел заражать и других своей уверенностью.
– Что ты сказал? – произнес Геге сонно, подавив зевок. – Ушел с работы… Постой, я еще не проснулся как следует. Мать по утрам уже не в силах разносить газеты, и я стал обслуживать и ее район. Поэтому ложусь подремать немного после того, как обойду все лестницы.
– А они могут отказаться выплатить зарплату, раз я ухожу посреди недели без предупреждения?
– Могут ли они? У рассыльных нет своего профсоюза, так что они могут позволить себе что угодно. Но ты все равно требуй свое.
Геге посоветовал ему зайти в магазин к вечеру. Курт ходил явно притихший, зато Энглюнд был в воинственном настроении.
– Ну-ка, зайди, поговорим! – сказал он сердито и зашагал впереди Оке в склад. – Из-за чего вы, собственно, поругались тут утром?
– Я опоздал, и он пригрозил, что меня выгонят, – ответил Оке угрюмо.
– И ты так сразу и ушел?
– Да!
– Было бы умнее дождаться меня.
Энглюнд повысил голос так, чтобы было слышно в магазине:
– Здесь я решаю, кого увольнять, а кого нанимать. Если хочешь, можешь остаться.
Оке на секунду заколебался.
– Нет уж, лучше я уйду.
Энглюд пожал плечами, подошел к кассе и достал десятку.
– Получай с походом, – сказал он. – Я напишу отзыв, которого тебе не придется стыдиться. Жаль, что ты не поладил с Куртом…
* * *
Первым местом, куда обратился Оке в поисках работы, была булочная в Норрмальме. Там требовались два ловких юноши, которые могли бы развозить французские булочки на велосипедах. Оке решил, что тут представляется двойной шанс получить работу, и зашагал туда, преисполненный надежд.
Однако не он один рассуждал подобным образом. С открытием булочной желающие выстроились по одному, и очередь вытянулась вдоль всего тротуара. Каждый раз, как открывалась дверь, к сырому и холодному утреннему воздуху примешивался запах теплой печи и свежего хлеба.
– Если придется стоять долго, сэкономишь на завтраке, – сострил кто-то, пытаясь развеять мрачное настроение.
– Совсем как на призывном пункте в день мобилизации, – подхватил сосед Оке и спросил, нет ли у кого покурить. – Что-то с этой булочной не то, раз они ищут сразу двух рассыльных, – продолжал он. – Но попытка не пытка!
У него было крайне мало шансов на успех… Когда подошла его очередь, краснощекий булочник сразу же зашумел:
– Какого черта! Нам нужны рассыльные, а не пожилые холостяки… Следующий!

Оке несмело протянул свою рекомендацию могущественному булочнику, чей белый передник был испачкан в муке и жире не меньше, чем у его подчиненных.
– «Ушел по собственному желанию»! – прочитал булочник иронически. – Небось занесся! Таких нам не надо.
Оке спрятал свою рекомендацию, которую считал такой прекрасной, и зашагал вдоль нетерпеливо ожидающей очереди.
– Тебе тоже от ворот поворот? – спрашивали его с участливым любопытством и растущей надеждой.
– Да, я показался им слишком заносчивым! – ответил Оке, вызвав отдельные смешки.
Фирме, выполнявшей почтовые заказы, срочно требовался упаковщик стеклянных изделий. Контора размещалась во дворе старого дома на улице Бругатан. Оке решил попытать счастья. В тот самый момент, когда он пришел, заведующий кадрами вышел из здания, явно пораженный тем, что ряд желающих вытянулся до самой подворотни.
– Есть среди вас опытные упаковщики?
Руки дружно взлетели в воздух, словно в образцовом классе в день экзамена.
– Гм… А справки есть?
После этого вопроса лес рук заметно поредел, и шеф скомандовал, пряча улыбку:
– Остальные могут шагать домой!
Но шагать домой – это никак не устраивало Оке. Это значило бы дать хозяйке повод для расспросов, а он вовсе не считал нужным доводить до ее сведения, что остался без работы.
Погода стала налаживаться. Выглянуло солнце, осветив крыши и площади бледным дрожащим светом. Оке попытался подавить назойливую тревогу и заставить себя наслаждаться тем, что может в будничный день слоняться по городу просто так, без всяких дел.
Под вечер он пошел в кафе АБФ, надеясь встретить там кого-нибудь из безработных товарищей по ячейке. Он застал на «полатях» и Геге и Акселя.
– Ну как, устроился? – спросил Геге бодро.
– Нет. Похоже, весь город– набит рассыльными, ищущими работы, – сказал Оке упавшим голосом. – В прошлом году ничего подобного не было.
– Разве можно сдаваться после первого дня! А вообще-то тебе лучше искать место ученика на каком-нибудь заводе и постараться приобрести специальность, пока не поздно. Я по своему недомыслию оставался рассыльным в радиомагазине, пока не исполнилось восемнадцать. Потом начался кризис, хозяин прогорел, и нас всех уволили. С тех пор у меня ни разу не было постоянной работы.
Геге достал из кармана новенький кисет и тщательно набил трубку.
– Рождественский подарок от матери, – сообщил он. – Знает, что человеку нужно. Трубку гораздо дешевле курить, чем сигареты.
Он сделал несколько затяжек и скорчил недовольную гримасу.
– Хотя первое время, пока она не прокурена, во рту все время вкус горелого дерева!
Аксель попросил у него табачку и привычно скрутил папироску.
– Тебе еще неплохо, Геге. Ты ведь живешь дома, – сказал он.
Геге задумчиво потер подбородок:
– И мне не всегда сладко. Ходишь в магазин, помогаешь с уборкой и воображаешь, что ты приносишь пользу дома. Но порой чувствуешь, что живешь, собственно, паразитом за счет братьев и сестер и небольшой пенсии отца – он работал раньше машинистом. Иногда мне кажется – учше было, когда мы все ходили без работы и когда нас жило пятеро взрослых в одной комнате, не считая кухни. Под конец месяца мы кормились главным образом обрезками, которые я добывал в мясных лавках. Тогда хоть на меня смотрели чуть ли не как на кормильца семьи!
– Обрезки? – переспросил Аксель с интересом. – Смотри ты, я даже как-то не подумал об этом.
Оке сидел молча, обдумывая совет Геге. В самом деле, искать работы на заводе – это самое разумное.
XI
Около Бергсюндстранда воду затянул тонкий сверкающий ледок, но у пристаней Лильехольмен она не замерзла и отливала тем же свинцово-серым цветом, что и батареи высоких газгольдеров на заводе угольной кислоты. Оке остановился возле будки мостового сторожа и долго рассматривал остров, прежде чем решился продолжить путь. В Норрмальме ему приходилось буквально разыскивать заводы; здесь же высился целый лес дымящих труб, тянулись один за другим закопченные кирпичные фасады и товарные склады из ржавой жести и досок со следами сурика.
В самом начале заводского района из земли торчала серая отполированная лысина скалы с венчиком из увядшей прошлогодней травы и жиденького кустарника. В голове у Оке вертелась песенка, которую он часто слышал в детстве:
Хотел собрать цветочки,
Сплести тебе венок,
Но в это время года
Цветов найти не мог.
Да-а, здесь вряд ли вообще что-нибудь может цвести. Со стороны гальванофабрики плыли едкие испарения, от которых першило в горле. Оке решил по ее унылому виду, что на это производство, должно быть, трудно найти рабочих; однако в воротах висело знакомое объявление: «РАБОЧИЕ НЕ ТРЕБУЮТСЯ».
Чуть подальше стояло серо-желтое здание, огражденное забором с неприветливой колючей проволокой поверху; железная створка ворот наглухо закрывала вход.

В здании размещалась текстильная фабрика с отдельной пристройкой для красильни, над которой клубился белый пар.
Вахтер высунул голову в окошечко и подозрительно посмотрел на Оке:
– Вам кого?
– Мне бы хотелось переговорить с управляющим. Я ищу работу.
– Управляющий не занимается наймом. Это входит в обязанности инженера Грюнбаха.
– А инженера можно видеть?
– Нельзя… У нас мест нет.
Окошечко неумолимо захлопнулось, и Оке двинулся вдоль забора дальше. В контору большого химического завода ему тоже не удалось проникнуть, но тут вахтер имел, очевидно, другие инструкции или же он просто пожалел паренька.
– Может быть, к весне что-нибудь наклюнется, – сказал он приветливо и записал фамилию и адрес Оке.
Однако подобные неопределенные ответы Оке уже слышал на нескольких машиностроительных заводах на Кунгсхольмен. Одними обещаниями не проживешь всю зиму… Он понял, что опять лишь впустую треплет подметки, и пошел обратно через мост, сотрясавшийся под тяжестью трамваев и мощных грузовиков. Странно, даже за мостом тротуар продолжал колебаться под ногами у Оке…
Голод острой болью пронизал желудок. Потом боль прошла, но слабость осталась. Казалось, в сосудах не осталось ни капельки крови, мышцы совсем онемели. Что, если он потеряет сознание? Может быть, «скорая помощь» доставит его в больницу, где он сможет поесть и отдохнуть?
Асфальтовый бугор улицы Хурнсгатан окутался легкой мглой, словно далекая горная вершина… Однако сознание не изменило Оке. Неделя полуголодного существования и дня два совершенно без еды – этого еще недостаточно, чтобы доконать молодой, здоровый организм.
Оке не мог удержаться от того, чтобы не заглядывать в витрины продовольственных магазинов, хотя они только хуже дразнили его голодный желудок. На подносах лежали горы еды. В одном месте он услышал сквозь полуоткрытую дверь певучий звук колбасорезки. «Обрезки!» – пронизала его волнующая мысль, но войти он не решился: слишком много покупателей столпилось в магазине.
Лишь где-то в Старом городе он набрел на лавку, владелец которой как раз в этот момент стоял в одиночестве и клевал носом за прилавком. Это был полный седой господин, он приветливо приподнял картуз, приветствуя входящего Оке, и, казалось, весь так и излучал доброту:
– Чего изволите? Оке запнулся.
– У вас есть… Я хотел сказать… Не могли бы вы дать мне обрезков?
Улыбка превратилась в лед, и на Оке уставились злые свиные глазки:
– А ну, давай-ка убирайся, пока я не позвал полицию, чтобы тебя засадили за бродяжничество!
Оке круто повернулся и выбежал на улицу с горящими от стыда щеками. Даже нищий из него не получился!
Не успел он отойти на несколько кварталов от лавки, как шум уличного движения прорезал громкий свист. Решив, что это полицейский, он в ужасе приготовился улизнуть в переулок, где знал множество укромных мест и проходных дворов.
– Оке-е! Ты оглох?
Молодой шофер, один из членов ячейки района Васа, остановил свой грузовик и кричал ему вслед:
– Если тебе еще ничего не удалось найти, беги скорей в «Электробюро» на Дроттнинггатан. Я был там только что и слышал, что им нужны люди на склад.
Оке просиял. Кажется, сегодняшний день все-таки принесет ему удачу!
– Спаси-ибо!
Видно, только так и можно. Искать работу наобум бесполезно; зато своевременный совет может подправить дело.
В «Электробюро» было что-то в самой атмосфере, что сулило успех. Заведующий складом надписывал только что взвешенные ящики, но при виде Оке засунул карандаш за ухо и осведомился, в чем дело.
– Люди нам нужны, это верно, – сказал он. – Сколько вам лет?
Оке быстро прикинул про себя: похоже, что всем этим парням, которые заняты здесь сортировкой электропробок, лампочек и других товаров, лет около двадцати.
– Мне исполняется восемнадцать в этом году, – ответил он, стараясь казаться постарше.
Заведующий призадумался.
– Лично я не имею ничего против того, чтобы взять вас, но…
Затаив дыхание, Оке ждал продолжения. – Но, прямо сказать, не решаюсь!
– Почему? Вы сами увидите, что я отношусь к работе добросовестно. К тому же можно позвонить моему прежнему хозяину и проверить.
Оке достал свою уже порядком поистрепавшуюся справку, но заведующий складом только махнул рукой:
– Плевал я на справки! Люблю сам убедиться на деле, на что годен человек. Но вам слишком много лет.
Оке все еще ничего не понимал. Слишком много Лет для самой обыкновенной складской работы, хотя ему исполнилось семнадцать всего лишь полтора месяца назад?
– Видите ли, в чем дело, – объяснил завскладом чистосердечно. – Все работающие здесь состоят в профсоюзе, кроме самых младших. На каждого, кто достиг восемнадцати лет, распространяются положения коллективного договора. Следовательно, им надо платить больше. Фирма не хочет иметь осложнений с профсоюзом в этих делах, поэтому меня ожидают неприятности, если я найму кого-нибудь старше четырнадцати – пятнадцати лет. – У заведующего были свои причины осуждать директивы начальства. – Что до меня, так я бы предпочел взять вас. С теми, кто приходит сюда прямо со школьной скамьи, слишком много возни – постоянно путают, что куда класть.
С поникшей головой Оке пришел домой и лег на кровать. Он был маленьким винтиком в неутомимой машине города, но совершил непростительную ошибку, чуть ли не добровольно позволив заменить себя другим. Машина не станет из-за такого пустяка. Он может разбить в кровь кулаки о ее железный корпус, но ему теперь уже не найти себе в ней места…
С таким же успехом можно дремать дома под одеялом, стараясь ни о чем не думать и ничего не хотеть… Голова сделалась легкой, как воздушный шар. Его понесло прямо вверх, к лохматому облачку. Тело окутал белый туман, полный острых, блестящих иголочек, которые с легким звоном кружились вокруг него.
– Вы заболели?
Задремав, он не заметил, как вошла хозяйка. Она поставила на ночной столик графин с водой и дребезжащий стакан.
– Да, что-то горло болит. Наверно, грипп, – поспешил извернуться Оке.
Она посоветовала ему выпить горяченького и вскоре принесла чашку кипятку с медом.
– Лучшее средство против простуды. Пейте, пока не остыло, – предложила она заботливо, как и надлежало обращаться с аккуратно платящим съемщиком.
Если бы она знала, что у него нет ни гроша! Сладкий напиток прогнал слабость, и прояснившийся мозг с прежним упорством занялся все той же проблемой.
Он полистал несколько полученных от Геге брошюр, проглядел газету, купленную, когда у него еще были деньги, потом попробовал одолеть главу в романе, взятом в городской библиотеке.
Чем бы он ни пытался занять себя, тревога не оставляла его. Пусть хозяйка думает, что хочет. Придется встать и дойти до Брюггаргатан.
* * *
В клубе он застал лишь Рашпиля и Бьёркнера. Они сидели сегодня, в виде исключения, молча, сосредоточенно разыгрывая партию в шахматы. Матрос облачился в гражданскую одежду и преобразился до неузнаваемости: чересчур короткие спортивные брюки, летний пиджак из тонкого материала и синий в белый горошек галстук, выглядевший на его мощной шее, словно бабочка на шее быка.
– Привет юному рекруту из авангарда пролетарской молодежи Геге, – процедил Рашпиль презрительно, поднимая глаза от шахматной доски.
Бьёркнер многозначительно ухмыльнулся и сделал неожиданный, но хорошо продуманный ход:
– Шах! И мат следующим ходом! С тебя чашка кофе. Он взглянул на стенные часы и сгреб фигуры с доски. – Четвертый час играем. Теперь тебе уже не придется отыграться.
– Увольнительную получил? – спросил Оке.
– Нет. Королевский военно-морской флот Швеции придерживается тех же взглядов, что Рашпиль: он неодобрительно относится к революционному авангарду. После нашей голодовки, когда мы протестовали против лежалой селедки и гнилой картошки, офицеры стали присматриваться ко мне. Потом нашли у меня в койке во время похода пачку «Стормклоккан», и моя песенка была спета. Сначала засадили за решетку за подрывную пропаганду, а там и совсем уволили.
– Ты явно не понял меня, – возразил Рашпиль. – Я как раз отнюдь не считаю вас революционерами.
Обеспечив себе последнее слово, он постучал ложечкой по чашке, подзывая официантку.
– Проглотишь чашечку? – спросил он Оке.
– Нет-нет, я спешу.
– Ну, составь нам компанию, – настаивал Бьёркнер.
Оке замялся:
– У меня денег нет.
– Так и скажи! – прорычал Рашпиль. – Да садись же!
Оке жадно вгрызся в заказанную для него булочку, но от кофе его сразу замутило.
– Спасибо древним китайцам или персам, что они изобрели шахматы, а то бы можно было околеть от скуки в такую сиротскую зиму, – философски заметил Рашпиль.
– Тебе не терпится дождаться снега и льда, да чтобы их хватило на много месяцев, а по мне – так скорее пришла бы весна, чтобы опять открылось судоходство на северных линиях. Тогда будет больше шансов наняться на какую-нибудь старую калошу, – возразил Бьёркнер.
Ожидание – именно это слово характеризовало всю атмосферу в кафе. Ждали снегопада (можно наняться на уборку снега!) или путевки в Смбланд от Конторы по трудоустройству безработных; ждали скорого краха всемирного капитализма или его оживления на базе высокой конъюнктуры, что хоть обещало постоянную работу на несколько лет. Воздух был насыщен ожиданием, и это обычно придавало особую горячность дискуссиям.
Чего мог ожидать для себя Оке? В призрение бедных он обратиться не мог, так как прописался лишь много времени спустя после приезда в город и не считался еще стокгольмцем.
– Сколько дадут в ломбарде за новый костюм? – спросил он.
– Четвертной, – ответил многоопытный Рашпиль.
Это было меньше, чем хотелось бы Оке; однако на двадцать пять крон можно добраться домой, в Нуринге. Бабушка обрадуется его возвращению, да и дядя Стен не выставит его за дверь, хотя и сам остался без работы в эту зиму.
С чего это, собственно, Курт подарил ему новехонький костюм? Или это был жест парня, стремящегося играть роль молодого сноба, который привык разбрасывать деньги налево и направо? Теперь настал черед Оке отдавать ни за что дорогой костюм.
«Что легко далось, с тем легко и расстаешься», – говаривала бабушка.
Время приближалось к полшестому, и поток людей, направлявшихся в кафе, стал гуще. Вошла Эдит в обществе стройного, бледного, серьезного молодого человека, которого Оке не видел раньше. На лацкане пиджака у него виднелся значок социал-демократического союза молодежи.
– «Единый фронт» еще не распался? – заинтересовался Рашпиль. – Давненько их не видели вместе.
– Сверре, кажется, усердно занимался. Готовится пополнить собой ряды избранных членов партии соци, – ответил Бьёркнер.
– И тогда юная председательница ячейки Васа пойдет по его стопам. Чем она лучше других женщин? А их политические воззрения определяются взглядами жениха.
Бьёркнер вертел между пальцами две шахматные фигуры – белая королева и черный король.
– Ты уверен, что в данном случае не получится наоборот?
Эдит взяла Сверре под руку, поднимаясь по лесенке к ним на «полати».
– Выглядите так, словно недавно отпраздновали помолвку, – приветствовал их Бьёркнер.
– Угадал. Помолвка состоялась на рождество.
Рашпиль тряхнул головой; черный чуб промелькнул в воздухе вороновым крылом.
– В торжественной обстановке? Золотые кольца, елка с желто-голубыми флажками, каша с миндалем и домовой на чердаке – как и полагается у мещан.
В воздухе над столом неожиданно мелькнул оранжевый шарик. Оке поймал его в полете, чуть не столкнув локтем свою чашку.
– Сладкие, сочные апельсины! Исключительно удачная партия! Пользуйтесь случаем!
Следующий шар попал в Рашпиля. Стоя внизу, Аксель со смехом опустошал свои раздувшиеся карманы, хотя их содержимое составляло весь его дневной заработок.
– Вот так! Наконец-то я от них отделался! – заключил он, посылая последний апельсин Оке.
Оке с таким нетерпением впился ногтями в кожуру, что сок брызнул между пальцами. Апельсины немного перележали, но никто, кроме Эдит, не заметил этого.
Принимаясь за второй апельсин, Оке вдруг вспомнил, где видел Акселя в первый раз. Тот стоял целый день с ящиком апельсинов под холодным осенним дождем у стройки через улицу от букинистического магазина, безуспешно стараясь распродать свой товар.
* * *
На следующий день Оке заложил костюм и двинулся прямиком на Центральный вокзал, спеша купить билет, прежде чем пересилит искушение истратить деньги на что-нибудь другое. Потом он пошлет телеграмму домой, уложит вещи и сообщит друзьям и хозяйке о своем решении покинуть город «больших возможностей».
Ночью выпал долгожданный снег, очистив воздух своими пушистыми хлопьями. Мостовая Васагатан покрылась бурой слякотью, зато часы у вокзального здания и обе круглые медные башенки на площади Норра Банторгет оделись в ослепительно белые снеговые шапки. Если Акселю, Геге и Рашпилю повезло, то они в этот момент орудуют лопатами где-нибудь на улице или на набережной.
В билетном зале какой-то незнакомый человек окликнул Оке:
– Вы не купите у меня залоговую квитанцию? Я заложил совсем новые часы, но остался без денег, а мне надо купить билет на вечерний поезд в Упсалу.
– Знаю я эту сказку! – ответил Оке, становясь в очередь у кассы.
Залоговая квитанция! В самом деле, на что она ему в Нуринге? Его осенила счастливая мысль, и он побежал вдогонку за ловкачом с «новыми часами», который уже искал покупателей в другом конце зала.
– Послушай-ка! Не купишь ли ты у меня квитанцию – ни разу не ношенный костюм, отличный материал.
– Я не люблю, когда первый попавшийся обращается ко мне на «ты».
– Ладно, не представляйся! Отдам за пятнадцать крон. Все равно ты неплохо заработаешь.
Ошарашенный напористостью столь юного коллеги, свободный предприниматель даже слегка растерялся.
– Ты только не размахивай бумажкой! И так уже фараон на нас косится, – предостерег он.
Все же опытный комбинатор взял свое – после непродолжительных переговоров они сошлись на десяти кронах. Для Оке эти деньги все равно были настоящей находкой. Теперь он, если захочет, может остаться в Стокгольме еще дня на два. Вдруг в последний момент подвернется работа?!
Он отложил покупку билета и направился вместо этого в столовую, какие обычно располагаются на вторых этажах старых домов с просторными комнатами. «Частная столовая Марианны» славилась своими бутербродами и закусками. Готовясь к приходу своих постоянных клиентов, хозяйка столовой отправилась в традиционный обход и с ужасом обнаружила, какому опустошению подверглись только что расставленные блюда и подносы. Сколько намеревается еще проглотить этот худой приземистый юноша? Хорошо, что горячие блюда подаются порционно, не то с такими едоками она бы быстро прогорела!
Оке заставил себя есть возможно медленнее, чтобы продлить удовольствие.
Когда он снова вышел на улицу, город показался ему совершенно переменившимся. Белые крыши и припудренные снегом деревья в парках были озарены новым, радостным светом.
XII
Еще горели уличные фонари, и только разносчики газет успели оставить свои следы на заснеженной Каммакаргатан. Оке поглядел в обе стороны, потом поднял глаза на фасады домов. Повсюду темные окна с опущенными занавесками… Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он подбежал к ближайшему киоску, выбрал в ящике несколько газет, сунул их под пальто и вернулся в подворотню. «Нужен мальчик-рассыльный. Есть возможность обучиться специальности», – гласило объявление фотографии, расположенной где-то в Эстермальме. Оке вернул газеты на место. В фотографию предлагалось обращаться от восьми до девяти – на этот раз он постарается быть первым в очереди.
Жители Эстермальма просыпались поздно. Больше часа он стоял в одиночестве и мерз у дверей фотоателье, пока не появилась молодая женщина, которая принялась отпирать двери.
– Вы чего ждете? – поинтересовалась она.
– Ищу работы и решил, что лучше прийти пораньше.
– Место уже занято.
– А ваше объявление в сегодняшней газете?
– Место было занято еще вчера, вечером. Произошло какое-то недоразумение – объявление должно было быть снято, – объяснила она с деланным сожалением в голосе.
У Оке даже не хватило сил разозлиться. Охваченный тупым отчаянием, он побрел в сторону Стюреплан. Какое число сегодня? Восемнадцатое февраля…
Близится новый месяц, а он все еще не знает, как наскрести денег для оплаты комнаты или билета домой, покупку которого откладывал со дня на день. Единственный оставшийся у него предмет, подходивший для превращения в звонкую монету, – псалтырь, подарок ко дню конфирмации, уложенный в чемодан по настоянию бабушки, – дал ему семьдесят пять эре в букинистической лавке, специализирующейся на религиозной литературе. Этого хватило на кашу к завтраку, но вскоре голод вспыхнул снова, обжигая внутренности изнуряющим пламенем. Остается испытать еще один выход – биржу труда, в которой Геге стоит на учете уже не первый год…
* * *
Сначала он попал в комнату ожидания с голыми стенами, окрашенными в неприветливый сине-зеленый цвет. На длинных деревянных скамьях вдоль стен сидело десятка два безработных; они не сводили глаз с черной доски, на которой записывались сведения о случайной работе. Оке попробовал выяснить, кто последний в очереди на регистрацию.
– Заходи прямо в контору. Мы уже все получили свои жетоны.
За столом сидел мужчина в темном халате, роясь со скучающим видом в картотеке. Оке пришлось простоять довольно долго, прежде чем служащий соизволил поднять взор и обратиться к нему с вопросами:
– А вам чего надо? Вы здесь раньше бывали? Какую работу ищете?
– Согласен на все что попало.
– «Что попало»! Разве вы не видели в объявлении при входе, что у нас здесь разные отделы по профессиям?
– Больше всего мне хотелось бы попасть на завод, но…
– Тогда вам в соседнюю дверь, – прервал его служащий с нарастающим раздражением.
– Но если на завод попасть нельзя, то я согласен быть рассыльным, – продолжал Оке.
Служащий достал карточку и стал заполнять ее с видом великомученика.
– Адрес – Каммакаргатан.
Не успев еще записать номер дома, он уже задал следующий вопрос.
– Вы живете у родителей?
– Нет.
– Значит, у родственников?
– Нет, у меня нет никого родных в городе.
– Вы здесь одни?! Да как это можно – семнадцатилетний мальчик приезжает – куда! – в Стокгольм и снимает комнату!
Столь вопиющий пример юношеского безрассудства явно не укладывался в параграфы биржи и совершенно вывел служащего из равновесия. Он решил поскорее отделаться от случая, сулящего осложнения, порвал бланк и заявил кисло:
– Я не могу заполнять на вас карточку, раз вы даже не знаете, какую работу хотите!
Объявление «Не останавливайтесь на улице около здания биржи» Оке не задело – он и без того решил на будущее держаться подальше от этого грязно-коричневого дома с казарменными окнами и бросающимися в глаза черными водосточными трубами.
Оке хорошо знал, что грозит ему, если он попадет в руки властей, хотя он виновен лишь в том, что искал работу в Стокгольме: отправка домой, в Нуринге, за счет органов призрения. А там… Он заранее представлял себе шепот и хихиканье за его спиной:
«Вот чем кончил наш стокгольмец! Муниципалитету пришлось платить за его проезд домой. Неудивительно после этого, что налоги растут!»
Оке остановился на гранитном виадуке через Кунгсгатан и посмотрел вниз на поток людей. Деловитые господа с портфелями в руках, конторщицы, торопящиеся использовать обеденный перерыв, упитанные гуляки, элегантные дамы, с вожделением заглядывающие в витрины, мечтая о новом, еще более дорогом манто…
Он чувствовал себя несравненно более заброшенным я одиноким, чем под хмурым зимним небом на уединенном острове в Балтийском море.
* * *
Единственное учреждение, куда может ходить безработный, не испытывая возрастающей с каждым шагом неловкости, единственное место, где можно получить что-то даром, не попрошайничая, – это городская библиотека.
Оке прошел в общий читальный зал погреться и просмотреть свежие газеты. Рабочая пресса писала под большими заголовками об исходе выборов в Испании. Коммунистические газеты сообщали о блестящей победе над реакцией. Партии народного фронта – коммунисты, социал-демократы и левые – собрали абсолютное большинство, получив в кортесах[42]Кортесы – наименование парламента в Испании. 278 мандатов из 473. Анархисты и синдикалисты, пользующиеся значительным влиянием среди рабочих, отказались от своих бесплодных антипарламентских установок и приняли участие в выборах. В Барселоне левые партии получили перевес в 100 тысяч голосов. Среди избранных – бывший премьер Каталонии Компанис, приговоренный этой зимой к тридцати годам каторги.
Героические горняки Астурии избрали известную революционерку Пассионарию[43]Пассионария – псевдоним Долорес Ибаррури, генерального секретаря компартии Испании. и еще одного коммуниста. Коммунистическая партия, ранее не имевшая представителей в парламенте из-за террора и несправедливой избирательной системы, получила 14 мандатов.
Закрытые было помещения рабочих организаций открылись вновь; перед мадридскими тюрьмами проходят массовые демонстрации с требованием освободить 30 тысяч политических заключенных, томящихся в застенках страны.
Многие известные фашистские лидеры провалились на выборах. Сын бывшего диктатора Примо де Ривера, выставивший свою кандидатуру в восьми провинциях, нигде не был переизбран.
Энтузиазм корреспондента, отчетливо пробивавшийся сквозь сухие факты телеграммы, заразил Оке. Есть еще в мире места, где дела идут так, как надо!
Но Испания – это так далеко, да и что он, собственно, знает об этой стране? Хотя у него хорошая зрительная память и он может в любой момент изобразить на бумаге контуры Пиренейского полуострова, его познания о внешнем мире явно оставляют желать лучшего.
Кастаньеты, жаркие ночи,
Красное как кровь вино…
Кружевные Мантильи вокруг темных женских головок. Трубадуры под озаренными луной балконами, тореадоры на арене цирка, залитой ярким южным солнцем… Нет, подлинная жизнь Испании заключается, конечно, не в этом.
Что он учил в школе? Мадрид – столица, расположен в центре страны на горном плато. На северном побережье имеется город Бильбао – промышленно-торговый центр с лежащими поблизости богатыми железными рудниками. И еще одна строчка, которую было одинаково трудно заучить и забыть.
«Эбро, Дуэро, Тахо, Гвадиана и Гвадалквивир».
Если он хочет узнать побольше, нет ничего проще – надо только пройти в главный зал библиотеки: громадный цилиндр, полный красных книжных корешков и той особой тишины, которая возникает, когда много людей старается тише говорить и ходить.
Путевые очерки об Испании имелись во множестве. Они содержали много живописных деталей из так называемого народного быта, но мало говорили о повседневной жизни рабочих и крестьян. Оке без труда узнал типичный туристский подход к пейзажам и людям, к которому с детства научился относиться с недоверием, и перешел в зал исторической литературы.
«Чтобы узнать настоящее, надо начинать с изучения прошлого», – гласил один из любимых афоризмов Хольма.
Оке чуть не заснул над громадными фолиантами о королях и предводителях ордена иезуитов, о войне за испанское наследство, с ее хаосом событий и имен. Начав с походов и интриг на испанской земле англичанина Мальборо и австрийца Евгения Савойского,[44]Мальборо (1650–1722) – английский полководец и политический деятель. Евгений Савойский (1663–1736) – австрийский полководец и дипломат. он обратился к периоду господства мавров в цветущей Гренаде. Правда, он оказался ближе к миру сказок, чем к той истине, которую искал, но зато время шло быстро.
Перед тем как уходить из библиотеки, он еще раз заглянул в общий читальный зал и немало удивился, увидев Акселя с французской газетой в руках:
– Ты сегодня не на уборке снега?
– Жетоны на этот вид работы есть не только у меня, а еще примерно у восьми тысяч человек. Сегодня утром имелось работы всего лишь для двух тысяч, – ответил Аксель, откладывая газету.
– Где ты научился французскому? – продолжал удивляться Оке.
– В латинской гимназии… Да уже почти все позабыл.
Сдержанные ответы Акселя не располагали к дальнейшим расспросам. Они прошли вместе в сторону Каммакаргатан, беседуя на более общие темы; на углу Аксель предложил Оке пройти с ним немного по Дроттнинггатан.
– Я теперь поселился в холостяцкой гостинице в Сёдэр. А тебе только полезно прогуляться перед сном.
Оке успел нагуляться досыта за день, но не хотел расставаться с товарищем. Ему вдруг стало невмоготу оставаться наедине со своей неуверенностью и притаившимся страхом. Все же около Шлюза он остановился, намереваясь повернуть обратно.
– Пойдем заглянем в гавань. Там тихо, спокойно, можно поговорить, – настаивал Аксель.
Портовые здания хмуро глядели темными окнами, под заснеженными брезентами на пристанях лежали горы товаров, высоко к небу вздымались железные руки подъемных кранов, неподвижные, словно деревья в морозную ночь.
Аксель глянул на часы Мореходного училища:
– Мне нужно быть в гостинице до десяти вечера, так что еще есть время. Приходить слишком рано мне тоже не улыбается. В нашей комнате двадцать коек, воздух такой, что хоть ножом режь. – Он передернул плечами и продолжал, словно споря с самим собой: – Бывает, конечно, еще хуже. Прошлой осенью я целый месяц прожил в штабеле досок. Устроил себе логово – постелил газеты и два одеяла, так что замерзнуть насмерть не мог. И все-таки каждый раз, когда я заползал в эту сырую нору, у меня в груди словно лед намерзал… А как на всю ночь зарядит дождь – тут уж не до сна. Так что было время поразмыслить… На таких, как Геге, держится вся наша организация. А я, наоборот, сам держусь только благодаря ячейке. И так проходит молодость… Живешь – лишь бы день убить. Настоящая мокрица под камнем! Хуже всего, что к этому привыкаешь. В конце концов уподобишься оборванцам в порту с их единственной мечтой в жизни: чтобы сегодня пришло достаточно «торговцев» с полугнилыми фруктами и можно было заработать на разгрузке на пол-литра и на девку в субботний вечер.
Оке искал, что возразить, чтобы защитить товарища и самого себя от безнадежного пессимизма, но что мог он сказать Акселю с его многолетним опытом унижений, голодного и бездомного существования?
Впрочем, похоже было, что Аксель вовсе и не ждет от Оке никаких высказываний. Он явно испытывал облегчение от возможности излить душу молчаливому слушателю.
– Мы твердим, что безработица доказывает нежизнеспособность капитализма. Не вернее ли будет несколько видоизменить эту формулировку? Разве капитализм может вообще существовать без безработицы? Как ни говори, для капиталистов только удобнее, что постоянно имеются люди, которые торчат у заводских ворот и клянчат работы. При таком положении легче заставить тех, кто стоит у машин, мириться с низкой заработной платой. Можно запугать их до такой степени, что они будут молча глотать все и подчиняться. Экономисты называют нас резервной рабочей силой. Как это звучит порядочно и научно! Для них мы не люди, а только цифры в статистике. Занимайте свое место в цифровых колонках и помалкивайте!
– Но ведь ты учился, у тебя должно быть больше возможностей, чем у нас, остальных, – заметил Оке.
– А что толку, если у тебя нет аттестата? Я учился в третьем классе гимназии, когда умер отец. Скромный банковский служащий с либеральными идеями и маленьким заработком выбивался из сил на всякой дополнительной работе, чтобы семья могла, как говорится, вести достойный образ жизни. Мама не могла представить себе иной жизни, как в семикомнатной вилле в Стоксюнде, и все дети должны были, разумеется, получить образование. Не прошло и года после смерти отца, как она вышла замуж за коммерсанта. Несколько месяцев я еще выдерживал его опеку. Потом бросил школу и дом, решил стать рабочим, как другие члены ячейки. Безработица была для меня до тех пор лишь аргументом в отвлеченной дискуссии.
– И ни разу не был дома с тех пор?
– Нет. Правда, прошлой осенью встретил маму на улице – как раз стоял и продавал апельсины. Она явно не была обрадована тем, что и я занялся коммерцией, и с ужасом разглядывала мой костюм. Понимаешь, я забыл выгладить брюки, когда вылезал из своего логова утром!
Они стояли у подножия темной отвесной скалы, на которой не задерживался снег. Бывало, что здесь внизу, на рельсах, находили окровавленное тело…
– Ты не задумывался о том, как, собственно, легко навсегда исчезнуть из рядов резервной армии труда? – произнес Аксель негромко, подходя к краю набережной.
В самом деле, чего проще – наклониться вперед, пока не упадешь. Никакой головокружительной высоты, как там наверху, на скале, но та же гарантия, что назад уже не вернешься.
Никого из портовой охраны не видно. С ближайшего судна все равно не подоспеют, взобраться обратно на обледеневшую набережную без посторонней помощи невозможно. Оке стоял с минуту словно завороженный, глядя на отражение фонаря на поверхности бегущей воды. Стоит нити лампы перегореть, и бесследно исчезнет эта беспокойная живая игра огоньков в холодной, темной, как вечность, воде…
Жаркая волна гнева обдала его, и Аксель невольно отступил назад, услышав неожиданно резкий ответ:
– Верно… Но мы не из тех, кто сдается!
XIII
Пронзительно продребезжал будильник. Сразу же вслед за этим Оке услышал, как фыркает над умывальным тазом его товарищ по комнате, и подумал, что ему самому, пожалуй, тоже нужно выйти – прочитать газетные объявления. Однако искушение полежать в постели еще с часок и подремать взяло верх.
Было уже совсем светло, когда Оке наконец проснулся и отдернул занавеску. Какой-то парнишка с трудом поднимался в гору на основательно нагруженном велосипеде. Его усталый вид плохо сочетался с ярко-красной надписью на раме: «Молниеносная доставка».
Оке рассеянно проводил его взором, но тут же его осенила мысль, которая зажгла искру надежды в это хмурое утро: велосипедные бюро! Оке разыскал у хозяйки телефонный каталог и стал листать раздел учреждений. Выписав чуть ли не сто адресов и сгруппировав их по районам города и улицам, он двинулся в путь. Сначала прошел в Клара, оттуда – через Старый город в Сёдэр. Здесь было не так-то легко найти нужный адрес, и Оке открыл, что этот район куда обширнее, чем он предполагал раньше.
Повсюду его встречали однообразным отказом, как прежде на заводах, но он упрямо шел дальше, решив проверить весь список до конца. Уже темнело, когда Оке, спотыкаясь от усталости, возвращался обратно через только что отстроенный мост Вестербрун.
Третье бюро, в которое он зашел на Кунгсхольмен, находилось в полуподвальном помещении. На цементном полу лежали в беспорядке велосипедные покрышки. Под потолком висели на крючках запасные велосипеды и верные дождевики, на длинной деревянной скамье вдоль стены сидели в ожидании путевок рассыльные; одни курили, другие разгадывали кроссворды или читали детективные романы.
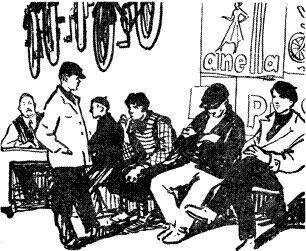
Шеф восседал около самой двери за сильно потертым, залитым чернилами письменным столом. В мусорной корзине валялись три пустые пивные бутылки, четвертая стояла на полу рядом, наполовину опустошенная.
– Нужен ли нам еще рассыльный? – переспросил он хриплым голосом и протянул руку за бутылкой. – Что ж, если вы умеете провезти тяжелый груз в гололедицу и хорошо знаете город, то…
Оке показал справку из магазина и промолчал о том, что никогда в жизни не ездил на грузовом велосипеде.
– Ладно! Приходи завтра, – решил хозяин в приступе пьяного добродушия.
Он сообщил Оке размер заработка, указал рабочие часы и записал себе в книгу фамилию нового сотрудника.
Выйдя из подвала, Оке испустил глубокий вздох. Где-то в глубине сознания затаилось чувство скрытой опасности, однако оно совершенно заглушалось самым главным: есть работа! Остальное все наладится.
С ближайшего угла он увидел Норр Меларстранд. Вдоль набережной выстроились вмерзшие в лед баржи и шхуны, на блестящей поверхности залива протянулись длинные полосы света от уличных фонарей. А что – пожалуй, стоит уж заодно решить и еще один вопрос сегодня?
В окне комнаты, где жила когда-то Карин, горел свет, но на двери стояла уже другая фамилия. Все же Оке позвонил. Открыл пожилой господин в халате и домашних туфлях.
– Нет, здесь нет никакой фрекен Бергман! – ответил он раздраженно и захлопнул дверь раньше чем Оке успел спросить, куда переехала Карин.
Дворник тоже ничего не смог ему сказать.
XIV
Короткие холодные зимние дни казались бесконечно далекими. По залитому ярким солнцем шоссе катили полчища одетых по-летнему велосипедистов, в цветочных ящиках на балконах Фредхелла[45]Фредхелл – район Стокгольма расцвели яркие петуньи. Здесь простирался городской район нового типа – ничего похожего на сплошные кварталы с цементированными дворами. Высокие дома стояли раздельно на лесистых холмах, оставив деревья и траву в неприкосновенности.
Веселая компания, устроившаяся на травке около дороги, приветливо помахала вслед грузовику. Возможно, это были тоже члены Союза молодежи, а может быть, их просто увлекла мелодия и энтузиазм молодых голосов:
Мы – молодая гвардия
Рабочих и крестьян…
Темноволосая хохотушка Ингер сидела на ящике с лимонадом, аккомпанируя на гитаре. Она приехала в Стокгольм из шахтерского поселка за Полярным кругом и совершенно перевернула представление Оке о северянах как о немногословных, замкнутых людях.
Аксель ожидал товарищей по ячейке в летнем лагере на берегу озера Меларен – любимом месте гуляний молодежи. Он провел здесь уже целый месяц, загорел, как бедуин, и не без гордости повел друзей осматривать свою палатку. Она была старая и залатанная, но зато он настелил в ней дощатый пол и поставил топчан.
– Давно я не имел такой хорошей квартиры! – похвастался он друзьям и предложил Геге и Оке преночевать у него: они собирались переспать в кустах, завернувшись в свои одеяла. – Тесновато будет, но как-нибудь поместимся.
Разбив палатки и расчистив свою лагерную площадку, члены ячейки поспешили к воде.
Между крутой скалой и поросшим березками мысом простирался залив с песчаным дном. Только в одном месте дно было глинистое и здесь густо росли камыши.
Шум голосов и плесканье быстро разогнали прибрежную тишину. Стая вспугнутых уток поднялась с воды и полетела в сторону небольшого островка в заливе. С уступа на скале кто-то махал друзьям рукой.
– Это Бьёркнер, – угадал Геге. – Его повадку издали узнаешь. Поплывем туда, позагораем…
В воздухе повеяло вечерней прохладой, но освещенные золотистым предзакатным заревом камни еще не успели остыть. Вдали мелькали белыми крыльями паруса яхт. Сверкающие красным деревом быстроходные катера проносились мимо мыса, поднимая мелкие волны, которые с легким шлепком разбивались о берег.
– Настоящие дельфины, – сказал Бьёркнер.
– Эх, сейчас бы подвесной мотор и прокатиться на просторе! – вздохнул Геге.
Оке прислонился спиной к скале. Пресная вода стянула веки, во рту появился легкий привкус ила. Он ощутил вдруг острую тоску по родному острову, морю, по шхунам, предназначенным для тяжелого труда в тяжелую погоду и пахнущим нефтью, салакой и дегтем.
Бьёркнер громко присвистнул – Ингер выбралась из воды на камень внизу и сняла купальную шапочку. Ее гибкие движения отличались бессознательной грацией.
– Вот это девушка! Смотри не прозевай, Геге!
– Она в нашей ячейке, – ответил Геге сухо.
– Ну и что ж?
– Ты можешь говорить что хочешь, но я считаю, что к нашим девушкам нужно относиться серьезно. Иначе пойдет болтовня, начнутся всякие осложнения, которые только повредят товарищеским отношениям и нашей организации.
Бьёркнер грубовато рассмеялся:
– Пойду искупаюсь еще раз…
Он прыгнул прямо с уступа и врезался в воду около самого камня, рисуясь перед Ингер.
– Тебе нравится Бьёркнер? – спросил Оке.
– Да. У него хорошая голова, и он, пожалуй, сделает больше, чем от него ждут.
Оке задумался, почему он никогда не мог относиться с полной непосредственностью к Бьёркнеру. Или он просто завидовал ему? Когда Оке с жаром включался в дискуссии в кафе, набив голову тем, что прочитал в газетах и брошюрах, Бьёркнер любил с улыбочкой ловить его на каждом непродуманном утверждении, на каждой неясной или напыщенной формулировке. Часто он для вида соглашался с доводами Оке и завлекал его в самые неожиданные ловушки.
– Пора одеваться! Поплыли обратно? – позвал Геге.
По краям травянистой поляны вырос уже целый город палаток, а велосипеды с красными флажками всё прибывали и прибывали.
С наступлением сумерек, когда с озера стал наползать белый туман и появились тучи комаров, вспыхнул большой костер.
Концертную программу открыли два баяниста, быстро собрав вокруг себя большую группу слушателей. Когда Эдит вышла прочесть стихи, кое-кто собрался уйти, но потом все вернулись.
– Я прочту отрывок из «Песен угольщика» Дана Андерссона.[46]Андерссон, Дан (1888–1920) – известный шведский писатель
Звонкий голос, взлетающие к вечернему небу дым и искры, беспокойный отсвет огня на лицах рождали особое настроение. Песни звучали над лагерем до тех пор, пока от костра осталось лишь несколько подернутых пеплом угольков, но по-настоящему тихо стало лишь после полуночи.
– Этим летом наша ячейка держалась дружно, – сказал Геге удовлетворенно Акселю и Оке, когда они забрались в палатку.
* * *
Палатка была обращена одним скатом на восток, и Оке проснулся от невыносимой духоты. Снаружи доносилось жужжанье примуса, кряканье уток и утренний пересвист веселых пичужек.
– Ну и спишь ты! – приветствовал его Аксель, когда Оке высунулся из палатки, щурясь от яркого света. – Геге уже пошел купаться. Догоняй его, потом сядем завтракать.
Сквозь нежную зелень берез на мысу светились белые стволы. Трава еше серебрилась прохладной росой, но на скале уже нежилось на солнышке множество купальщиков. Геге и Бьёркнер брели по воде к берегу.
– Свежих газет не видел? – крикнул Бьёркнер.
– Нет.
– Кто-то уверял меня, будто по радио передавали о восстании в Марокко.
– В такую жару газетчикам приходится изощряться, как никогда… Вот они и решили, видно, мобилизовать себе на помощь Абд-эль-Керима,[47]Абд-эль-Керим – марокканский политический деятель хотя всем известно, что французы держат его уже десять лет в заточении на каком-то островке в Индийском океане, – заметил Геге скептически.
– Тут совсем другим пахнет, – возоазил Бьёркнер. – У Гитлера множество агентов по всей Северной Африке… Лучше я доеду на велосипеде до поселка – может быть, раздобуду газету.
Бьёркнер отсутствовал недолго. Влетев с невероятной скоростью на лагерную площадку, он отшвырнул в сторону велосипед и сложил ладони рупором:
– Члены ячейки, все сюда!
Слышно было по голосу, что случилось нечто чрезвычайное. Оке быстро подплыл к берегу и побежал в лагерь.
– Товарищи! Фашисты в Испании устроили путч. Их штаб находится в Марокко. Вся военщина на их стороне, они уже заняли большинство городов. Сообщают, что в Кадисе высадился иностранный легион. Фашисты передают, что овладели всей южной Испанией, но правительство категорически опровергает это сообщение.
Аксель протиснулся сквозь кучку ребят вокруг Бьёркнера и попытался заглянуть в газету.
– А что делает Народный фронт? – крикнул он нетерпеливо.
– Ничего определенного неизвестно. Но шесть тысяч рабочих отправились из Астурии в Мадрид защищать столицу. Вооружены динамитом, который захватили на шахтах.
– Кто возглавляет путч? Хиль Роблес,[48]Роблес, Хиль – испанский политический деятель, фашист. конечно?
– Нет, какой-то генерал с Канарских островов, о котором я раньше и не слыхал. Его фамилия – Франко.
XV
В рабочих кафе Стокгольма склоняли на все лады испанские географические наименования, о которых несколько месяцев назад никто и понятия не имел. Попытка Франко осуществить неожиданный, молниеносный переворот потерпела крах, хотя он располагал тремя четвертями всей армии против простого народа, не прошедшего даже элементарной военной подготовки.
Ни одна военная доктрина не могла предусмотреть, что почти безоружный противник сумеет штурмовать казармы с тысячами солдат, сшибать грузовиками пушки и отбивать с помощью ножей и старых револьверов пулеметы, как это делали рабочие Барселоны в первые дни войны.
Нерешительное либеральное правительство уступило место более энергичному кабинету во главе с социал-демократом Кабальеро. Впервые фашизм натолкнулся на смелый, сплоченный отпор. Однако республике все еще угрожала смертельная опасность.
– Пал Толедо, – перечитывал Оке в сотый раз, всякий раз надеясь, что сообщение окажется неверным.
«Эбро, Дуэро, Тахо…»
Сворачивая на Брюггаргатан, он вспомнил заученную в школе строчку. Толедо лежит на берегу Тахо, к югу от Мадрида; если моторизованным колоннам фашистов удалось прорваться в этом месте, значит столице грозит окружение.
В рабочем клубе чувствовалось подавленное настроение – обсуждали последнее коммюнике испанского правительства.
В нем говорилось:
«В настоящее время фашистские войска, опираясь на значительное превосходство в вооружении и боеприпасах, полученных от иностранных фашистских правительств, развивают ожесточенное наступление в направлении Мадрида. Оборона Мадрида потребует больших усилий и жертв. Ситуация требует строжайшей военной дисциплины и сплоченности».
– Демократические державы не позволят фашизму проглотить еще и Испанию, – послышался с «полатей» спокойный, слегка задумчивый голос Сверре.
– Ты хочешь сказать, что Англия постарается удержать Гибралтар и баскские железные рудники? И что Франция останется верна своим свободолюбивым традициям? – осведомился Бьёркнер.
Он приподнял плечи, так что его мощная шея стала еще короче, и подчеркивал каждое слово ударом указательного пальца о левую ладонь:
– Франция остается капиталистической страной, хотя там сейчас правительство Народного фронта. Буржуазия осуществила революцию 1789 года, но сегодня она готова защищать самый прогнивший и отживший феодальный строй, хотя бы это означало, что у французских границ по Пиренеям появится фашистская армия!
– Законным правительством Испании является то. которое сидит в Мадриде, а не фашистские бунтари в Бургосе, – возразил Сверре.
– Однако для его победы необходимо посягнуть на священное право собственности и на право иезуитов удерживать в невежестве сорок процентов испанского народа. Или ты допускаешь возможность демократического строя в земледельческой стране, где половина земли находится в руках одного процента населения, а сорок процентов жителей остаются безземельными батраками?
– Конечно нет.
– Слава богу, мы хоть в чем-то согласны. Как ты думаешь, когда Пер Альбин пойдет на то, чтобы разрешить Кабальеро закупить пушки Буфорса?[49]Ханссон, Пер Альбин – председатель шведской социал-демократической партии с 1925 по 1946 год. в течение многих лет был премьер-министром Швеции. Кабальеро, Ларго возглавлял в течение нескольких месяцев 1936–1937 годов правительство в республиканской Испании. Буфорс – крупнейшие военные заводы Швеции.
Сверре ответил уклончиво:
– Но ведь наши профсоюзы уже выделили пятьдесят тысяч крон в испанский фонд. Скоро у нас будет организован комитет помощи.
– Мало посылать только одежду и консервы. Если испанцы не получат оружия и боеприпасов, конец будет таким же, как в Абиссинии.[50]Абиссиния (Эфиопия) – государство в Восточной Африке; в 1935 году подверглось нападению со стороны фашистской Италик.
* * *
В жилы шведской экономики влилась свежая кровь, пролитая на полях сражений в Испании, и на пароходных линиях наступило оживление. Бьёркнер нанялся на судно, перевозящее железную руду, и исчез из Стокгольма.
В один из вечеров в начале декабря, когда Оке работал сверхурочно и поздно вернулся домой, его встретила в коридоре хозяйка.
– Вам звонил какой-то Гоффен или что-то в этом роде, – сообщила она. – Просил прийти в ресторан «Будапешт».
«Пешт» находился в Клара и пользовался дурной славой, несмотря на доступные цены и неплохой струнный оркестр в венгерских костюмах. Оке сразу растерялся при виде нарядной ливреи швейцара, а метрдотель совсем доконал его строгим вопросом:
– Господин пришел один?
Зачем Геге выбрал такой ресторан, где требуется столько церемоний, чтобы получить место за столиком? Оке отыскал его в дальнем конце зала, в плохо освещенном углу, где обычно укрывались влюбленные парочки, а также люди, не склонные афишировать свое присутствие. Вместе с ним сидели Аксель, немецкий беженец, известный в клубе АБФ под именем Карла, и… Бьёркнер.
– Ты надолго на берег? – спросил удивленный Оке. Вместо ответа Бьёркнер подозвал официантку:
– Будьте добры – еще бутылку и два бокала.
– Хватит одного, – возразил Аксель. На столе перед ним стояла чашка кофе.
– Тебе придется пить вино, чтобы не умереть от жажды, так что привыкай сразу.
Бьёркнер рассмеялся с деланной развязностью и вылил остатки вина в свой бокал. Немец, называвшийся Карлом, недоверчиво глянул на Оке. Можно ли положиться на этого юнца?
– Хорошо, что ты пришел, – сказал Геге. – Он затянулся своей трубкой и произнес негромко: – Вот эти ребята отправляются сегодня вечером в Испанию. Но чтобы никто об этом не знал, пока они не переберутся через границу!
Оркестр заиграл сентиментальную мелодию «Мусталайнен», химическая блондинка за соседним столиком принялась подкрашивать губки. Со стороны кухни донесся чей-то голос:
– Два жарких!
Эти банальные детали с неожиданной остротой запечатлелись в сознании Оке, в то время как он силился понять значение принятого товарищами решения во всей его полноте. Скоро они окажутся в самом центре событий – > в непрерывно обстреливаемом и бомбардируемом Мадриде. Фронт проходил по западному предместью города, где три батальона добровольцев со всего света остановили первый штурм франкистов.
– До сих пор в Интернациональной бригаде не было ни одного шведа. Мы надеемся, что их станет там много, после того как узнают о нашем отъезде, – сказал Аксель.
Оке удивило, что Аксель, сверх всякого ожидания, держался спокойнее, чем Бьёркнер. А впрочем, это необычное хладнокровие и уверенность Акселя были понятны: впервые за много лет он точно знал, что будет делать завтра и послезавтра, знал, что наконец-то оказался нужен, и был хорошо подготовлен к выполнению того, что от него потребуется. В армии он считался одним из лучших пулеметчиков своей роты.
– Но с этим галстуком тебе придется расстаться! – воскликнул Бьёркнер.
И Карл поддержал его:
– Наин. Нехорошо.
Аксель обиделся:
– А что плохого в том, что он красного цвета?
– Да еще к синей рубахе! Ты мог бы с таким же успехом повесить на груди плакат: «Коммунист; направляется в Испанию».
– Ну и что же? Мы ведь не через Германию поедем.
– Все равно. Во главе парижской полиции стоит корсиканский фашист.
Геге тоже считал, что следует быть предельно осторожным, хотя бы ради немецкого товарища. Он снял свой скромный галстук в голубую полоску:
– Давай поменяемся.
Карл то и дело поглядывал на часы, советуя товарищам поспешить с обменом и допивать вино.
– Лучше попрощаться здесь, а не на вокзале, – предложил он, когда они вышли на улицу.
Геге попытался скрыть свои чувства за вымученной шуткой:
– Счастливо! И не давайте маврам перерезать вам глотку. От их грязных ножей легко может случиться заражение крови.
Оке крепко сжал руку Акселя и смог только повторить: «Счастливо!», хотя это, пожалуй, звучало странным напутствием для будущих фронтовиков.
– Спасибо за дружбу, – ответил Аксель тепло.
– Мы напишем при первом же случае, – обещал Бьёркнер.
Карл забыл от волнения, что должен играть роль шведского коммивояжера, и заговорил на родном языке:
– Ауфвидерзеен!
Это была единственная немецкая фраза, которую знал Оке. До свидания… Увидит ли он еще когда-нибудь хоть одного из этой тройки, направляющейся сейчас к Центральному вокзалу?
ХVI
Улицы залиты ослепительным солнечным светом, струящимся из светлой прозрачной выси. Один за другим идут люди в спортивных костюмах и с лыжами на плечах.
«Сегодня, пожалуй, погода даже чересчур хороша», – додумал Оке, одеваясь.
Многие успеют отправиться на воскресную прогулку еще до того, как сборщики средств обойдут свои кварталы. На этот раз речь идет не о поношенной одежде для раздетых испанцев – собирают деньги для шведско-норвежского госпиталя.
Хозяйка постучалась и вошла, неся утренний кофе. Эта честь стала выпадать на долю Оке с тех пор, как он расщедрился и решил платить за всю комнату, расставшись с возчиком молока, – тому надоело скитаться по углам, и он нашел себе отдельную квартиру.
– Писем нет?
– Нет. Видно, забыла она Андерссона… Но вы не расстраивайтесь, мало ли еще девушек в городе!
Оке натянуто рассмеялся, стараясь утвердить хозяйку в ее догадке. Почему молчат Аксель и Бьёркнер? Вот уже скоро два месяца, как он получил несколько строк, набросанных на листке из блокнота: «Сегодня ночью перебрались через границу. Нас разместили в старинной крепости в горах. Внизу раскинулся город – совсем как на картине, но он переполнен женщинами и детьми, бежавшими из Мадрида. В общем, все хорошо».
А каково им теперь? Газеты сообщают о штыковых боях на мадридском фронте. А штык – это прикрепленный к стволу винтовки нож, которым вспарывают живот противника.
Оке невольно содрогнулся при мысли о том, что, может быть, именно в этот миг его товарищи дерутся врукопашную с подонками из Иностранного легиона или со страшными маврами. Оставшись один в комнате, он невольно вспомнил слышанные в детстве старые рыбацкие сказки о дурных приметах и оправдавшихся предчувствиях.
Тревога выгнала его из дому слишком рано; однако, придя к условленному месту встречи – кафе на Норра Банторгет, – он застал там и Эдит и Геге. Они склонились над картой Стокгольма.
– Как ты думаешь, справится социал-демократическая молодежь с таким большим районом? – спросил Геге.
– У них записалось вдвое больше сборщиков, чем в прошлый раз.
– Надеюсь, наша ячейка придет в полном составе, и нам не придется краснеть.
Геге очень хотелось, чтобы комсомольцы собрали больше, но в то же время он радовался соревнованию. События в Испании прогнали уныние среди рабочих, вызванное слишком легкими победами фашизма. В рабочем движении наступило небывалое оживление.
– Да, чуть было не позабыл! – спохватился Геге и протянул Оке серый конверт с испанскими марками и штемпелями. – От Бьёркнера.
«Здорово, Геге! – гласило будничное начало. – Я очутился на время в тылу после четырех недель на передовой и могу теперь отвечать на твои письма без помех со стороны летающих кусочков свинца и гранатных осколков. Шведов собралось уже довольно много, и поговаривают о том, что из нас сформируют отдельную роту. Вчера прибыла группа гётеборжцев, они пополнят наши ряды после прошедших за последние недели боев. Карл пропал во время танковой атаки. Может быть, и ему удалось спастись, но надежд мало: франкисты обычно не церемонятся с пленными. Три шведа ранены, лежат в госпитале. Фашисты стреляют разрывными пулями, после которых остаются страшные раны.
У них множество немецких пушек и бомбардировщиков, и они сознательно бьют даже по гражданскому населению. Когда я вчера попал в Мадрид, в городе как раз вытащили из-под развалин пятерых мальчиков. Обнаружили также останки девушки лет двадцати – полголовы, рука и несколько тряпок.
От такого зрелища рвешься на фронт, едва успев выспаться и соскрести с себя грязь и бороду. Недавно мы взяли в плен пятьдесят четыре итальянца, захватили два грузовика с боеприпасами и три противовоздушных орудия. Хочу просить, чтобы меня перевели в ПВО. Увидеть бы, как врезается в землю горящий «Юнкере»! Они бомбят нас непрерывно.
В Кадис прибыли восемь тысяч итальянских солдат со всем снаряжением. Их бросят, наверно, в очередное наступление на мадридском фронте. Однако зверские бомбежки только закалили волю населения к борьбе. К тому же фашисты научились относиться с уважением к рабочему полку Листера[51]Листер, Энрике – выдающийся командир испанской республиканской армии. и к нам, интербригадовцам. Мы сменили лозунг «Но пасаран»[52]Но пасаран (исп.) – они не пройдут. на «Нос отрос пасаремос!» – «Мы пройдем!», и мы и в самом деле продвигаемся вперед. Канонада удаляется от Мадрида.
Об Акселе ровным счетом ничего не знаю. Когда меня направили на передовую, он остался инструктором-пулеметчиком. Вновь прибывшие рассказывают, что в учебном лагере его уже нет, но и в батальон Тельмана он не прибыл. Однако особых оснований для беспокойства нет. Он ведь знает немножко по-французски, так что его могли включить в смешанное подразделение из испанцев и французов. Мне ничего не надо, вот только здорово было бы, если бы вы прислали шведско-испанский карманный словарик. Привет всем товарищам. Салюд!
Оке перечел еще раз:
«Особых оснований для беспокойства нет».
Но ведь Аксель мог пропасть таким же образом, как немец!
– Никаких вестей – хорошие вести, – заявил Геге. – Если бы Аксель погиб или был взят в плен, мы бы обязательно узнали об этом.
Эдит занялась распределением кварталов. Она писала привычной рукой конторщицы, но мысли ее явно были далеко.
– Сверре тоже помогает в работе Испанского комитета? – спросил Оке.
– Нет, он заболел, – ответила она негромко.
Глаза ее опечалились, и Геге спросил участливо:
– Что-нибудь серьезное?
– Его положили в туберкулезный санаторий. Оба легких поражены. Нелегко жить на одном кофе и булках, как это делал он, когда я познакомилась с ним в клубе.
Оке промолчал. Разве словами поможешь? Он почувствовал облегчение, когда появились остальные товарищи. Помещение наполнилось веселым гулом, у стола Эдит и Геге сразу стало тесно. Профсоюзники, трезвенники,[53]Трезвенники – члены организаций, борющихся против алкоголизма. синдикалисты и молодые социал-демократы сгрудились вокруг своих уполномоченных.
Эдит протянула Оке бумажку с адресом и записала номер копилки:
– Квартал большой, работать там трудно, так что тебе нужно бы дать кого-нибудь в помощь.
Оке привык во всех общественных делах быть вместе с Геге, но тому надо было оставаться и направлять запоздавших на наиболее ответственные участки. К столу подошла Ингер. На голове у нее был черный берет, вокруг шеи она повязала тончайший красно-желто-лиловый испанский платок.
– Вдвоем справимся. Я была там во время сбора одежды, – сказала она, улыбнувшись Оке. – Пошли.
Они начали с переулка и разошлись по подъездам. Здесь они были желанными гостями. Часто не нужно было даже говорить, в чем дело, – достаточно протянуть копилку и поблагодарить за опущенные в нее монеты. Зато на главной улице квартала, где поселились жильцы побогаче, Оке предчувствовал осложнения.
Сквозь узкие щели чуть приоткрытых дверей на него смотрели равнодушные или недовольные лица. Так продолжалось, пока он не дошел до одной квартиры, где домработница протянула ему целую крону.
– Подождите, я скажу хозяйке, – предупредила она. Она исчезла в коридоре, и вскоре появилась пожилая дама. Тонкая рука с изящным браслетом держала сложенную бумажку. Проталкивая ее в узкую щель копилки, дама спросила:
– Как вы думаете – они победят?
Оке был поражен тоном вопроса – в нем звучала та же тревога, та же надежда, которую он ощущал сам.
– У меня товарищ на мадридском фронте. Он уверен в этом, – ответил он.
Обходя состоятельную часть квартала, он видел много доказательств того, что не одни лишь рабочие сочувствуют испанской республике. Это было, в основном, заслугой добровольцев. Их самоотверженная борьба требовала и от других, чтобы они определяли свои позиции и действовали в соответствии с этим.
Оке задумался над своим собственным пониманием происходящего – нет ли в нем противоречий?
С тех самых пор, как он понял, что романтическая болтовня школьных учебников о королях-воинах столь же далека от действительности, как Скалистые горы от песчаных дюн, среди которых он играл в индейцев, Оке возненавидел войну. Она представлялась ему как нечто крайне отвратительное. Откуда родилось это представление?
Он вспомнил санитара, рассказывавшего о немецком миноносце «Альбатрос», который выбросился на мель на Готланде после морского боя во время первой мировой войны.
«Палуба была скользкая от крови и ошметков человеческого мяса. Стоит вспомнить об этом, как меня тошнит и сейчас», – говорил тот.
Потом один швед, вернувшийся из Америки, описывал штыковой бой в сыром французском окопе; вспомнился также немец-коробейник, избегавший рассказывать о днях, проведенных во Фландрии. Глаза его ужасали какой-то странной пустотой – они видели жертвы горчичного газа в районе Ипра…
– Как успехи? – окликнула его Ингер.
Она управилась со всеми своими подъездами и ожидала его на углу. Оке рассказал о даме, пожертвовавшей десять крон.
– Так отчего же ты такой мрачный? – спросила она, заразительно смеясь.
У нее был большой рот, полные губы и красивые зубы. Лицо широкое, но черты правильные. Светлая чистая кожа подчеркивала темный цвет волос. Оке легко смущался, когда Ингер шутила с ним. Он считал, что она уж слишком подчеркивает, что он младший из них двоих.
– Ты живешь один? – спросила она вдруг, когда они подошли к Каммакаргатан.
– Да.
– Хозяйка любопытная?
– Не особенно.
– Сегодня вечером я встречаю одного финского товарища. Он пробирается в Испанию, и ему нужно будет найти безопасное место для ночлега.
Кровать возчика стояла еще на своем месте, запасное одеяло у Оке имелось.
– Могу принять его, но только ему придется уйти рано утром, – сказал он.
Разумеется, он обязан помочь человеку, который направляется в республиканскую армию!
Во имя невмешательства Испанию подвергли блокаде, хотя побережье Португалии было открыто для все возрастающего потока немецких и итальянских войск, а также военных материалов в адрес франкистов. Мексиканские суда, идущие в порты республики, перехватывались в Атлантическом океане, а в Средиземном море «неизвестные» подводные лодки топили советские суда, которые везли продовольствие, лекарства и истребители защитникам Мадрида. Весь мир знал, однако, что эти подводные лодки хорошо известны на оккупированных итальянцами Балеарских островах…
XVII
Велосипедное бюро расширялось. Оно переехало в более просторное подвальное помещение, и число велосипедов, висящих на крюках под потолком, и парней, ожидающих на скамейках вдоль стен, увеличилось. Однако главным предметом бесконечных разговоров в ожидалке по-прежнему оставался тотализатор.
– Эх, выиграть бы как следует! – философствовал Ерка, длинный, нескладный парень лет двадцати. Глаза его шныряли, как у сороки, выражая наглость, смешанную с трусостью.
– Лучше бы ты подумал о том, как вовлечь ребят в профсоюз и добиться сносных заработков, – ответил Оке.
Ерка ухмыльнулся.
– Ты, парень, никак рехнулся! Профсоюз! Пустое дело, только зряшная трата денег.
– Ерка прав, – согласился новичок, которого Оке надеялся склонить на свою сторону. – Я сам участвовал в забастовке, когда работал в пекарне. Организовали мы союз, да только он распался, и тех, кто оставил работу, выгнали. Это же не профессия – рассыльный, а так просто, временное занятие в ожидании другой работы. Какая уж тут сплоченность…
– Умей ладить с Оскарссоном, и он устроит тебя в мастерскую, где чинят наши велосипеды. Я уже собираюсь переходить! – похвастался Ерка.
Шеф отгородил себе отдельную конторку, сменил пивную на второразрядный кабачок и старался дать понять рассыльным, что он как начальство неизмеримо выше их.
Рассыльные сменялись часто, и скоро Оке оказался своего рода ветераном.
– Что же надо делать, чтобы быть в хороших отношениях с Оскарссоном? – спросил он едко.
Глаза Ерки забегали по сторонам. Его спас голос шефа, крикнувшего в окошко:
– Доставка от Фридхемсплана до Восточного вокзала! Чья очередь?
Оке подошел и получил путевку:
– Прицеп брать?
– Нет, там всего лишь две сумки, их надо сдать в камеру хранения.
Оке предпочитал длинные поездки не только потому, что они были выгоднее.
Научившись теперь бесстрашно передвигаться по запруженным машинами магистралям на своем грузовом велосипеде, он лучше всего чувствовал себя на улице – пусть даже дует ветер, идет дождь и ты везешь тяжелый, громоздкий груз.
Оскарссон протянул Оке письмо, адресованное в велосипедную мастерскую в Клара:
– Передай вот это на обратном пути и спроси господина Левина. Он даст тебе пятьсот крон для меня.
Оке ехал туда впервые и ожидал увидеть небольшую мастерскую с вывеской «Ремонт велосипедов». Вместо этого он очутился в длинном переходе, ведшем в помещение, которое раньше служило не то гаражом, не то мебельным складом.
Там было множество разобранных велосипедов, но рабочих – неожиданно мало. Оке сразу узнал несколько ремонтников: они работали раньше рассыльными у Оскарссон а.
Сам господин Левин стоял у сварочного аппарата, одетый в грязный комбинезон.
– От Оскарссона? Ему, конечно, деньги понадобились, – сказал он, принимая письмо.
Затем с явной неохотой вытащил потрепанный и засаленный бумажник, набитый ассигнациями:
– Триста крон. Больше ни гроша!
– Тогда я ничего не возьму, – ответил Оке.
– Ннууу… тогда четыреста?
Оке с недоумением слушал, как торгуется Левин.
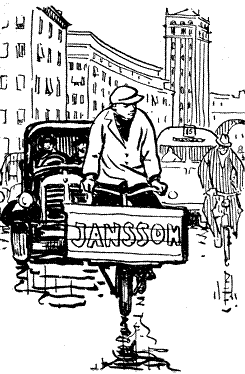
– Оскарссон сказал, что я должен получить для него пятьсот. Если он ошибся, то позвоните и переговорите с ним сами.
Один из ремонтников, постарше, занятый сменой щитков на новехонькой дорожной машине, вступил в разговор:
– Последние его сведения оказались очень полезными, так что я думаю – не стоит с ним препираться; лучше дать, сколько просит.
Оскарссон расхохотался, услышав от Оке, как торговался Левин:
– Это ты здорово провернул! Я тебя не забуду. Мне нужен надежный человек, на которого можно положиться в денежных вопросах. У меня тут кое-какие дела намечаются! – заявил он важно.
Оке еще хорошо помнил корзину с пустыми пивными бутылками и грязный шаткий письменный стол, поэтому на него не так-то легко было произвести впечатление.
– Записать эту ездку в путевку?
Оскарссон слегка помрачнел:
– Это еще что за фокусы? Другие ведь не требуют оплаты за услуги, которые они делают мне попутно.
– Мы имеем право получать за все ездки, – настаивал Оке.
– Может быть, ты мне покажешь, где это записано?
Оке не позволил себе вспылить, но брякнул необдуманно:
– Нет… пока что!
Оскарссон выглянул в ожидальную, затем снова захлопнул окошечко:
– Вот как! А я уж подумал было, что у тебя профсоюз почти готов и ты не сегодня-завтра пригрозишь мне забастовкой!
Оке смолчал, но покраснел до корней волос. Кто же это донес?
– А ты подумал как следует о последствиях? Ты же знаешь, сколько мы берем почасно с заказчиков и сколько я получаю за дежурство у телефона и за то, что предоставляю вам помещение и велосипеды.
– Помещение – нам?
– Вот именно! Если прибыль не покроет всех моих усилий по организации этого бюро, я брошу все дело, и вы с вашим профсоюзом окажетесь на улице.
– Уж не хочет ли Оскарссон поменяться с кем-нибудь из нас? – отпарировал Оке.
– Нет, пока что воздержусь. Но что случится, если все бюро повысят процент рассыльным? Чем это кончится? Тем, что цены на доставку повысятся и люди станут обращаться в другие организации.
Оке красноречиво глянул на пачку денег.
– Эти деньги не имеют отношения к делу, – заявил Оскарссон, пряча их в карман.
– Ну, так как же? Мне оплатят ездку? – повторил Оке.
– До чего же ты упрям из-за каких-то грошей! Брось ты вязаться с этим. Лучше я поднесу тебе кружечку после работы.
К Оскарссону вернулось хорошее расположение духа.
– Спасибо, но сегодня вечером я занят. Лучше поднесите Ерке. Небось он заслужил, – ответил Оке и понял по тому, как передернулось красное лицо Оскарссона, что попал в точку.
* * *
Повесив велосипед на место, Оке направился прямо в клуб. Анархист сидел, как обычно, за своим столиком у окна, рядом с ним пристроился Рашпиль. Эта двойка стала уже чем-то вроде инвентаря, вроде неизменных цветочных горшков на столах.
Однако Рашпиль чувствовал себя в кафе уже не так хорошо, как раньше. Половина прежних завсегдатаев перекочевала в окопы Гвадалахары или могилы харамской долины. А вторая половина не упускала случая напомнить об этом Рашпилю, когда он пытался завести свою старую песню о недостаточной активности шведских рабочих и их неспособности к жертвам.
В ожидании Геге Оке устроился на «полатях». Геге появился с газетами под мышкой – совсем как в их первую встречу. Лицо его сияло от радостного возбуждения, и он шагал тверже, чем когда-либо.
– Что с тобой случилось? – спросил Оке.
Геге взял его за руку и произнес почти торжественно:
– Я получил работу! Настоящую работу – на стройке.
«Верните нам достоинство людей» – эти слова еще давным-давно написал в своей рабочей песне Хенрик Менандер. В душе Геге коренилось добытое горьким опытом сознание того, что человеческое достоинство и труд неразрывны. Труд составляет основу существования – твердую почву под ногами.
– И еще одно дело, – продолжал он. – Есть вести от Акселя!
Оке буквально вырвал у него из рук письмо, написанное почерком, так хорошо знакомым по многочисленным протоколам ячейки. Оно было послано месяц назад; очевидно, задержала военная цензура.
«Дорогие товарищи! Мне досталось довольно основательно, но теперь уже большинство осколков вытащили. Самый ехидный проник в левое легкое. Меня угостили в битве на Хараме, о которой вы, наверно, уже знаете из газет.
В начале февраля франкисты развернули большое наступление, решили перерезать шоссе между Мадридом и Валенсией и отрезать Мадрид от побережья. Целый ряд атак предприняли они у Аргандского моста, бросали в бой марокканскую кавалерию, немецкие моторизованные части и итальянскую пехоту. Хуже всего досталось нам от их самолетов, которые действовали почти без помех.
В нашей группе были французы, испанцы, один поляк и двое датчан. Прямо из учебного лагеря бригады мы попали в огненный, грохочущий дьявольский концерт.
Никогда не забуду запах тимьяна и пороха в долине. Фашисты закрепились на хребте по ту сторону реки, а республиканская милиция занимала склон горы до самого берега.
Первая встреча с противником была весьма неприятной. Мы продвинулись вперед на полкилометра, как вдруг навстречу двинулись огромные махины. Фашистские танки! А у нас не было никакого бронебойного оружия. Мы с поляком попробовали спасти пулемет, но это оказалось невозможным. Тогда мы привели его в негодность и отошли метров на триста. Там мы закрепились. Фашисты напоролись на заградительный огонь нашей артиллерии, которая отбила им охоту двигаться дальше.
А на рассвете все началось сначала.
Фашисты потеснили нас, но тут мы разозлились и закопались в землю. У нас было четыре пулемета на фронте шириной в пятьдесят метров. Это остановило их. Тогда фашисты стали забрасывать нас минами, мы несли большие потери. Одному датчанину прямым попаданием снесло голову.
После упорной шестидневной обороны мы перешли в наступление, которое обошлось фашистам в 9000 убитых, и оттеснили их на пять километров от шоссе. Мы пошли в атаку после того, как наши танки незамеченными подобрались ночью к самым позициям фашистов.
Я как раз побежал вперед с пулеметом, как вдруг меня что-то сильно ударило. Единственный способ вывезти раненых у нас здесь – переправа на мулах через мост, под непрерывным огнем с высот, потом подъем до перевязочного пункта. Оттуда на машине по проселку до шоссе. Но я ничего не помню из этого пути. Пришел в себя уже в госпитале.
А теперь я, как уже было сказано, поправляюсь и жду с нетерпением писем от вас. Привет всем друзьям и товарищам.
– Ты заметил, как тут стало пусто без Акселя, Бьёрк-нера и остальных «испанцев»? Кафе словно вымерло, – заметил Геге, когда Оке кончил читать и комментировать письмо.
– Да и Сверре не хватает.
– Надо будет как-нибудь в воскресенье съездить в Сёдэрбю навестить его. Раньше у меня просто не было возможности, а теперь – другое дело, – ответил Геге, предвкушая радости первой получки.
Рашпиль прошел к полке с газетами. Казалось, он собирался подняться на «полати», однако дело ограничилось приветственным кивком.
– Смотри ты, какой молчаливый стал! Уже не рассказывает о том, как собирался ехать в Вену, – подметил Оке.
Геге сразу посерьезнел:
– Не так-то легко угадать, кто на самом деле трус.
– Ты имеешь в виду меня? – Оке чувствовал себя так, словно получил пощечину.
– Нет, ты еще молод туда ехать. Я думаю о себе самом. «У испанцев и без тебя хватает таких, которые в жизни не держали винтовки в руках», – сказал мне как-то Бьёркнер, когда мы с ним обсуждали этот вопрос. Мой призыв пришелся как раз на тот год, когда в моде было разоружение, поэтому меня начисто освободили.
– Чего же ты устраиваешь из этого проблему?
– Видишь ли… я не совсем уверен, что решился бы поехать даже в том случае, если бы прошел военное обучение…
XVIII
Загорелые, с засученными рукавами, съезжались в конце рабочего дня рассыльные.
– Хорошо тебе – сидишь тут, дремлешь от звонка к звонку! – позавидовал ему Ерка. Однако Оке вовсе не был обрадован своим повышением – он дежурил у телефона и замещал Оскарссона, когда тот отправлялся куда-нибудь по делам. Сидя так в подвале, прозеваешь все лето. Лучшим временем дня было, когда он, окончив работу, забирал свой собственный велосипед, купленный по дешевке у Оскарссона, и ехал домой через мост Кунгсбрун. Чайки кружили у моста, подстерегая рыбу, и садились с криком на старые сваи.
В садиках вдоль Дроттнинггатан сирень уже привяла, и Оке еще раз подумал о том, что так и не увидит по-настоящему лета в этом году.
Он подъехал к автомату и позвонил Ингер:
– Поедем вместе за город на велосипедах?
– Сегодня вечером? Куда же ты собираешься?
– В любую сторону, лишь бы выбраться из города и подышать свежим воздухом.
Оба они плохо знали окрестности Стокгольма и остановили свой выбор на шоссе Руслагсвеген.
Вечер был душный, однако с наступлением сумерек ехать стало легче, и они скоро оставили позади предместья.
– Будем ехать, пока не доберемся до какого-нибудь кафе, – решила Ингер.
Она не сомневалась, что их поджидает поблизости дачный поселок с летним кафе на открытом воздухе, с увитыми плющом беседками и яркими цветными фонарями, вокруг которых кружат ночные бабочки. Однако по обе стороны дороги тянулся километр за километром глухой лес. Как-то вдруг нахмурилось небо, из-за горизонта на западе выползли черно-синие громады туч.
– Пожалуй, пора поворачивать, – решил Оке, не видя, чтобы лес кончался. – Похоже, будет ливень.
– Скажи уж прямо, что грозы боишься! – поддразнила его Ингер.
– Да ведь ты промокнешь насквозь, если мы не вернемся до дождя, – возразил Оке, ругая себя за неосмотрительность.
Сильный порыв ветра пригнул макушки деревьев, и первая молния провела ярко-голубую черту на черном небе. Дождь хлынул почти одновременно с громом, яростно захлестав по шоссе.
Ингер и Оке поспешили укрыться под густой елью. Набросив на плечи куртку Оке, они решили переждать тучу. Тяжелые капли пробивались сквозь еловые лапы, и ствол быстро почернел от сырости.
– Я всегда какая-то сонная в грозу. Не будь так сыро и жестко, я бы тут и уснула, – проговорила Ингер, кладя голову ему на плечо.
– Там перед последним поворотом домишко какой-то стоял, – вспомнил Оке. – Что, если перебраться туда?
Выждав, пока поослабнет дождь, они вскочили на велосипеды и помчались во всю прыть к домику. Ставни и дверь оказались запертыми. Оке громко постучался – никто не откликнулся.
– Похоже, хозяева забросили его, – произнесла Ингер разочарованно.
– Или же это летняя дача и владельцы приезжают сюда только по праздникам. Давай попробуем в сарай забраться.
Ливень снова усилился, и они пересекли двор бегом. На двери сарая висел замок, но люк над дверью был закрыт только на наружный крючок, а вдоль стены лежала на земле лестница. Запыхавшись от бега, они забрались вверх по лестнице на чердак, где хранилась старая солома.
– Ну и погодка! Жакет – насквозь, – сообщила Ингер, снимая его с себя.
Она осталась в белой блузке, которая в полумраке казалась еще белее, словно притягивала к себе весь свет, пробивавшийся сквозь щели в стенах. Ингер устроилась на соломе, положив голову на закинутые наверх руки. Оке хотелось снова ощутить ее ласковую, доверчивую близость, но его останавливала боязнь, что Ингер отодвинется от него с насмешливой улыбкой.
Бамм, бамм! Подхваченный ветром люк застучал по стене с такой силой, что, казалось, сейчас оборвутся проржавленные петли.
– Разве он не запирается изнутри? – спросила Ингер.
Оке удалось закрыть люк. Садясь, он нечаянно задел рукой ее голую руку. Словно искра пробежала по его телу. Он склонился над Ингер и ощутил сквозь тонкую ткань блузки нежное волнующее прикосновение девичьей груди.
– Нет… нет!
Ингер сделала отрицательный жест рукой, но не отвела рот. Он согрел поцелуями ее холодные губы, ее тело мягко поддалось его объятиям, в пламени вспыхнувшей страсти сгорели все их колебания.
Когда оно догорело, она осталась лежать в его объятиях, однако замкнулась в каком-то молчаливом отчуждении. Оке не стал задумываться над этим. Теплая волна пробежала по его телу, оставив после себя глубокий покой.
* * *
Дождь уже перестал барабанить по крыше, когда он проснулся. Люк был открыт. Ингер стояла и поправляла на себе одежду. Оке ласково обнял ее плечи.
– Оставь меня, – попросила она.
– Ты обиделась? – спросил он растерянно.
– Нет… но все это так нехорошо и так низко, когда я подумаю о Свене.
– О Свене?
– Да. Ты разве не знал, что мы с ним встречались?
– Нет.
Оке посмотрел в сторону леса. Бьёркнер лежит в испанском окопе, а он тут – с его девушкой в старом сарае… Но там, где Ингер видела только сумрак и запах гнилой соломы, ему открывался свежий, омытый дождем рассвет.
XIX
Из Испании начали возвращаться в Швецию инвалиды войны. Сотни людей встречали их на Центральном вокзале цветами и восторженными криками. Аксель приехал совершенно неожиданно, один. Он позвонил однажды вечером у дверей и вошел, в маленьком не по росту, костюме, весело улыбаясь удивленной физиономии Оке:
– Желаете дюжину апельсинов прямо из Мурсии?
Аксель выглядел усталым с дороги, но был спокоен и весел, и Оке не мог обнаружить никаких следов перенесенных им трудностей и страданий. Они засыпали друг друга вопросами, не успев даже как следует войти в комнату.
– Ты видел Геге?
– Нет, я успел только зайти в Испанский комитет, получил там немного денег. Как ты думаешь, можно позвонить отсюда в какую-нибудь гостиницу?
– А где ты думаешь поселиться?
– Даже не представляю себе.
– Вселяйся ко мне. Я поговорю с хозяйкой, и можешь въезжать прямо сегодня.
– А согласится она?
– Спрашиваешь!
Оке был уверен, что хозяйка ничего не возразит.
– Он работает? – поинтересовалась она.
– Сейчас – нет.
– Тогда я даже не знаю…
– Я отвечаю за уплату.
– Но тогда понадобится постельное белье на двоих, так что мне придется брать на десять крон больше.
– Ладно. Пусть будет так. Можно попросить сейчас полотенце и горячей воды? Он приехал издалека, ему нужно помыться как следует.
– И всем-то им надо в город, есть ли у них работа или нет! – проворчала она, решив, что новый жилец приехал из деревни.
Вернувшись в комнату, Оке увидел Акселя перед зеркалом.
– Замечаешь что-нибудь? – спросил тот, оборачиваясь.
– Конечно, ты так торопился домой, что надел чужой костюм!
– Он был как раз, когда я надел его, но после первого же дождя сел. Продукция военного времени. Не материя, а бумага!
– А твоя собственная одежда?
– В Альбасете, в учебном лагере бригады, если только она не пригодилась кому-нибудь из испанцев. Там в горах бывает зверски холодно.
– Ну, как там дела?
– Зима будет для народа тяжелая. Продовольствия не хватает. Всё бобы да бобы… А иной раз рад и куску хлеба с кислым вином.
– Когда это кончится, по-твоему?
– Трудно сказать. Знаю только, что Франко надо победить любой ценой, не то очень скоро война придет и к нам.
– К нам?
– Да, к нам. Чем мы гарантированы от того, что Скандинавия не окажется плацдармом для развязывания новой мировой войны? Хотя есть еще, кажется, на свете тупицы, которые верят, что немецкая армия обучается на фанерных танках и деревянных ружьях. Показать бы им немецкие танки и самолеты в наступлении на Аргандский мост! Мы десять лет твердим, что фашизм – это война. Так вот, опасность заключается в том, что люди стали воспринимать эти слова как своего рода ходячую фразу и не думают о том, насколько это серьезно на самом деле. Но фашизм и в самом деле означает войну, войну не только в Испании – везде.
Вошла хозяйка приготовить постель и поглядеть на Акселя. Дождавшись, когда она выйдет, он снял пиджак и налил воды в таз.
– Так ты по-прежнему ничего не замечаешь?
– Нет, ничего особенного.
– Ты не видишь, что у меня левое плечо покривилось и опустилось ниже правого?
Аксель снял через голову верхнюю и нижнюю рубашки, обнажив длинный алый шрам с неровными краями, словно кто-то вонзил ему в грудную клетку зазубренную саперную лопатку.
– В госпитале не было рентгеновского аппарата, когда меня оперировали в первый раз. Хирург искромсал меня всего, пока не нашел вот эту штуку.
Аксель вытащил из бумажника острый кусок металла. Осколок воткнулся словно гвоздь между ребрами и проник глубоко в легкое.
– Потом я попал в другой госпиталь, получше – на побережье, и это, видно, спасло мне жизнь… Кстати, там я встретил Бьёркнера несколько недель назад.
– Он тоже ранен?
Аксель рассмеялся:
– Вроде того. Он и там бесподобен! Сначала был в Университетском городке, покуда тяжелая артиллерия не сровняла все дома с землей, потом прошел всю Харамскую битву – и все без единой царапины. Затем – наступление в буран у Гвадалахары и преследование итальянской армейской группы. После этого он очутился на Теруэльском фронте, попал по собственному желанию в ПВО. Все лето сбивал «Капрони» и «Юнкерсов». И вот, около Брунете фашисты решили во что бы то ни стало зажать рот его батарее. Пятьдесят бомбовозов налетело! Это был ад кромешный – у артиллеристов из ушей кровь хлестала от взрывов, Бьёркнер дольше всех отбивался.
– Его сильно ранило?
– Нет, они попали в самое орудие. А он отделался лопнувшими барабанными перепонками! Теперь страшно огорчается, что не сможет вернуться в артиллерию и придется идти обратно в пехоту.
Они легли рано, но никак не могли заснуть и долго лежали, прислушиваясь к уличному шуму. Оке вспоминал других «испанцев», ночевавших в этой комнате, – молчаливого шведа из Финляндии и крестьянина из Норрботтена, который продал лошадей и клочок земли, чтобы набрать денег на дорогу в Испанию.
– И знаешь, что хуже всего? – произнес Аксель негромко. – Не передовая, а именно когда лежишь вот так ночью в полевом госпитале и не можешь заснуть. Везде полно раненых – на лестницах, в коридорах, всюду, где только можно поставить топчан или носилки. К крикам и стонам привыкаешь, но вот раздается гул моторов. «Юн-керсы»!
Нельзя укрыться, нельзя бежать, нельзя стрелять: остается только лежать и мучиться с распиленными ребрами – и ждать.
Вот провизжала первая бомба, а там посыпались все остальные. Здание ходит ходуном от взрывов, летят стекла, от грохота закладывает уши. Санитары и сестры всячески успокаивают: «Не обращайте внимания, это он так, наудачу штучки две бросил!»
Но мы-то знаем, что это не так. Фашисты намеренно бомбили госпитали. «Бежим!» – крикнет кто-нибудь – и начинается паника. Кто может, бросается к дверям, даже тяжелораненые сползают с коек. У всех одно на уме: бежать, бежать, пока не обрушились стены и потолок!
Аксель замолчал и стал шарить на тумбочке, нащупывая сигареты.
– Мне предложили в Комитете помощи, чтобы я съездил в Норрланд и выступил там с воспоминаниями, после того как немного отдохну. Не знаю даже – может, отказаться?
– Да ведь ты соберешь больше народу, чем любой другой оратор! И для движения солидарности сделаешь больше других. Людям так хочется послушать очевидца.
– Как же – фронтовые воспоминания! А что я знаю, собственно, о жизни на фронте? Каких-нибудь шесть дней пробыл на передовой. У нас вернулись ребята, которые больше полугода воевали в батальоне Тельмана, побывали на многих фронтах. Они же меня на смех поднимут, если я стану разъезжать и рассказывать о том, как провел неделю в долине Харамы.
Оке узнавал того Акселя, с которым они бродили ночью в гавани. Вечное сомнение товарища в самом себе вызвало в нем, как всегда, потребность спорить.
– А тот факт, что именно эта неделя, возможно, решала исход войны, не имеет никакого значения?
– Но неужели ты не понимаешь…
– Не понимаю! Ты не имеешь никаких оснований уклоняться от поездки.
– Ну ладно, ладно, я соглашусь, только не кричи ты так на меня! – ответил Аксель таким виноватым голосом, что оба тут же расхохотались.
XX
Рано утром раздался долгий и пронзительный звонок. Хозяйка не захотела вставать, и после второго звонка Оке поднялся и открыл. Может быть, Акселю пришлось почему-то прервать свою поездку… Но ведь у него должен быть свой ключ?
В дверях стояли две рослые фигуры в плащах и серых шляпах:
– Вы Оке Андерссон?
– Да.
В руке у одного из них сверкнул желтый металлический жетон.
– Мы из уголовного розыска. Одевайтесь и следуйте за нами.
Язык одеревенел во рту, в висках застучала кровь. Зачем он понадобился полиции?
– Это зачем же? – выдавил он из себя наконец.
– Вам это лучше известно.
– Нет, я за собой ничего не знаю.
– Вот придете в участок – сразу все выяснится. Поторопитесь!
На улице ожидал черный автомобиль, который быстро доставил их на Кунгсхольмен. Здесь около узких ворот стоял постовой. Помимо обязательной сабли, у него на поясе виднелась кобура пистолета. Машина остановилась на вымощенном булыжником дворе, окруженном серыми стенами с голыми, враждебными проемами окон.
Сыщики провели Оке по длинному мрачному коридору к лифту. Затем они прошли в новую пристройку полицейского управления. Открылась нумерованная дверь, и Оке ввели в светлую, хорошо обставленную комнату. Ее можно было принять за обычный служебный кабинет, если бы не крашенная белой краской решетка за окном.
За письменным столом сидел пожилой мужчина, широкоплечий, со строгим по-военному лицом и внимательными глазами. Он протянул Оке руку и представился:
– Старший следователь Альм.
Затем обернулся к другому чиновнику:
– Садитесь за машинку, Боргелйн, мы быстро управимся.
Задав обычные анкетные вопросы, следователь произнес:
– Ну, рассказывайте все с самого начала. Для вас же будет лучше, если вы ничего не станете утаивать.
– Что рассказывать?
– Не прикидывайтесь! Остальные задержаны и уже всё признали.
– Я ни в чем не провинился.
Следователь повысил голос:
– Неужели Андерссон будет здесь отрицать, что играл роль связного?
Оке молчал, лихорадочно размышляя. Не иначе, дело идет о добровольцах, которые тайно ночевали у него! Стало быть, полиция хочет засадить его по обвинению в вербовке? Это может означать до шести месяцев тюрьмы: правда, до сих пор общественное мнение настолько отрицательно относилось к «закону о невмешательстве», что по нему никого еще не привлекали к суду. Кого могла поймать полиция? И кто мог навести их на след? Кроме Ингер. никто не знал о товарищах, ночевавших в его комнате.
– Ну, так вы ответите нам? Или мы так и просидим тут весь день? – вмешался Боргелин на помощь шефу.
– Какого связного?
Следователь вскочил на ноги.
– Здесь спрашиваем мы, а дело Андерссона – отвечать! – заорал он.
Однако эта вспышка, призванная напугать Оке, только придала ему спокойствии. Он понял, что если бы у полиции действительно имелись какие-нибудь улики против него, следователь не стал бы вести себя таким образом.
Заметив свой просчет, следователь обменялся с Боргелином выразительным взглядом, который, очевидно, означал: «Прожженный тип, лучше испытать другую тактику».
Он достал портсигар:
– Курите?
– Нет, спасибо.
Слегка разочарованный тем, что арестант отклонил его примирительный жест, следователь угостил Боргелина, потом закурил сам и решил прибегнуть к лести:
– Вы производите впечатление разумного и сообразительного парня. Очень жаль, что Андерссон осложняет свое дело из-за неправильно понятой лояльности.
– Андерссон ведь работает в велосипедном бюро Оскарссона. Каково ваше мнение о хозяине? – спросил Боргелин как бы мимоходом.
– Он не хуже других.
– Кажется, Андерссон пользуется у него большим доверием? – вставил Альм.
– Об этом я ничего не знаю.
– Но ведь вы замещаете Оскарссона, когда тот оставляет бюро… по делам.
– Я всего лишь дежурю у телефона.
– И, кроме того, часто выполняете личные поручения Оскарссона?
– Да, – согласился Оке, пораженный осведомленностью полиции о его работе.
– Не знает ли Андерссон господина по фамилии Левин?
«Похоже, тут дело вовсе не в добровольцах», – подумал Оке с облегчением и невольно слегка улыбнулся. Он совсем забыл о третьем полицейском, который сидел в стороне, но все время внимательно следил за выражением, его лица.
– С чего это вы вдруг развеселились?! – раздался резкий голос из угла.
– Я знаю одного Левина, владельца велосипедной мастерской в Клара, – ответил Оке, пропуская мимо ушей второй вопрос.
– Когда Андерссон увидел его в первый раз?
– Это было весной.
Следователь продиктовал Боргелину:
– На вопрос о знакомстве с Левиным Андерссон признал, что познакомился с ним весной.
Оке почувствовал вдруг, что самые будничные вопросы могли превратиться в опутывающую его сеть.
– Признал?! Разве это противозаконно – знать фамилию человека из фирмы, с которой тебе приходится иметь дело по работе? – вмешался он.
Следователь уставился ему в глаза:
– Какой процент получал Андерссон с украденного?
– Ук-украденного? – Оке заикался от удивления.
Ему стало даже жарко от такого обвинения.
– Я не крал никаких велосипедов! – выкрикнул он сердито.
Альм улыбнулся холодно и победоносно.
– Откуда Андерссон знает, что речь идет о краже велосипедов? – спросил он язвительно.
Оке прикусил губу. Дурак, попался в первую же ловушку!
– Нетрудно догадаться…
– На допросах не догадываются! Все, что вы говорите, может быть использовано против вас на суде.
– Я подумал, что раз тут замешан Левин, значит дело касается велосипедов.
– И, значит, Андерссон знал, что Левин имеет дело с краденым добром.
– Ничего я не знал! – возразил Оке.
– Ладно, не изворачивайтесь. Лучше выкладывайте все, что знаете!
Следователь решил не давать ему опомниться. Он настойчиво задавал Оке одни и те же вопросы. Почему Андерссон был так уверен, что речь идет именно о краже велосипедов?
Телефонный звонок дал Оке небольшую передышку.
– Да, это Альм, – ответил следователь. – Нет… еще нет… В самом деле?… Тогда я сейчас же приду.
Он вышел. Допрос продолжал Боргелин.
– У Андерссона никогда не появлялось подозрений, что с предприятием Оскарссона не все чисто?
– Пожалуй… иногда мне казалось, что он ведет себя как-то странно, – признал Оке.
– Что заставляет Андерссона защищать Оскарссона?
Оке замолчал, подавляя нарастающее возмущение. Все, что он говорил, и в самом деле оборачивалось против него – его слова толковали совершенно иначе.
– Ну-у?! Выкладывайте!
– Я ничего не крал!
– И не получали денег от Оскарссона или Левина за определенного рода сведения и услуги?
– Нет.
Боргелин закурил новую сигарету и пустил задумчиво клуб дыма к потолку.
– Андерссон проголодался? – спросил он несколько приветливее.
– Я ничего еще не ел сегодня.
– Сейчас я закажу сюда завтрак.
Вскоре вошла девушка с подносом. Картофель, жареная селедка… Прибора Оке не дали – одну только ложку, и у него быстро пропал аппетит, когда он принялся за костистую рыбу. Неужели полицейские и в самом деле боятся, что он зарежет или заколет их, если ему дадут вилку и столовый нож?
Он как раз закончил еду, когда в кабинет вернулся Альм.
– Ну как, Андерссон заговорил начистоту?
– Нет, продолжает запираться, совсем как маленький, – ответил Боргелин.
– Отведите его в арестантскую.
– Там сейчас все переполнено.
– Тогда, пожалуй, стоит сразу же отправить его в предварительное заключение.
Тюрьма находилась во флигеле – в каждом этаже не более десяти камер. Здесь Оке передали в распоряжение старого надзирателя, в меру сурового и в меру приветливого, втянувшегося в тюремный распорядок так же, как втягивается в свою работу лошадь, развозящая по утрам пиво по кафе и магазинам.
– Давай сюда галстук и ремень! – скомандовал он.
Оке никак не мог привыкнуть к мысли, что находится в тюрьме по подозрению в соучастии в воровской шайке. Но вот за ним захлопнулась дверь камеры, и он механически приступил к исполнению обряда, столь же древнего, как сама тюрьма.
Камера насчитывала четыре шага в длину и неполных три в ширину. В ней царил полумрак – свет поступал только из небольшого окошечка под самым потолком.
Серый цементный пол и почти такие же серые, облупившиеся стены. На треугольной полке в углу – зеркало, тазик и эмалированное ведро. Под полкой на полу – ночной горшок.
«Жратва!» – начертал какой-то самоистязатель большими буквами на некрашеном, потертом столе, стоявшем у стены. Оке взял табуретку и уселся в самом светлом углу камеры.
За железной решеткой виднелось лишь голубое небо. Хоть бы тучка появилась или пролетела птица и заполнила это пустое пространство! В конце концов он не устоял – подвинул к окошечку табуретку и стал на нее.
Внизу простирался фруктовый сад, сквозь листву отсвечивали зеленым и красным дозревающие яблоки.
– Фьюю!
В отверстии в стене напротив показалась чья-то голова. Это окошечко было больше и расположено ниже, чем в старомодной камере Оке.
Звук тяжелых шагов в коридоре заставил Оке быстро соскочить на пол, но надзиратель уже успел заглянуть в глазок. Скрипнул в замке ключ, и дверь распахнулась.
– В окно смотреть запрещается! Разве вы не прочитали правила? – загрохотал он.
Оке смягчил его гнев, немедленно принявшись изучать первый пункт правил внутреннего распорядка.
«По сигналу подъема заключенный быстро встает, убирает постель, поднимает кровать к стене, одевается и умывает лицо и руки».
А шею что же – запрещено умывать? И что случится, если сначала умоешься, а потом станешь одеваться?
«Во время богослужения заключенный должен соблюдать тишину и спокойствие», – предписывалось далее, но кто-то подправил буквы, и получилось «черт должен соблюдать тишину и спокойствие».
Внезапно с нижнего этажа донесся свисток, затем чей-то голос крикнул:
– Приведите двадцать первого!
Это был номер камеры Оке, и надзирателю пришлось снова отпирать дверь. В коридоре его встретил Боргелин и провел в подвальное помещение.
– Нам нужно посмотреть кое на что, – сказал он, открывая железную дверь, за которой размещался склад.
Здесь висели сотни велосипедов.
– Андерссон может сказать, чей это велосипед? – спросил полицейский, указывая на один из них.
– Это мой собственный.
– Это понятно. Но где он украден?
– Я купил его.
Боргелин никак не реагировал на его ответ и начал изучать велосипед.
– Тонкая работа, ничего не скажешь, хотя лучше уж было не подделывать номер. Сразу заметно.
– Я купил его у Оскарссона, не зная, что он краденый.
– В самом деле? Андерссон может доказать, что купил этот велосипед? – заинтересовался Боргелин.
Оке подумал.
– Это должно быть видно по ведомости зарплаты. Я получил велосипед в рассрочку, и Оскарссон вычитал у меня из жалованья по пятерке каждую неделю.
На этом допрос закончился. Оке вернулся в свою камеру. Прошел час, а то и два в неопределенном ожидании. Затем дверь еще раз открылась, и вошел надзиратель, неся галстук и ремень Оке.
– Вас выпускают. Надеюсь, мы больше здесь не увидимся, – сказал он доброжелательно.
* * *
Радость Оке по поводу того, что его выпустили, омрачилась, как только он пришел домой. Если полиция считала, что вопрос исчерпан, то хозяйка явно придерживалась другого мнения. Она встретила Оке озабоченным и испытующим взглядом:
– Ну и заварили же вы кашу! Сюда приходила полиция, обыскивали комнату и проверяли все велосипеды во дворе. Расспрашивали меня – много ли денег у Андерссона, часто ли он не бывает дома по ночам… – Она остановилась было, чтобы перевести дыхание, но тут же продолжала, не давая Оке времени объясниться. – Прошу Андерссона освободить комнату! Я не хочу, чтобы ко мне приходила полиция. Соседи еще подумают, что я сама в чем-то замешана! – крикнула она сердито и исчезла на кухне.
Оке присел на кровать – обдумать создавшееся положение. Что он станет говорить при поступлении на новую работу? Если он будет правдивым, то нетрудно представить себе, как обернется разговор.
«Где вы работали перед этим?» – таков будет первый, неизбежный вопрос.
«В велосипедном бюро».
«Покажите, пожалуйста, справку».
«У меня нет справки».
«Вот как? Почему же?»
«Хозяин арестован».
«Ах, вот вы в каком бюро работали! Простите, но мы ничем не можем вам помочь».
Единственное, что он может показать, – это старая, истрепанная справка из магазина.
А что, если пойти к Энглюнду, рассказать все и попросить «обновить» справку? Правда, это будет подделка, но ведь ущерба от этого никому не будет.
Оке решил переговорить с Энглюндом сейчас же, не давая себе времени усомниться в исходе своего замысла. Будучи безработным, Оке избегал появляться на Стурторгет, не хотел встречаться с Куртом; позже ему тоже не приходилось там бывать. Все же он ожидал, что на площади все осталось по-старому, как в тот ветреный зимний день, когда он ушел из магазина.
Тем сильнее было разочарование, когда Оке вместо знакомой вывески увидел другую, с надписью «Ремонт обуви».
Владелица табачной лавки по соседству как раз вывешивала у дверей последние новости. Оке быстро проглядел листки. Нет ни слова о раскрытии большой шайки похитителей велосипедов.
– Смотрите! Давненько мы не виделись!
Лавочница узнала Оке и охотно рассказала ему об Энглюнде.
– Он уже давно прогорел…
– Как же это случилось? У него всегда было так много покупателей!
– Слишком уж добр был, верил всем в долг. Между прочим, я видела его недели две назад тут в переулке. Видно, собирал старые долги.
– Чем же он живет теперь?
– Не знаю. Похоже, что он совсем опустился – во всяком случае, обошел меня кругом, чтобы не здороваться.
Если бы Оке случилось встретить на улице когда-то столь самоуверенного и хорошо одетого лавочника в облике жалкого банкрота в потрепанном костюме, он и сам постарался бы свернуть в сторону. Веселый, щедрый нрав Энглюнда сильно скрашивал существование Оке в тяжелую минуту, и было бы мучительно видеть этого человека в положении неудачника.
Оке купил газету и перелистал ее. Может быть, решено вообще не поднимать шума вокруг похождений Оскарссона и Левина, и им посвящена лишь какая-нибудь маленькая заметка? Однако вместо этого он нашел на последней странице сообщение совсем иного содержания, которое потрясло его до глубины души:
«Из Испании сообщают, что шведский моряк Свен Бьёркнер, воевавший на стороне красных, не возвратился из ночной вылазки. В тот момент, когда, по расчетам, патруль должен был выйти к окопам противника, там вспыхнула интенсивная перестрелка, которая затем внезапно стихла».
Бьёркнер убит… Он не вернется из Испании; никогда больше он не появится в рабочем клубе в разгар горячей дискуссии, чтобы вставить меткую реплику, постукивая средним пальцем о левую ладонь. Он отдал все, что имел, отстаивая свои убеждения.
Оке распрощался с разговорчивой лавочницей и побрел бесцельно в сторону Чёпмангатан. Св. Георг на своем постаменте замахивался мечом на дракона; из-за диадемы на голове бронзовой принцессы выглядывало пятнышко темно-синей воды и желтые казарменные здания на Шеппсхольмеи. Как раз напротив статуи какой-то антикварный магазин выставил в витрине роскошное зеркало. Повернув за угол, Оке оказался перед собственным отражением.
Внешне он был тем же парнишкой, что и три года назад. Все пережитое в городе словно просочилось внутрь, образовав там скрытое твердое наслоение горького опыта, наподобие известковой корки в сырой пещере…
На набережной Шёппсбру он остановился около горы грузов и стал читать адреса на ящиках – всё сплошь знакомые наименования… Вспомнилась теплая осень, когда поля долго стояли в зеленом уборе и огонь увядания накалял листву медленно-медленно, напоминая плавку железа в открытом горне.
Но однажды вечером тишина ожила. Холодный порыв с севера растрепал траву на откосах и пригорках. Всю ночь над островом проносились рваные черные тучи. На рассвете задрожали дома, заревело море под ударами первого осеннего шторма, и дождь разом сбил сухие листья с деревьев…
Надо ехать, пока не поздно, пока путь, чего доброго, не преградили минные поля и подводные лодки. Там его ждет маленькая, поникшая от усталости старушка…
Но Оке знал, что скоро вернется опять на городские улицы.
Стокгольм, 1951 год.
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления