Онлайн чтение книги
Чукотка
КНИГА ВТОРАЯ. СПУСТЯ ШЕСТЬ ЛЕТ
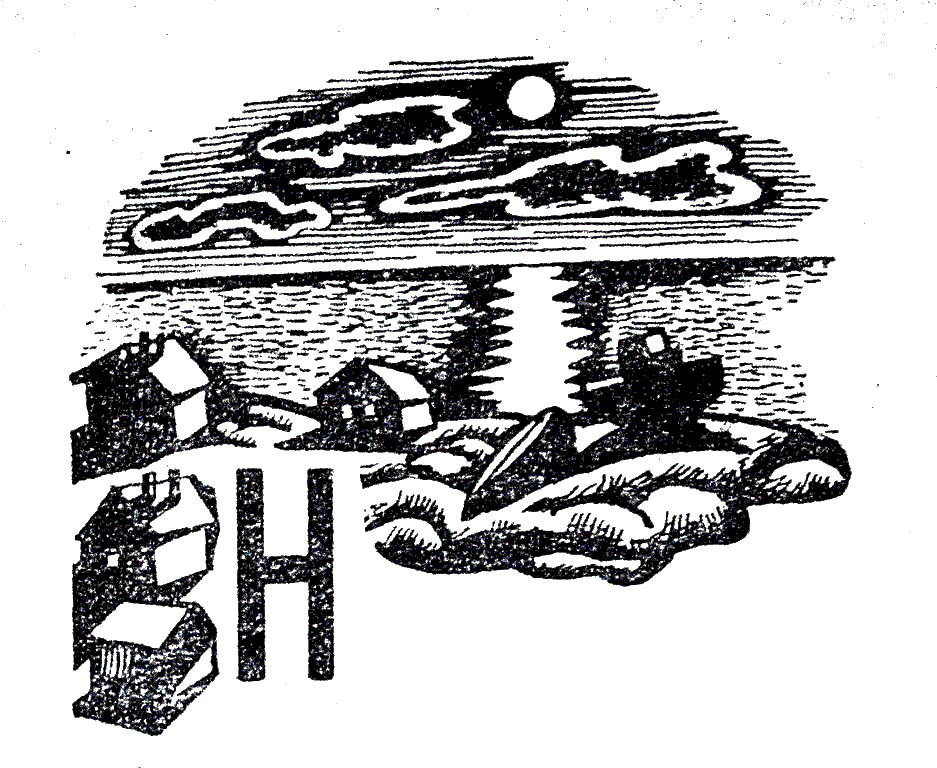
ВСТРЕЧА
На палубе было сыро и безлюдно. Стоял густой туман, и пароход «Ангарстрой» через каждые две-три минуты давал продолжительные гудки. Он шел средним ходом, опасаясь столкнуться с китобойными судами, плававшими в Беринговом море.
Из полуоткрытого иллюминатора кают-компании доносились звуки музыки и веселые голоса полярников. Я собрался было уже присоединиться к ним, как неожиданно около меня, словно привидение, выросла фигура учителя математики Николая Павловича.
Он молча остановился и, задрав голову, щурясь на лампочку, светившую с грот-мачты, казалось, ловил что-то носом.
— Чих не состоялся, — сказал он наконец с досадой. Помолчав немного, добавил: — Неприятно, когда хочешь чихнуть и не получается.
Слегка поеживаясь, Николай Павлович кутался в демисезонное пальто, втягивая шею в небольшой поднятый воротник.
— Здесь, пожалуй, прочихаешь все три года. Ну и погодка! Это что, господствующая?
— Бывает лучше, — ответил я, разглядывая учителя.
Николаю Павловичу было лет тридцать пять. Внутренне благодушный человек, он с виду казался немного угрюмым и чем-то недовольным. Последние десять лет Николай Павлович безвыездно проработал в средней школе на острове Сахалине. Несмотря на то, что Николай Павлович был физически крепким человеком и здоровью его можно было позавидовать, он получал уже персональную пенсию.
— Старик уже. Выслугу лет имею, — часто говорил он. — На материке, — так называл он землю, расположенную на запад от Владивостока, — пенсию давали за двадцать пять лет работы. У нас на Севере коэффициент: два с половиной. Десять лет отслужил — и… пенсия.
И когда интересовались этим коэффициентом, Николай Павлович охотно разъяснял закон о льготах для работников Севера.
С Сахалина Николай Павлович выезжал на материк только один раз за все десять лет.
Будучи во Владивостоке, он встретился в наробразе с учительницей, работавшей на Чукотке. Она так увлекательно рассказывала об этом отдаленном крае, что Николай Павлович, не задумываясь, «изменил» Сахалину и теперь ехал на три года в чукотскую среднюю школу.
— Хе-хе-хе! — как-то действительно по-стариковски усмехнулся он. — Из огня да в полымя. А я читал, что Молоков летал здесь по четыре раза в день к лагерю Шмидта. Здесь ходить-то — нос разобьешь…
На боку учителя висел бинокль, на животе — «лейка». И это его вооружение в такой туманище вызывало усмешку.
— Погодка называется! Ни поглядеть, ни заснять, — словно угадав мою мысль, мрачно проговорил Николай Павлович. — А ведь по времени — полдень.
«Ангарстрой» с хрипом продолжительно загудел, и Николай Павлович смолк, прикрываясь от брызг из парового гудка.
— У, дьявол! Плюется, как верблюд!
Николай Павлович прижался к стене кают-компании и заглянул через толстое стекло иллюминатора.
— Эти полярники в щепки разобьют наше пианино. С раннего утра и до поздней ночи фокстротят. Запереть бы на ключ, — недовольно пробурчал он, — а то ведь в школу привезем один ящик без клавишей.
Стирая ладонью влагу со стекла, он пристально смотрит на танцующие пары.
— И Татьяны нашей что-то не видно. А тоже любит потанцевать!
Оторвавшись от стекла, Николай Павлович говорит мне:
— Вы знаете, впервые встречаю такую естественницу. Фокстрот больше к лицу словесникам.
— Ну, Николай Павлович, вероятно, это у вас только, на Сахалине! В центральной полосе не только естественники, но и математики все танцуют!
— И независимо от возраста?
— Да.
— А на Чукотке?
— На Чукотке — как в Москве.
Николай Павлович улыбнулся и, помолчав немного, сказал:
— И, знаете, ей идет танцевать. Хотя и невысока, но… что называется: не ладно скроена, да крепко сшита.
Поправив на себе бинокль и «лейку», Николай Павлович вздохнул и предложил спуститься к нему в каюту, сыграть партию в шахматы.
Высоко на мачте мерцает свет. Осторожно шагая, мы пробираемся к каютам. Около кормы стоит человек, свесив голову через фальшборт. Подойдя ближе, мы узнаем нашу естественницу Татьяну Николаевну Вдовину.
— Что вы здесь стоите? Уж не морская ли болезнь при абсолютном штиле? — спросил Николай Павлович.
— Ужасно досадно! — порывисто выпрямившись, проговорила она. — Так хочется посмотреть берег! Ведь несколько лет тому назад я прошла вдоль него пешком. Сколько неизгладимых впечатлений! Как сейчас помню: под конец пути меня довез на нарте малюсенький такой мальчонок Таграй.
Она помолчала немного.
— И вот теперь до того хочется взглянуть на эти места, что словами и не передать! Родными кажутся они мне. А туман все затянул.
— Позвольте, позвольте, дорогая Татьяна Николаевна! — сказал учитель. — Насколько я понимаю в географии, вы по этому борту своих родных мест не увидите даже в ясный солнечный день. По крайней мере не раньше светопреставления.
— Как? — удивленно спросила Татьяна Николаевна, и вдруг, звонко расхохотавшись, она сказала: — Правильно, правильно, Николай Павлович! По эту сторону — американский берег. Я ошиблась.
— Вот тебе и бывалый человек! А я-то еще с Владивостока преклонялся перед вашим авторитетом, — шутливо заметил Николай Павлович. — Впрочем, вы же не географ! Вам простительно.
— Давайте перейдем на левый борт. Кажется, туман начинает рассеиваться, — предложила Татьяна Николаевна.
Учительница Татьяна Николаевна Вдовина только в этом году окончила Ленинградский пединститут имени Герцена. Она возвращалась в чукотскую школу, где пять лет тому назад, еще до института, впервые начала свою трудовую жизнь.
Тогда, восемнадцатилетней девушкой, ее направила в чукотскую школу комсомольская организация. В то время она мечтала совсем о другом. Но, проработав среди чукчей два года, искренне полюбила этот народ и больше не жалела, что попала на Север. Теперь Татьяна Николаевна, получив высшее образование, сама стремилась сюда.
Одетая в замшевый шлем и темно-коричневое кожаное пальто, Татьяна Николаевна по внешнему, несколько боевому виду скорей напоминала летчицу, чем учительницу. В серьезных карих глазах ее проскальзывало не то добродушие, не то насмешливость.
Спотыкаясь о доски, сложенные на палубе, мы пробираемся к левому борту.
— Татьяна Николаевна, неужели вы едете сюда как домой? — спросил Николай Павлович.
— А вы думаете — как в ссылку? — иронически сказала она. — Правда, герценовцев с распростертыми объятиями принимают даже в лучших столичных школах. А меня вот тянет сюда. Могу совершенно чистосердечно заявить: еду как к родным.
— А я, знаете, Татьяна Николаевна, как погляжу на эту слякоть, так под ложечкой что-то гложет. И это несмотря на то, что я сам прожил долго в таких условиях.
Татьяна Николаевна стояла задумавшись и, казалось, не слушала Николая Павловича.
Она вспомнила свой первый приезд на Чукотку и мечтательно проговорила:
— Когда в тридцатом году я уезжала отсюда в институт, каких замечательных ребят я оставила здесь! Хороших, способных, благодарных. И вот теперь очень хочется поскорей увидеть их. Выросли ведь они!
За время пребывания в институте Татьяна Николаевна поддерживала со своими учениками связь. Эта связь выражалась в переписке коротенькими радиограммами. Один раз в год, в период навигации, она посылала им толстенные письма. Она даже ухитрялась отрывать от своей стипендии немного денег на книги, цветные карандаши и отправляла им посылки.
В последней посылке был подарок и сказочнику — старику Тнаыргыну: набор хороших напильников, которые так необходимы для обработки моржовой кости. Татьяна Николаевна лучше заведующего факторией знала, какие напильники чукчи любят.
Ученики в долгу не оставались и тоже писали ей с далекой Чукотки в неведомый Ленинград. Каждый год они посылали ей торбаза с чудесной вышивкой. По этим замечательным торбазам студентку Таню Вдовину знал весь институт.
Письма хранились как драгоценные реликвии, и даже теперь все четыре письма лежали в кармане Татьяны Николаевны.
Вынув одно из них, она развернула его и подала Николаю Павловичу.
— Почитайте! — сказала она.
Николай Павлович прочел:
«Здравствуй, Таня-кай!
Шлем тебе горячий привет. Посылку мы получили и очень благодарны. Осенью, по получении посылки, сразу послали телеграмму, но, как видно из вашего письма, она застряла где-то в сопках. Жизнь на Чукотке не та уже, что была. Другая. Прибыли настоящие киномеханики. Почти каждый день показывают хорошие картины. В бухте Провидения идет подготовка к строительству морского порта.
Говорят, это будет наш большой город. В марте была райконференция. Заслушали отчет секретаря райкома комсомола тов. Ухсимы. Из Чаплина эскимоску помните? Очень много комсомольцев высказывались. Одного инструктора райкома, тов. Каляу, уволили с работы. Оценили его практическую работу слабой. Прорабатывали историю партии по учебникам. На далекой Чукотке слышны громкие голоса Союза Советских Социалистических Республик. В страницах газеты „Советский Уэлен“ читаем свежие новости. Пишем туда свои стихи, и их печатают по-печатному…»
Письмо было длинное. В нем были описаны все события школы и всего района. В конце значились подписи учеников VI класса: Таграй, Ктуге, Тает-Хема, Локе, Рультуге, Каргынто и многих-многих других.
Николай Павлович долго читал, и Татьяна Николаевна следила за выражением его лица и думала: так ли на него действует это письмо, как на нее?
Свернув письмо, Николай Павлович отдал его.
— А почему они называют вас Таня-кай?
Татьяна Николаевна улыбнулась и сказала:
— Прозвали так. По-чукотски значит: маленькая Таня.
— Это чудесно! Таня-кай, Таня-кай! Ах, как замечательно! — восхищался Николай Павлович.
— Вот телеграмма. Ее я получила совсем недавно.
«Очень обрадовались, что опять возвращаетесь тчк Привезите книжку „Великий план“ тчк. Тнаыргын просил привезти ему особенную трубку».
— Ну, и что же? Везете вы трубку своему старику?
— Везу! Да еще какую! — ответила Татьяна Николаевна. — А вы, Николай Павлович, спрашиваете еще: с охотой ли я еду сюда?
Подошел штурман.
— Товарищ Чижов! Два вопроса… — сказала Татьяна Николаевна, обращаясь к нему.
— Я — весь внимание! — по-военному отчеканил он.
— Скажите, надолго ли туман закрыл небо и скоро ли мы подойдем к культбазе?
— Охотно вам отвечу. Только что же вы здесь мокнете? Давайте присядем на спардеке, под навесом, прямо на сене: люблю запах сена!
Под навесом было еще темней.
— Итак, слушайте, — сказал штурман. — По первому вопросу: сие от командования не зависит — мы не здешние. Вам лучше знать, когда рассеется туман. А что касается второго — скажу точно. Мы идем прямо в Уэлен, минуя культбазу. Не хочется расставаться с такими хорошими пассажирами. Завезем вас уж лучше на обратном пути. И так как до Уэлена осталось двенадцать часов хода, а в тумане вы все равно ничего не увидите, то предлагаю идти танцевать, Татьяна Николаевна.
— Благодарю, но, кажется, я склонна к тому, чтобы идти на боковую. Надо выспаться.
— Правильно, правильно, Татьяна Николаевна! — В голосе Николая Павловича послышались нотки ревности.
Татьяна Николаевна встала.
— Ну, товарищи, — сказала она, — мне пора бай-бай.
Помахав рукой, она ушла.
Вот уже который раз я приезжаю на Чукотку. Сколько здесь у меня знакомых, друзей, которые своей непосредственностью и теплотой отношения привязали меня к себе. Как и Татьяна Николаевна, я тоже испытываю какое-то необыкновенное чувство, приближаясь к этим хмурым берегам.
На байдарах, на вельботах, зимой — на собаках я неоднократно проезжал вдоль Чукотского побережья. Я уже знаю здесь каждый утес, каждый заливчик, каждое чукотское селение на всем пути, растянувшемся на две тысячи километров. И уж обязательно в каждом селении у меня есть один-два приятеля.
Мне тоже, как и учительнице, хочется взглянуть с борта парохода на ставшие мне родными берега обширной Чукотской земли.
Туман все закрыл. Татьяна Николаевна ушла спать, штурман танцует и, вероятно, скоро встанет на вахту.
Николай Павлович опять предлагает сыграть в шахматы. Я принимаю вызов.
В тесной каюте мы пристраиваем на чемодане шахматную доску и молча начинаем двигать фигуры. Пароход словно стоит в гавани — не шелохнется.
— Николай Павлович! Вы хотя бы здесь сняли бинокль и «лейку», — говорю я ему.
— А что, это мешает вам играть?
— Нет, вам мешает.
— В таком случае прошу не беспокоиться. Гардэ!
Николай Павлович прекрасный шахматист, но сейчас он играет рассеянно. Он признался мне, что все чаще и чаще его мысли занимает Татьяна Николаевна.
За игрой мы и не заметили, как пароход перестал давать гудки. В иллюминатор видно, что туман разошелся. Я решил подняться на палубу.
— Нет, я категорически настаиваю еще на одной партии. Вы не имеете права отказываться от реванша, — строго потребовал мой партнер.
Фигуры опять, в седьмой раз, заняли свои места.
Вдруг как-то необычно загудел «Ангарстрой».
— Сигнал приветствия, — держа коня в воздухе, сказал Николай Павлович.
С несвойственной ему торопливостью он вылез из-за чемоданов, уронил фигуры и выбежал из каюты. Вслед за ним побежал и я.
Стояла чудесная белая ночь. Горизонт был чист, по левую сторону борта тянулись хмурые, но величественные берега Чукотки; откуда-то слышался беспрерывный пронзительный вой сирены. Следов тумана уже не было. Это одно из свойств чукотских туманов: внезапно наползать и не менее внезапно исчезать.
Мы взбежали на капитанский мостик.
— Чукотская шкуна встретилась, — сказал капитан. — Салют приветствия дал ей, а она вон беспрерывно воет почему-то, повернула и гонится за нами. Может быть, сообщение какое у них?
Белая, как чайка, двухмачтовая шкуна действительно гналась за «Ангарстроем», отставая все больше и больше. Николай Петрович уже разглядывал ее и, не отнимая от глаз бинокля (пригодился все-таки!), сказал:
— По борту надпись «Октябрина».
Капитан отдал команду в трубку машинного телеграфа, «Ангарстрой» замедлил ход и вскоре остановился. «Октябрина» подошла к борту и казалась маленьким теленком рядом с ездовым оленем. На палубе ее стояло человек двадцать парней и девушек из чукотских и эскимосских селений.
Капитан подошел к борту и спросил:
— Что такое?
Из рулевой будки шкуны вылез пожилой человек в замасленной робе, в роговых очках с синими стеклами и радостно проговорил:
— Здравствуй, русский капитан! Я тоже капитан, «Октябрины».
— Здравствуй, здравствуй, товарищ капитан! Что ты хочешь? — спросил его капитан «Ангарстроя».
— Ничего. Только хочу сказать: здравствуй.
Два капитана стояли друг против друга, оба улыбались, и хотя улыбки их были вызваны разными мыслями, но у обоих было неподдельно хорошее чувство друг к другу.
И вдруг капитан «Октябрины», повернувшись, заметил меня. Назвав мою фамилию, он прокричал:
— Какомэй!
Я узнал в нем моего давнишнего приятеля — председателя поселкового совета Ульвургына.
— Куда идет шкуна, Ульвургын?
— Ликвидаторов развожу, а завтра опять на кульбач.
Нас перебил капитан «Ангарстроя»:
— Ну, товарищ капитан, стоять я не могу. До свидания! — сказал он.
— До свидания, до свидания! — замахал руками Ульвургын.
Замахали и пассажиры «Октябрины». Прикинув, что «Октябрина» скорей доставит меня на культбазу, я решил сойти с парохода. Быстро спустившись по штормтрапу на палубу «Октябрины», я крикнул:
— Николай Павлович, оставляю свои вещи на ваше попечение. Буду вас встречать в заливе Лаврентия. Извинитесь перед Татьяной Николаевной, что не разбудили ее. Видите — некогда!
Но учитель, кажется, не слышал меня. Он беспрерывно щелкал «лейкой» и, когда у него вышел последний кадр, торопливо стал вкладывать новую катушку.
Машины «Ангарстроя» загрохотали, и он, отделившись от «Октябрины», пошел своим курсом.
«Октябрина» покачивалась на волне, образованной винтом парохода. Теперь можно было считать, что я попал наконец домой.
— Пойдем, пойдем в каюту, — вцепившись в мою руку, сказал Ульвургын.
Он шел по палубе характерной балансирующей походкой, какой ходят моряки.
— Только пахнет здесь, — словно извиняясь, проговорил Ульвургын. — Теперь охотимся за моржами на шкуне. Мясо таскаем, поэтому пахнет, — продолжал он говорить, морща нос, как будто сам очень страдал от невыносимого запаха моржатины.
Мы остановились около кубрика. Нас окружили парни и девушки, подходившие поочередно здороваться со мной. Некоторые, поздоровавшись один раз и пропустив человек пять-шесть, вновь протягивали руки. Все они были ликвидаторами неграмотности и ехали с курсов по домам.
Здесь были Рультынкеу и Алихан.
— Сколько же классов ты окончил, Рультынкеу?
— Пять только. На курсы послали. Говорят, народ учить надо, — ответил он.
— Эгей! — весело крикнул Ульвургын. — Помолчите! — И, обращаясь ко мне, он серьезно сказал: — Покрепче заткни пальцами уши. Что-то по секрету от тебя нужно всем сказать.
В глазах Ульвургына светилось лукавство. Я немного удивился этому секрету, но выполнил его желание.
Обхватив ликвидаторов руками, пригнувшись, он шепотом что-то говорит им. Ликвидаторы, улыбаясь, кивают головой.
— Теперь вытащи пальцы, — беря меня за руки, говорит Ульвургын и тут же, свесив голову в кубрик, кричит: — Миткей, чай готовь!
Миткей, видимо, этим и занимался, так как в ту же секунду с шумом вспыхнул примус.
Мы спустились в маленький кубрик, напоминавший четырехместное купе вагона. Так же как и в купе, в кубрике было четыре койки. Две верхние завешены ситцевыми занавесками. В углу — камелек, в середине — столик.
На столике лежал планшет засаленной карты крупного масштаба северо-востока Азиатского материка. На стенке, в рамке из моржовой кости, висел портрет Сталина работы местного художника, исполненный карандашом.
Я присел на койку рядом с Ульвургыном и угостил его папироской.
— Капитан! Старпом спрашивает, куда мы теперь идем? — крикнул кто-то сверху.
Не торопясь, Ульвургын посмотрел на карту, ткнул пальцем в какую-то точку и сказал:
— Вот сюда. В бухту Пенкегней. Пусть держит прямо через Мечигмен, на остров Аракамчечен.
— Есть, товарищ капитан, — ответил тот же звонкий голос.
Карта не очень нужна была капитану Ульвургыну, так как он и без нее отлично знал свои воды, — но ведь все большие корабли ходят с картами.
— Вот видишь, какая теперь шкуна у нас! Вельботы в море бьют моржей, а мы таскаем мясо в колхоз. Как китобойная матка «Алеут». Много стало у нас мяса!
Ульвургын помолчал и, посматривая на папиросу, с чувством сожаления сказал:
— Раньше ты меня сделал председателем. Только теперь я не председатель. Ушел из председателей. Пусть молодые будут председатели. Ошибка получилась у меня. А когда на «Октябрину» искали капитана, я сказал: «Ага, в капитаны я пойду! Пусть Аттувге будет председателем».
— Какая же ошибка, Ульвургын?
— Помнишь, как на кульбач ты построил первый раз баню? Как ты уговаривал людей поливаться водой? Сначала боялись, а потом — хорошо.
— Помню.
— Потом, когда ты уехал, в то лето я долго-долго думал. Я сделал у себя постановление. В совете. Всем нашим людям надо летом мыться в речке. Палец намочил в речке — ничего, вода хорошая. Только наша речка бежит с гор, и когда все люди залезли в речку, стали говорить: «Пожалуй, вода холодна!» — «Нет, говорю, не холодна — все время держу палец». Люди послушались постановления — и стали кашлять, и грудь болела. Вот такая ошибка, — вздохнув, закончил он.
— Да, Ульвургын, бывает, что человек и ошибается.
И я почувствовал, что после этой «ошибки» Ульвургын стал мне еще ближе.
— Кто же, Ульвургын, работает у тебя на шкуне?
— Верхняя полка — моя. Вторая верхняя — старпома. На которой сидим — повара Миткея. Вот этого, — показывает он пальцем.
Миткей широко улыбается и молча ставит на стол чашки, режет хлеб.
— А та — ревизора Тмуге.
— О, ревизор у тебя есть?
— И на пароходах бывают ревизоры. Как же без него? Кто деньги будет получать с рика за пассажиров? Кто мясо в колхоз будет сдавать?
— Значит, всего четыре человека?
— Пять. Стармех пятый. Спит он. Сутки вчера работал, на берег не сходил. Охотились на моржей.
— Кто механиком работает?
В глазах Ульвургына появилась усмешка, и он сказал:
— Старик один из дальнего стойбища. Ты не знаешь его.
По глазам Ульвургына видно было, что он затеял что-то коварное. Однако я не придал значения его шутливому настроению.
— А почему же, Ульвургын, у тебя нет капитанского пиджака с пуговицами?
И вдруг я увидел, что задел самое больное место капитана «Октябрины». Он переменился в лице и сказал с некоторым возмущением:
— Фактория плохо работает. Еще прошлым летом обещали привезти. Если теперь не привезут, в рик поеду жаловаться.
Мы пьем крепкий, как кровь оленя, кирпичный чай, держа на весу большие эмалированные кружки.
Ульвургын, не допив чая, поставил кружку на стол и, обращаясь к Миткею, сказал:
— Поди скажи старпому — спать он будет в машинном отделении, гость будет спать на его месте.
Миткей, как евражка из норы, выскочил по коротенькой лесенке на палубу.
Ульвургын встал, открыл ящик под койкой и взял простыню и наволочку. Потрясая ими в воздухе и тихо смеясь, он проговорил:
— Это тебе.
Теперь я начал понимать все его «секретные мероприятия». По-видимому, он захотел поразить меня своей культурностью.
Сдернув суконное одеяло с койки старпома, Ульвургын сказал:
— Кит-кит (немного) грязный. Надо заменить. Вот здесь будешь спать.
Около капитанского кубрика толпились ликвидаторы. Они тихо сидели на тюленьих колаузах[39]Колауз — мешок для хранения дорожных вещей. и разговаривали шепотом.
Этот шепот и гортанные звуки чукотской и эскимосской речи, как легкий ветерок, доносились в кубрик.
— Почему, Ульвургын, ликвидаторы так притихли?
— Морж испугайся громко разговаривать, — сказал он по-русски.
И опять он рассмеялся. Он отлично понимал, что я хорошо знаю, чего боится морж и чего не боится.
Я встал, намереваясь выйти на палубу. Но Ульвургын преградил мне путь. Он положил свои тяжелые руки мне на плечи и, глядя в глаза, молча смеялся.
— Хочешь узнать секрет? Хочешь узнать, почему ликвидаторы тихо разговаривают? — спросил он, тормоша меня.
И когда я сказал: «Конечно, хочу», — он торжественно произнес:
— Таграй спит. Вот какой секрет я говорил.
Видя мое удивление, он как-то по-особенному захохотал: «Хо-хо-хо!»
— Стармех у меня Таграй. Твой Таграй стармех, а не старик. Механик кино был, теперь — механик «Октябрины». Всем по секрету я сказал, чтобы не будили его, — сами разбудим.
— Разве Таграй здесь? — усомнившись, спросил я.
— Пойдем, пойдем к нему, — подталкивая меня на лесенку, говорил Ульвургын.
Мы вылезли из кубрика на палубу. Подмигивая ликвидаторам, Ульвургын шагал через тюленьи колаузы.
Светило солнце. Море, казалось, застыло. На нем не было даже ряби. Вдали виднелись горы мыса Дежнева, покрытые шапкой белых влажных облаков. Казалось, что эти облака впитали в себя весь туман, который с утра так густо застилал Берингово море и Чукотскую землю. Впереди, на горизонте, показались слабые очертания американского острова святого Лаврентия. «Октябрина», управляемая старпомом, шла полным ходом.
Мы остановились у люка машинного отделения.
— Полезай сюда, — указал мне Ульвургын.
Я спускаюсь по лесенке вниз и вижу парня, согнувшегося над гребным валом с масленкой в руках.
С лесенки Ульвургын сделал ему какой-то знак, и парень с масленкой, выпрямившись во весь рост, замер.
Это был Тмуге — ревизор, он же и помощник Таграя.
В глаза бросилась поразительная чистота. Дизель блестел, как лоснящаяся кожа кита. Металлические части машин до того были надраены, что отсвечивали, как зеркало. На полу — ни соринки. Для окурков пепельницы — банки из-под консервов.
На столике, освещаемом сверху палубным окном, лежала открытая книга — учебник физики. В стороне, около самого борта шкуны, — койка, так же как и в капитанском кубрике, завешенная ситцевой занавеской. На столбике койки висели синий комбинезон и кепка.
На носках, крадучись, как охотник, выследивший зверя, Ульвургын тихо подошел к койке и взялся за ситцевую занавеску. Она скользнула по проволоке, и мы увидели спящего Таграя.
На койке лежал совсем взрослый парень. Ульвургын осторожно стал будить Таграя.
Из-под одеяла показалась черная голова, остриженная «под польку».
— Стармех! Машина испортилась! — громким шепотом произнес Ульвургын.
Таграй мигом открыл свои черные глаза, приподнялся на локте и, увидев меня, остолбенел. Широкое скуластое лицо взрослого человека и глаза испуганного тюленя с выражением крайнего изумления были совершенно неподвижны. Все еще держась на локтях, полусидя, с блуждающим взором, он молчал, ничего не понимая. Он посмотрел на меня, потом на Ульвургына, взглянул на Тмуге и, опять встретившись взглядом со мной, как-то по-особенному улыбнулся и раздельно произнес:
— Что такое?
— Здравствуй, Таграй! — сказал я.
— Откуда ты взялся? Уж не по радио ли тебя передали на шкуну?
— Да, да, — смеясь, сказал Ульвургын. — Пока ты спал, я привязал на мачтах «Октябрины» ветьхавельгын[40]Ветьхавельгын — радиостанция, в данном случае — антенна., сделал та-та, та-тааа — вот он и передался сюда.
Таграй расхохотался. Мигом он соскочил с койки и быстро натянул комбинезон.
— Сейчас я умоюсь.
ТАГРАЙ
В машинном отделении мы остались вдвоем с Таграем. Повар Миткей принес огромный медный чайник, хлеб, масло и баночку крабов.
— Пожалуйста, закусывай! — говорит Таграй.
— Чисто, Таграй, у тебя здесь.
— Как в красном уголке! — смеясь, говорит он. — Машина любит чистоту — все понимают. Зайдет ко мне охотник посмотреть на машину и боится сесть; курит, а сам баночку в руке держит — пепел ссыпать. Все понимают: заведется грязь в машине, застопорит — шторм выбросит на берег.
— Почему же?
— Потому что грязи машина не любит. Закапризничает и вдруг остановится во время шторма. И понесет тебя на скалы — погибай! Оленеводы и те заботятся о ездовом олене. Или за хорошей собакой как ухаживают? Машина тоже возит. Она ведь как живая, любит уход. И болезни у нее есть, и старость приходит.
Синий комбинезон Таграя слегка промаслен. На груди значок «КИМ»[41]«КИМ» — Коммунистический интернационал молодежи. (Прим. выполнившего OCR.). У него вид культурного заводского рабочего. Он сидит напротив меня и намазывает хлеб маслом. Чуть-чуть акцентируя, он отлично говорит по-русски.
Среди всего экипажа «Октябрины» Таграй пользуется исключительным авторитетом. Его даже не называют по имени, а все зовут стармехом, хотя, кроме него, никаких младших механиков на шкуне и нет. Подобное обращение — высшая степень уважения. Стармехи двигают огромные железные корабли.
Я смотрю на Таграя и не узнаю его: так возмужал он.
— Я здесь только до начала занятий, — говорит он. — На время каникул колхоз поставил меня на эту работу. Нравится мне очень с машиной работать.
Слушая его, я беру учебник физики и начинаю листать.
— Очень хорошая книга, — говорит Таграй. — Я думаю, что самая интересная наука — физика, интересней ее нет. Благодаря этой книге я сам почти изучил машину «Октябрины». Часы еще люблю чинить. А доктор тот опять приехал прошлый год. Помнишь, которого я в шахматы обыграл? С женой теперь приехал. На три года. Друзья мы с ним. Один раз зовет меня к себе и говорит: «Не можешь ли ты, Таграй, починить мне часы?» Большие такие часы, как краб. А цепочка — хоть собак привязывай. Я разобрал их — и починил. Потом его жена из чемодана вытащила свои часики и говорит мне: «А эти не можешь?» И что за часы! Никогда не видел таких. Вот… как пуговка. Побоялся взяться. А самому так захотелось посмотреть внутрь! Набрался храбрости, говорю: «Могу и эти, только долго буду чинить. С собой возьму». — «Нет, — говорит докторша, — там, в общежитии, ребята растеряют у тебя винтики — тогда все пропало. Если хочешь, приходи сюда чинить». Дней десять ходил я к ним. Пришлось отверточек наделать из иголок. Доктор лупу мне дал. И починил! «Голубчик, — сказала докторша, — тебе на инженера надо учиться». А сам доктор тряс меня за плечо и басом говорил: «Молодец, молодец. Вот я пошлю радиограмму своему сыну в Ленинград, чтобы он подобрал тебе настоящие часовые инструменты!»
— Вероятно, ты первым учеником идешь, Таграй?
— Нет, — смеется он. — Каргынто первый, эскимос. Он на полярной станции сейчас, на практике. Первого сентября опять съедемся на культбазу. В седьмом классе будем учиться.
Таграй поднимается и достает из-под подушки книгу: учебник шахматной игры.
— Вот еще интересная книжка, — говорит он. — Какие тут задачки есть! Машина работает, а я решаю. Порешаю-порешаю, маслом заправлю машину — и опять за них. Трудные есть! Один раз решал задачку три дня! Оказалось, что нужно было сделать только один ход конем! Сейчас покажу тебе. Очень интересно.
Таграй схватил шахматную доску, вытряхнул шахматы и на уголке доски быстро расставил штук пять фигур и пешек. Он взял коня, переставил его и с блестящими глазами сказал:
— Вот и все!
— Слушай, Таграй, а что случилось с Ульвургыном? Неужели его сняли с работы председателя совета за то, что он устроил это всеобщее крещение в холодной речке?
— Нет. Его никто не снимал. Но когда люди после мытья в речке заболели, он это очень тяжело переживал. Ушел вглубь тундры и там один бродил три дня. Вернулся и говорит: «Вот Аттувге целый год учился у советской власти. Пусть он будет председателем». А Аттувге действительно учился в Петропавловске-на-Камчатке на курсах советского строительства и только что вернулся. Вскоре шкуна «Октябрина» пришла, стали искать капитана. А кто лучше Ульвургына знает море? Он и пошел в капитаны. Но все же он до сих пор хочет заниматься общественной работой.
Таграй засмеялся и продолжал:
— Один раз зашел я к нему в ярангу, смотрю — он что-то рисует. Рядом с ним стопка уже готовых больших листов. Из обоев нарезал. Целый рулон купил в фактории. Те, которые нарисованы, рисунком вниз положены. Чтобы раньше времени никто не смотрел. И, знаешь, лежит он в яранге на животе, полуголый, ноги — в разные стороны, как у моржа ласты, и выводит карандашом. «Что ты рисуешь, Ульвургын?» — спрашиваю его. «Агитацию, — говорит. — Камчамол, говорит, должен эту агитацию рисовать, а приходится мне!» Я взглянул на его плакат и вижу: нарисована голая женщина — по-настоящему. Рядом подрисованы три пары трусов. Контуром обведены. Я сначала не понял, что это такое. Тогда Ульвургын перевернулся на бок и, тыча карандашом в рисунки, говорит: «Вот, Таграй, каждая женщина должна иметь три пары трусов. Одну пару носит, другую — в запасе, третью — в стирке. Потому что нет такого закона советского, чтобы носить все время одну, пока ткань сама не сгниет на женщине». Держу в руках «плакат» этот и спрашиваю его: «А куда, Ульвургын, ты готовишь эти бумаги?» — «В каждой яранге повешу, чтобы все время смотрели», — говорит он. «Нехорошо, Ульвургын, смеяться будут. Видишь, как нарисовал ты женщину. Таких и в кино не показывают. Лучше на собрании об этом поговорить». — «Хорошо, говорит, будет. Ты не понимаешь ничего».
— Ну и что же? — заинтересовался я.
— Так и развесил по ярангам все эти «плакаты». Сначала смеялись, а потом привыкли — перестали. И для смеха стали шить по три пары. Вообще же человек он очень хороший. Без компаса в туман водит «Октябрину». Читать не умеет, а в карте разбирается хорошо. Очень доволен, что капитаном стал. «Капитан, говорит, главнее председателя».
Открылся люк, и показались ноги самого капитана Ульвургына. Неторопливо он спустился в машинное отделение, вразвалку подошел к нам и присел рядом со мной.
— Давай папироску, — улыбаясь, сказал он мне. Он помолчал и добавил: — И что такое? Никогда у нас до прихода первого парохода не хватает папирос!
— Плохо, Ульвургын, должно быть, фактория работает.
— Да. Надо собрание устроить. — Подумав, он продолжает: — У меня вот здесь, на боку, шишка была с кулак. Доктор ножом раз — и нет ее. Стало хорошо. Совсем здоров. На охоту можно, а доктор все держит в больнице. Погулять только на берег пускает. В то время пришел на кульбач америкен пароход.
— Крейсер «Норланд», — поправил Таграй.
— Это все равно! — махнул рукой Ульвургын. — Пошел я на берег. Вместо одежды — халат. Увидел меня америкен доктор. «Больной?» — спрашивает. «Больной», — говорю. «Пойдем на пароход, я тебя полечу». — «Не надо, вылечили меня. Ножом вылечил русский доктор. Вон, видишь, больница. Там резали шишку». — «О-о! Вери гуд — очень хорошо», — говорит он. Он думал, у нас, как прежде, без докторов. Америкен доктор вытащил пачку табаку, подал ее мне. «Плис», — по-ихнему «бери». Я глянул на табак, нос у меня заходил на лице от хорошего запаха. Голова закружилась. Но я покачал ею и сказал: «Нет. Тэнкью веримач. Деньги у меня в кармане, а табаку сколько хочешь на фактории, — вон она, на берегу стоит». А в фактории, как я тебе сказал, ни одной папироски. Все кончилось, а пароход еще не пришел.
— Ульвургын, а ты умеешь по-американски разговаривать?
— Кит-кит — немножко. Раньше — больше. Теперь — по-русски больше.
Вдруг наша мирная беседа нарушилась невероятным криком с палубы:
— Рырка, рырка![42]Рырка — морж.
Кричали все. Кричали парни, девушки. Ульвургын опрометью бросился на палубу. Голоса смолкли, и только слышались распоряжения капитана Ульвургына.
В машинное отделение прямо-таки свалился ревизор Тмуге, а Таграй, схватив кепку и винчестер, быстро выбежал на палубу.
Появление моржей всколыхнуло сердца старых и молодых — капитана, ликвидаторов и всего экипажа шкуны «Октябрина».
ОХОТА НА МОРЖЕЙ
Охота на моржей у чукчей считается любимым промыслом. Она несравненно легче и интересней зимней охоты на тюленя.
Зимой зверобои уходят по льду далеко от берега. Нередко ветер и морские течения отрывают льдины, на которых находятся охотники. Но они не теряются и, перенося большие лишения, выжидают — иногда много дней, — когда обратный ветер сомкнет льды. И тогда, истощенные, они выходят на землю. Бывает, что ветер очень долго не меняет направления и охотники погибают.
Моржовая охота происходит в летнее время, и она почти безопасна для человека. Она и прибыльней, так как один морж по количеству мяса равен двадцати — двадцати пяти тюленям.
К моржовой охоте чукчи готовятся задолго до начала ее. Удачный летний промысел на моржа обеспечивает благополучие всей семьи на протяжении года. Каждая семья поэтому стремится заготовить не менее трех моржей.
Так было всегда. Теперь же охотники убивали намного больше моржей.
На Чукотском побережье возникла Северная машинно-промысловая станция — СМПС, организованная по типу МТС[43]МТС — машинно-тракторная станция. (Прим. выполнившего OCR.).
В чукотских и эскимосских зверобойных колхозах появилось еще больше моторных вельботов, катеров, кавасаки; пришли шкуны.
Шкуна «Октябрина» принадлежала СМПС.
Лучшими стрелками на «Октябрине» были старпом Эвненто и Таграй. Когда поднялся крик: «Рырка, рырка!» — они мигом оказались на носу шкуны. Таграй и Эвненто стояли с ружьями наперевес. Здесь же был и повар Миткей — гарпунщик. В руках у него — длинный ремень с палкой. К ней он пристраивал самооткрывающийся металлический крючок. Другим концом ремень был привязан к тюленьему мешку. Около мешка на палубе сидел один из ликвидаторов и до такой степени надул щеки, будто собирался лопнуть. Обхватив тюлений мешок ногами, он накачивал в него воздух ртом. Мешок казался живым — он все расширялся и расширялся.
У штурвала стоял Ульвургын. Это самое ответственное место.
Моржи играли на воде.
Набрав воздух и взмахнув ластами, они ныряли и скрывались в морской пучине.
В какой стороне вновь они покажутся на поверхности моря? Куда нужно направлять шкуну, чтобы преследовать моржей? Ведь после того, как моржи скроются в воде, по неопытности можно пойти в противоположную сторону и увидеть вновь вынырнувших моржей за километр от себя.
Капитан Ульвургын знал, куда нужно направлять шкуну. Он сразу определял вожака моржового стада и уже не сводил с него глаз. Он следил за тем, как морж нырял, следил за положением его туловища, и какую сторону были направлены клыки в момент погружения его в воду, как он взмахивал ластами, — и капитан безошибочно брал направление.
В такие моменты глаза Ульвургына блестели.
Теперь он держал в руках штурвал, устремив свой острый взор туда, где показались моржи.
«Октябрина», круто повернув, взяла курс к американскому острову. Вдали еле-еле виднелись кувыркающиеся на воде моржи. Казалось, что Ульвургын перестал дышать.
Вскоре стало хорошо видно маленькое стадо — пять моржей. Расстояние между нами уменьшалось, и мы быстро настигали их. Моржи один за другим то, взмахнув задними ластами, проворно скрывались в воде, то вновь выныривали в другом месте. И соответственно их поведению Ульвургын с невероятной быстротой, пригнувшись, крутил штурвал.
Вдруг Таграй и Эвненто разом повернулись и одновременно дали два выстрела.
— Малый ход! — закричал Ульвургын так, словно на шкуне случилась авария.
— Малый ход! — передала девушка-ликвидатор в люк машинного отделения.
Спокойствие и беспечность, недавно царившие на шкуне, вдруг превратились во всеобщую настороженность.
«Октябрина», вздрогнув всем корпусом, замедлила ход. И сейчас же около борта показалась огромная, с белыми бивнями, голова моржа с большими губами, покрытыми твердыми, щетинистыми усами. Голова моржа походила на обрубок, на старый пень.
Морж яростно хрипел, фонтанировал густой ярко-красной кровью и глядел на шкуну бессмысленным взглядом.
Было очень легко послать еще пулю, но стрелки стояли с опущенными ружьями. Наповал убивать нельзя: морж сразу же потонет, как камень.
Лишь Миткей, насторожившись до предела, вытянулся во весь рост и, высоко подняв над своей головой палку, приготовился метнуть в моржа гарпун.
Он глядел в упор на моржа, морж — на него. И в тот момент, когда морж, взмахнув ластами, обнажив широченную темно-коричневую спину, собрался нырнуть, Миткей в одну секунду с силой всадил в него гарпун.
С невероятной быстротой по палубе заскользил длинный ремень, увлекаемый раненым моржом. Два ликвидатора, торопливо перебирая ремень, ускоряли его выход с палубы. Один подхватил тюлений мешок, наполненный воздухом, и выбросил его вслед за ремнем в море.
Мешок-поплавок скрылся сразу же, но тут же всплыл и, шлепая по воде, стал удаляться от шкуны. Морж был загарпунен. «Октябрина» стояла в луже крови.
Через некоторое время морж опять показался. Таграй, следивший за ним по поплавку, прицелился в голову. Раздался выстрел. Поплавок на миг опять затонул и, всплыв, остановился неподвижно.
— Готово! — крикнул Таграй по-русски, стирая с лица пот, выступивший от большого напряжения.
«Октябрина» медленно проходит мимо поплавка, и в прозрачной, чистой воде моря видно, как висит на ремне огромная туша моржа. Но этот морж сейчас уже никого не интересует. Все устремили свои взоры в разные стороны, разыскивая четверку уплывших моржей, чтобы сообщить Ульвургыну направление. Ульвургын и сам зорко следит. Одновременно раздаются голоса:
— Вон, вон они!
— Полный ход!
— Полный! — прокричала девушка, дежурившая у люка.
Оставив убитого моржа на поплавке, «Октябрина» понеслась за другими. И часа через два все пять моржей были перебиты.
В разных местах на поверхности моря торчало пять тюленьих поплавков. Погруженные наполовину в воду, они были похожи на кочки в тундре. «Октябрина» подошла к одному из них.
Таграй настроил ручную лебедку, и под радостные крики на палубу медленно вползла огромная, тонны на полторы весом, туша моржа. Распластавшись по палубе, морж лежал вверх вспухшим рыже-пятнистым животом.
Довольно посмеиваясь, стоял здесь Ульвургын.
— Это капитан, — сказал он про моржа.
Ликвидаторы тоже сияли от радости и быстро точили ножи о булыжные камни. Как давно не испытывали они такого удовольствия: разделать тушу моржа! Они сразу превратились в охотников-зверобоев. Прекрасно зная анатомию моржа, засучив рукава, одни ловко надрезали по суставам и отделяли куски мяса килограммов по пятьдесят. Другие волокли эти куски в трюм.
Разделав одного моржа, шкуна перешла к другому поплавку. С исключительной сноровкой и быстротой ликвидаторы разделали все пять туш. Ликвидаторы не рассчитывали на какую-нибудь долю от этой охоты. Они работали ради удовольствия. Ведь так давно они не занимались любимым делом!
Свободный трюм «Октябрины» почти наполовину завалили мясом.
Миткей ведерком на веревке черпал воду и смывал кровь с палубы. Крови было много.
— Чисто надо делать! Чисто! — говорил Ульвургын, и в его словах чувствовалась забота о шкуне, которую вверили ему в его полное распоряжение.
Вразвалку он подошел ко мне.
— Теперь в колхоз можно не ехать. За мясом хотели ехать. Мясо — для кульбач, — сказал Ульвургын. — Наш колхоз написал договор с кульбач. Пятьдесят копеек килограмм. Ревизор, сколько будет килограммов?
— Я думаю, четыре тонны, а может, больше, — ответил Тмуге.
От удовольствия Ульвургын крякнул.
Может быть, поэтому Ульвургын был в самом приятном расположении духа. Он расхаживал по палубе шкуны, как хозяин. Он щупал каждую веревку, перевязывая узлы, показавшиеся ему плохо завязанными, и на ходу разговаривал:
— На байдаре так далеко не пойдешь за моржами. Если пойдешь, больше одного моржа не положишь. А людей — гребцов — надо больше, чем на шкуне. Хорошая «Октябрина», — говорил он ласково, и казалось, он хочет погладить ее, как умную собаку-вожака.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
С севера потянул легкий ветерок. По морю побежала рябь.
— О-хо-хо! — хлопая себя по лицу ладонью, сказал Ульвургын. — Хороший ветер. Быстро пойдем!
Ульвургын крикнул Миткея, и они втроем с Таграем вздернули паруса. Огромные полотнища наполнились ветром, и «Октябрина», пригнувшись носом к воде, словно обнюхивая дорогу, пошла под двойной тягой, взяв курс в пролив, к острову Аракамчечен, где стояли чукотские и эскимосские селения — родина двух ликвидаторов.
Из пролива, словно дымовая завеса, наползал густой туман, закрывший вскоре все побережье. Туман стелился низко, и издали казалось, что море и берег покрылись толстым слоем рыхлой ваты. Часто бывает на Севере, что в ясный, солнечный день вдруг внезапно появляется туман — этот постоянный обитатель здешних мест.
Поверх тумана видно было чистое, безоблачное небо. Вдали — вершины чукотских гор, будто плававшие в небесном пространстве, ибо основания этих гор были закрыты туманом. Горы казались до того однообразными и похожими одна на другую, что трудно было разглядеть какие-нибудь их особые приметы. Но для Ульвургына они были лучше компаса.
Подойдя к полосе тумана, Ульвургын приказал убрать паруса. Здесь уже не чувствовался ветер. Где-то впереди, совсем рядом, был пролив. Туман настолько сгустился, что из рубки капитана не видно было носа «Октябрины».
Вскоре мы вошли в пролив, берега которого можно было представить лишь по рассказам Ульвургына. Шкуна перешла на малый ход, завыла ручная сирена. Ульвургын вслушивался в эхо и определял близость порогов, как настоящие капитаны больших кораблей, которые гудками «щупают берега».
— Быстро нельзя. Поломать «Октябрину» можно.
Я заметил, что Ульвургын очень редко называет свое судно шкуной, чаще он зовет его «Октябриной» — по имени.
Долго и медленно, будто ощупью, идет шкуна в проливе. Почему-то и мне в этом влажном белом тумане она кажется живой, одушевленной.
Часто крутят сирену. Ульвургын сосредоточенно вслушивается в звуки, и можно сказать с уверенностью, что теперь он никакому старпому не отдаст штурвала.
Столпившись на палубе, ликвидаторы оживленно обсуждают отдельные моменты только что проведенной охоты на моржей. Все они под большим впечатлением ее. Они даже забыли на некоторое время, что приближаются к родным селениям, из которых уехали три месяца тому назад. О, это очень большой срок!
Все они соскучились по домашним, как и те, в свою очередь, по ним.
Привязанность к родственникам — очень характерная особенность всех чукчей и эскимосов. Они могут тосковать друг о друге до потери аппетита, до исхудания. Ведь как далеко они были от дома — за двести километров! Правда, за время их пребывания на курсах каждого навещал кто-либо из родственников. Но разве можно сравнить такую встречу с тем, когда приезжаешь домой сам? Когда ты можешь со всеми поговорить, погладить любую собаку, если, разумеется, она того заслуживает; поваляться на шкурах в той яранге, в которой прошла вся твоя жизнь; выйти из яранги и, стоя в дверях, перекинуться парой слов приветствия с товарищем-соседом. О, это все надо понимать!
Я подхожу к одному флегматичному, совсем молодому пареньку и спрашиваю:
— Интересно было на курсах?
— Интересно.
— Соскучился по дому?
За этот неуместный вопрос он подарил меня таким взглядом, что мне незамедлительно нужно было бы провалиться сквозь палубу.
Помолчав немного, паренек нехотя сказал:
— Если бы еще подержали там, околеть со скуки можно за такое множество дней.
Поговорив с ним еще, я вернулся к Ульвургыну.
Капитан всматривается в туман, и бог его знает, как видит какие-то очертания береговых гор. Он удивляется, что не вижу я. Ульвургын берет мой палец и, давая ему направление, говорит:
— Смотри по пальцу — будто из ружья стреляешь.
Я «прицеливаюсь», но все равно ничего не вижу.
Ради того, чтобы не отрывать его от штурвала, я принимаю грех на душу и радостно говорю:
— Вижу, вижу! Вот теперь вижу.
— Это гора Иргоней. Скоро — Янракенот. Вот в эту сторону, — показывает он рукой. — Всех ликвидаторов в Янракеноте высадим. Отсюда их на вельботах развезут. И якорь не будем отдавать.
Спустя немного времени Ульвургын крикнул:
— Из ружей стреляйте!
Под пронзительный вой сирены поднялась такая пальба, что на минуту мне сделалось страшно.
— Шум надо делать, шум! — говорит Ульвургын. — Люди услышат — быстро подъедут на вельботе. Два ликвидатора здешних, янракенотских. Их так ждут, что на тюленьих пузырях приедут, если вельбота не окажется. А если спят — вскочат и штаны позабудут надеть. Вот как ждут!
«Октябрина» остановилась. Но стрельба все еще продолжалась. С берега послышались ответные одиночные выстрелы. Два, три — и потом залпы. Выстрелы до того участились, что в воздухе, насыщенном влагой, стоял ружейный гул.
На шкуне беспрерывно выла сирена. Ее крутил тот флегматичный паренек, с которым я имел неосторожный разговор. Он так яростно крутил ручку сирены, что глаза его стремились вырваться из орбит.
Ружейные залпы прекратились, и мы вскоре услышали дребезжание мотора, а затем и всплески воды. Вельбот шел с мотором под яростные окрики гребцов.
Под двойной тягой он несся в тумане прямо на шкуну и за несколько метров, круто развернувшись, пошел вдоль борта ее. Но тут мотор сразу перестал тарахтеть, и пар пятнадцать рук цепко ухватились за борт «Октябрины». Как осаженный конь, вельбот остановился.
Поднялся невообразимый крик и шум. Кричали на шкуне, но еще больше кричали в вельботе. Все подъехавшие, за исключением моториста, стояли и махали руками. В полумраке тумана казалось, что на шкуну сейчас набросится какой-то сказочный сторукий морской зверь.
Стоявший впереди здоровенный чукча стянул с себя шапку, что-то неясное прокричал и высоко подбросил ее. Шапка упала в воду, но на нее никто и внимания не обратил.
Между тем виновника этой встречи, того самого флегматичного паренька, который крутил сирену, вместе с его колаузом ликвидаторы подхватили на руки и стали качать. Тюлений колауз странно взмахивал, а паренек кряхтел и вскрикивал:
— Достаточно! Достаточно!
Наконец его поставили на палубу. Он бросился к борту и, взглянув в вельбот, кинул в него свой колауз. Колауз гулко хлюпнул о дно вельбота.
Вслед за тем паренек и сам оторвался от палубы. В воздухе мелькнули его ноги, и он прыгнул прямо на руки своих односельчан.
Подражая ликвидаторам, они тоже стали качать его. Вельбот колыхался на воде, но охотники как-то ухитрялись соблюдать равновесие при столь необычном занятии. И как только это подбрасывание под радостные крики прекратилось, все остальные ликвидаторы, не исключая и девушек, полезли в вельбот. Еще минута — мотор фыркнул, и под многоголосое «тагам, тагам» вельбот тронулся, быстро скрываясь в тумане. Но долго еще слышались голоса.
Ульвургын стоял на борту взволнованный. Эту встречу он переживал сам не менее других.
— Вот видишь, какую радость привез! Без радости человеку нельзя. Собаке без радости и то плохо, — сказал он и, обратившись к Таграю, приказал: — Ну, стармех, заводи свою машину.
Мы спустились в машинное отделение. Таграй взял масленку и, заправляя машину, сказал:
— Скоро учиться. Очень хочется учиться. И с моржовой охотой не хочется расставаться. Вот какая задача на уравнение!
Маховик повернулся раз, другой, — забилось сердце «Октябрины», и Ульвургын взял курс на культбазу.
ОПЯТЬ НА КУЛЬТБАЗЕ
Меня разбудил Ульвургын. Отлично выспавшись на койке старпома, я почувствовал себя совсем бодро. Ульвургын стоит около моей койки, и я вижу только его голову. Она, как всегда, подвижна, в глазах — добродушнейшая усмешка.
— Вставай, а то уеду без тебя, — говорит он.
— Куда, Ульвургын? — вскакиваю я.
— На берег. На кульбач приехали.
В руках Ульвургына портфель местной работы из тюленьей кожи, вышитый разноцветными оленьими ворсинками.
Я быстро умываюсь, одеваюсь.
— Чай будем пить в столовой на кульбач. Там лучше, — говорит он.
Взобравшись по лесенке, мы выходим на палубу.
Стояло раннее утро, но солнце поднялось уже высоко. Был такой штиль, что казалось, будто вся природа еще не пробудилась. Даже «Октябрина» и та дремала в этом тихом заливе Лаврентия.
На борту, держась за реи мачты, сидит Таграй. Он смотрит на культбазу, свесив ноги за борт. Увидев меня, Таграй кричит:
— Доброе утро! Как спалось на нашем пароходе?
Я поздоровался с ним.
— А я вот сколько бы раз ни подъезжал сюда, всегда смотрю на культбазу. Люблю смотреть. Это ведь наш чукотский город. Смотрю вот и думаю: у вас там такие же города, только большие-большие, дома высокие. И люди живут одни над другими, как птицы в гнездах на наших скалах. Поехать бы! Самому бы посмотреть так вот, близко, а не по картинкам в кино. Постоять бы около такого дома. Походить вдоль кремлевской стены, в мавзолей Ленина сходить. Большой, наверно, город Москва! Во сколько раз Москва больше культбазы?
Я смотрю на этот чукотский «город» и думаю: действительно, во сколько раз? Потом решаю, что подобная задача не под силу даже астрономам, и мысленно отказываюсь от нее.
На берегу все те же дома, которые я знал и раньше. От времени они стали серыми. Но были уже строения, появившиеся здесь после моего отъезда.
— Вот эти, ближе к морю, — новые дома пушной фактории, — говорит Таграй. — Около речки новая баня, вместо той, маленькой. А там, где мачты, — полярная станция, выстроили в прошлом году. И радиостанция там же. Этот домик с ветряком — электростанция. Теперь электричество здесь. Ветряк мощный — «ЦВЭИ-12». Размах крыльев — двенадцать метров. Пятнадцать киловатт, а расходуют только пять. Очень часто я ходил на электростанцию. Потом вернешься оттуда — и давай физику читать. Вот интересная наука! Про все в ней есть.
— Что значит, Таграй, «ЦВЭИ»?
— Это — Центральный ветро-энергетический институт. Должно быть, там его делали, — говорит он.
Специальной конструкции огромный ветряк издали немного напоминает старую деревенскую мельницу. Около ветряка — пристройка, в которой стоят моторы. Они работают, когда нет ветра. Но работать им приходится мало — ветряк хорошо идет даже на воздушных потоках.
Прошло всего несколько лет, и уже как много нового в этом когда-то глухом углу! Почему-то здесь, глядя на этот удаленный уголок нашей великой страны, я особенно остро почувствовал всю силу и мощь нашего народа-созидателя. Так идет жизнь во всех углах страны. Страна в движении. В этом ее особенность, жизнеспособность, сила.
Ульвургын спустил маленькую кожаную лодчонку и пригласил меня. С радостью я сажусь в нее, и мы плывем к берегу. Ульвургын гребет лопаточкой-веслом. В тишине гулко падают капли с поднимающегося весла. На коленях Ульвургына лежит портфель.
— Что такое у тебя в портфеле?
— Бумаги ревизора. Отвезу тебя — поеду за ревизором. Мясо будем сдавать завхозу кульбач.
Я вышел на берег. Галька по-прежнему шумела под ногами. Сразу почему-то вспомнились все удачи и неудачи, все горести и радости, которые у меня были здесь.
На улице — ни души. Культбаза спит. В этот ранний час люди спят здесь особенно крепко. Окна их завешены черными одеялами или черной бумагой. Жители, приехавшие сюда из умеренной полосы, не привыкли к тому, чтобы ночью, то есть в то время, когда спят, им светило солнце. Они устроили себе искусственную ночь, спасаясь от щедрых полярных лучей.
Мимо меня пробежала собака, держа в зубах безрассудного щенка, отлучившегося без позволения. Она бросила на меня взгляд — и не признала, а может быть, ей некогда.
— Роза! — крикнул я ей вслед.
Роза остановилась, положила щенка на гальку и, не отходя от него, кокетливо стала крутить хвостом. Я подошел к ней и, присев на корточки, стал ее гладить.
Роза легла, посматривая одним глазом на щенка, уже отползшего на несколько шагов. Когда-то мы с ней были большими друзьями. Я часто ее фотографировал, как лучшую и заботливую мамашу питомника. Похлопав ее, показал рукой на щенка и сказал:
— Ну, иди! Неси!
Роза вскочила, взяла опять в зубы щенка и побежала к питомнику.
Вдали по улице шел человек с ведерком в руках. Он направлялся к больнице.
— Модест Леонидович! — крикнул я.
Доктор остановился, поглядел в мою сторону, поставил ведерко и, широко разведя руками, закричал:
— Батенька мой! Откуда?
Мы поздоровались.
— А я смотрю — на рейде стоит «Октябрина». Ну да что же? Пусть, думаю, стоит. С тех пор, как льды ушли, она чуть ли не каждый день ходит сюда.
Доктор взял ведерко, из которого торчали ручки малярных кистей. Беря меня под руку, он сказал:
— Ну, пойдемте, пойдемте со мной в больницу.
— Куда же вы в такой ранний час?
— Э, батенька мой! Сегодня я еще проспал.
— А с каких это пор малярные кисти стали медицинским инструментом?
Он остановился и, показывая на пристройку к больнице, с огорчением сказал:
— Вон видите? Решил я построить солярий. Во Владивостоке достал бревешек, стекла — вот уже почти все готово! — Он так развел руками, что краска из ведерка чуть не расплескалась. — Начальник у нас… — Доктор постукал костяшкой пальца по лбу и сказал: — Дуб! Самый настоящий дуб!
Несколько понизив голос, он спросил:
— Правда, что его снимают с работы?
— Да, это правда. Скоро начнем принимать от него культбазу.
— Очень рад, что его вывозят отсюда. Никакой пользы, только мешает работать. Я-то ведь понимаю, как необходим для чукчей солярий. Когда я из-за этих бревен воевал во Владивостоке, до секретаря дошел. Говорю: полярный врач я. Принял, и все получилось по-хорошему. И вот, говорю я начальнику здесь: «Для чукчей солярий нужен не меньше, чем моржи. Не трогай ты у меня его». Нет же, снял три венца на какие-то пустяковые поделки. Вот и стало дело. А где здесь достанешь дерево?
Мы опять пошли. Взойдя на больничное крыльцо, доктор остановился, лицо его приобрело шутливое выражение, и он стал говорить о малярных работах:
— Маляров здесь по телефону не вызовешь. Самому надо все делать. Здесь мы должны уметь все делать. Я вот, например, всю больницу сам выкрасил. Тумбочки только остались.
Наконец мы входим в больницу. Просторное, чистое здание пахнет свежей краской. На желтом полу все еще проложены доски, по которым временно ходят. Из одной палаты слышен плач ребенка.
— Модест Леонидович, плачут у вас в больнице?
— Новорожденный, — шепотом говорит он. — Три чукчанки-роженицы лежат сейчас! В больнице из тридцати коек ни одной пустующей. Три врача нас, и, знаете, для всех работа. Для всех! Совсем не то, что было в первый год, когда открыли больницу и я скучал здесь от безделья. Ну, пойдемте, пойдемте! Я что-то покажу вам еще.
Пройдя по длинному коридору до конца, доктор торжественно открывает дверь и говорит, дополняя слова широким жестом:
— Операционная!
В середине белой комнаты, на месте прежнего самодельного деревянного стола, стоит настоящий металлический, блестящий никелем операционный стол.
— Вот, — сказал доктор. — В прошлом году, когда я выезжал сюда, из-за этого стола до наркома дошел. Не выкраивался по смете. Говорю: без стола я не поеду на Чукотку. Обманул наркома! И без стола бы, конечно, поехал. А теперь вот, видите, он стоит здесь, — и доктор тыльной частью руки хлопнул меня по животу.
— Начальник не отбирал его в столовую?
Доктор расхохотался.
— Кварцевую лампу привез — тоже вещь крайне необходимая здесь. Теперь ведь у нас электроэнергии хоть отбавляй. Лампы, из-за которых мы первый год ругались, на чердаке валяются. Вот время какое было! — с удивлением вспомнил доктор. — Еще рентген бы нам… — со вздохом сказал он. — Да, — как-то неожиданно спохватился доктор, — видели инженера?
— Какого?
— На «Октябрине». Таграя. Способный парень. На него надо обратить серьезное внимание. Мы с ним друзья. А Тает-Хема какая стала! Скажу вам чистосердечно, что сыну-студенту не пожелал бы лучшей невесты.
— Модест Леонидович, насколько память мне не изменяет, лет семь-восемь тому назад вы уже делали ей «предложение», когда хотели усыновить ее. Помните?
Он расхохотался.
— Да, да, да! А я уже забыл об этом. Легкомысленный человек я был! — смеясь, сказал доктор.
В больничную столовую няня чукчанка подала нам по кружке кофе и пирожки с моржовой печенкой, которая, по утверждению доктора, является лучшим антицинготным средством.
Доктор рассказывал мне, как он по приезде с Чукотки устроился в одном из лучших диспансеров Ленинграда, где его очень ценили и уважали. Но какая-то северная бацилла все время не давала ему покоя. Наконец однажды, переговорив с женой, доктор решил махнуть, как выразился он, опять в чукотскую больницу, вместе с женой, на три года.
— Мои коллеги говорили, что я с ума сошел. Но вы-то понимаете: сошел я с ума или нет?
— Модест Леонидович, вы напрасно ко мне апеллируете. Я ведь сам такой же сумасшедший, как и вы.
Доктор рассмеялся.
— Большое удовлетворение дает мне работа здесь. Прямо моложе становлюсь. Там какая-нибудь роженица и внимания на себе не остановит, а здесь, доложу вам, что ни случай — настоящий праздник!
В столовую вошел молодой чукча и, увидев меня, громко крикнул:
— Какомэй! Здравствуй!
Он был одет в больничный белый халат. Я не узнал его. Но когда он скорчил в гримасу свое необыкновенно подвижное лицо, я вспомнил: это больничный сторож, танцор-имитатор Чими.
— Здравствуй, здравствуй, Чими!
— Вот, завхоза больницы сделал из него, — не без гордости говорит Модест Леонидович. — А он, прохвост эдакий, танцы про меня сочиняет, — строго-шутливо добавил доктор.
— Это игра, доктор, — словно извиняясь, проговорил Чими.
— Значит, ты, Чими, теперь уже завхоз?
— Да, — важно ответил он. — Аванс отдал фактории. Выписал самоходную машину на двух колесах.
— Вот чудак! Где он будет ездить на велосипеде? По мокрой тундре, что ли? — вмешался Модест Леонидович.
— Только, наверно, обманут, не привезут? Очень хорошая машина. В кино видел ее.
— Хорошо не знаю, но как будто на пароход грузили велосипед, — сказал я.
Чими хлопнул себя по коленям и вскрикнул:
— Правда? Это мне, мне!
— Что это ты, Чими, раскричался, как в тундре? Больница ведь здесь.
— Нет, нет, доктор! Я не буду кричать, — отмахиваясь обеими руками, тихо сказал Чими.
— А Лятуге где? — спросил я его.
— Лятуге еулин. Умер, — качая головой, сообщил он. — Зимой отпуск был, охотился, оторвало от берега на льдине. Пропал совсем! И собаки пропали. Самолет искал, не нашел.
Мне было очень жалко Лятуге, этого глухонемого, но жизнерадостного и способного человека. Это был один из многих чукчей, из-за которых я неоднократно приезжал на Чукотку. Мне так хотелось встретиться с ним еще!
Поговорив с доктором о Лятуге, мы поднялись из-за стола. Модест Леонидович пошел докрашивать тумбочки, а я отправился в школу, в ту самую школу, работу в которой с таким трудом мы начинали.
В школе я застал всех учителей. Их было здесь уже одиннадцать человек. Все они готовились к началу учебного года. На стенах красовались хорошо оформленные плакаты, висели портреты вождей, писателей; картины из жизни животных южно-тропических стран, большая стенная газета, иллюстрированная фотоснимками и рисунками.
Мое внимание привлекли тропические картины. Странно видеть их здесь, в Арктике. Но всегда, по-видимому, человека влечет к тому, что не окружает его повседневно. В особенности ребят-школьников, любознательность которых безгранична. Учителя, как видно, старались пойти навстречу этому стремлению учеников.
Приезд нового человека с Большой Земли у зимовщиков всегда вызывает огромный интерес. Его сразу окружает толпа. Его засыпают всевозможными вопросами.
Так случилось и со мной. Увидев меня, учителя побросали свою работу, и в один миг я оказался в кольце. Они так же удивились моему неожиданному появлению здесь, как и доктор.
— Мы получили телеграмму, что «Ангарстрой» придет к нам послезавтра, — сказал директор школы.
— Ну, расскажите, расскажите, кто же к нам едет, — перебивает учительница.
— Вдовина, говорят, едет? — слышится одновременно чей-то голос.
Стоя среди учителей, я рассказываю.
— А я подала заявление о выезде и теперь жалею. Очень уж славные ребята. Я незаметно проработала здесь два года. Значит, едет мне смена? — переспросила опять учительница.
— Да, едет. Пианино везут сюда. Физический и химический кабинеты. Татьяна Николаевна с трудом, но все же добилась на кабинеты двадцать тысяч рублей и говорила, что такие кабинеты, какие идут сюда, есть далеко не в каждой школе.
— Как досадно, что мне приходится уезжать! Я ведь занималась почти без пособий, — сказала уезжавшая математичка, она же преподавательница физики.
— Да, черт возьми, впору и мне пожалеть о своем выезде, — отозвался стоявший в сторонке химик.
Мы перешли в учительскую комнату и продолжали беседу.
Особенность работы северных учреждений заключается в том, что работает в них все время переменный состав. Каждый год одни уезжают, другие приезжают им на смену. Но всегда получается так, что новички-полярники вливаются в группу уже поработавших на Севере. Этим достигается преемственность в работе. Из всего коллектива школы в этом году уезжало только два педагога.
Нередко на смену являлись не новички, а уже работавшие здесь, как Татьяна Николаевна. Из всего обширного круга моих знакомых северных работников я знаю только одного врача, который, проработав здесь один год, больше не возвращался. О нем, впрочем, никто не жалел и никогда не вспоминал.
Директор школы рассказал, что в школе теперь девяносто четыре ученика. Это число легко можно было увеличить, но школьные здания больше не вмещали.
Мне вспомнилось, с каким трудом нам удалось в начале организации школы собрать два десятка учеников.
ПРИШЕЛ «АНГАРСТРОЙ»
Пароход «Ангарстрой» разгрузился в Уэлене и вышел на культбазу. Пройдя Берингов пролив, он обогнул мыс Дежнева.
Был ясный, солнечный день. Арктический воздух в такие дни до того чист и прозрачен, что с высоты сопок видны горы Чукотки за сто, а иногда и двести километров.
С мыса Дежнева в такой день можно любоваться даже очертаниями гор Аляски, мыса Принца Уэльского-Валлийского.
Здесь как бы перекликаются две огромные страны — СССР и США, два света — Старый и Новый, два мира — новый и старый, социализм и капитализм, простой казак Семен Дежнев и именитый принц Уэльский-Валлийский.
О выходе парохода на культбазе узнали по радио, в чукотских же поселках о выходе его знали и без радио.
С Яндагайской горы в это время в поселок бежали молодые парни, стараясь опередить друг друга. Они шумно сообщали, что в районе мыса Дежнева в небе показался дым. Никто парохода еще не видел, но что это был он, никакого сомнения не было. Лишь один чукча, усомнившись, заявил:
— Не китобойцы ли это?
— Нет, нет! — кричали парни. — Китобойцев пять. Пять дымов вчера далеко от берега прошли на юг.
В поселках — оживление, переполох, суматоха. По этому случаю ни одна колхозная бригада не вышла в море. Прибытие парохода волнует население по многим причинам: во-первых, это очень и очень увлекательное зрелище; во-вторых, пароход вез новые товары — будет выгрузка. А что может быть приятнее, чем смотреть на выгружаемые с парохода ящики, мешки с сахаром, кипы табаку, мануфактуры и много-много чего другого?
И наконец — это уже относится к учащейся молодежи, — на пароходе едет Таня-кай, друг чукотского народа. Ради того, чтобы увидеть ее, стоит пробежать не один десяток километров.
Женщины, дети и даже старики одеваются по-праздничному. Крепкие мужчины остаются в своих обычных рабочих одеждах. Может быть, им придется таскать ящики.
Мотористы несут из яранг на плече рульмоторы к берегу, где другие парни уже спускают вельботы.
И едва пароход «Ангарстрой» вошел в ворота залива Лаврентия, как отовсюду ринулись за ним моторные вельботы. Каждый из них до отказа заполнен чукчами.
Так же как и каюры на собаках, мотористы стремятся обогнать друг друга, пуская моторы на предельную скорость. И в этом соревновании сразу определяется квалификация того или иного моториста. Беда мотористу, у которого в такой момент выявится какая-нибудь неисправность: засмеют.
За пароходом они гонятся врассыпную, не отставая друг от друга. Все они видят и знают, что «Ангарстрой» скоро бросит якорь. Подкатить первому к пароходу и крикнуть слова приветствия — это кое-что значит! И вдруг один вельбот, словно подстреленная утка из пролетавшей стаи, остановился.
Издали я вижу, как на отставшем вельботе около мотора стоит несколько человек, и девушка в пальто, взмахивая руками, колотит моториста. Проявление такой ярости заставляет меня предполагать, что это не иначе, как сама Тает-Хема.
На борту парохода уже стоят люди и, улыбаясь, следят за необычной флотилией. Здесь же и Татьяна Николаевна. Она грозится и кричит мне:
— Вы не человек, а изверг! Это не по-товарищески! Не взять меня на шкуну!
Николай Павлович с возбуждением щелкает «лейкой».
Вельботы подошли к борту парохода.
— Таня-кай! Таня-кай! — закричало сразу несколько человек.
Татьяна Николаевна, свесившись через фальшборт, машет руками, лицо ее сияет, будто она возвратилась действительно на родину после давней разлуки, и тоже кричит, называя по имени то одного, то другого ученика. Все внимание ее привлечено ребятами, и она быстро переводит взгляд с вельбота на вельбот, разыскивая знакомые лица. Чукчи машут руками. Одни приветствуют Татьяну Николаевну, другие — пароход.
Учительница и не заметила, что на втором вельботе сидел старик. Он безмолвно поглядывал вверх, на палубу, и на его строгом лице улыбались только глаза. Это был Тнаыргын.
Когда нахлынувшие страсти немного успокоились, Тнаыргын крикнул:
— Здравствуй, Таня-кай!
Татьяна Николаевна встретилась с ним взглядом и закричала:
— Тнаыргын!
Она заговорила с ним по-чукотски.
— О, сколько у вас здесь друзей! — сказал штурман.
— Таня-кай, трубка варкын?[44]Трубка есть?
— Варкын, варкын, Тнаыргын. Вот она! — И Татьяна Николаевна вытащила из кармана такую трубку, какой мог бы позавидовать самый изысканный курильщик.
Старик опешил. Глаза его быстро-быстро заморгали. С усилием он встал и сквозь cлабый смешок заплакал. Трубка — это лучший подарок. У старика кружилась от радости голова. Но еще иные мысли овладели стариком: вот он какой, старик Тнаыргын! Оказывается, о нем помнили еще там, на Большой неведомой земле. Ведь нельзя же не вспомнить о человеке, которому покупаешь трубку? Вот что растрогало старика Тнаыргына.
С парохода спускали трап.
— Теперь я понимаю, Татьяна Николаевна, ваше настроение, — сказал Николай Павлович.
Татьяна Николаевна быстро сбежала в вельбот, где сидел старик Тнаыргын. Вскоре пассажиры, не дожидаясь спуска катера, попрыгали в чукотские вельботы, и вся легкая флотилия тронулась к берегу культбазы.
В тот момент, как учительница сошла на берег, подошел отставший вельбот. Еще издали я заметил сидевшую в нем Тает-Хему. Судя по тому, что она сидела не на носу вельбота, можно было заключить, что у Тает-Хемы явно испорчено настроение. Когда вельбот ударился о берег, Тает-Хема даже не выбежала первой. Медленно сошла она за другими и как будто не проявила никакой радости по случаю прибытия любимой учительницы.
Тает-Хема была уже взрослой девушкой. Она даже немножко переросла свою учительницу. Из-под берета спускались на спину две толстые косы, которые сливались с черным пальто. На ногах были довольно изящные резиновые сапожки.
— Что же, Тает-Хема, ты отстала от других? — спросил я.
— Вон тот балда выехал с отработанными свечами в моторе! — вспыхнула она, показывая в сторону своего вельбота.
Казалось, я напрасно потревожил ее. Со злости в ее больших глазах появились слезы. Вдруг она обхватила учительницу.
— Пойдем, пойдем, Тать-яна Ни-ко-ля-евна [45] так , — подчеркнуто произнесла она впервые полное имя Тани. Они направились к школе.
ЖЕЛЕЗНОРОГИЙ ОЛЕНЬ
Весь берег завален грузами. Ящики, кипы мануфактуры, мука, оружие, табачные изделия и другие товары — все поступало сюда один раз в год и сразу на весь год.
Товаров было выгружено уже много, но катера с кунгасами все подвозили и подвозили их. Казалось удивительным, как много вмещал в свои трюмы пароход.
Завхоз больницы Чими носится по берегу как угорелый. Он подбегает то к одному ящику, то к другому, тщательно осматривает их и чуть ли не обнюхивает. Чими ощупывает даже кипы с мануфактурой, но сейчас же, с выражением страдания на лице, шарахается к другим поступающим грузам. Чими ищет заказанный им велосипед.
И в этом тягостном искании велосипеда было нечто сходное с поведением нашей чадолюбивой Розы, когда она недосчитывалась щенка в своем закутке.
Не выдержав испытания, Чими бросился в лодочку и, отчалив от берега, быстро, как ветряк на станции, заработал веслами. Он поехал на пароход. Но толком ему никто там не объяснил: есть велосипед или нет.
Вероятно, он и спрашивал не у того, у кого следовало спросить. Он вернулся на берег и устало сказал:
— Обманул! И аванс ведь взял этот заведующий факторией…
Но все же Чими решил не уходить, с берега до тех пор, пока не будет выгружен последний ящик. В этот день Чими не чувствовал даже голода. Он до вечера простоял на берегу.
Доктор входил в его положение и, хотя завхоз был очень нужен ему, старался обойтись без него.
Лишь к вечеру зоркие глаза Чими увидели, что в спускавшемся стропе был совсем необычный ящик. Чими сидел на гальке и вдруг порывисто, словно кто его подбросил, вскочил.
«Может быть, это ружья? Нет. Ружья возят в других ящиках. В узких», — размышлял он.
«Что же катер не тащит кунгас сюда? Мотор испортился, что ли?»
Но в кунгас вновь спустился строп.
«Не с ума ли сошли пароходные люди — сколько грузят в один кунгас! Под такой тяжестью он может и затонуть».
Это было томительное ожидание.
Наконец катер с кунгасом тронулся к берегу. Еще издали Чими выследил, где лежит этот ящик.
Кунгас подошел. Какой-то здоровенный русский матрос небрежно схватил этот ящик, задел им за борт кунгаса, взвалил на плечо и понес.
У Чими остановилось сердце.
То, что занимало мысли Чими с половины зимы, с того момента, когда он увидел самоходные машины на физкультурном параде в кино, кажется, лежит теперь в этом ящике.
Здоровенный матрос прошел с кунгаса по доске на берег и с плеча бросил ящик наземь. Как ножом полоснуло по сердцу Чими! Он не смог даже сразу подбежать к ящику. Секунду постояв, он бросился к нему, и, стоя на коленях, начал заглядывать в щелки. Ясно были видны рама велосипеда и колесо.
Выпрямившись и задрав голову, но все еще стоя на коленях, Чими заорал во все горло:
— Он! Он!
Я стоял на берегу с заведующим факторией. Запыхавшись, к нам подбежал Чими.
— Я забираю его. Можно? — спросил он.
— Кого?
— Машину-скороход.
— О нет, — сказал заведующий. — Подожди, вот я оформлю, акт составим, в книги запишем — тогда и можно будет. Дней через пяток.
Чими стоял и слушал с таким страдальческим лицом, что, кажется, сам сатана не смог бы отказать в его просьбе.
— Пожалуйста, давай сейчас, — умоляюще проговорил он.
— Да отдай ты ему! Не все ли равно тебе, регистрировать его на берегу или у Чими? — сказал я заведующему.
— А вдруг он поломан или части какой не хватит?
— Ничего. Отдай. Он расплатится за него полностью, если даже в ящике не хватит целого колеса.
— Да, да! Вот деньги — не глядя отдам, — торопливо проговорил Чими.
— Ну ладно, бери. Как ребенок! Потерпеть пару дней не можешь, а еще завхоз!
Но Чими и не слышал последних ворчливых слов заведующего факторией. В один миг он оказался рядом с ящиком. Высоко подняв его над головой, он зашагал к себе. За ним пошел и Николай Павлович, приглядываясь к новой обстановке.
Прошло немного времени, и Чими с помощью Николая Павловича собрал машину. Когда он выкатил ее на улицу, немедленно собралась большая толпа.
— Железнорогий олень! — послышались голоса.
Но Чими не обращал ни на кого внимания. Он неумело садился на велосипед и тотчас же валился на землю. Толпа шумно хохотала. Некоторые смеялись до слез, не представляя себе, как это Чими поедет на этом рогатом, который, оказывается, без поддержки и стоять не умеет.
— Совсем непослушный, — серьезно сказал старик Тнаыргын.
— Ты, Чими, возьми кнут. Попробуй его кнутом, — послышался другой голос.
Толпа хохотала.
— И ленивый вдобавок, — продолжал Тнаыргын, показывая на него пальцем. — Видишь, ты только хочешь сесть на него, а он ложится. Молодой, должно быть, необъезженный.
Велосипед привлек такое внимание, создал такое праздничное настроение, что, казалось, более веселого дня на культбазе не было.
— Ну, Чими, давай, я тебе покажу, как нужно ездить, — предложил Николай Павлович, уже освоившийся с народом.
Он легко вскочил на велосипед и помчался вперед по узенькой тропинке. Толпа с невообразимым шумом и криком ринулась за велосипедистом. Впереди всех бежал довольный, сияющий Чими.
И когда они вернулись обратно, Тнаыргын, посмеиваясь, сказал:
— Чими! Этот железнорогий — русский. Он и слушается только русского. А тебя не слушается.
Чими впервые выразил непочтительность к старику. Он провел рукой под носом и ничего не ответил.
Долго Чими объезжал своего «железнорогого». Пот катил с него градом. На щеке уже был синяк, но Чими не отступал. Он уже испытал сладость поездки на нем. Метра два он проехал, хотя и ушиб сильно ногу.
Часа три трудился Чими, и все это время толпа не отходила от него. Наконец, как-то враз, сам не ожидая того, Чими уловил секрет езды и под шумные восторги сородичей покатил.
Еще бульшая толпа побежала за ним. Собака его, лежавшая около больницы, вскочила, с визгом и лаем пустилась вдогонку за хозяином. Высунув язык, она бежала рядом, не в силах обогнать необычного конкурента. Вдруг собака смаху кинулась на велосипед. Раздался пронзительный визг, и Чими хлопнулся на землю. Одна спица вылетела, и пес, похрамывая и сверкая злобными глазами, на трех ногах, с поджатым хвостом шарахнулся в сторону.
Даже старик Тнаыргын, семеня ногами, подбежал к месту аварии. Велосипед лежал на земле, окруженный толпой, а Чими, истекающий потом, неумело пытался приладить спицу.
Тнаыргын протискался сквозь толпу и, низко нагнувшись, разглядывая велосипед, сказал с жалостью:
— Какомэй! Укусила его!
31 АВГУСТА
Август, сентябрь, а иногда и октябрь — лучшее время для охоты на моржей. Это страдная пора на Чукотке. В это время все взрослое население много работает. Детвора целые дни проводит на берегу в ожидании возвращения охотников с добычей. Вельботы часто подходят к берегу, наскоро выгружают моржей и снова уходят в море. Юноши уже считают себя настоящими охотниками, и все они в вельботах.
На протяжении первых лет школа осенью не начинала занятий вовремя. Ни на родителей, ни на ребят не действовали в период охоты на моржа никакие постановления рика.
Но в этом году двери школы откроются, как и везде, первого сентября. Завтра в классах должна начаться нормальная жизнь. Поэтому здания школы выглядят нарядно как внутри, так и снаружи.
Николай Павлович, по примеру сахалинской школы, соорудил на берегу специальную арку. На длинном красном полотнище издали видна надпись: «Добро пожаловать, дорогие друзья!»
Большой колхозный коллектив настроен по-праздничному. Особенно взволнована Татьяна Николаевна. У нее совсем необычные переживания.
— Раньше мы собирали учеников зимой. Они приезжали к нам на собаках. Теперь ждем их с моря, — говорит она.
Часто она выбегает на берег и смотрит: не покажутся ли вельботы из-за мыса? Она до сих пор не может отделаться от привычных сомнений и невольно думает: «А вдруг не приедут сегодня? Вон и море волнуется».
Возвращаясь с берега, она встречает Чими, который, разогнав своего «железнорогого», катит по улице, положив ноги на руль. Это — высший класс езды. Чими успел уже в совершенстве овладеть ездой на велосипеде. Мельком взглянув на учительницу, он скорчил довольную гримасу и прокатил мимо.
— Чими, Чими, подожди! — кричит она.
Чими опускает ноги и ловко слезает с машины. Взявшись за руль, он стоит рядом с велосипедом, торжествующий, важный.
— Чими, что же ты не работаешь?
— Отпуск со вчерашнего дня. На пятнадцать дней, — весело говорит он.
— Чими, в такую погоду по морю можно на вельботах плавать?
— Здесь можно, — показывает он на залив, — а там, за мысом, большая волна.
Чими и не подозревает, почему погода интересует учительницу. Ему нет никакого дела до начала занятий, тем более теперь, когда осуществилась его давнишняя мечта. Ведь слух о его «железнорогом» пронесся по всему побережью. Чими — в центре внимания. Скоро он поведет его по мокрой тундре в свой родной поселок, да по пути еще покатается в других селениях! Правда, кататься там плохо. Поселки стоят среди камней. Ну, да это ничего. Чими всегда найдет метров пять подходящей дороги. Да по такому случаю, пожалуй, само население растащит камни в сторону.
Чими разговаривает с Татьяной Николаевной односложно, занятый своими мыслями.
— Шкуна идет, — безразлично говорит он и, вскочив на велосипед, катит в обратную сторону.
Не оглядываясь, он с тем же безразличием кричит:
— Учеников везут!
Чукчи — прирожденные моряки. Но выходить в море, когда предвидится шторм, они не любят. Лишь крайние обстоятельства заставляют их сделать это.
Однажды я сказал Ульвургыну, что мне очень срочно нужно выехать по важному делу. Стояла хорошая осень, и море было на редкость спокойное. Но Ульвургын сказал мне:
— Только плохо будет там, впереди.
Я усомнился в его прогнозе и, показывая на море, сказал:
— Смотри, какое оно спокойное. Как озеро.
— Да. Но потом будет плохо в пути.
Я не настаивал на выезде.
Однако спустя немного времени я увидел, как с берега сталкивали вельбот.
— Что такое, Ульвургын? Куда собираются?
— Тебя везти, — ответил он.
— Можно разве?
— Пускай можно.
Ульвургын был старшим на вельботе и сразу сел за руль. Вельбот шел хорошо, мотор работал бесперебойно. Через пять часов мы подошли к скалистому побережью. И только теперь я заметил легкое волнение моря. Впрочем, я не придал этому никакого значения.
А еще через час мы попали в такой шторм, забыть который никогда нельзя. С одной стороны — скалы, с другой — бушующие волны. Всякие разговоры прекратились. По бортам на тоненьких палочках вытянули брезентовую ленту высотою в треть метра. Этот легкомысленный фальшборт вызывал у меня горестное чувство. Единственно чем он меня радовал — это тем, что, сидя на дне вельбота, я не видел кипевшего моря.
Чувствовалась огромная сосредоточенность и напряжение всей команды вельбота. Высоко занося вельбот на гребень, волна с невероятной силой бросала его в пропасть моря. И тогда я против желания смотрел на огромные холмы волн. Вельбот скрипел и стонал. Языки волн лизали фальшбортик. Казалось, каждая следующая волна зальет нас — и тогда конец. Но вельбот, направляемый в разрез волны, оказывался наверху, и слышалось, как мотор секундами работал вхолостую. Винт обнажался и срывался с нормальных оборотов.
Со дна вельбота я наблюдал за Ульвургыном. Постоянно добродушный, в этот момент он окаменел. Лицо его, мокрое от брызг, бледное, было до предела настороженно, взгляд устремлен на волны, руль крепко зажат в руке. Люди молчали.
Под дном клокотала вода.
— Все воздушные пузыри привяжите к бортам! — закричал во весь голос Ульвургын.
Люди молча и быстро выполнили его распоряжение. Мне, как и всем другим, было ясно: нашу жизнь он держал в своих руках.
Полчаса на этих волнах мне показались вечностью. Вскоре я заметил на лице Ульвургына так хорошо мне знакомую улыбку. Он тряхнул головой и спросил:
— Ну как?
— Ничего, — выдавил я из себя.
И хотя нас все еще бросало, Ульвургын сказал:
— Теперь хорошо. Место на повороте этом плохое. Теперь совсем хорошо. Умирай тут.
Когда мы прибыли на место, я спросил его:
— Зачем же, Ульвургын, ты выезжал, раз ты знал?
Он усмехнулся и ответил:
— Тебе ведь нужно было.
Нечто подобное было и сейчас, у Яндагайского мыса. На горизонте показались раскачивающиеся высокие мачты шкуны «Октябрина». Белый корпус ее напоминал гигантскую белугу. Вслед за ней вынырнуло около десятка вельботов. А за ними, словно охранное судно, показалась черная, тоже двухмачтовая шкуна «Чукотка».
В шторм чукчи никогда не поднимают парусов. Они идут с мотором или на веслах. Войдя в залив, и шкуны и вельботы, как по команде, вздернули паруса, — здесь было спокойнее. Эта парусная флотилия быстро пошла к культбазе.
Татьяна Николаевна, следившая за ними, не могла оторвать своего взора — так изумительно красива была эта картина.
Наконец она, сорвавшись с места, бросилась в школу, и как Чими, увидевший велосипед, закричал: «Он, он!» — так и она прокричала учителям:
— Едут, едут!
Со всего побережья в точно назначенный срок ехали ученики. Это была уже большая победа северной школы, всей советской власти на Чукотке. В единственную среднюю школу съезжались ученики почти со всего побережья южной части района.
Учителя, врачи, все работники культбазы высыпали на берег встречать своих питомцев.
Часто бывая на Чукотке, я привык ко всяким неожиданностям. Но то, что творилось на берегу сегодня, было, пожалуй, самое необычное из всего виденного мною.
Ученики прибыли все до одного. Даже немного больной ученик седьмого класса Ктуге не пожелал остаться и прибыл вместе со всеми.
Учеников было около сотни: юноши, девушки и карапузы-первогодки. С каждым из них — два-три провожающих родственника. Здесь были люди самых различных возрастов. Казалось, что все жители Чукотки в этот день переселились на культбазу.
И странное дело: малыши в точности напоминали по своему внешнему виду тех самых пугливых ребят, которые когда-то приехали к нам впервые. Разница была лишь в том, что все они уже острижены. И настроение их было иным. Они держали себя важно и так же, как шести— и семиклассники, кричали:
— Драствуй!
Старшие ученики явились с чемоданами, которые они сами тащили в знакомое здание интерната. Все чемоданы — одной «марки». Это фанерные ящики, обтянутые тюленьими шкурами. На каждом замочек. Глядя на замочки, которых в чукотских хозяйствах нет, можно было подумать, что это дурная сторона цивилизации. Но нет! Замочки висели у них для того, чтобы чемоданы сами не раскрывались. А кроме того, что же это за чемодан без замка? Без замка он будет просто ящиком, а все они стремились обзавестись именно чемоданами!
В интернате было если не совсем вавилонское столпотворение, то во всяком случае нечто похожее на него. Школьники спешили сдать свои чемоданы в кладовую интерната.
Таграя среди них не было.
Таграй, Ульвургын и еще какие-то люди стояли на берегу. Таграй очень оживленно что-то рассказывал им.
— Сейчас, сейчас! — ответил он на мой оклик.
Таграй тряс руку какому-то парню, а тот кивал головой.
Подхватив свой чемодан, Таграй вместе с Ульвургыном направился к интернату.
— Ты знаешь, — сказал мне Таграй, — объяснял все Тмуге, как надо ухаживать за машиной. Правда, он знает уже, но при расставании надо было еще сказать. Очень много значит — при расставании сказать. При расставании слова сильные. Они запоминаются лучше.
Вскоре все ученики заняли места в столовой. Их родственники толпились в коридоре, стараясь заглянуть в открытую дверь.
— Какая хорошая раньше была школа! Теперь хуже, — со вздохом и в то же время добродушно посмеиваясь, сказал Ульвургын.
— Почему?
— Раньше вместе с учениками сажали и нас за стол, а теперь… — и он развел руками, вытянув физиономию.
Ульвургын отлично понимал, почему теперь родителей не приглашали за стол: он видел сам, что не было ни одного свободного места. В этом шутливом упреке я почувствовал его особенно хорошее настроение.
Едва ученики разместились за столами, как в коридоре что-то крикнули.
Ульвургын тотчас вышел на улицу, оглядел кругом небо, посмотрел на море и сказал:
— Домой, домой!
— Почему так скоро, Ульвургын? И волна сейчас за мысом.
— Ничего. Одна шкуна впереди, другая сзади. Вельботы в середине. Надо прорваться сегодня, а то застрянем здесь. Охотиться надо. Моржи уйдут — кого стрелять будем?
Он поспешно вошел в интернат и крикнул:
— Тагам, тагам!
Люди сразу побежали на берег, ученики тоже повскакивали с мест, и столовая вмиг опустела.
— Сумасшедшие, а не люди! Остынет же все! — выйдя в столовую, сказала повариха.
Медлительный по натуре народ в моменты крайней необходимости проявлял исключительную подвижность. Все торопливо садились в вельботы и, согнувшись, помахивали руками.
Один карапуз стоял на берегу, махал ручонкой и вдруг, приложив кулаки к глазам, начал реветь. Словно по сигналу, заплакали все первогодники. Они пустились в такой рев, что совсем не слышно стало голосов с вельботов. Старшие ученики бросились уговаривать их.
Лишь Таграй, стоя почти в воде, глядел на «Октябрину». Ветер подул из залива.
Из выхлопной трубы «Октябрины» с треском вылетел кольцеобразный дымок. Потом послышалась частая дробь, и шкуна зашевелилась.
— Молодец, молодец! — крикнул Таграй, махая руками. — Ловко пустил машину. Лучше, чем я.
И, сам не замечая того, шагнул дальше в воду.
Распустив паруса, флагманская «Октябрина» пошла вперед.
Застучали моторы в вельботах, и вслед за ними вышла черная «Чукотка».
О ЧЕМ МЕЧТАЛИ УЧЕНИКИ И КОЛХОЗНИК ГАЙМЕЛЬКОТ
За несколько лет, проведенных в школе-интернате, ученики привыкли к культурной обстановке. То, что в первый год им казалось смешным и ненужным, теперь стало необходимым.
Перед началом учебного года в стойбище все чаще и чаще поговаривали о школе. Ученики теперь стремились в школу. Желание учиться у них было огромное. Но не только это: им хотелось скорей приехать в школу, чтобы посидеть за настоящим столом, поспать на кроватях и помыться в бане.
В ярангах была уже потребность писать — а стола не было; в ярангах хотелось жить при естественном свете — и его не было.
В меховом пологе яранги нельзя поставить ни стола, ни кровати; в оленью шкуру не вставить рамы со стеклом. Сама жизнь настоятельно требовала разрешения этих вопросов. Старый, уходящий быт дал трещину.
На побережье говорили о переселении народа из яранг в дома. Это было трудное и очень, казалось, отдаленное дело. Никто не знал, как приступить к нему. Дома строились из дерева, а деревья не росли на чукотской земле. Здания школ, больниц, риков, пушных факторий и полярных станций строились во Владивостоке. Их грузили на пароходы в разобранном виде и привозили за тысячи километров в этот отдаленный и безлесный край.
Между тем в зверобойных колхозах можно было уже найти протоколы с решением о постройке общественных пекарен, столовых, бань, прачечных. В крупных чукотских селениях пекарни уже работали, но столовых и бань еще не было. Не было и домов.
Чукча Гаймелькот из колхоза «Турваырын»[46]«Турваырын» — «Новая жизнь». заработал в сезон более десяти тысяч рублей. Он купил кооперативный дощатый склад и построил из него дом. Гаймелькот тщательно утеплил его, из остатков досок сколотил стол и две табуретки. И когда дом был готов, Гаймелькот купил в фактории такую кровать, которую не хотелось даже «портить спаньем».
Его жена Уквуна очень обрадовалась такой перемене в жизни. Но скоро наступило и разочарование. В новом доме стало так светло, что следы на полу были видны, как на только что выпавшем снегу. Лицо жены показалось вдруг особенно грязным. Гаймелькот, заметив это, велел жене умываться и ежедневно мыть пол.
Этот дополнительный и непривычный труд испугал чукотскую женщину. Резкий переход от старого к новому быту заставил ее призадуматься. Она молча и терпеливо переносила причуды мужа несколько дней. Она ждала, что и сам Гаймелькот поймет скоро всю ненужность этой работы. Но Гаймелькот не понимал ее. Тогда она обратилась к нему:
— Гаймелькот, или ты не заставляй меня делать эту русскую работу, или я поищу себе другого мужа — в яранге. Эта работа не веселит мое сердце.
— Уквуна, ты думаешь, мне очень много радости от этой чистоты? Нет. Но почему-то я думаю, что все же мы сможет привыкнуть к ней. Все идет к тому, что мы должны привыкнуть. Ведь вот я раньше был простым гребцом на байдаре, а теперь привык бездельничать, управляя рульмотором.
— Я не знаю, Гаймелькот, зачем понапрасну мы будем истязать себя? Разве кто насильно заставляет положить эту неприятность на свои плечи? Говорю тебе, что у меня совсем мало охоты к этому, и, пожалуй, лучше я уйду в ярангу.
Гаймелькот подумал: «Какие многоговорливые женщины стали!»
— Ну, хорошо, — сказал он. — Пускай ты уйдешь в ярангу, к другому мужу. Ничего. Иди. А я попробую еще пожить так. Только не укажешь ли ты мне другую женщину, которая, так же как я, согласилась бы испытать новую жизнь?
— Я поищу тебе. Но только ты совсем стал другим. Раньше ты разговаривал как настоящий человек, а теперь стал моторным человеком. Этот мотор приносит нам разлад. Не было бы его, и мы хорошо бы жили в яранге. Теперь ты выдумал жить в таком деревянном доме, отчего и жить устанешь. Не думаешь ли ты, что, живя по-русски, мы за зиму будем иметь по два ребенка?
Рассерженная Уквуна ушла. Гаймелькот настойчиво мыл полы сам и долго искал себе другую жену. Наконец он нашел, но при женитьбе было оговорено, что новая жена пол мыть будет через два дня на третий.
На побережье рождался новый быт.
Много внимания новому быту уделяли и ученики. В школе они привыкли жить с удобствами. И каждый раз, когда они возвращались домой, в ярангах появлялось какое-нибудь новшество. То умывальник, то зеркальце, то скамеечка, то столик, обтянутый клеенкой.
Ученик Ктуге в первый же день приезда на культбазу еще в столовой показал мне чертежи новой яранги. Он отставил свою тарелку в сторону и, разложив тетрадь, стал объяснять каждую деталь чертежа.
— Только в мастерских культбазы надо заказать шарниры, — сказал он.
Ученики коллективно спроектировали складной стол. В меховом пологе он почти не будет занимать места. Столик на шарнирах, сложенный вместе с ножками, плотно прилегает к стенке. Но стоит захотеть что-либо написать, как он откидывается, — садись и пиши. По этому же принципу сделана и кровать. Она убирается, вмещая постельные принадлежности. В передней стенке мехового полога устанавливаются две деревянные стойки, в них вставляется рама со стеклом.
Я с огромным интересом следил за развитием этой маленькой конструкторской мысли и в этом находил оправдание всем затратам труда и времени.
Ведь самим работникам культбазы казалось иногда странным все то, что они делают на берегу Чукотского моря.
В самом деле: на привитие культурных навыков чукотским детям уходили годы. Когда они возвращались домой, жизнь в яранге заставляла их отказываться от приобретенных навыков в первый же день приезда. Казалось, что труд учителей пропадал даром. Но нет. Чертежи Ктуге убеждали в обратном.
Воспитание в школе-интернате являлось подготовкой народа к новой жизни. И когда начнется переселение чукчей из яранг в дома, это поколение не испугается чистоты, как испугалась ее Уквуна.
Прибывшие в школу ученики оживленно разговаривали о предстоящих днях учебы. Из столовой они побежали на берег реки, где стояла баня. Старшие из них образовали цепочку от самой речки до баков, и ведра с водой, под веселый говор, побежали из рук в руки.
Через несколько часов баня была готова, и после трехмесячного перерыва ученики устремились в нее.
Вымывшись, они переоделись в школьные костюмы и собрались в зале.
С необыкновенно серьезными лицами они заняли места на скамьях в ожидании чего-то нового.
За столом президиума — молодой человек, директор школы, прибывший сюда из Ленинграда год тому назад. Рядом с ним Тает-Хема — школьный комсорг — и Таграй.
Наклонившись к Тает-Хеме, директор что-то тихо творит. Тает-Хема внимательно слушает, встает, одергивает на себе гимнастерку, улыбаясь ученикам, говорит:
— С легким паром вас, товарищи!
Согнувшийся над столом директор вдруг приподнимает голову и с недоумением смотрит на Тает-Хему. Он совсем не об этом говорил с ней.
— Иван Константинович, так ведь по-русски поздравляют? — спрашивает она.
Директор смеется.
— Так-то так, но только не на собрании поздравляют, — говорит он.
— Тогда извиняюсь. А я и не знала, — лукаво подмигивает Тает-Хема. — Хотя мы все так рады, что я бы на самом съезде Советов и то поздравила, — смеясь, сказала она.
— Ну, ничего, ничего. Продолжай, Тает-Хема, — сказал директор.
— Товарищи! — серьезно, без улыбки, начала она. — Вот мы и дождались начала учебного года. Это — наш праздник. Съехались все ученики и учителя. Сегодня у нас просто товарищеская встреча со старыми и новыми учителями. Хотя новый учитель только один. Зовут его Николай Павлович.
Николай Павлович встал и поклонился в сторону учеников. Произошло небольшое замешательство. Это был первый учитель, который почему-то встал и поклонился им. Ученики не знали, как и реагировать на поклон учителя. Они переглядывались, потом один за другим стали подниматься и тоже кланяться ему. Отовсюду послышались голоса:
— Здравствуйте, Николай Павлович!
Учитель, не ожидавший такого радушного приема, поднялся с места еще раз, опять поклонился им и сказал:
— Здравствуйте, здравствуйте, ребята!
— Вот видите, товарищи, — продолжала Тает-Хема. — Николай Павлович будет преподавать нам математику и физику. Он посмотрит на нас, а мы на него. Приехавшие учителя расскажут нам, что пришло с пароходом для нашей школы. Вот и все, — неожиданно закончила Тает-Хема.
Затем, понизив голос, она сказала:
— Слово предоставляется Тане-кай! Ой! — сконфуженно вскрикнула она. Лицо Тает-Хемы вдруг залилось краской, она смутилась и, прикрываясь ладонью, тихо проговорила: — Извиняюсь… Слово — Татьяне Николаевне.
Сама учительница покраснела больше, чем Тает-Хема. Но, подойдя к столу и овладев собою, она сказала:
— Это все равно, Тает-Хема.
Ученики зааплодировали.
НЕОБЫЧНЫЙ НОВИЧОК
В седьмом классе шел урок математики. Двенадцать юношей и девушек пристально вглядывались в формулу, которую выводил на доске Николай Павлович. Малоподвижный человек в жизни, Николай Павлович во время урока совершенно преображался. Большой опыт в работе, любовь и знание предмета позволяли ему сухой урок математики делать увлекательным. Он быстро шел вдоль доски за длинной строкой математической формулы, мгновенно отрывался, оглядывая учеников, и торопливо говорил, продолжая писать:
— Теперь смотрите, что из этого получается.
Николай Павлович так увлек учеников, что их черные глаза, блестевшие, как омытые морской волной камешки, следили за каждой вновь появляющейся на доске цифрой или латинской буквой. Таграй даже привстал со скамьи и полустоя, закусив губу, сосредоточенно следил за объяснением.
— Да ведь это прямо интересно! — вслух подумал Таграй.
Учитель оглянулся на него и, воодушевленный вниманием, спросил:
— Понятно?
— Очень понятно, — с умилением произнес Таграй.
— Понятно, понятно! — проговорили и другие ученики.
— Теперь я попрошу кого-нибудь из вас к доске. Может быть, вы, Таграй, хотите? — глядя на него, спросил учитель.
Таграй встал во весь рост и растерянно, с широко раскрытыми глазами, тыча пальцем себе в грудь, спросил:
— Я?
— Да, да, вы!
— Мы?
Это «вы», услышанное Таграем впервые в жизни, смутило его. Он сразу как-то понял, что стал взрослым — и не только взрослым, но и культурным. Ведь ни одного чукчу еще никто никогда не называл на «вы». И эта грань, которую он, Таграй, перешагнул, льстила ему. Такое обращение учителя защекотало его юношеское самолюбие. Таграй мигом пришел в себя, вышел из-за парты и внутренне довольный, смело, крупным шагом направился к доске.
В этот момент открылась дверь и в класс вошел директор школы. Следом за ним — высокая русская девушка лет шестнадцати на вид.
— Извините, Николай Павлович, — сказал директор. — Вот сейчас привезли нам новичка. Пусть она пока посидит у вас в классе, а тем временем я побеседую с ее отцом.
Вошедшая девушка молча обежала голубыми глазами класс и, глядя на Николая Павловича, стала перебирать концы своих длинных светлых кос. Лицо ее выражало и недовольство, и досаду, и пренебрежение.
Класс замер. Лишь Тает-Хема, не отрывая взгляда от русской девушки, локтем толкала свою соседку Рультыну и тихо по-чукотски говорила:
— Перейди скорей, сядь за другую парту.
Рультына поднялась, Тает-Хема быстро передвинулась на ее место и, похлопывая ладонью по скамейке, сказала по-русски:
— Вот сюда можно сесть.
— Садитесь, садитесь! — предложил и Николай Павлович.
И когда директор вышел из класса, учитель сказал:
— Ну, продолжим наши занятия.
Таграй быстро решил задачу и сел за парту.
— Как вас зовут? — обратился Николай Павлович к русской девушке.
— Лена Журавлева, — ответила она, не вставая с места.
— Очень хорошо. Только знаете что, Лена? В нашей школе принято вставать, когда ученик отвечает учителю. Такой у нас порядок.
Лена покраснела, стиснула зубы, лицо ее стало злым.
— В каком классе вы учились?
— В шестом, — неохотно вставая, проговорила Лена.
— Окончили шестой класс?
— Да.
— Очень хорошо. Вам понятна эта формула? — показывая на доску, спросил учитель.
— Понятна, — не глядя, сказала Лена.
— Хорошо. Будем продолжать наш урок. Попрошу вас к доске.
Лена вышла. И когда Николай Павлович дал ей задачу, она потупила взор и сказала:
— Этого мы еще не проходили.
— А как же вы говорите «понятна»?
— Понятно, но не все, — ответила она.
Внимание учеников было привлечено русской девушкой. Все они посматривали на нее, и каждый думал о ней. Они не придали значения тому, что она знала меньше, чем знают они. Теперь всем хотелось как можно скорей закончить урок и немедленно начать расспросы: кто она, откуда, зачем приехала на Чукотку; хотелось сказать, что все они будут дружить с ней и любить ее. Тает-Хема пристроилась на самом кончике скамьи, освободив всю ее для Лены Журавлевой.
Давая напутственные советы своей дочери, Алексей Петрович Журавлев говорил ей:
— Леночка, теперь-то ты должна быть первой ученицей, отличницей. Ведь ты будешь учиться с детьми некультурных родителей. Что они смыслят? Ты ведь культурная девушка, городская. Школка здесь хотя и неважная, но если ты будешь отличницей, в Планово-экономический институт тебя примут без экзаменов. Старайся, дочка!
Теперь Алексей Петрович сидел в учительской и беседовал с директором школы.
— Я, видите ли, бухгалтер, — говорил он. — Двадцать лет безвыездно проработал в Сочи. Ах, господи боже мой, куда же меня занесло — из этакого чудесного края в такой, извините, гнилой угол! И, если говорить откровенно, жалованьишко прельстило. Что греха таить, какой же чудак поедет сюда ради удовольствия?
Директор молчал и думал:
«Кажется, этот субъект типичный длиннорублевик».
— Вы не бывали у нас в Сочи?
— Нет, — сухо ответил директор и спросил: — А здесь где вы работаете?
— В пушной фактории. Сто пятьдесят километров от вас. Но, оказывается, это и вправду близко. Всего десять часов на моторном вельботе. Этой факторией и Леночку соблазнил: «Дурочка, говорю, в песцах вернешься оттуда».
Алексей Петрович помолчал немного и вдруг рассмеялся.
— Хе-хе-хе, — покачал он головой. — Колхозники нас привезли. Вот чего не ожидал, так не ожидал. Никак не думал, что и здесь колхозники есть. Они и не похожи на колхозников.
— А вы ищите это сходство не в одежде, а, например, в том, что они отлично научились управлять мотором, — сказал директор.
— Да, да! Это они умеют. И моряки превосходные. Я ведь сам на море вырос. Я понимаю. — И, помолчав немного, бухгалтер спросил: — В вашей школе, я слышал, обучаются только их дети?
— Да, подавляющее большинство. В первых классах есть дети наших служащих.
— И школа эта такие же права имеет, как и на материке?
— Какие права?
— Ну, окажем, можно из вашей школы поступить в Планово-экономический институт?
— Разумеется, можно. Наша школа — не частное предприятие, она работает на основе единой программы советской средней школы.
— О, тогда это очень хорошо. Я ведь, понимаете ли, из-за дочери и уехал из Сочи. Все танцульки да гулянки, а учиться и времени нет. Неважно училась. А ведь в вузы теперь все отличников набирают. Я вот и думаю, что среди чукотских-то ребятишек она, глядишь, и будет отличницей. И какой бы ни была плохонькой ваша школка, а раз права одни и те же, авось Леночка и попадет без экзаменов в институт. Вот расчет какой у меня.
С языка директора чуть не сорвалась резкая фраза, но он сдержался.
— Курортный город, знаете ли, климат нежный, — ученье-то в голову и не лезет. Прочитал я в газете о наборе бухгалтеров и решил сменить обстановку. Жалованье хорошее, из Наркомпроса сообщили мне, что средняя школа здесь есть, ну, и приехал вот. Все, понимаете ли, из-за дочери. Очень хочется мне, чтобы образумилась она. Вы уж, пожалуйста, обратите на нее внимание. Потом, когда будем выезжать, милости просим к нам в гости, хоть на все лето. Домик у меня в Сочи. А жильцов всего-навсего — дочка да я. Надо, надо вам побывать на курорте. — И, помолчав немного, бухгалтер спросил: — Да, а сколько у вас учеников в седьмом классе?
— Двенадцать.
— Ой, какая неприятность!
— Почему?
— Выходит, моя Леночка будет тринадцатой?
В учительскую вошел Николай Павлович, за ним — Татьяна Николаевна и другие учителя.
Весть о русской ученице облетела все классы. В седьмом собрались все девяносто четыре ученика. Они столпились так тесно, что невозможно было протискаться к тому месту, где сидела Лена с Тает-Хемой. Таграй и другие семиклассники сидели прямо на столах, расположенных поблизости от них.
Лена почувствовала себя настоящей героиней. Еще никогда она не встречала такого большого внимания к себе. И как-то сразу ей все понравилось.
«А девушка, сидящая со мной рядом, по-настоящему интересна. За ней, вероятно, все мальчики бегают», — с завистью подумала Лена и оглядела стоящих перед ней ребят.
«Неинтересные, — подумала она. — Разве только тот, которого учитель вызывал к доске…»
Под влиянием новых впечатлений Лена повеселела и совсем забыла, что ей нужно казаться умней и интересней других.
Лена обняла Тает-Хему за шею и спросила:
— Тебя как зовут?
— Тает-Хема.
— Что такое? Как ты сказала?
— Тает-Хема.
— Разве есть такое имя?
Тает-Хема улыбнулась и сказала:
— Да, есть. Вот меня так зовут.
— Ой, какое странное имя! Оно что-нибудь значит?
Какой-то школьник, стоявший на соседней скамейке, крикнул:
— Тает — соль, хемо — я сам не знаю. Соль не знаю. Вот как ее зовут по-русски.
— Подожди там кричать. Не тебя спрашивают, — оборвала Тает-Хема мальчугана и, обращаясь к Лене, подтвердила это объяснение.
— А фамилия как твоя?
— Тоже Тает-Хема. Все в одном: и имя и фамилия.
— Да как же это так? Вот меня, например, зовут Лена, а фамилия — Журавлева.
Услышав имя Лена, один мальчик крикнул:
— Не дочь ли ты Ленина?
Лена растерянно посмотрела на мальчика и молча покачала головой.
— А что такое Лена? — спросила Тает-Хема.
— Ленивая, должно быть, — послышался чей-то смелый голос.
— Совсем не ленивая. Мое имя происходит от слова Елена. Была такая святая.
— Какая святая?
— Что такое святая?
— Ну, святая. Самая настоящая святая. Все равно бог.
— В комсомоле ты состоишь?
— Нет, ушла из комсомола.
Ребята о чем-то оживленно заговорили на чукотском языке, Лена насторожилась.
Тает-Хема, видя, что разговор начинает приобретать несколько враждебный характер, решила смягчить его. Ей понравилась русская девушка, и она искренне захотела подружиться с нею. Нерешительно заглядывая ей в лицо, она сказала:
— Лена, ты запишись в комсомол. У нас в комсомоле тридцать девять учеников. Ты будешь сороковой. Я — комсорг. Дружить будем. И учиться будем вместе. Видишь, какая хорошая школа у нас?
— Фи… тоже школа! — сделала гримасу Лена. — Бузовая школа.
— Какая?
— Бузовая, говорю. Разве это школа?
— Какая «бузовая»?
— Что такое «бузовая»? — слышалось со всех сторон.
— Ну, бузовая. Буза, буза. Понимаете — бузовая?
Таграй молча прислушивался к этому разговору и неотрывно смотрел на русскую девушку. Все ученики впервые видели взрослую русскую ученицу. Она казалась сердитой и как будто не совсем охотно разговаривала с ними. У нее была красивая, длинная белая шея.
«На что эта шея похожа? — подумал Таграй. — И голос ее звонкий, как колокольчик. Но почему она, русская девушка, разговаривает словами малопонятными? А может быть, это тоже красиво? Может быть, мало еще мы научились разговаривать по-русски?»
И вдруг Таграй почувствовал, что эта девушка ему очень понравилась. Ему захотелось, чтобы она еще говорила и говорила без конца.
Лена встала со скамейки и села за парту. Она оглядела всех учеников, встретилась с упорным взглядом Таграя, усмехнулась и, обращаясь к нему, спросила:
— А ты, наверно, зубрила? На большой учишься?
Таграй виновато улыбнулся, хотел что-то сказать, но запнулся и промолчал. Его очень смутил вопрос, которого он не понял.
— У нас, в Сочи, где я училась, школа каменная. Огромная, пять этажей. Одних учителей — сто, а то, может быть, и больше. А у вас? Учителей десять, да и то барахло.
— А что такое барахло? — спросил кто-то.
Лена рассмеялась.
— Ну, вот видите! Я говорю — барахло. Русскому языку даже вас не научили. Только и знаете: что такое да что такое? Барахло, барахольные значит. Самые плохие!
В классе зашумели, загудели, послышались голоса негодования:
— Это неправда!
— Ты не знаешь наших учителей!
— Наша школа самая лучшая во всем районе!
Таграй встал, протискался сквозь толпу к Лене. Подавая ей руку, он сказал:
— Лена тебя зовут? Ну, здравствуй. Меня зовут Таграй. Скажи, пожалуйста: что такое зубрила большой?
Лена звонко расхохоталась.
— А вот не скажу! — кокетливо усмехнулась она. — Ты говоришь, Таграй тебя зовут?
— Да, Таграй, — насупившись, повторил он.
— И фамилия Таграй? — насмешливо спросила Лена.
Таграй мгновение смотрел в упор на нее и, казалось, думал: что это ей далась фамилия, о которой никто никогда не спрашивал? Видя его смущение, Лена еще более насмешливо сказала:
— А, бедненький мой! И у тебя, наверно, фамилии нет?
— Да, нет! Римские императоры тоже фамилий не имели, — с раздражением сказал Таграй. — Я не об этом хотел говорить. Ты сейчас учителей как-то обозвала нехорошо. А там, где ты училась, лучше были учителя?
— Что за странный вопрос? Конечно, лучше.
— Так почему же ты молчала у доски, когда тебя вызывал Николай Павлович?
— Да, да, почему? — послышалось со всех сторон.
— Послушаем, что она скажет! — крикнул мальчик, стоявший в дверях.
— Почему, почему? Так просто, не хотела отвечать, вот и молчала.
— Неправду говорит! — крикнуло сразу несколько учеников.
— Не знала, что отвечать! — слышались возгласы.
— Нет, Лена, ты нас не обманешь, — сказал Таграй. — Вот все эти ученики, которых ты видишь, — охотники они. Каждый из нас, встречая в тундре зверя, знает даже, о чем думает он и в какую сторону хочет побежать. И когда мы видели тебя у доски и ты молчала, мы знали, почему ты молчишь. Так и скажи правду.
— А чего я вам буду рассказывать? Нужны вы мне очень! — вспыхнула Лена.
— Ну, не рассказывай, мы не будем просить, если не хочешь. Только, почему же получается так: мы учимся у плохих учителей — и знаем, а ты у хороших учителей — и не знаешь?
Лена что-то еще хотела сказать, но Тает-Хема опередила ее:
— Довольно разговаривать, Таграй. Что ты пристал?
Зазвонил колокольчик, и ученики разбежались по местам. Во всех классах начались уроки. Самолюбие Лены было задето. Она сидела за партой и совсем не могла понять, о чем говорит учительница. В голову лезла мысль: «Мы знаем, а ты не знаешь». Это было неприятно. Как они смели так ей говорить?! Но ведь они были правы. Она сама видела, как хорошо они понимают алгебру, познания в которой у Лены были совсем незначительны. Она вспомнила слова отца, который говорил ей, что в школе она будет учиться с детьми некультурными и что ей будет очень легко стать лучшей ученицей. Но первое же знакомство с ними говорило о том, что сделаться лучшей ученицей будет трудно. От этого было еще досадней. Лена сидела и все думала и думала: как же быть? Если каждый раз выходить к доске и молчать, то ведь они засмеют.
«Надо как-нибудь схитрить», — решила она.
С шумом и веселым гиканьем вбежали ученики с последнего урока в зал. Лена важно прошла мимо резвившихся ребят в угол зала, где стояло пианино. Ребята мельком бросили на нее взгляд и затеяли возню.
— Почему пианино на замке? — спросила Лена.
— А ты умеешь играть? О, тогда я побегу и попрошу ключ! — сказала Тает-Хема и быстро исчезла.
Тает-Хема прибежала с ключом и радостно вручила его Лене.
С нарочитой медлительностью Лена открыла крышку, ударила по клавишам, и в одну секунду около нее выросла толпа. Не глядя ни на кого, она пробежала гамму и бросила взгляд на окружающих ее учеников. Тает-Хема смотрела на Лену, и теперь ей еще больше захотелось подружиться с ней.
А Лена опять обрела чувство превосходства и, ловко перебирая пальцами клавиши, заиграла фокстрот «У самовара я и моя Маша». Она играла сначала молча, не глядя ни на кого, кругом все тоже молчали, затаив дыхание. Потом Лена стала напевать, и так хорошо у нее получалось, что ученики глядели на нее как на божество.
В этот момент сломя голову, расталкивая всех, пробирался к пианино Ктуге. Его нельзя было не пропустить к русской музыкантше: ведь Ктуге сам играл. Правда, он играл только на гармошке, и лишь несколько раз директор открывал ему пианино. Но разве не собирались его послушать все люди поселка? На своей гармошке он подбирал любые мотивы русских песен и даже играл эту же «Машу». Он мог изобразить крики птиц и рычание зверей. Хорошая гармошка! Второй страстью Ктуге были стихи. Не было ни одной стенгазеты без стихов Ктуге, не проходило ни одного школьного вечера, чтобы он не читал своих стихов.
И теперь, сидя в классе и услышав звуки «Маши», он перемахнул через парту, ударился о косяк двери и в один миг оказался совсем рядом, за спиной Лены. Он устремил свой взор на бегающие пальцы ее и, казалось, ничего больше не замечал.
Высоко подняв руку, Лена ударила по клавише и остановилась.
— Танцевать никто из вас не умеет? — спросила она.
— Плясать все умеют, — торопливо ответила Тает-Хема.
— Иди-ка сюда, я поучу тебя играть, — беря за руку Тает-Хему, сказала Лена. — Это просто.
— Я, я! Давай, я поучусь! — задыхаясь от предстоящего удовольствия, проговорил Ктуге.
Его лицо выражало такой восторг, что Лена, посмотрев на него, расхохоталась. Она не представляла себе, как это такой паренек сядет за пианино. И, пренебрежительно сказав: «Нет, нет!» — она рукой отвела его в сторону.
— Давай лучше тебя научу.
Тает-Хема отказалась.
— Его научи. Он гармонист хороший, — показывая пальцем на Ктуге, сказала она.
Ктуге сел на стул и положил руки на клавиши. Раздались звуки, ни на что не похожие. Он перебрал клавиши, и вдруг послышалась мелодия, сходная с фокстротом «У самовара». Глаза у него заблестели. Удивленная Лена присела с ним на один стул и с неподдельной радостью проговорила:
— Вот, вот, очень хорошо! Руки держи так! Свободней. Пальцы ставь так. Ну, начинаем!
Блаженная улыбка исчезла с лица Ктуге, и, сосредоточив все свое внимание на клавиатуре, он заиграл вновь.
— Так, так, — ободряла его Лена. — Ух ты, какой мировой парень!
На звуки пианино пришли все учителя.
— Ктуге, Ктуге! Смотрите, какой он молодец! — сказала Татьяна Николаевна.
Ктуге никого не видел и не слышал, что творилось в зале. Он так усердно подбирал «Машу», что по лицу его бежали капли пота. Поиграв еще немного, он остановился.
— Ух, устал! Руки устали. На гармошке легче. Здесь руками нужно бить, — сказал он, довольно улыбаясь и поглядывая на блестящие клавиши. — Я лучше возьму гармошку.
— Вот видите, это его Лена научила, — сказала Тает-Хема.
Польщенная Лена улыбнулась и сказала:
— Я и танцевать их могу научить.
— Надо, надо! Давайте станцуем, а они посмотрят, — предложила Татьяна Николаевна.
Ктуге принес гармошку.
Вместе с учительницей Лена легко пошла в фокстротном па. Круг раздался, и все отошли от пианино, привлеченные танцующей парой. Лена танцевала прекрасно, и видно было, что, танцуя, она любовалась собой.
Потом Татьяна Николаевна пригласила директора школы.
Оставшись без пары, с явно выраженным чувством досады, Лена стояла и перебирала ногами. Она горела желанием пройтись еще раз — но с кем? Рядом с ней оказался Таграй. Ни слова не говоря, она взяла его за руки и потащила на середину зала.
— Пойдем, пойдем!
— Да я ведь не умею! — упираясь, как-то вяло проговорил Таграй.
— Ничего, научу! Ты же фартовый парень. Это куда проще, чем задачки по алгебре.
Таграй усмехнулся и, утратив волю к сопротивлению, оказался в распоряжении Лены. Она положила его руку на свою талию.
— Ну, медведь, на ноги не наступать! Двигай их, не отрывая от пола, — командовала Лена.
Таграй неуклюже двигался, и краска густо покрывала его лицо. В зале раздался взрыв хохота.
— Какомэй, Таграй! — слышались отовсюду голоса школьников.
И если бы не танцующий рядом директор школы, то Таграй обязательно бы вырвался из рук Лены. Он продолжал ходить по кругу, глядя украдкой ей в глаза, и думал:
«Как лисица, верткая. И волосы похожи на весенний мех лисицы, и хитрость в глазах есть. И какой-то совсем особенный запах от нее».
— Музыку слушай, музыку! — командовала Лена.
А Таграй совсем не слышал музыки, — казалось, что никто и не играл в зале. И опять лезли в голову мысли. «Что такое — фартовый? Наверно, смеется надо мной!»
Лена крутила его, толкала назад, тянула вперед и подсмеивалась над ним.
— Ну, ты не смейся. Раз взялась учить, так учи по-серьезному, — сказал Таграй.
Тает-Хема стояла в сторонке, молча и серьезно смотрела на танцующих, и ей вдруг так захотелось научиться танцевать, что, минутку постояв, она сорвалась с места и подбежала к Николаю Павловичу.
— Пойдемте с вами.
— Ну нет, что вы? Это не по моей части, — мрачно проговорил он.
— Идите, идите, Николай Павлович! — крикнула Татьяна Николаевна. — Приказываю вам научиться танцевать.
Лена подошла к пианино и стала играть другой фокстрот.
— Ну и дела! — сказал Николай Павлович. — Кажется, этот фокстрот обретет все права гражданства и в нашей школе.
— А вы думаете, это очень плохо? — спросила Татьяна Николаевна и потащила его на середину зала. — Не упрямьтесь, не упрямьтесь! Вы должны научиться танцевать, — весело сказала она.
— Я начинаю впадать в детство, — проговорил Николай Павлович, глядя себе под ноги.
В учительской после танцев у всех было шутливое настроение. Даже серьезный и молчаливый директор школы как-то к слову сказал:
— Вам бы, Николай Павлович, пожениться с Татьяной Николаевной. Что же будете здесь жить бобылем?
Николай Павлович усмехнулся, затянулся папиросой, пуская колечки, и сказал:
— За мной остановки не будет. Я человек сговорчивый.
— Да, Николай Павлович, и человек вы хороший, и работник отличный — вас можно любить. Только разница в летах уж очень большая. Ведь десять лет! — шутливо сказала Татьяна Николаевна.
— Василий Андреевич Жуковский, будучи стариком, женился на юной девушке, — полушутя-полусерьезно проговорил Николай Павлович.
— Впрочем, годы — это дело десятое. На них можно бы и не обращать внимания, если бы вы не были пенсионером, — протяжно произнесла она последнее слово. — Слово-то какое страшное для молодой девушки. Кто ваш муж? Пен-си-о-нер!
Учителя расхохотались.
Николай Павлович встал, заходил по комнате и с оттенком шутки сказал:
— Ну и закон! Что он сделал с цветущим молодым человеком? Хоть петицию подавай Михаилу Ивановичу об отмене этого закона.
ЧУДЕСНЫЙ ПОЧТАЛЬОН
Стоял хороший осенний день. Чистое полярное небо, как шатер огромной яранги, прикрывало Чукотскую землю. С запада дул легкий ветерок, и на юг большими стаями тянулись утки. Давящая тишина Севера нарушалась лишь шумом пролетавших уток да криками и свистом детворы. По окончании уроков часть учеников играла на волейбольной площадке, другие находились на берегу моря, где над косой всегда по неизменному маршруту утки совершали свой перелет.
И едва на горизонте показывались утки, как ученики ложились на гальку и зорко следили за их приближением. Как только утки подлетали, дети вскакивали, поднимался невероятный крик, шум, свист, и напуганная стая, словно падая вниз, пролетала прямо над головами.
В этот момент в воздух взвивались эплякатеты[47]Эплякатет — приспособление для ловли уток на лету., брошенные ребятами. Крылья утки запутывались среди ремешков, и под тяжестью пяти моржовых зубов она стремительно падала, сильно ударяясь о землю.
— Есть одна авария! — кричал какой-нибудь карапуз.
Затем все стремглав неслись к пойманной птице. Ребята быстро распутывали ей крылья, а утка, глядя испуганными глазами, пыталась вырваться и улететь вслед за стаей.
Вместе с ребятами бегала и Тает-Хема. На ее шее болталась связка металлических занумерованных трубочек с коротенькой надписью: «Москва». Тает-Хема занималась кольцеванием птиц. Если утка не сильно разбивалась, девочка прикрепляла ей на лапку алюминиевое колечко и пускала на свободу.
Но что это такое? Упала утка, а на ее ножке уже есть колечко! Ребята сгрудились около птицы, глаза их блестят. С крайним любопытством на лицах они рассматривают эту необыкновенную путешественницу. На изящном колечке надпись: «Манила, 742».
Тает-Хема чувствует себя героиней дня и с удивлением разглядывает колечко. Она знает, что его нужно снять и записать число, месяц и место, где поймана эта утка. Ее воображению рисуется, что где-то в далекой-далекой стране вот так же рассматривается и ее колечко. Тает-Хема тщательно осмотрела пленницу, записала в книжечку чужестранную надпись и забыла даже снять манильское кольцо. Она взяла московское колечко и пристегнула его на вторую ножку. С сильно бьющимся сердцем утка вырвалась из рук. Тает-Хема приподняла ее и пустила на волю. Какая интересная почта!
Утка отлетела немного и села на море, невдалеке от берега.
— Эх ты! Человек с печенкой вместо сердца. Навешала ей грузов и думаешь — она должна лететь? Может быть, ей еще лететь тысячу километров? Вот тебе к пяткам подвесить по кило и заставить бегать, — с укоризной сказал один из учеников.
Но Тает-Хема не отрываясь следит за уткой. Она молча стоит и смотрит, смотрит на нее. Утка плавает, ныряет и, вероятно, пробует освободиться от приобретения с Чукотской земли.
Тает-Хема сорвалась с места и побежала к морю. За ней все ребята. Они бросают в утку камешки. Она ныряет, и ребята долго ищут ее глазами. Наконец, утка показывается на поверхности воды, взлетает, берет направление на юг и быстро удаляется.
Ученики напряженно смотрят ей вслед. Куда она полетела? Никто не знает. Может быть, обратно в Манилу? Может быть, ее убьет какой-нибудь краснокожий или чернокожий человек и будет так же рассматривать кольца? Вот бы оказаться в такой момент около него и сказать: «А ты знаешь, товарищ, ведь это московское колечко повесила я! Я! Тает-Хема с Чукотки! Комсорг чукотской школы!»
Задумавшись, она долго стоит и размышляет о колечке, которое совсем недавно висело у нее на шее, а теперь вот летит куда-то, в неизвестную страну.
— А ты говоришь — навешала грузов! Понимать надо. Ведь алюминий легкий, как бумага. Видишь, как полетела?
— Сесть бы сейчас на самолет, да и лететь все время за ней, следить, где она будет садиться, — сказал кто-то из ребят.
— Не к чему летать. И так узнают, по кольцам, — сказал Ктуге и предложил ребятам поискать на карте Манилу.
Эту мысль подхватили, и ватага ребят бросилась к школе.
АНДРЕЙ АНДРЕЙ
На море показался вельбот. Он шел к культбазе с развевающимся за кормой красным флажком.
— Андрей Андрей! — крикнул кто-то из учеников. Начальник пограничного пункта Андрей Андреевич Горин на Чукотку прибыл лет пять тому назад. На побережье не было человека, который бы не знал его. И как его не знать? Ведь Андрей Андрей — так звали его чукчи — был «зятем чукотского народа». Он женился на чукотской красавице, сердце которой полонил тем, что, встретившись однажды с белым медведем, на удивление всему народу, убил его из каймильхера[48]Каймильхер — наган.. Тушу этого медведя девушка чукчанка разделывала с особым удовольствием. Рядом сидел на китовом позвонке Андрей Андреевич, любовался, с каким проворством девушка разделывала медведя, прислушивался к звонкому ее голосу, а затем это необычное знакомство закончилось женитьбой.
Теперь у Андрея Андреевича было трое очаровательных ребят. Самая маленькая, белобрысая девочка Нинель, похожая на отца, еще не умела говорить по-русски, и с ней Андрей Андреевич ворковал по-чукотски.
Андрей Андреевич был типичным северным человеком. Кажется, он умел делать все, начиная от починки обуви, кладки печей и кончая приемом родов. На своих двенадцати прекрасных псах он в пургу мог ехать без проводника. Летом на моторке он часто разъезжал один и, когда попадал в крепкий шторм, получал от этого, как он говорил, чистое наслаждение. В хорошую погоду, при командировках на дальнее расстояние, Андрей Андреевич садился в самолет и, сам управляя им, парил в чукотских просторах. Это был человек-непоседа. Он все время в движении. Но особенно Андрей Андреевич любил приезжать в школу. Старших учеников он считал своими лучшими друзьями. Они тоже любили его и по старой привычке звали «Андрей Андрей», как и все чукчи.
Вельбот не дошел еще до берега, а Андрей Андреевич густым басом уже кричал:
— Здорово, ребятишки!
— Здравствуй, Андрей Андрей! — в один голос отвечали ученики.
Он выходил на берег, и все спешили поздороваться с ним.
— Что это, Тает-Хема, ты навесила такое некрасивое ожерелье? — спрашивает он.
Ребята хохочут. Кто-то говорит:
— Она нацепляет на хвост уткам колечки, и они летят тогда прямо в Москву.
— Ах, вот что! — тянет Андрей Андреевич и смеется вместе со всеми.
— Адрес такой на ногу надевает: Москва, дом номер сто или двести.
Но Тает-Хема не обращает внимания на насмешки и говорит:
— Андрей Андрей! Ты сегодня нарядный и красивый какой!
— Молодцом, значит, выгляжу? — шутя и подмигивая, спрашивает он. — Не все же мне в кухлянке да торбазах ходить.
— На праздник, что ли, Андрей Андрей, едешь куда? — спрашивает Ктуге.
— На праздник, на праздник. У-у, какой праздник!
И, подняв палец, он таинственно говорит:
— Секретное сообщение имею для вас.
Он стоит, плотно окруженный учениками, обхватив их руками.
— А вы чертовски хорошие ребята, — говорит он. — За это расскажу вам секрет.
Ребята плотней прижимаются к нему.
— Радиотелеграмму мне прислал американский капитан. Выхлопотали американцы в Москве разрешение на экскурсию в Арктику, посмотреть место, где погиб «Челюскин». Так и значится у них: конечный маршрут экскурсии — место гибели «Челюскина».
— Андрей Андрей, он ведь погиб на воде. Вода там, больше ничего не увидишь.
— Ну, пускай воду и смотрят. Жалко, что ли?..
— Она же везде одинаковая, — смеется кто-то. — Разве у американских берегов нет такой воды?
— Откуда у них такая вода? Была бы, так зачем им ехать сюда? Так вот, ребятишки, скоро они будут здесь. Вам тоже рекомендую принарядиться, — и Андрей Андреевич лукаво подмигнул.
АМЕРИКАНСКИЕ ГОСТИ
Через час в залив вошел огромный американский пароход «Виктория». На берег сошло около двухсот американцев. Это были самые разнообразные люди: служащие железнодорожных компаний, учителя, старые девы из машинописных бюро и еле передвигающиеся, богато разодетые старушки — тещи банкиров из Фриско.
Все они столпились на берегу, окружив жителей культбазы, и оживленно разговаривали «на пальцах».
Один молодой американец с возбужденными глазами, размахивая шляпой, говорил, по-видимому, что-то особенно интересное. Приседая и энергично жестикулируя, он рассказывал о только что закончившемся перелете через Северный полюс.
— Мистер Чкалофф, мистер Громофф Америк — пууфф!
Изображая полет самолета, он делал такие резкие движения, что все сторонились его.
А в это время группа молодых моряков зашла в школу. Увидев пианино, один из них сел к нему и заиграл американский фокстрот. В зале неожиданно начались танцы. К Тает-Хеме подскочил высокий американец в морском кителе и, протягивая ей руки, что-то сказал, видимо приглашая танцевать. Тает-Хема покачала головой и пальцем указала на Лену.
А Лена сгорала от нетерпения и желания потанцевать с настоящим американцем.
Турист подошел к ней и, протянув руки, пригласил.
В этот момент от радости глаза Лены затуманились, и она, забыв все на свете, не чувствовала своих ног, танцуя с застывшей улыбкой.
После первого круга Лена уже думала о том, какое теперь письмо напишет сочинским подругам о настоящих американцах.
Танцуя, американец улыбался, что-то говорил Лене и, наконец, незаметно вытащив из кармана письмо, вложил его Лене в руку.
От неожиданности у Лены перехватило дыхание. Быстро спрятав письмо, она с еще большим увлечением стала танцевать.
В зал вбежал Таграй и крикнул:
— Ребята, все на волейбольную площадку! Будем с американцами играть!
Вслед за Таграем какой-то моряк крикнул что-то по-английски, и музыка прекратилась.
Лена не успела оглянуться, как зал опустел, и она, увлекаемая американцем за руку, побежала к площадке. На бегу он что-то говорил ей.
Все гости уже были на площадке. Сбросив свои пиджаки, они с выкриками подбрасывали мяч. Все они были высокие и размахивали руками, как ветряные мельницы крыльями.
Таграй взглянул на них и подумал: «Вот бы обыграть этих длинноруких».
Он быстро подбирал свою команду, расставлял учеников на площадке.
— Я стану на середине, — не дожидаясь указаний Таграя, сказала Лена.
— А я ведь не знаю, как ты играешь! Хорошо ли? — спросил Таграй.
— Ух ты, барахло этакое! Еще спрашивает!
— Ну хорошо, Ктуге, тогда ты уйди с площадки.
Ктуге беспрекословно подчинился и медленно отошел к толпе стоявших учеников.
На площадке школьники заняли свои места.
— Ноу! Ноу! — кричали американцы и махали руками.
— Что такое? — спросил подошедший доктор, владевший английским языком.
— Мы с русскими желаем играть. Нам мало интересно играть с чукотскими школьниками. Собирайте более сильную команду, — сказал здоровенный рыжий американец.
— У русских вы, безусловно, выиграете, если нас, стариков, поставить на площадку. Школьная команда у нас самая сильная, — ответил доктор.
— Ол-райт! — крикнул рыжий американец.
Игра началась. Американцы сразу повели игру бурно и в несколько минут забили три гола.
На лицах учеников появились беспокойство и растерянность.
Рыжий американец пустил такой крученый мяч, что, казалось, не было никакой возможности остановить его стремительный полет.
Но тут со своего места сорвался Таграй, оттолкнул Тает-Хему и отбил мяч. В следующий момент кто-то поддал его вверх, и затем, словно взлетев в воздух, Лена сильным ударом срезала его на площадку американцев.
— О, вери гуд! — крикнул рыжий американец.
По площадке летал мяч, слышались глухие удары. Раздался голос судьи:
— Игра до восемнадцати!
Но в следующий момент победа досталась американцам. Игроки шумно перебегали, меняя места, чтобы начать вторую партию.
Таграй по-чукотски ругал Тает-Хему и предложил ей уйти с площадки. Немного смущенная, она ушла, и ее место занял Ктуге.
— А ты молодец! — сказал Таграй Лене.
— И у тебя мирово получается, — смеясь, ответила она. — Ну-ка, давайте сейчас наклепаем им.
Ученики удивленно посмотрели на Лену, и на лицах их, казалось, был вопрос: что такое «наклепаем»?
Вторая партия шла с явным преимуществом на стороне чукотской команды. И вскоре партия закончилась победой учеников. Все они сияли от радости, ободряя друг друга.
— Реванш, реванш! — кричал рыжий американец.
Недалеко от судьи стояли русские работники культбазы. Эти «болельщики» переживали не меньше, чем сами ученики.
— Смотрите-ка, Андрей Андреевич, как они лупят американцев, — сказал доктор.
— Здорово, здорово они взялись за них. Молодцы. Они не подкачают! — И, обращаясь к Таграю, Андрей Андреевич кричит: — Ну, Таграй, не сдавайте третью, решающую!
— Не сдадим, Андрей Андрей! — крикнул Таграй, перебрасывая мяч из одной руки в другую.
Игра началась вновь. Воодушевленные победой, ученики вкладывали в игру все свое умение, всю сноровку. Они делали такие удары и прыжки, что на американской стороне все время слышались голоса удивления.
В середине игры загудела «Виктория», сигнализировавшая сбор. Игра пошла еще напряженнее. Американцы проиграли и эту партию. В момент окончания игры Човка, ученик второго класса, сидевший на бензиновой бочке, заложил два пальца в рот и с самой серьезной рожицей засвистал, как Соловей-разбойник. Это был свист такой силы, что невольно все взоры, обернулись к Човке. А он, не обращая внимания ни на кого, сидел на корточках и свистел все заливистее.
Рыжий американец подбежал к бочке, поднял Човку вверх и, смеясь, что-то прокричал. Но Човка даже в руках американца ухитрялся свистеть, не вынимая изо рта пальцев.
Американцы схватили свои пиджаки, кители и, одеваясь на ходу, побежали к катерам. Они попрыгали в них и, отчалив, замахали руками. Кто-то то них кричал:
— Гуд-бай, гуд-бай!
В толпе школьников стояла Лена. Она вяло махала рукой и злилась. Тот американец, который с ней танцевал, тоже махал рукой, но почему-то смотрел в другую сторону. Казалось, он совсем забыл, что танцевал с ней.
— У, свинья американская, а тоже — письмо сунул! Наклепали вам — и слава богу! — бранилась Лена.
Но письмо все же интересовало. С тех пор как она взяла его, ее не покидала мысль: что же такое американец написал ей? И когда это он успел заметить ее, заинтересоваться ею?
Пока все стояли на берегу, Лена забежала в учительскую, вытащила из шкафа англо-русский словарь и убежала в спальню. Она села на кровать, достала письмо и, любуясь конвертом, вскрикнула:
— Какой хорошенький заграничный конвертик!
Перевернув его, она увидела надпись. Не совсем грамотно по-русски было написано: «Таварищам».
Лена быстро и осторожно распечатала письмо. Почерк был крупный, каким пишут ученики второго класса, словарь вовсе не потребовался. Лена с легкостью стала читать написанное. Она читала быстро, и, по мере того как вчитывалась, удивление ее росло. Когда же дочитала до конца, то перестала даже жалеть, что письмо написано не ей. Какое-то смутное чувство гордости за свою родину охватило ее. Ведь это писали заграничные рабочие, которые так стремились побывать на советском берегу!
— Ребята! — крикнула она. — Письмо всем нашим товарищам.
И с толпой учеников Лена побежала к директору школы.
Письмо писали кочегары парохода «Виктория». Они посылали проклятия своему капитану, который не разрешил им сойти на берег. Они писали с возмущением:
«Черт возьми! Еще находясь во Фриско, мы мечтали побыть на советском берегу!»
Письмо кочегаров кончалось словами:
«Все хорошие американские парни, в головах которых настоящие мозги, а не кукурузная жижа, желают сто сорок тысяч лет жизни Джозефу Сталину».
ПОЕЗДКА С УЛЬВУРГЫНОМ
Приближалась зима, а вместе с нею и праздник Октябрьской годовщины. Следуя установившимся традициям, работники культбазы готовились выехать в чукотские стойбища для проведения предпраздничных собраний и приглашения гостей в день седьмого ноября.
Этот праздник на чукотских берегах был уже, как говорили чукчи, не молодой. О нем все знали, и каждый стремился побывать в этот день на культбазе. Несмотря на это, все же в чукотских стойбищах ждали приглашения: так уж было заведено здесь с момента первого празднования. Николай Павлович и Тает-Хема направлялись в южную часть района, а в северную, расположенную за заливом, выезжали Таграй с Татьяной Николаевной. На мою долю выпала поездка в кочевые стойбища.
Время не позволяло откладывать поездку даже на один день. А между тем залив, через который лежал наш путь, стал только в прошлую тихую ночь. Тонкий, ровный, как зеркало, лед сковал его. Залив напоминал гигантский каток, и был большой соблазн надеть коньки и побежать. Это была пора, когда только что прекратилось сообщение на вельботах, а поездка на собаках по такому льду еще не совсем безопасна. Объезжать залив, уходящий на десятки километров в горы, тоже нельзя было. Мнения учеников о возможности проезда по заливу разошлись. Одни утверждали, что проехать можно, другие говорили — нельзя.
В это время на культбазу приехал Ульвургын. Он вошел ко мне нарядно одетый. На нем была кухлянка из пестрых шкур оленя с росомашьей оторочкой, к которой не пристает иней. Лисий малахай был слишком теплым, и поэтому он на ремешке болтался за спиной Ульвургына. Камусовые брюки из отборных лапок оленя также обращали на себя внимание. Что же касается торбазов Ульвургына, то им мог бы позавидовать первый чукотский щеголь: они были вышиты самой искусной мастерицей.
Восхищаясь его одеждой, я сказал:
— Вот тебе и старик! Смотри, как жених вырядился!
— Ведь на праздник едем, а не капканы ставить, — разводя руками, со всей важностью ответил он.
Ульвургын приблизился к стулу и осторожно опустился на него.
— А вот не побрился — это нехорошо!
— Так я же там буду бриться, у них, — заметил он не менее серьезно.
Ульвургын был моим постоянным каюром. Мы много с ним ездили по Чукотке и бывало, сидя на нарте, целыми днями смотрели на однообразный снежный ландшафт. Единственное наше развлечение в дороге — это разговор и изучение языка. Он учил меня чукотскому, я его — русскому. Он рассказывал мне о Чукотке, я — о Москве.
Каждый раз, когда мы приезжали в стойбище и после утомительного переезда располагались в теплой чукотской яранге, Ульвургын тотчас же принимался бриться. Он развертывал тряпочку, в которой была безопасная бритва, ложился на спину и, посматривая в круглое зеркальце, разглядывал волосики своей редкой бороды. Он брился без мыла, считая, что незачем пачкать им лицо. Брился очень долго. Срезав несколько волосков, тщательно выдувал их из зубчиков бритвы. Около него полукругом сидели хозяева яранги. Они смотрели, как он брился, и разговаривали о новостях. Во время бритья Ульвургын поддерживал разговор и ухитрялся что-нибудь сам рассказывать даже в тот момент, когда сбривал усы. Все это было странностью Ульвургына, а может быть, он хотел продемонстрировать преимущество бритвы перед обыкновенным охотничьим ножом, которым обычно брились чукчи.
— Как ты думаешь, Ульвургын, можно проехать через залив? — спросил я.
— А зачем же я приехал? Не по-пустому приехал. Зачем Ульвургыну зря собак гонять? — ответил он. — Ведь сам сказал: как можно будет, так и приезжай.
Наши отношения были уже такими, что Ульвургын подчас смело принимался меня журить, и это явно доставляло ему удовольствие.
— Стало быть, не опасно по такому льду ехать? Вот некоторые школьники говорят, что…
— Зачем тебе спрашивать школьников? Ты спроси Ульвургына, — перебил он и, помолчав немного, добавил: — Ехать можно. Но если в голове твоей поселились беспокойные мысли, я пойду на берег, посмотрю лед и тогда совсем правильно скажу. Только я по своим щекам знаю, что мороз должен сделать дорогу.
И действительно, мне неоднократно приходилось убеждаться, что щеки Ульвургына работают не хуже градусника.
— Пожалуй, все же сходи, Ульвургын, посмотри лед.
Он молча поднялся и без шапки, с остолом в руке, пошел к заливу. Он шел не торопясь, постукивая остолом о мерзлую почву, покрытую пушистым снегом.
Подойдя к берегу, он по-хозяйски оглядел залив и затем, спустившись ближе к морю, с размаху ударил остолом в лед. Остол наполовину ушел в воду. Ульвургын вытащил его и, отойдя шагов пять в сторону, опять ударил. И здесь остол, пробив ледовую корку, еще глубже ушел в воду. Ульвургын присел на корточки, отломил кусочек льда и, видимо исследовав толщину, бросил его.
Льдинка быстро покатилась по гладкой поверхности залива.
Ясно было, что поездку придется отложить. Ульвургын вошел в комнату и с еще большей важностью сказал:
— Можно ехать. Я ведь об этом знал дома еще.
— Как же ехать, Ульвургын, когда я сам видел в окно, как твой остол с легкостью пробил лед? Тонкий, должно быть?
— Наверно, Ульвургын меньше знает лед, чем ты, — сказал он и, подойдя к столу, взял лист бумаги. — Можно испортить эту бумагу?
— Можно. Зачем тебе?
Он сел около стола, расправил лист и протянул его мне.
— Держи за углы эту бумагу.
— Зачем, Ульвургын?
— Держи, держи. Сейчас я что-то должен тебе рассказать.
Я взялся за углы листка. Держа бумагу за противоположную сторону, он острым концом карандаша легко проткнул лист и расхохотался.
— Смотри, разломалась бумага.
Помолчав немного, он сказал:
— А ну-ка, подержи опять покрепче бумагу.
Вслед за этим осторожно положил мраморную подставку чернильницы на лист и испытующе посмотрел на меня.
— Что такое? Карандаш легкий, а бумага разломалась. Эта штука тяжелая — бумага не ломается. Может быть, шаман я? Заговор сделал? — И, рассмеявшись, стал наводить порядок на столе.
— Вот почему я знаю, что ехать можно. Ведь нарта длинная, — сказал в заключение Ульвургын.
В комнату вошла Татьяна Николаевна, тоже одетая в меховую кухлянку.
— Таня-кай, здравствуй, — не вставая с места и протягивая руку, сказал Ульвургын.
Она подошла к нему и поздоровалась.
— Можно ехать через залив, Ульвургын?
— Только сейчас я вот ему показывал. Можно, — твердо ответил он. — Сначала мы переедем, а потом вы с Таграем. Две нарты сразу нельзя. Скажи Таграю, пусть только по льду скоро едет. Я тоже быстро. Мои собаки очень хорошие, а ваши, из питомника, еще лучше.
Мы позавтракали и вышли к нарте.
— Садись, — сказал Ульвургын, сдерживая собак.
Нарта скользнула, и собаки, задрав морды, помчались так быстро, что захватывало дух. Нарта бежала по чистому снегу вдоль берега. Ульвургын решил, что залив он будет переезжать в самом узком месте, где не более десяти километров ширины.
Проехали по берегу километров пять, он остановил собак, встал с нарты и, доставая трубку, сказал:
— Пусть покупаются собаки в снегу. Вот здесь будем переезжать. Только покурим.
Собаки лихо кувыркались в пушистом снегу, путаясь в своей упряжке.
Накурившись, Ульвургын прошел к собакам и ни за что начал лупить их и кричать с видом очень разозлившегося человека. Собаки визжали и отбегали в стороны.
Расправившись с ними, он вернулся к нарте.
— За что ты побил собак, Ульвургын?
— Нужно так, — с улыбкой сказал он.
— Жалко ведь ни за что бить.
— Нет, не жалко. Я не сильно. Только вид делал, что злой. Руками махал только.
— А для чего это нужно было?
— Сейчас поедем по льду залива. Чтобы быстро бежали.
И действительно, едва мы сели на нарту, как собаки рванули и взяли в галоп. Упряжка бежала вдоль берега залива, и вдруг Ульвургын во весь голос подал команду:
— Поть-поть!
Вожак круто свернул вправо и махнул на лед. Нарта покатилась по чистому, прозрачному льду. Ульвургын покрикивал на собак и смотрел вперед. Стремительный бег собак и сильный мороз делали чувство острей, а доля некоторой опасности вызывала напряженность у человека и собак. Лед был так прозрачен, что на дне залива виднелись водоросли. Чувствовалось, что лед прогибается под нартой, и казалось, что мы едем по незастывшему стеклу. Собаки бежали, и по всему видно было, что они и не думали останавливаться.
Я всматриваюсь в просторы застекленного залива. Красота необычайной поездки покоряет. Но и мысль об опасности не покидает. Моментами замирает сердце и кажется, что ты, как акробат, идешь по металлическому тросу и вот-вот потеряешь равновесие, полетишь ко всем чертям.
«Нет, — говоришь себе. — Он же ведь знает».
Я осторожно поворачиваю голову и гляжу на широкую спину Ульвургына. От нее веет спокойствием.
— Хороший лед. Завтра совсем будет хороший, — говорит он.
Выехав на берег, Ульвургын остановил нарту. Он обошел всех собак, каждую из них погладил, с каждой поговорил. Но больше всего уделил внимание вожаку. Эта небольшая рыжая собака с чрезвычайно умными глазами, казалось, отлично понимала чукотский язык. Она ласкалась к хозяину, а он, поглаживая ее, нежно называл по-русски: «Мальчик, Мальчик». Мальчик имел и другую кличку — Нынкай, что на чукотском языке означало то же самое.
Вожак знал обе свои клички и по-разному отзывался на них. Если он слышал кличку «Мальчик», то знал, что ничего особенного не произойдет. Но когда ему кричали «Нынкай», он немедленно вздергивал уши, поднимал морду, водил носом и настораживался.
— Это очень хорошая собака. Как человек она, — говорит Ульвургын. — Если пурга и ничего не видно, то я не кричу на собак и не командую: Мальчик сам знает, куда нужно ехать.
Мы сели на нарту и вскоре оказались в долине реки. Рыхлый снег испортил дорогу, и собаки, утопая в нем, словно плыли, высоко подняв морды. Нарта шла тяжело, и видно было, что Ульвургын страдал. Ему было жаль собак. Он слезал с нарты и сам плелся по глубокому снегу. Глядя на него, мне тоже становилось их жаль, и вслед за ним спрыгивал и я.
— Ничего, ты сиди, — говорил он мне. — Один человек на нарте — не тяжело.
Но мне неудобно сидеть, в то время как он, старик, увязая в снегу, идет рядом с нартой. Я предлагаю ему отдыхать по очереди.
Ульвургын останавливает собак, садится и, закуривая, говорит:
— Ты можешь пешком идти целый день без остановки?
— Нет, пожалуй, не смогу.
— А я могу. Раньше два дня подряд мог ходить. Только кусок мяса надо в сумке.
Он покурил и, повернув собак, поехал вниз по реке.
— Лучше поедем вдоль берега моря по льду. Там наносный прошлогодний лед. Быстро ехать можно. И собачкам легче. А здесь все равно что пешком.
Собаки почувствовали замысел хозяина, рванули и, напрягая силы, побежали к морю.
Ульвургын дал им направление и, повернувшись ко мне, стал разговаривать.
— Что такое? — начал он. — Давно я хотел с тобой говорить о рабочих. Один раз я видел в школе, как резали картошку. Почему, думаю, такие рабочие? Вот рабочие, которые на заводах делают макароны, — наверно, стахановцы они? Они делают чистые продукты, можно сразу положить в котелок и варить. А те, которые на заводе делают картошку, — там, наверно, лентяи работают. Потому что она, картошка, грязная, надо ее обрезать ножом и промывать водой. Я видел, как в школе ее обчищали. Собрания надо устраивать, чтобы и они были стахановцами.
Я объяснил Ульвургыну, как растет картошка и почему она грязная.
Нарта бежит уже вдоль отвесных скал по толстому наносному льду. Кое-где попадаются разводья. Собаки скачут через них, и нарта на мгновение нависает над водой. Далеко на север от самого берега простираются ледяные поля. Вдали виднеется черная полоса открытого моря.
Мы едем вперед и по мере нашего продвижения видим, что полоса льдов клином сходится у скалистого берега.
Ульвургын напряженно всматривается в даль и думает. О чем думает Ульвургын? Он издали определяет: проходит ли полоса льдов немного дальше ущелья, по которому мы сможем подняться в горы, или нет? Если полоса льдов клином сойдется у ущелья, то придется возвращаться обратно. А это очень далеко.
Нарта бежит, а впереди полога льдов вдоль скал становится все уже и уже. Мы едем по припаю, ширина которого всего с десяток метров. По одну сторону — грандиозные скалы, забраться на которые сможет только птица. По другую — мрачная вода моря.
Припай становится все более узким. Вот мы уже едем по ленте метра в два шириной. Здесь еще можно повернуть обратно. Ульвургын отстегнул бы по одной каждую из собак, поднял бы над головой нарту и, повернув ее, спокойно поехал назад.
Он становится на нарту, всматривается вперед и, видимо, размышляет.
— Ульвургын, может быть, обратно повернем?
— Ай-яй-яй! — качает он головой. — Плохо, когда человеку мешают думать.
— Хорошо, Ульвургын, я молчу.
Еще напряженней он смотрит вдоль гранитной стены, что-то бормочет, думая почти вслух. Он называет ущелье, камни, белую скалу и затем садится на нарту.
— Ничего, поедем, — тряхнув головой, говорит он.
— Ты думаешь, можно доехать до ущелья?
— Может быть, теперь я не думаю, — улыбаясь, говорит он. — Может быть, теперь я знаю.
— Ну хорошо, поехали.
Припай становится совсем узким. Он только под нартой, а с боков хоть опускай ноги в темную воду моря. Вот отсюда уже и не повернешь обратно. И, словно угадав мою мысль, Ульвургын, не оборачиваясь, говорит:
— Если кончится припай совсем, пешком обратно. Собак отстегну, нарту за камень привяжу, потом придется взять.
«Черт возьми! — думаю я. — Как лунатики, мы ползем по карнизу высоченного дома. Зачем я не настоял, чтобы вернуться раньше? Пусть бы сделали этот тридцатикилометровый крюк!»
Но Ульвургын рассуждал иначе. Ведь вот совсем рядом ущелье. Выехать туда — и не нужно будет мучить собак тяжелой дорогой.
Собаки насторожены. Поглядывая на море, они жмутся к скалистой стене и пробираются с величайшей осторожностью.
Впереди, в нескольких шагах от припая, в море полощутся утки, запоздавшие с перелетом.
Меня охватывает ужас, и я чувствую, как выступает холодный пот. Я хорошо знаю, что собаки, завидев пролетающего ворона, стремглав бросаются с дороги в его сторону. Или когда на пути попадается куропатка, они, теряя рассудок, кидаются за ней и долго не могут остановиться, хотя она уже и взлетела.
Мы подъезжаем к уткам. Они не боятся нас и не взлетают. Вот они совсем уже рядом. Я слежу за собаками и одно мгновение почти готов спрыгнуть с нарты назад. Собаки мельком бросают взгляд на уток и опять, опустив низко головы, словно обнюхивая дорогу, идут вперед. Вожак щелкает зубами и вдруг пристальнее, чем нужно, засматривается на уток.
— Нынкай! — предостерегающе кричит Ульвургын.
Мальчик-Нынкай опускает голову и больше не смотрит на уток. Собаки и сами понимают опасность положения, но инстинкт все же заставляет их изредка посматривать на плавающую птицу.
Вдруг утки нырнули и скрылись в воде.
Вскоре мы выехали на пологий берег ущелья. Здесь, по другую сторону ущелья, припая уже не было. Чуть заметное дыхание моря около скал нежно шевелило кружевную пену.
Поднявшись по ущелью в горы, мы остановились.
— Какой человек Ульвургын? — спрашивает он и тут же отвечает: — Ульвургын есть человек… У-у, какой человек! Мимо смерти идет, посмеется ей в лицо и пройдет дальше.
И среди нагроможденных гор, ослепительно белых от снега, мы оба хохочем.
ТАНЯ-КАЙ ПРОХОДИТ МИМО СМЕРТИ
Спустя некоторое время после нашего отъезда с культбазы выехала вторая нарта. В нее было запряжено четырнадцать лучших собак из питомника. Хорошо откормленные, веселые псы рвались в дорогу. На нарте, одетая в оленьи меха, сидела Татьяна Николаевна, собаками управлял Таграй. В задней части нарты стояли кинопередвижка и железный ящик с кинолентами.
Таграй знал и видел с горы, где Ульвургын переезжал залив. И теперь собаки его мчали вдоль берега к тому же месту. Дорога по льду была настолько заманчива, что, не доезжая до места, где Ульвургын свернул на лед, Таграй подал собакам команду, и они, как ветер, круто свернув вправо, побежали по чистому, гладкому льду.
— Как хорошо, Таграй! Быстро! — сказала Татьяна Николаевна.
Таграй прикрикнул еще на собак, и они, выпуская когти, помчались во весь дух. В одно мгновение, казалось, они проскакали половину пути.
— Как жаль, что скоро кончится эта замечательная дорога, — проговорила Татьяна Николаевна.
Она взглянула вперед, на противоположный берег. Он был уже совсем близко, Татьяна Николаевна оглянулась назад. За холмом скрылись дома культбазы. Мороз щипал щеки, и Татьяна Николаевна натянула на голову капюшон кухлянки.
— Смотри, Таграй, как далеко мы уже отъехали.
Довольный поездкой на хороших собаках, он с сияющим лицом оглянулся и стал говорить:
— Наверно, мы едем со скоростью в двадцать километров. Весь залив за полчаса проскачем.
Вдруг нарту словно кто-то осадил. Собаки остановились. По всем направлениям побежали трещины, лед заколыхался, и нарта стала опускаться в воду.
Татьяна Николаевна замахала руками, закричала, цепляясь за нарту. Ее охватил ужас. Барахтаясь в воде, она наткнулась на что-то твердое, что не тонуло под ее рукой. В одно мгновение Таня поняла, что это бревно. Сделав усилие над собой, она вскинула руку, согнула ее в локте и повисла. Потом осторожно повернула голову в сторону. Глазам представилась жуткая картина. Из длинной упряжки собак последние пары по брюхо были в воде. Ноги их ушли под битый тонкий лед и они как бы лежали на животах, беспомощно поглядывая в сторону. Нарта под тяжестью кинопередвижки стояла почти вертикально, высовываясь из воды передней частью полозьев.
Татьяна Николаевна закрыла глаза и вспомнила о Таграе.
«Где он? Неужели пошел ко дну? Ведь никто из чукчей ни секунды не может продержаться на воде», — подумала она.
Она открыла глаза и опять увидела собак, которые пытались вытащить нарту. Но лапы передних скользили по льду, и собаки не в силах были продвинуться вперед ни на шаг. Упряжка связывала их всех. Псы тоскливо заскулили. Учительница опять закрыла глаза, чтобы не видеть ничего, но какая-то сила вновь подняла отяжелевшие веки. И тогда она увидела, как передние четыре собаки отгрызали ремни. Она позавидовала им.
— Жить, жить! — прокричала Таня.
И этот крик подбодрил ее. Она увидела, как четыре собаки, отделившись, побежали к берегу.
«Хорошо. Это очень хорошо. Теперь собаки прибегут, и там поймут, что случилась беда. Хорошо. Пусть только бегут скорее. Хорошо, что вода не проникла еще через одежду. Я не шевельнусь и буду висеть на этом бревне хоть целый день, лишь бы жить».
И опять на мгновение она закрыла глаза. Потом взглянула на собак.
«Глупые! Почему же и вы не отгрызаете ремни?» — подумала она.
Между тем, когда нарта пошла в воду, Таграй шарахнулся в другую сторону и, как пуля, стремительно скользнул по льду на животе.
Он развел руки и ноги в стороны и по-звериному медленно стал уползать. Не понимая всего происшедшего, он полз, полз.
И, только когда пришел в себя, остановился и осторожно, словно опасаясь чего-то страшного, повернул голову назад.
«Только собаки…»
Ползком он сделал круг и повернул в сторону собак.
«Нет, не только собаки. Вон ясно видна голова в меховом капюшоне. Что такое? Таня-кай висит на том бревне, на которое налетела нарта».
Сердце учащенно забилось.
Таграй приподнялся на руках, как тюлень на ластах, и, задрав голову, крикнул:
— Держись, Таня-кай!
Этот крик затерялся в ледяном просторе. Учительница насторожилась, но тут же заключила, что это ей показалось.
— Таня-кай, я здесь! Держись! — крикнул еще раз Таграй.
Теперь она ясно слышала Таграя. Хотелось повернуться на голос, но всякое лишнее движение могло привести к беде. Она заставила себя отказаться от радости увидеть Таграя и ответила:
— Держусь!
Одежда стала тяжелее. Тане опять показалось, что это была галлюцинация и голос Таграя не был его голосом.
— Таграй! — крикнула она, проверяя себя.
— Я здесь. Держись!
Теперь несомненно — это был Таграй! Ощущение беспомощности исчезло. Таню охватила радость. Прибавилось сил.
Таграй развязал свой пояс и посмотрел на него. «Какой короткий», — подумал он и пополз к учительнице.
Но едва он приблизился к ней, как лед треснул, закачался, и Таграй, как гусеница, на животе быстро подался назад.
Мокрый от пота, он уползал все дальше и дальше, а трещина, как живая, гналась за ним.
Когда нарта Таграя вылетела на лед, Андрей Андреевич, проезжая по горам, остановил своих собак и в бинокль стал рассматривать упряжку, переезжавшую залив.
Он узнал своего любимца Таграя и, глядя на быстро несущуюся нарту, улыбнулся. Не отрываясь от бинокля, Андрей Андреевич подумал о том, как сейчас он тоже пустит по этому льду своих собак. И в тот момент, когда он увидел нарту, уходившую в воду, и барахтавшихся людей, у него выпал из руки бинокль. Не поднимая его, он так заорал на собак, что громовой его голос эхом раскатился в чукотских горах. Собаки бежали, как бешеные. Андрей Андреевич резко остановил их и подбежал к доске, торчащей из-под снега. Доска вмерзла. Еще одно усилие — Андрей Андреевич крякнул, вырвал доску, положил ее на нарту и опять закричал на собак. Когда собаки вынесли Андрея Андреевича на лед, Таграй услышал его голос. От радости он даже встал на ноги. Лед держал.
Андрей Андреевич подкатил к Таграю и остановился.
— Только, Андрей Андрей, не кричи, а то испугать можно. От радости она может утонуть, — взволнованно сказал Таграй.
Андрей Андреевич стоял на нарте, смотрел на голову учительницы и, казалось, не слышал того, что говорил Таграй.
— Андрей Андрей, наверно, нельзя подойти к ней. Я пробовал подползать, — сказал Таграй, стоя с поясом в руках.
— Ты громко не разговаривай, Таграй.
— Ничего. Так можно. Она не слышит. Ведь капюшон закрыл ей уши.
— Говоришь, нельзя помочь?
— Не знаю, — ответил Таграй.
В голове Андрея Андреевича мелькали всевозможные планы, и, словно ободряя самого себя, он тихо сказал:
— Красноармейский закон у нас есть, Таграй. Ни при каких обстоятельствах не оставлять человека без помощи. Распрягай собак! Навяжем их на твой пояс. Будешь сидеть с ними здесь.
Они быстро отстегнули собак, Андрей Андреевич отвязал потяг[49]Потяг — длинный ремень, к которому пристегивается попарно упряжка. и лег животом на нарту. Упираясь руками в лед, он двинулся вперед.
— Вот так, Таграй, я думаю, подъеду и брошу ей потяг. Как ты считаешь?
— Очень хорошо, Андрей Андрей.
Ломая ногти о лед, Андрей Андреевич словно поплыл на нарте к учительнице.
«Надо заехать с той стороны, чтобы она увидела», — подумал он, и руки заработали, как лопасти.
Он быстро доехал до того места, которое наметил, и остановился. Андрей Андреевич лежал, и казалось, что нарта сама двигалась по льду. Увидев нарту, учительница радостно вскрикнула.
Кругом нее все было покрыто вновь образовавшейся пеленой льда. Но, видимо, от небольшого движения по тонкому льду опять побежали трещины.
— Спокойно, Таня! — подняв голову, сказал Андрей Андреевич.
Он был от нее уже метрах в пяти. Держа в руке потяг с петлей, он сказал:
— Руку бы подняла!
— Нет, — послышался ее слабый голос.
Андрей Андреевич снял с нарты доску и, направляя ее к учительнице, осторожно стал продвигать вперед. Доска не доходила на метр.
— Не бросаться на доску! — крикнул Андрей Андреевич.
Мысль заработала с предельной четкостью и быстротой, свойственной летчикам. Он решил набросить петлю на Танину голову. Ведь на голове двойной капюшон из оленьей кожи. Он продвинул ногой доску еще немного.
— Не бросаться! Слушать команду!
Андрей Андреевич взмахнул арканом, и петля пролетела мимо головы.
— Ай, зачем он сам поехал! — вскрикнул следивший за ним Таграй. — Мне надо было ехать. Я на рога скачущего оленя могу набросить аркан.
Но в следующий момент Андрей Андреевич набросил петлю. Ремень оказался на носу учительницы. Она вскинула немного голову, и петля опустилась. Таня крепко закусила ремень зубами.
— Кидайся на доску!
Учительница застонала и, в один миг приподнявшись из воды, рассталась с бревном и оказалась на доске. Конец доски стал погружаться, но в этот момент Андрей Андреевич натянул ремень и волоком потащил девушку к себе.
— Андрей… — простонала она и тотчас потеряла сознание.
Он втащил ее на нарту и «поплыл» обратно. С трудом отъехав шагов десять, Андрей Андреевич остановился передохнуть и в изнеможении посмотрел в сторону Таграя, сидевшего с собаками на льду.
— Громобой! — позвал Андрей Андреевич.
Вожак сорвался с места, и собаки ринулись к хозяину, увлекая за собой Таграя. Держась за пояс, Таграй покатился за ними по льду.
— Живо запрягать! — крикнул Андрей Андреевич. — На ближний берег!
Как радостно ступить на твердую почву! Учительница стонала. Ее меховые одежды одеревенели. Таграй ловко вспарывал их ножом и отбрасывал в сторону. Положив учительницу на свои кухлянки, оба энергично стали растирать ее спиртом. Затем Андрей Андреевич надел на учительницу свою кухлянку. Таграй полоснул ножом по завязкам своих торбазов и единым махом стянул их и меховые чулки.
— Надевай их, Андрей Андрей, на ее ноги, — сказал он. — Я заверну свои в подол кухлянки и буду сидеть на нарте.
— Хорошо, а ты надевай мои торбаза. Я останусь в меховых чулках.
Таграй влез в торбаза Андрея Андреевича, стянул через голову свою двойную кухлянку и, отделив одну из них, бросил ее Андрею Андреевичу.
— Вот это хорошо. Ну, теперь обратно к культбазе! — сказал Андрей Андреевич.
Расположившись втроем на нарте, они вновь промчались через залив, который к этому времени намерзал [50] так все больше и больше. Переехав его, Андрей Андреевич и Таграй соскочили с нарты и побежали рядом. Они сами тянули нарту, помогая собакам, оба кричали на них. Один шлепал в больших, не по его ноге, торбазах, другой бежал, сверкая пятками меховых чулок. Они торопились спасти человека.
НА ПРАЗДНИКЕ
Зима установилась.
Культбаза оделась во все белое, но белизна снега не слепила глаз. Зимнее солнце было вялым, сонным. Оно робко, ощупью, как будто по незнакомой дорожке, вползало на низкое небо, и как старик, выглянувший из яранги, тотчас спешит возвратиться в тепло, так и солнце, выглянув, быстро скрывалось за льдами моря.
С утра было так тихо, что дым, валивший из печных труб, черными прямыми столбами уходил в облачное небо. Но к полудню от мертвенной тишины не осталось и следа. Звонкие голоса детворы, выбежавшей из домов, крики каюров, визг и лай собак создавали впечатление своеобразной, необычной ярмарки. Кругом было так много собак, что, куда ни пойдешь, всюду наткнешься на этих мохнатых чукотских «коней». Одни спокойно и сладко дремали, развалившись в пушистом снегу, другие — со страшным оскалом зубов — рвали друг друга так, что клочья шерсти летели во все стороны. То тут, то там раздавалось характерное пощелкиванье кнута, похожее на слабый выстрел старого винчестера. Кнутом каюры водворяли спокойствие и порядок в этом собачьем царстве.
На празднование Октябрьской годовщины прибыли сотни колхозников чукчей с женами, детьми и стариками. Среди них — наши ученики. Они ведут себя по-хозяйски и как хозяева распоряжаются.
Одни разговаривали, обрадованные встречей с родными, другие указывали места, где нужно поставить нарты. Часть хозяйничала в школьном здании. Эти называли себя комиссией по приему гостей. Они превратили классы в спальни, а вернее — в яранги, где вместо парт навалены кучи оленьих шкур. На шкурах будут спать приезжие гости. Ведь праздник продлится два дня.
Какой-то кочевник в длинной кухлянке прибыл на оленях. Оленей нельзя поставить рядом с собачьей сворой — загрызут, поэтому оленевод оставил упряжку за горой, а сам спустился пешком. Редкий гость, он ходил по культбазе и с любопытством присматривался ко всему. Оленевод забрел в школу. Нерешительно переступив порог спальни, он подошел к одной кровати, положил на нее руку и со всей серьезностью потряс: прочно ли? Затем, недолго думая, он развалился на аккуратно прибранной кровати Тает-Хемы. С полнейшим равнодушием он лежал на кровати в кухлянке и торбазах. Может быть, он спокойно и долго так пролежал бы, размышляя о необычном, если бы не коварный мальчишка, увидевший его. Этот болтун, имевший от роду не больше десяти зим, со всех ног бросился бежать к Тает-Хеме и наговорил ей такого, что большие глаза Тает-Хемы стали еще больше.
Тает-Хема бросила свою работу и незамедлительно полетела в спальню. А мальчишка продолжал кричать ей вслед:
— Наверно, кровать совсем испортилась!
Увидев кочевника, Тает-Хема вспыхнула от гнева. Она хотела разразиться бранью по его адресу, но почему-то вдруг улыбнулась и подсела к нему на краешек кровати.
— Ты приехал? — мягко сказала она обычное северное приветствие.
— И-и! Я приехал, — не вставая с кровати, ответил он.
— Ну как, удобно спать на этом?
— Как тебе сказать? Ничего. Заснуть все-таки можно.
Продолжая лежать на кровати, он нащупал висевший у пояса кисет и лежа стал набивать трубку. Табак сыпался на одеяло, а он не замечал.
— Когда захочешь спать, можно заснуть и на камнях. В ярангах, на оленьих шкурах — вот это спанье! Я попробовал прилечь на эту трясучку.
— Да, это правильно ты говоришь. На ней надо привыкнуть спать. Без привычки — плохо. Поэтому мы и приготовили для приезжающих шкуры. Пойдем, я покажу тебе, где мы устроили вам постели.
Оленевод стал подниматься, прислушиваясь к скрипу пружин, Тает-Хема помогла ему встать. Она быстро навела порядок на своей кровати и увела гостя в класс. И тотчас же у каждой спальни были выставлены караулы. Ученики опасались, что гости могут запачкать одеяла и наволочки.
В одном из классов гости расположились по-домашнему. Они сидели полукругом и, покуривая трубки, тихо беседовали… Их лица были строги и казались немного опечаленными.
Люди разговаривали об учительнице Тане-кай. Всем им очень жаль ее. Они говорили и о Таграе, но никто из них не обвинял его. Ведь никто не подумает, что он нарочно наскочил на вмерзшее в лед бревно.
«Кайлекым минкри» — что поделаешь, раз так случилось? Каждому на роду своя дорога.
Им было жалко хорошую русскую девушку, которая была для их детей второй матерью. Да, все бывает! Бывает, что и очень опытные охотники пропадают на море. Непонятно одно: зачем столько времени она держалась на воде? Наверно, злые духи вселились в нее и захотели продлить ее мучения.
Ведь настоящие охотники в таких случаях не сопротивляются и спокойно расстаются с жизнью. А она почему-то боролась за жизнь. Трудно понять русских людей! Ясно было одно: все это произошло не без коварства злых духов. Ее даже успели привезти в больницу, к русскому доктору. Хотя ведь она была уже без сознания, а стало быть, лишена рассудка. Кто, как не духи, могли это сделать?
Вера в духов была уже поколеблена, но не изжита совсем. В моменты серьезной опасности она вдруг пробуждалась с прежней силой даже у наиболее передовых охотников.
Чукчи сидели на шкурах в классе и долго говорили о русской девушке, которая была другом чукотского народа. Только старик Тнаыргын ничего не говорил. Он слушал разговоры о Тане-кай и молча курил трубку. Не выпуская ее изо рта, согнувшись, он сидел, поджав под себя ноги, и посматривал на тлевший в трубке огонек.
«Вот эту самую трубку привезла она с Большой Земли, эта девушка с добрым и мягким, как у оленя, сердцем. Ее жалко, как свою любимую дочь… Что-то долго не присылают за мной», — думал Тнаыргын.
Он встал, молча вышел из класса и тихим, осторожным, стариковским шагом направился к больнице.
Еще издали Тнаыргын увидел толпившихся около больничного крыльца людей. На всех домах — красные флаги. Все украшено красной материей, на которой нашиты чукотские и русские слова радости. Тнаыргын не умел читать лозунгов, но он знал, какие слова на этой красной материи.
И в душе старика было одновременно и радостно и горестно.
— Ульвургын, — сказал старик, — зачем русский доктор не хочет пустить к ней наш народ? Или он считает, что только он один любит ее?
— Обещал пустить. Нужно подождать. Наверно, в это время он лечит ее, — ответил Ульвургын.
— Если лечит — хорошо, пусть. Здоровый человек подождать может, — согласился Тнаыргын.
А в это время доктор Модест Леонидович сидел около койки учительницы.
— Итак, Татьяна Николаевна, должен вам сказать, что вы обладаете железным здоровьем.
— Разве? — улыбаясь, спросила учительница.
— Да, да! С вывихом руки все покончено. Она в полной исправности будет. Немного покоя — и все в порядке. Ведь минут сорок, говорят, вы провисели на ней?
— Модест Леонидович, когда я вскинула руку на бревно, я почувствовала невыносимую боль. У меня сохранилось отчетливое представление о моем решении: не выпущу бревна до тех пор, пока рука не отвалится.
— Одним словом, молодец! Я ждал воспаления легких, но теперь вижу, что это исключено совершенно.
— Благодарю вас, Модест Леонидович. На праздник меня выпустите?
— Нет, нет! Ваше присутствие там необязательно. Вы еще пожелаете демонстрировать по снежным сугробам? Покой, покой еще нужен! Людей к вам могу пустить. Они ведь часа два уже как толпятся у дверей больницы. Меня же еще и ругают за то, что, когда им вздумалось, не пустил их к вам.
— Пустите, пустите, доктор! — попросила Татьяна Николаевна.
— Хорошо. Только не всех. Там их слишком много. Я к вам пущу делегацию, человека два.
— Ну хорошо. Подчиняюсь.
— Ого! Попробовали бы вы не подчиниться мне! — шутливо заметил доктор. И, помолчав немного, он многозначительно сказал: — Да… Должен вам сообщить маленькую неприятность.
— Какую?
— Но уверяю вас, что это только маленькая неприятность. Ибо заплатить за жизнь так дешево, ей-ей, всякий согласится.
— А что такое? — насторожилась Татьяна Николаевна.
— Волосы у вас немного изменили цвет, — тихо сказал доктор.
— Что вы говорите! Поседела? — болезненно улыбнувшись, спросила она.
— Да, — тряхнув головой, сказал доктор.
— Ну, это чепуха!
— Я тоже думаю, что чепуха. Эту болезнь вылечит любой парикмахер.
— Интересно… Дайте, доктор, мне зеркало.
И Татьяна Николаевна увидела свою и не свою, совершенно белую, как снег, голову.
Доктор в халате вышел на крыльцо. Его окружили люди, а он медленно стал снимать очки, оглядывая толпу. Все молчали.
— Ну, вот что, друзья мои, — начал он, — разве я могу пустить к больной вас всех? Вас вон сколько, а комната, где лежит она, мала. Двух человек только можно. А они потом расскажут вам.
— Я пойду, — сказал Ульвургын и, ни слова не говоря, пролез мимо доктора к больничной двери.
Вслед за ним юркнул Таграй.
— Вот и хорошо. Пусть эти два человека и пойдут, — сказал доктор.
Ульвургын и Таграй направились было уже к дверям больницы, как вдруг послышался голос старика Тнаыргына.
— Таграй, подожди! — крикнул он. — Или ты глаза себе испортил — не видишь, что я здесь стою? Или я не заслужил почтения к своим годам? Доктор, — обратился он к нему, — пожалуй, из всех людей, кто здесь стоит, никто не увидел солнце раньше меня. Может, завтра глаза мои закроются совсем!
Таграй смутился и виновато сошел с крыльца в толпу. А старик, не спеша и не оглядываясь, взобрался на крыльцо и вскоре скрылся в больничном здании.
В коридоре Ульвургын спросил доктора:
— Халат надо, доктор?
— Да, да, обязательно.
Сестра-чукчанка принесла два халата.
— Тнаыргын, вот эту одежду надо надевать. Обычай такой у русского доктора.
— Хорошо. Если надо, я надену, — ответил Тнаыргын и тут же стал снимать через голову меховую кухлянку. Олений волос сыпался на крашеный пол.
Доктор молча и не совсем благосклонно посматривал на старика.
Тнаыргын улыбнулся. Ульвургын лукаво подмигнул доктору, и все они направились в палату.
— Какомэй, ремкылин! Какомэй, гости! — удивленно-радостно вскрикнула Татьяна Николаевна.
— Здравствуй, Таня-кай! — протягивая руку, проговорил Ульвургын.
Она поздоровалась с ним и, подавая руку старику, сказала:
— Сам Тнаыргын пришел. Как я рада!
— Садитесь, садитесь на табуретки, — предложил им доктор.
Но старик Тнаыргын молча смотрел на русскую девушку, стоял, не проявляя желания сесть.
— Садись, садись, Тнаыргын. Что ты так засмотрелся на меня?
— Это ты, Таня-кай? — тихо спросил он.
— Ну конечно, я. А кто же ты думал?
— Не переселился ли голос твой в другого человека? Что-то моим глазам кажется перемена большая. Но, может быть, моим глазам нельзя и верить? А, Ульвургын?
— Это ничего, Тнаыргын, что голова стала седой, — сказала учительница.
— Стало быть, мои глаза говорят мне правду? — и у старика задергались веки.
— Ну, ну, Тнаыргын, что это ты? Разве ты не рад, что я осталась живой?
Старик неопределенно покачал головой.
— Это не беда, Тнаыргын. У нас на Большой Земле есть такие доктора, которые восстановят цвет моих волос за один час. И если тебе не нравится моя седая голова, то обещаю тебе, что когда я приеду к вам еще, мои волосы будут такими же, какими твои глаза привыкли их видеть.
— Сердце не изменилось ли твое? — спросил старик. — Самое главное — сердце. Осталось ли оно таким, какое было? Ведь никто не может сделать сердце лучше, чем оно есть.
— А-а! Сердце осталось таким же. Если не веришь мне, спроси доктора.
— Не-е-ет… Я спрашивать доктора не буду. Зачем мне спрашивать? Я увижу сам.
Тнаыргын присел на табуретку.
— Сейчас зима. Когда лето наступит, седина твоя, может, пройдет. Ведь зимой песцы белые, а к лету становятся темными. Только я вот и зимой, и летом — всегда седой. А ты ведь слишком молода, чтобы носить белые волосы.
Учительница смотрела на старика, слушала его и думала: «Кто он, этот человек, всю жизнь ходивший в звериных шкурах?»
Она расстроилась, вспомнила почему-то, что никогда не знала своих родителей. Ей захотелось сказать этому старику что-то ласковое, теплое, но слова не находились.
Она напрягла свою мысль и вдруг сказала:
— Тнаыргын, ты настоящий человек. Ты — как хороший отец. Когда я в первый раз ехала сюда, я не думала, что здесь, в вашем суровом краю, я встречу таких хороших, отзывчивых людей.
— Хорошие люди везде есть, — сказал Тнаыргын. — И хорошие, и плохие. Есть и плохие. Они не придут к тебе, я это знаю. Они радовались бы, если бы твои глаза перестали смотреть на солнце. А я пришел. Потому что, когда новость пришла о тебе в мою ярангу, сон пропал у меня. Я думал всю ночь о тебе. И вторую ночь тоже думал.
— У меня, Тнаыргын, никогда не было отца. И матери не было. Я никогда их не видела. Я не могу представить даже их лица. Мне о них никто не рассказывал ни одного слова. И вот теперь мне хочется, чтобы они были похожи на тебя, Тнаыргын.
— Зачем говоришь такое? Или на вашей земле без отца и матери родятся люди? Что-то я не могу понять тебя. Не больна ли ты сильно?
— Нет, Тнаыргын, я здорова. Я объясню тебе сейчас. На Большой Земле была великая война. Люди бились за то, чтобы на земле была справедливость. Потом наступил голод. Людям нечего было есть, и они умирали. В то время я была очень маленькая. Может быть, и говорить еще не умела. Кто-то меня, может быть, нашел на улице и взял. Я росла в доме, где много было собрано таких детей. Потом попала в школу, вот в такую же школу-интернат, как у нас здесь. А когда я стала взрослой, мне самой захотелось работать с детьми. Так я стала учительницей. И вот почему я никогда не видела своих родителей. Теперь ты понимаешь?
— Да, я понимаю, — ответил он.
— И когда ты вот теперь пришел ко мне и так хорошо говоришь со мной, мне показалось, что ты — это отец мой. Мне захотелось считать тебя отцом своим.
— Меня, старика Тнаыргына, считать своим отцом? — недоумевающе спросил он. — Или ты, русская девушка, не знаешь, что я чукча?
— Знаю, Тнаыргын. Мне все равно: чукча ты или еще кто, но я вижу в тебе настоящего человека, человека с большим сердцем.
— Ну, если хочешь, считай меня отцом. Можно.
Старик глубоко задумался, и никто не нарушал его молчания. Потом он сказал:
— Только мне нехорошо стало.
— Почему?
— Ты помнишь, Таня-кай, когда в первый раз ты приехала к нам в ярангу, и мои глаза в первый раз увидели тебя, и уши мои в первый раз услышали голос твой, — я обманулся тогда. Я боялся тогда за детей нашего народа. Я не поверил тебе… сначала. Вот почему нехорошо мне теперь.
— Но ты ведь потом поверил?
— Да, это верно. Но все равно: зачем сразу не поверил? Тогда первый раз глаза мои смотрели на русскую девушку. Русских мужчин, когда я был молод еще, много знал я. И американских тоже. Все они были злы и алчны, как волки. Врагами считал я их. И тоже, выходит, обманулся.
— Нет, Тнаыргын, ты не ошибся. Русские, которых ты знаешь теперь, — это совсем другие люди.
Старик долго говорил с учительницей и ему не хотелось уходить от нее. Наконец он все же поднялся и стал шарить у себя за пазухой. Но халат был скроен не так, как кухлянка. Тнаыргын изгибался, стараясь что-то достать.
— Ульвургын, развяжи мне пояс, — попросил он.
И когда Ульвургын развязал, на пол упала плитка шоколада. Старик торопливо нагнулся, поднял ее и сказал:
— Я спросил одну русскую ученицу: «Какую еду любят русские девушки?» Сказала она: «Конфеты». Вот это я купил тебе.
— Спасибо, Тнаыргын. Большое спасибо! — тихо, почти шепотом, проговорила учительница.
— Ну, теперь можно идти.
Он сделал шаг к двери, повернулся к учительнице и сказал:
— Только голова белая. Может, какой русский посчитает тебя за старуху. Жениха, может, не найдется?
— Найдется, Тнаыргын. Я могу жениться на ней, — шутливо сказал Ульвургын.
Старик строго посмотрел на Ульвургына и промолвил:
— Пустое говоришь, Ульвургын. Пустое. Язык твой подобен ветру. А я не считал его таким.
* * *
Школьный зал. Ярко горят электрические лампочки. Стены украшены портретами вождей, лозунгами. Большое красное полотнище протянулось от стены до стены. Слова на этом полотнище — чукотские и русские — раскрашены учениками: «Да здравствует братский союз народов СССР!» Буквы большие, ясные и четкие. Среди гостей в зале — ученики. Они читают гостям лозунги, разъясняют смысл и значение этих великих слов. Гости в кухлянках из темного и пестрого пыжика, а некоторые надели кухлянки совершенно белые, как у старика Тнаыргына. Вот уж поистине самая разношерстная публика!
Среди мехов выделяется военная форма пограничников. Они прибыли сюда, чтобы вместе отпраздновать годовщину Октябрьской революции.
На маленькую сцену, где стоит стол, покрытый красным, поднимается Тает-Хема.
— Товарищи! — кричит она.
Шум стихает, и Тает-Хема предлагает гостям снять кухлянки, сложить их в классе и садиться на скамьи, расставленные в зале.
Но предложение ее не встречает сочувствия. Один чукча, высокий, с обветренным лицом, встает и говорит ей:
— Смотри, сколько людей здесь. Такого множества гостей не собиралось даже у самого богатого оленевода. Если одежды сложим вместе, два дня потом будем разбирать, искать каждый свою.
— Правильно! — слышатся голоса.
— Когда нам станет жарко, кухлянки снимем, положим под себя, сидеть будем на них.
В президиуме собрания занимают места председатель местного совета Аттувге, кочевник, спустившийся с гор, две женщины-чукчанки, Андрей Андреевич, Николай Павлович и Таграй. Они двигают стульями, садятся за стол. Аттувге берет колокольчик и сразу же начинает звонить. Опоздавшие торопливо занимают места на скамьях. Ульвургын сидит вместе со стариком Тнаыргыном. Рядом с ними — доктор Модест Леонидович.
И хотя Ульвургын давно смирился с тем, что он не председатель, но теперь, поглядывая на Аттувге, он, видимо, захотел опять быть председателем. Где-то в глубине души у него было скрыто недовольство, которое выводило его из обычного равновесия. Он знает, что теперь он капитан. Но сейчас зима, капитан зимой, когда нельзя плавать, все равно что ружье без патронов.
— Сколько праздников я звонил в колокольчик, — не выдержав, говорит он с чувством сожаления. — А теперь вот звонит Аттувге.
— Ульвургын, в жизни всегда бывает так, — говорит ему доктор. — Одни уходят, другие приходят. Одни умирают, другие нарождаются.
— А я разве умер? Нет, я живой. Я совсем не умер. Я еще долго могу звонить.
Доктор молчит, видимо обдумывая: как же все-таки разъяснить ему? И он решает немного слукавить.
— Ульвургын! Когда я был помоложе, я тоже был председателем. Потом мне сказали: «Ты хорошо, говорят, знаешь докторское дело. Иди лечи народ. Председателем мы поставим молодого, подучим его». Я сказал: «Правильно!» — и согласился. Ведь и Аттувге в Петропавловске-на-Камчатке учили на председателя. А вот посади его на «Октябрину», — глядишь, и не сумеет управлять шкуной.
— Нет, не сумеет, — сказал Ульвургын и, засмеявшись, хлопнул доктора по спине. — Мы с тобой, доктор, оптьма[51]Оптьма — одинаковые..
— Да да, Ульвургын, все равно одинаковые.
Старик Тнаыргын повернулся к Ульвургыну и тоже сказал:
— Ульвургын, у каждого народа есть свои обычаи. Обычай русских выбирать молодых — неплохой обычай.
Аттувге громко зазвонил в колокольчик. И когда водворилась тишина, он сказал:
— Товарищи! Слово для рассказа о революции предоставляется Андрей Андрею, товарищу Горину.
Андрей Андреевич в новой военной форме взошел на трибуну. Ученики зааплодировали. Вслед за ними зааплодировал весь зал.
Андрей Андреевич говорил по-чукотски. Он долго рассказывал, как зарождалась революция, как проходила гражданская война, кто руководил революцией и как теперь строится новая жизнь.
В зале было душно, но никто не ушел с места даже покурить. Люди сидели на своих одеждах и слушали про революцию. Они слушали это уже не в первый раз. Но разве к хорошему рассказчику они не приходили в ярангу послушать хотя бы и то, что не раз слышали?
Потом выступал доктор с воспоминаниями и тоже рассказывал про борьбу людей за лучшую жизнь.
Когда доктор закончил, Ульвургын встал со своей скамьи и крикнул:
— Андрей Андрей! Я тоже хочу сказать воспоминальное слово!
— Товарищ Аттувге, можно мне ответить? — спросил Андрей Андреевич и тут же обратился к Ульвургыну: — Товарищ Ульвургын! Не я слово даю на этом собрании. Слово дает председатель Аттувге. Видишь, я сам прошу у него.
Ульвургын без всякой надобности провел рукой под носом и после некоторого замешательства спросил:
— Ну что же, Агтувге, сказать, что ли, мне воспоминальное слово?
— Ты хочешь рассказать, Ульвургын?
— Да, — коротко ответил он.
— Слово предоставляется нашему самому первому капитану самой первой шкуны «Октябрина», товарищу Ульвургыну. Проходи сюда, Ульвургын.
Вразвалку, неуклюжей, казалось ленивой походкой Ульвургын направился к трибуне. Он залез на сцену, оглядел всех, опустил голову, будто что-то припоминая, и сказал:
— Каждую зиму в этот праздник мы приезжаем сюда слушать рассказы. Рассказывают, что такое было на Большой Земле. Вот доктор рассказывал, Андрей Андрей. Когда я был председателем — другие рассказывали. Каждый раз и мне хотелось рассказывать. Но молчал я. Теперь я залез вот сюда. Ну, говорить, что ли, мне?
— Говори, говори, Ульвургын! — закричали люди. — На то и праздник, чтобы говорить.
— Ну хорошо. Сейчас я буду говорить.
Помолчав немного, он начал:
— Давно это было. На нашей земле никто из нас не знал, что такое белый, что такое красный. В голове было только про охоту. Теперь стали понимать. В голове поселились другие мысли. Тяжелей голова стала. И вот тогда у нас тоже была война. Один человек шел воевать из Колымы. Он ехал на нарте по берегу. Проехал Амбарчик, Чаун, мыс Якан. Много земли завоевал он. Столько, сколько можно было проехать на собаках за десять дней. Ружье у него было многострельное на нарте. На поясе болтались маленькие ружья, ружья, назначенные на убийство не волка, не медведя, а человека. Он проезжал свободно, и никто ему не мог загородить дорогу. Сильным считали его. Прозывался он пальковник Бельницкий. Люди рассказывали: и одежда у него была особенная. На плечах были нарядные дощечки. Говорили люди наши: от дождя сберегал плечи. Потом он доехал до Энмакай и остановился в богатой яранге Алитета. Новость ему сказал Алитет: навстречу ему ехал воевать другой русский, в простой одежде, без дощечек. Крепкий человек. Имя ему было — Партизан. Он проехал навстречу пальковнику тоже много: Сердце-Камень, Колючино, Ванкарем. И тоже остановился. Между ними осталось пять дней езды на собаках. Вот так воевали на нашей земле. Пальковник воевал против революции, а Партизан — за революцию. Услыхал потом Партизан про многострельное оружие и повернул обратно в Уэлен. Вернулся, стал делать агитацию. Многие не поверили агитации. Но все-таки человек тридцать поверили. Люди всегда такие: одни не верят, а другие верят. И я поверил Партизану. Он стал нас учить, как воевать человека. Мы прыгали, падали, махали руками. Вот так же, как пионеры машут руками гимнастику. Бегали. А стрелять нас не учил. Говорил: «Стрелять вы и без меня умеете. Нечего патроны тратить». Тогда мало было патронов. И правильно, стрелять мы умели сами. Он нас прозвал: отряд. Скоро мы запрягли двадцать нарт, и Партизан сказал: «Теперь можно ехать воевать пальковника». Когда пальковник услышал о приближении такого множества ружейных людей, он быстро уехал обратно в Колыму. Мы проехали до самого Чауна, больше тысячи километров, а его следов не нашли. Так мы завоевали берег. Летом Партизан уехал в Петропавловск и сказал, прощаясь: «Скоро вам пришлю советскую власть». И правда. Не обманул. Вот какое мое воспоминальное слово.
Ульвургын спустился со сцены и медленно направился на свое место. Гром рукоплесканий сопровождал его до самой скамьи. Андрей Андреевич гулко хлопал в ладоши, потом встал, и все люди встали, продолжая хлопать и смотреть на Ульвургына. Старик Тнаыргын многозначительно толкнул его в бок, и Ульвургын захлопал сам.
Аплодисменты затихли. Председательствующий Аттувге встал с запиской в руках.
— Записку прислали, — сказал он. — Просят Ктуге прочитать свое стихотворение.
— Просим, просим! — отовсюду закричали ученики.
— Давай сюда, товарищ Ктуге! — сказал председатель.
Ктуге поднялся. Он никогда еще не читал своих стихов перед таким множеством людей. Его охватило волнение, и он готов был уже отказаться. Но ученики кричали и просили его.
— Давай, давай, Ктуге! — повторил председатель.
— Я вам прочитаю стихи, которые сложил совсем недавно. Называется стихотворение: «Пионер всегда готов!»
Ученикам нравилось это стихотворение, и они, улыбаясь, с нетерпением ждали, когда Ктуге начнет читать его.
Ктуге одернул на себе пиджак, сделал серьезное лицо и с особенным подъемом стал говорить:
Наши деды жили бедно,
По старинке, в темноте.
Мы свершили путь победный,
Мы совсем уже не те!
Как скала, сплотимся мы
В одну единую семью!
Вышли мы из прежней тьмы.
Славя родину свою.
Каждый день в советской школе
Мы науки познаем,
После этого на воле
С гор катаемся, поем.
Когда придем на сборы, —
Много песен и труда,
Крепки руки, ноги скоры,
Не скучаем никогда!
Пусть заходит, кто желает,
К нам послушать сбор звена.
С нами вместе поиграет
Иль присядет у окна.
Хоть пускай он будет старый —
С нами будет молодой,
Коль походит с нами в паре
За веселой за игрой.
Если враг придет к границе,
Скажем мы: всегда готов!
Красный флаг взнесется птицей,
И не пустим мы врагов!
Наше счастье никому
Никогда не отдадим.
Сами знаем, почему
Все мы выйдем, как один.
В школе, весело учась,
Мы не разомкнем рядов!
Каждый день и каждый час
Пионер всегда готов!
Едва он кончил читать стихотворение, как раздался густой бас Андрея Андреевича:
— Молодчина, Ктуге. Как Пушкин сложил!
А ученики, эти лучшие ценители поэзии Ктуге, гордые своим товарищем, звонко аплодировали и кричали:
— Еще, еще!
— О чем он говорил, этот юноша? — спросил Тнаыргын.
— Про жизнь говорил. Подобранными словами, — сказал Ульвургын.
Собрание кончилось, и люди шумно направились в столовую интерната.
На улице была ночь. Пурга несла снег с севера на юг, но около дома было светло. Впервые в этот праздник зажглись уличные электрические фонари, и это было так необычно, что люди столпились около наружного света и с любопытством посматривали на качающуюся лампу.
— Какой огонь! И снег не тушит его.
— Вот по дорогам зажечь бы такой свет! Не заблудишься!
В этот вечер механики электростанции подготовили совсем необычный подарок. Они привезли с маяка прожектор, и большой, яркий сноп лучей направили снизу вверх. Около лопастей ветряка были прикреплены портреты Ленина и Сталина. И казалось в темноте ночи, что они смотрят с неба на обширную Чукотскую землю.
ЗА ПЕСЦАМИ
После праздника в школе организовались различные кружки. Особое внимание учеников привлек кружок, которым руководил Николай Павлович. В этом кружке ребята строили маленький ветродвигатель, но им не хватало материалов.
Таграй предложил использовать для ветрячка старую динамомашину от кинопередвижки.
— Это действительно выход! — сказал Николай Павлович. — Теперь можно с ручательством сказать, что своим ветрячком мы будем добывать электричество.
Тает-Хема с другими девушками увлеклась предложением доктора: организовать кружок по подготовке медицинских сестер из старших школьниц.
И только один Ктуге стоял как будто в стороне от кружков. Все свободное время он проводил у «музыкального ящика», как чукчи называли пианино. В зале часто слышались звуки музыки. Это Ктуге или играл уже известные мелодии, или подбирал новые. Иногда эта музыка, в сочетании со свистом и воем пурги, нагоняла уныние и тоску, но все мирились с увлечением Ктуге.
Он давно уже освоил все, что умела играть Лена, и теперь ощупью, один, без какого-либо руководства, продолжал учиться дальше.
На почве увлечения музыкой он подружился с Леной, и она, в свою очередь, давно оставила свое высокомерие по отношению к нему. Ктуге ей понравился, но все же Таграй нравился больше. Ктуге был слабовольный юноша. Между тем Таграй в школе был на положении вожака. По заключению Лены, он был настоящим мужчиной. Его уважали все учителя, ученики относились к нему с почтением. Даже комсорг Тает-Хема, не посоветовавшись с Таграем, никогда не принимала своих решений. Ее, собственно говоря, и выбрали комсоргом по предложению Таграя. Свое предложение он сформулировал так: «По соображениям политического характера я считаю, что нужно избрать комсоргом девушку. Тает-Хема — самая подходящая кандидатура для этого». Так и было решено.
В школе был еще один кружок. Он пользовался всеобщей любовью. В нем состояли почти все ученики, от первого до старших классов. Это был шахматно-шашечный кружок. Руководил им Таграй.
Но ничто — ни учеба, к которой ученики относились с исключительной добросовестностью, ни кружки — не могло заглушить в них природного инстинкта охотника. И когда наступил сезон охоты на пушного зверя, все заговорили о ней.
— Эх, хорошо бы поохотиться на песца! — мечтали ребята.
— А вы организуйте охотничий кружок, — порекомендовала им Татьяна Николаевна.
Мысль учительницы подхватили старшие ученики, и охотничий кружок немедленно возник. В него записалось восемь человек. В тот же вечер состоялась договоренность с завхозом культбазы: кружку будут предоставлены упряжка собак и ружье.
Правда, с ружьем на песца никто не охотился, но как же ехать в тундру, не положив ружья на нарту? А вдруг крупный зверь попадется?
Все члены кружка деловито, как настоящие охотники, обсуждали и разрабатывали план охотничьих мероприятий. Они заперлись в классе и никого не пускали к себе.
Послышался сильный стук в дверь.
— Кто там стучит? — спросил Таграй.
— Открой мне, Таграй! — послышался капризно-повелительный голос Лены.
Он встал и открыл.
— Вы что здесь заперлись, как бузотеры-заговорщики? — грозно спросила она.
— Мы не заговорщики. У нас здесь организовался промысловый колхоз.
— Какой такой колхоз?
— Кружок охотничий. На песцов.
— На песцов? — протянула Лена. — Ой, как интересно! Я тоже записываюсь в этот кружок.
— Только, знаешь, Лена, по уставу, который мы вот сейчас разработали, в этот кружок принимаются членами ученики, у которых не будет ни одного «поса».
— Ну, не болтай зря! Никакого пёса у меня тоже не будет. Записывай — и все.
В недоумении кружковцы переглянулись. Природный такт не позволил им оттолкнуть Лену. Лишь один из них сказал, что охотиться иногда будет трудно. Надо ездить приманы ставить, смотреть их, может быть, даже в пургу.
— Ну и что же? Вон Ктуге какой охотник? Ему в тепле только на пианино играть. А записали же его.
— Нет, охотник он тоже хороший.
— Все равно записывайте. Хочу — вот вам и весь разговор.
— Ну хорошо. Только смотри: ведь работать придется.
Лена присела за парту, и началось дальнейшее обсуждение.
— Я думаю, что мы будем охотиться в конце залива, — сказал Таграй. — Там место такое — жилья нет. Ведь близко к культбазе песцы не подойдут: дым.
— А это далеко отсюда? — спросила Лена.
— Нет. Совсем близко. Километров двадцать — двадцать пять.
— Ой, как далеко! — удивилась Лена.
Ученики расхохотались.
— С тобой забавно будет охотиться, — сказал Таграй. — Ты думала, мы в классе будем ставить капканы? Здесь, кроме мышей, никакого зверя не встретишь, да и то редко.
— Да, я думала в классе мы будем ловить! — разозлившись, ответила она.
— Теперь о приманке, — продолжал Таграй. — Завхоз нам может дать моржового мяса, — но разве это приманка?
— Надо нерпу. Замерзнет она, сколько времени песцы будут грызть ее! А ведь моржовое мясо они за два дня съедят. Нерпу целиком, со шкуркой, надо.
— Ну, так вот, товарищи! Надо будет убить сначала нерпу, да не одну.
— А как мы потом будем делить песцов? — спросила Лена.
— Да, верно. Как будем?
— Я думаю, песцов мы будем сдавать в пушную факторию. А деньги класть на книжку к Пастухову.
— В сберкассу? Ну, это неинтересно, — возмутилась Лена. — И в факторию не надо сдавать. В факторию чукчи натаскают песцов и без нас. Мы себе их будем брать.
— А зачем они нам нужны?
— Вот чудаки! Как — зачем?
Все они не придавали значения словам Лены и продолжали обсуждать.
— Потом, когда кончим учиться, кто-нибудь из нас поедет в Ленинград и купит там на эти деньги костюмы и галстуки.
— А если поедет тот, кто в охотничьем кружке не состоит?
— Все равно. Разрешим купить и ему. Подарок такой от товарищей по школе. Согласны?
— Согласны, — отозвались ребята.
* * *
На следующий день, как только кончились классные занятия, кружковцы отправились на охоту за нерпой. Им посчастливилось. Они убили трех нерп. За ночь нерпы замерзнут и будут как камень. Пусть попробуют песцы их погрызть! Работы хватит на месяц!
Прошло уже много дней, как нерпы лежали в тундре, приманивая своим запахом песцов. Какой-то проезжавший мимо взрослый охотник привез в школу радостную новость: песцы ходят к ученической приманке. Он видел сам следы, осмотрел и нерпу, обгрызанную песцами. Настроение учеников в связи с сообщением было приподнятое, и они решили, что наступила пора ставить капканы.
Тут же после обеда была заложена упряжка. Ктуге тщательно укладывал в нарту капканы и ружье. В этот полуденный час луна светила чудесно. В воздухе тишина. Ктуге оделся по-дорожному и поджидал Таграя. Вдвоем они быстро поставят капканы и к ночи вернутся домой.
В этот момент, запыхавшись, к Ктуге подбежала Лена. От быстрого бега она еле проговорила:
— Ктуге, я еду с тобой на охоту!
— Зачем тебе ехать? Ты сиди в тепле. Холодно тебе будет.
— Без всяких разговоров. Еду, и больше ничего! А то опять будут говорить, что я в кружок записалась для фасона.
— Но ты ведь не умеешь ставить капканы. Лучше потом как-нибудь поедешь.
— Умею. Когда-то думали, что и в волейбол я не умею играть.
Ктуге задумался. Он знал уже Лену и решил, что все равно от нее не отделаешься.
— Ну хорошо, — сказал он. — Быстро иди одевайся по-дорожному. Штаны меховые надевай. Так нужно в дорогу.
— Вот еще не хватало! Буду я такую пакость надевать! Да и нет их у меня. Не беспокойся — не замерзну.
— Подожди немного! — сказал Таграй. — Ты, Лена, хочешь ехать? Я тебе сейчас все достану.
Таграй прибежал к Татьяне Николаевне и попросил у нее меховые дорожные штаны.
— Зачем тебе, Таграй?
— Лена едет капканы ставить, а сама не понимает, что без штанов нельзя. Замерзнет ведь.
Татьяна Николаевна пошла в кладовую и принесла штаны.
— Смотри, Таграй, как бы пурга не разыгралась. Вам-то ничего, а она действительно может замерзнуть.
— Нет, — сказал Таграй и, схватив штаны, побежал обратно, размахивая ими в воздухе.
— Бери. Надевай. А то не возьмет Ктуге, — подавая Лене штаны, сказал он.
— Ой, какие страшные! — и Лена пошла одеваться.
Как медвежонок, неуклюже шагая и падая в снег, возвращалась Лена к нарте.
Школьники окружили нарту, звонко смеялись. Даже больничный завхоз Чими прибежал сюда.
— Лена — охотник, Лена — чукча! — говорил он.
— Танец, Чими, сочини на нее! — кричали ему школьники.
— Возьми мой нож, Лена, — сказал Таграй.
— Зачем он мне нужен?
— Как зачем? Без ножа не поставить капкана.
— Не нужно мне. Ну его! Напорюсь я еще на него.
Ребята дружно расхохотались.
Вскоре нарта скрылась за горой, и Ктуге вдвоем с Леной помчались по тундре, освещенной бледной луной. В тундре было очень просторно, и этот простор радовал обоих.
— Ой, как хорошо охотиться, Ктуге! А у нас там, на Большой Земле, охотятся пешком. Ходят, ходят по болотам — как собаки устанут, а вдобавок ничего не убьют.
— И у нас, может быть, тоже ничего не получится. Какой набег песца будет.
— А ты знаешь, Ктуге, я почему-то уверена, что мы этих песцов наловим до черта. Вот посмотришь, сколько мы привезем их сегодня.
Ктуге усмехнулся.
— Нет, — сказал он, — мы же едем только капканы ставить. Вот поставим, а потом надо приезжать смотреть. Один раз приехал, другой раз, может быть и попадется.
— А сегодня, стало быть, ничего не поймаем?
— Не-е-т! — покачал он головой.
— Эх! Если бы я это знала — и не поехала бы. — Лена стукнула его по спине и добавила: — Чудила-мученик! Что же ты мне раньше не сказал?
— Я ведь думал, что ты знаешь. Капканы еще на нарте, а ты уже хочешь песца поймать. Не полезет же песец в капкан при тебе?
— Капкан, капкан! Дуралей ты этакий!
Так они ехали по бесконечным снежным просторам, то мирно разговаривая, то бранясь. Вдали виднелись горы, а справа, в таких же горах, терялся конец огромного залива Лаврентия.
Кругом снег, снег и снег. Нарта бежала, подпрыгивая по застругам.
Ктуге вдруг глубоко запустил остол и резко остановил собак. Молча он поднялся с нарты и взял ружье.
— Что такое, Ктуге?
— Вон, видишь, куропатки сидят. Надо попробовать застрелить.
— Где, где?
— Во-он сидят, у холмика!
— Что ты врешь? Никто там не сидит!
— Нет, сидит.
— Нет, не сидит.
Ктуге прицелился и дал выстрел. Куропатки вспорхнули, но одна осталась. Собаки насторожились, рванули. Ктуге еще глубже забил остол в снег.
— Видела? — спросил он.
— Теперь видела.
— Беги, возьми ее.
И Лена со всех ног бросилась бежать к куропатке.
Она вернулась, надув губы.
— Барахло ты этакое! Голову отшиб. Птичка-то какая хорошая! Не мог уж по крылышку ударить. Тоже мне охотник! Ты так и песцов будешь без голов привозить?
Ктуге стоял около нарты с ружьем в руках, улыбался и думал: «А может, она и вправду думает, что песцы головой залезают в капкан?»
Они поехали дальше.
— Ктуге, Ктуге! — теребила его Лена за плечо. — Ты знаешь, что?
— Что?
— Когда мы вернемся, ты скажи, что куропатку эту застрелила я. Хорошо? А? Меня тогда будут считать настоящим членом охотничьего кружка.
— Зачем я так буду говорить? Ведь убил я.
— Ну конечно, ты! Вот чудак! Я только прошу сказать, что я застрелила куропатку.
— Нет, нельзя. Не поверят.
— Вот какая ты дрянь! Неужели ты не можешь для меня один раз в жизни соврать?
— Подожди, подожди, Лена. Кажется, мы приехали. Где-то приманки должны здесь лежать. Вот в этом месте.
— А ты разве не знаешь, где они положены?
— Знаю. Но ведь приманки не я развозил. Таграй ездил с нерпами. Он мне только рассказал, у каких холмиков.
— Ну, это мы и не найдем их! Здесь ищейка и то не найдет.
— Найдем, — ответил Ктуге и свернул собак влево.
По-прежнему светила луна, и собаки, почуяв запах нерпы, пустились вскачь. Озверев, они так рванули, что Лена кубарем выкатилась с нарты в снег. Упряжку остановить было уже трудно, и вскоре Ктуге выехал на холмик, где лежала нерпа.
Ктуге забил между копыльями остол в снег и побежал навстречу Лене.
— Вот какой ты охотник! На нарте не могла удержаться.
— Если бы ты хорошо управлял собаками, они бы не рванули, как бешеные. Давай мне руку!
Ктуге взял Лену за руку и, как поводырь, потянул ее к тому месту, где стояла нарта.
— Смотри, Ктуге, какая лунища светит на небе, — сказала Лена и остановилась, задрав голову.
Мороз раскрасил ее щеки, легкая усталость была приятна, и она совсем забыла, что приехала сюда охотиться на песцов. Луна в самом деле была особенной. Казалось, что ее кто-то наклеил на небесную крышу и там она так и останется навсегда.
Ктуге поглядел на луну и тоже остановился с высоко поднятой головой. Лена ловко подставила ему ножку и толкнула. Ктуге растянулся в снегу. Не вставая, он улыбнулся и спросил:
— Что ты толкаешься?
— А ты зачем свалил меня с нарты?
— Да ты же сама свалилась!
— Ну, вставай, вставай! Довольно валяться. Обрадовался снегу!
Ктуге поднялся, и в тот момент, когда он оказался с Леной рядом, он легко свалил ее в снег и громко рассмеялся.
— Ты что, мохнач этакий, толкаешься? — лежа в снегу, строго сказала она.
Ктуге опешил. Испугавшись, он проговорил:
— Ты первая меня толкнула.
— Ну, живо! Поднимай меня! Какое ты имеешь право толкать девушку? Это неприлично.
Смутившись, Ктуге со всей серьезностью принял упрек и стал поднимать ее. А Лена звонко хохотала, оглашая своим смехом полярную тишину. Они направились к нарте, легонько подталкивая друг друга, задирались и оба смеялись. Собаки с недоумением посматривали на них.
Когда они подошли к нарте, Ктуге сказал:
— Лена, очень хорошая охота будет.
— Почему ты думаешь?
— Смотри, сколько следов наделали песцы. А вот смотри, как грызли они нерпу. Они знают, с чего начинать! Кожу трудней прогрызть, поэтому они и начинают со рта. Видишь, губы уже обгрызли.
— А капканы где ставить?
— Вокруг нерпы. Они по привычке придут сюда кормиться, а капканы тут как тут. Сейчас будем ставить их.
— А как их ставить?
— Вот смотри. Тебе обязательно нужно научиться: ведь ты член охотничьего кружка.
Ктуге ножом ловко провел по окружности капкана и вынул ком твердого снега. В снегу образовалось углубление в величину капкана. Зарядив капкан, он осторожно опустил его в снежную ямку.
— Теперь, Лена, смотри, что нужно делать дальше.
— Ох, как интересно! Никогда не видела.
Ктуге почувствовал себя в роли учителя, и, как учитель, начал объяснять:
— Берем кусок твердого снега. Ножом выстрагиваем из него возможно тоньше пластинку, как стекло, например. Теперь, когда мы имеем такую готовую пластинку, мы закрываем ею ямочку, в которую опушен капкан. Вот его и не видно. Понятно, я вас спрашиваю? — и Ктуге при этом рассмеялся. — Песец придет сюда кормиться, лапкой наступит на снежную пластинку — и… он наш.
— Ой, как интересно! — вскрикнула Лена и, тут же сделав гримасу, спросила: — Я закричала? Не испугаешь так песцов?
— Нет! Они, может быть, сейчас километров за пятьдесят отсюда бегают… Цепочку от капкана тоже нужно вдавить в снег.
Ктуге ножом провел по снегу бороздку и опустил в нее цепь. Все это он посыпал снегом, а там, где лежал конец цепи, утоптал ногами.
— Один готов! — сказал он.
Он очень быстро поставил второй и третий капканы, хотел было уже поставить четвертый, но Лена закричала:
— Дай, дай мне, Ктуге! Теперь я поставлю.
Она взяла нож и не с меньшим проворством, чем сам Ктуге, поставила капкан.
— Хорошо, Ктуге? — спросила она.
— Очень хорошо. Только поперечную палочку в заднем кольце цепи надо поглубже закопать в снег. А то ведь песец будет метаться, когда попадет в капкан. Может вырвать и убежать с капканом.
— Я сейчас переделаю.
— Ну вот, теперь все правильно. Ставлю тебе «отлично», — улыбнувшись, сказал Ктуге.
— То-то! А еще не хотел брать.
— Ветерок подует, все заровняет, и наших следов не будет заметно.
— А вдруг, Ктуге, здесь ветер нанесет целый сугроб на пластинку?
— Нет. Здесь же холмик. Снег здесь не задержится. Поэтому в таких местах и ставят капканы. А потом, раз уж ты стала настоящим охотником, я должен сказать тебе, что песцы, как и собаки, на холмик забегают в уборную.
— Дурак!
— Нет, верно, Лена. Так всегда бывает. Кроме того, они с холмика разглядывают все кругом.
— А ты видел это?
— Это каждый охотник знает. Лиса, например, к капкану не подойдет. Железо чует. Хитрая она! Глаза у нее, как у тебя.
— А у тебя глазенапы, как у зайца!
— А ты видела зайца?
— Конечно!
— Живого?
— На картинке. И в зоологическом саду. Знаешь, сад, где все звери собраны?
— А вот, когда песец попадет в капкан, как ты его возьмешь?
— Лишь бы попался! — ответила Лена.
— Надо прижать его остолом и задушить. Руками нельзя: бросается он на охотника, может укусить, а они ведь бывают бешеные. Когда-нибудь я покажу тебе, как шкурку снять.
Ктуге оглядел небо.
— Смотри, луна нахмурилась. Поедем скорей, а то может разыграться пурга.
Они сели на нарту в самом отличном расположении духа. Собаки бежали хорошо, хотя навстречу дул уже легкий ветерок, неся понизу снежную пыль.
— Лена, вот сейчас поземка. Наши следы у капканов скоро заметет.
Нарта прыгала по снежным застругам. Изредка Ктуге и Лена перебрасывались словами. Вдруг собаки круто свернули к заливу.
— Куда ты, Ктуге?
— К морю сами собаки побежали. Пусть, пусть бегут. Наверно, они что-нибудь учуяли, — сказал он.
Напрягаясь и прижав уши, собаки бежали во всю мочь. Ктуге выхватил из чехла ружье и взял его в правую руку, управляя собаками левой.
— Что, что такое, Ктуге? Может быть, там медведь? Я не хочу! Лучше поворачивай обратно!
— Вот хорошо, если медведь! — вскрикнул он.
Но, проскакав немного, Ктуге заметил песца в капкане. Не доезжая до него, он остановил собак.
— Видишь — песец! Надо его задушить! А то ведь, если долго хозяин не придет, он оторвет себе лапу и убежит на трех.
— Ах, а я так напугалась! Я думала, медведь здесь, — облегченно сказала Лена.
— О, если бы медведь, в школе был бы праздник!
Ктуге повернул нарту вверх полозьями, забил между копыльми остол глубоко в снег, уложил собак и сказал:
— Пойдем, Лена к песцу.
— Он, может быть, сумасшедший? Не укусит он?
— Нет, он же в капкане!
Песец бегал на цепи кругом и лаял.
Ктуге ловко прижал песца винчестером и наступил ему на шею. Красный язычок зверя с хрипом вывалился, ноги судорожно забились в воздухе.
— Ну, теперь поехали. Погода портится, — сказал он, отходя в сторону.
— А почему же ты не берешь песца?
— Зачем? Это же не наш песец. Здесь охотится Гаймелькот. Это, наверно, его капканы.
— Ну и что ж такое? Откуда он узнает, что мы взяли песца? Зарядим капкан так же — пусть стоит, будто никакого песца здесь не было.
Ктуге с удивлением посмотрел на Лену и сказал:
— Нет, так нельзя! — И решительно шагнул к нарте.
— Подожди, Ктуге! Подожди! Я тебе говорю, что песца надо взять и передать Гаймелькоту. Что же он будет валяться здесь? — хитро повернула разговор Лена.
— Это ничего, Лена. Я задушил его на всякий случай, чтобы он не открутил ногу и не убежал. Вдруг Гаймелькот задержится где-нибудь? А теперь мы сообщим ему.
— Это что, обычай, что ли, у вас такой? — недовольно проговорила Лена.
— Да, обычай, — ответил Ктуге.
Вскоре луна померкла, и только редкие звезды освещали им путь. Спустился мрак на землю, ветер усилился. Лена с беспокойством посмотрела кругом. Она крепко вцепилась в обочины нарты, опасаясь вылететь. Вдруг Ктуге оставит ее здесь, в этой мрачной, снежной пустыне, одну? Она отвернулась от встречного ветра и плотно прижалась спиной к спине Ктуге. Он смотрел вперед, она — назад.
— Лена, пурга! — крикнул Ктуге.
Она встала на колени и ухватилась за его шею. Она хотела что-нибудь разглядеть впереди, но ветер со снегом больно бил в лицо и валил ее. С волнением она спросила:
— Темно, Ктуге. Мы заблудимся?
— Нет, не заблудимся, — спокойно ответил он, поглядывая вперед.
— А если заблудимся, мы пропадем, замерзнем!
— Нет, не пропадем. Собаки хорошо знают, куда везти. Ведь они бегут домой.
— А ты сам знаешь, куда ехать?
— И я знаю.
Лена плотней прижалась к нему и еще крепче вцепилась в нарту. Воображение рисовало картины, как они вдвоем замерзают. Собаки убежали одни, а они плетутся по снегу пешком, борясь с разыгравшейся пургой.
«Наверно, не знает он, куда ехать. И как тут узнаешь, когда ни шиша не видно», — подумала она.
— Крепче держись, Лена! Наверно, скоро с горы будем ехать! — крикнул Ктуге.
«Какая гора, когда едем по ровному месту?» — подумала она, и беспокойные мысли еще больше овладели ею.
Но скоро она почувствовала, как нарта действительно помчалась вниз по крутому склону. Ктуге усиленно стал тормозить.
«А ведь и правда гора! Значит, он знает, — радостно подумала она. — Только бы не вывалиться из нарты».
Не более часа они проехали в пурге, но Лене казалось, что они едут целую вечность. Теперь собаки плелись в гору.
И когда они поднялись вверх, Ктуге остановил упряжку.
— Лена, смотри — культбаза! — крикнул он.
— Где, где? — вскочила она, вся запорошенная снегом.
— Вон, видишь свет?
— Может быть, это звезда? — разочарованно спросила она.
— Звезды бывают на небе, а на земле что-то я никогда их не видел! — со смехом сказал Ктуге.
— Правда, Ктуге, культбаза?
— Да ведь это же лампочка, которая висит на ветряке. Ты забыла?
— Ой, какой ты хороший, Ктуге! Поехали скорей! А то у меня уже печенки начинают отмерзать!
В школе охотников ждали с нетерпением, но без волнения за их судьбу. В самом деле, кто же будет беспокоиться, что Ктуге может заблудиться здесь? Такая мысль никому и в голову не придет.
В светлом зале собрались все ученики. Ктуге им рассказывал о песцовых следах, о признаках набега зверя, о песце Гаймелькота. Все слушали с захватывающим интересом.
— В следующий раз поедут другие. По очереди будем ездить! — крикнул кто-то из ребят.
— Знаете что, ребята, — сказала Лена, — я ведь сама ставила капкан. Ктуге сказал, что я хорошо, на «отлично» поставила капкан.
— Да, это правильно, — подтвердил он.
— А когда мы ехали туда, я из винчестера застрелила куропатку. Видели, на кухне лежит? Голову жалко только. Пуля отшибла.
— Карэм! Карэм! — послышались возгласы недоверия.
— Вот вам и карэм! Спросите у Ктуге. Ведь правильно я говорю, Ктуге?
— Да, правильно, — серьезным тоном и в первый раз в жизни соврал Ктуге.
ШАХМАТНЫЙ ДЕБЮТ
Доктор Модест Леонидович, заложив руки за спину, ходил по длинному больничному коридору. Он вслух о чем-то рассуждал и изредка жестикулировал.
Чукчи, служащие больницы, отлично уже знали, что это значит: доктор придумывал для них новую работу. В выходные дни они старались не попадаться ему на глаза.
Больничный завхоз Чими сидел на верхней ступеньке лестницы, ведшей из коридора на чердак.
Притаившись, он посматривал на доктора, не решаясь слезть. Чими думал: «Сказать сегодня или подождать до завтра?»
Вдруг сам доктор заметил его и, вскинув голову, спросил:
— Ты что, Чими, забрался наверх и сидишь гам, как петух?
— Снегу много, товарищ доктор, на чердаке, — ответил он.
— Что ты мне ерунду говоришь? Разве над чердаком нет крыши?
— Крыша есть, но в гвоздевую дырочку, которую я раньше не заметил, вчерашняя пурга нанесла большой сугроб.
— Да что ты, батенька мой! Не хватил ли ты лишнего? В гвоздевую дырочку… и сугроб, да еще большой!
— Правильно, товарищ доктор, я говорю. Посмотри сам.
Чими скрылся через чердачный люк и, выглянув, стал звать доктора, помахивая рукой.
Модест Леонидович, тяжело переступая по лесенке, влез на чердак.
— Что за дьявольщина! Откуда же это? — глядя на сугроб, удивился доктор.
— Вот через эту дырочку. Я спичкой ее заткнул.
— Не может быть! — удивился доктор. — Тут возов десять снега будет. Он и потолок провалит у нас. Гм! Да почему же раньше этого не было? — размышлял доктор.
— Ветер такой товарищ доктор, как раз под дырочку пришелся.
— Надо сегодня же вычистить.
— Выходной нынче, товарищ доктор.
— Вот какой ты хитрец, Чими! Помнишь, когда тебе привезли велосипед, ты три дня подряд катался на нем до одурения, и я тебе ни слова не сказал. А теперь, видишь, чуть потолок не трещит, а ты говоришь о выходном.
— Товарищ доктор, очень выходной особенный.
— Почему особенный?
— Пять нарт пограничников приехали в школу. В шахматы будут играть. Их шесть человек, учителей трое, да сколько учеников! Всего человек пятнадцать. И все они будут играть против одного Таграя.
— Давно они приехали?
— Нет, столы только расставляют в один ряд.
— Что же ты молчал до сих пор? Ну ладно, снег оставим до вечера.
Не сказав больше ни слова, доктор поспешил вниз. Он торопливо слез по лестнице, на ходу сбросил халат, схватил кожанку и вбежал к себе в комнату.
С шахматами подмышкой доктор чуть не бежал в школу. Войдя в зал, он увидел Андрея Андреевича и, страшно рассерженный, обрушился на него:
— Что же это за безобразие, Андрей Андрей?
— Вы, доктор, в сердцах-то даже по-чукотски стали звать меня, — засмеялся Андрей Андреевич.
— Да как же! Моя идея этот одновременный сеанс — и вдруг не сказать мне!
— Доктор, мы хотели…
— Что там — хотели, хотели! — перебил он. — Извините, но это просто свинство.
— Модест Леонидович, вот смотрите, вам стол приготовлен. Сейчас хотели посылать за вами.
— А! В таком случае прошу прощенья!
Классные ученические столики стояли в ряд во всю длину зала. Участники игры садились на свои места. Здесь были пограничники, учителя, ученики и даже один малыш из второго класса, который со всей серьезностью расставлял фигуры на своей доске.
Кругом, затаив дыхание, стояли зрители.
Таграй глядел на шахматистов и заметно волновался. Правда, каждого из них в отдельности он обыгрывал, но теперь все вместе они представлялись ему большой силой.
Доктор сел за крайний столик. Он расставил фигуры, встал с поднятой рукой и сказал:
— Внимание, товарищи! Я должен сделать маленькое разъяснение. Дело в том, что это очень сложная игра. Это высший класс игры. Здесь требуется абсолютное соблюдение правил. Ни разговоров, ни вздохов — тут ничего не должно быть. Что касается зрителей, то они должны набрать в рот воды и молчать, как скалы.
Такое серьезное вступление доктора всех парализовало. Все так насторожились, будто ждали, что сейчас произойдет нечто самое удивительное. А Таграй стал волноваться еще больше. Казалось, он не находил себе места. Он то сидел в сторонке, то вставал и проходил мимо столов своих многочисленных противников.
К нему подошла Татьяна Николаевна и шепнула:
— Ты не волнуйся, Таграй. Не будешь волноваться — обязательно выиграешь.
— Итак, товарищи, чтобы я не слышал в зале ни одного слова. Начинай, Таграй, с меня, — и доктор сделал ход е-2 — е-4.
Таграй ответил и пошел по длинному ряду, быстро отвечая на первые ходы противников. Но вот он остановился против красноармейца и задумался. Ход был необычный. Подумав, Таграй передвинул фигуру.
— Прошу извинения! — встал доктор. — Очень важное упущение. — И, обратившись к Таграю, он сказал вразумительно: — Ты, Таграй, можешь не спешить. Думай сколько тебе угодно.
— Хорошо, — спокойно ответил тот и сделал ход на докторской доске.
В зале стояла полная тишина, только слышались легкие постукивания фигур да шаги Таграя. Игра шла у него хорошо, и он успокоился. Вскоре он подошел к самому малолетнему партнеру, сделал ход и сказал:
— Мат!
Игроки оглянулись и увидели побежденного малыша. Он откинулся всем корпусом назад. Словно от испуга, у него открылся рот, а рука закинулась на затылок. Выйдя из оцепенения, мальчик вскочил и побежал из зала. Стоявшие здесь ученики зажали себе рты и ринулись за малышом в сени, чтобы вволю там насмеяться.
Игра продолжалась. Таграй остановился против доски Андрея Андреевича, наклонился над ней, подумал и, улыбнувшись, сказал:
— Вот здесь у меня был конь.
— Вот он, Таграй, у меня в руке, — сказал Андрей Андреевич. — Я хотел проверить: помнишь ты или нет?
— Я должен был им делать мат. Вот так, — сказал Таграй.
Андрей Андреевич молча пожал руку Таграю.
Таграй пошел дальше.
— Доктор, вы еще не сделали хода? — спросил он.
Модест Леонидович оторвался от доски, снял очки, поднял голову, глядя в упор на Таграя, и сказал ему строго:
— Я имею право думать, Таграй. И прошу вас, — он назвал его впервые на вы, — меня не торопить. Эта игра на размышлении основана.
— Хорошо, хорошо! Я подожду.
Доктор углубился в размышления и вскоре сделал ход.
Подойдя к Николаю Павловичу, Таграй передвинул фигуру и объявил противнику мат.
— Благодарю вас, Таграй, — сказал тот, поднимаясь со своего места.
Вскоре вся середина была побита. Остались фланги.
На одном конце сидел доктор, на другом — красноармеец-пограничник.
— Простите, — сказал доктор, — может быть, нам пересесть поближе друг к другу, чтобы Таграю не ходить.
— Ничего, я буду ходить.
Игра продолжалась долго и упорно.
Наконец послышался радостный крик красноармейца:
— Мат, Таграй!
Доктор вскочил и быстро направился к доске красноармейца.
Его остановил Андрей Андреевич:
— Э, доктор, не нарушайте порядка! — и преградил ему путь рукой.
— Да я только взглянуть.
— После посмотрите.
— Ну хорошо. Я прошу оставить партию на доске.
Таграй убедился в своем поражении и направился к доктору. Он думал долго, и игра затягивалась. Таграй пододвинул скамейку, сел.
Доктор чаще, чем это было нужно, снимал очки, протирал их и снова погружался в размышления. Пальцем в воздухе он словно описывал ходы и был в прекрасном настроении. Игра шла с явным преимуществом на стороне доктора. Спустя немного времени Таграй встал, хлопнул ладонью по столу и громко сказал:
— Сдаюсь, доктор!
— Во! Я сегодня в форме! — довольно заключил Модест Леонидович.
Все окружили их, поднялся невероятный шум. Доктор вытирал лицо платком и улыбался. Победа над Таграем доставила ему истинное наслаждение. Потом они рассмотрели партию красноармейца и все вышли на улицу. Был ясный, тихий, хороший вечер.
Доктор взял Таграя под руку и повел его к себе.
— Это была очень интересная партия, — сказал он. — Я доволен игрой. Зайдем ко мне, выпьем по стаканчику кофе, я тебе покажу одну задачку. Кстати Марии Федоровне подтвердишь, что я выиграл у тебя. А то, знаешь, наши русские жены, они никогда не верят своим мужьям! — и доктор расхохотался.
Они шли к больнице, доктор бережно поддерживал Таграя под руку, говорил, заглядывая ему в лицо, и казалось, что более приятельских отношений, чем с этим чукотским юношей, у него никогда не бывало ни с кем.
Культбазовцы весь вечер находились под впечатлением шахматной игры.
— Нет, черт возьми, какая досада, что доктор вылез! — с такими словами вошел Андрей Андреевич к директору школы.
— Единственно, чем это хорошо: с особым подъемом теперь будет лечить людей.
Андрей Андреевич присел на стул и закурил.
— Ты знаешь, зачем я к тебе зашел?
— Трудно угадать твои мысли, — ответил директор.
— Я придумал… очень интересную вещь.
— Какую?
— Давай, я научу Таграя управлять самолетом. Он это с легкостью освоит.
— Летчика хочешь из него сделать?
— Да.
— Нет, Андрей Андреевич, это не пойдет. Ему школу надо окончить. А потом, мы совершенно не имеем никакого права рисковать первыми ростками национальной интеллигенции.
— То есть как это рисковать?
— А вдруг он угробится на самолете?
— На этот счет у меня есть мудрая народная поговорка. Своим бойцам я иногда говорю ее: вдруг и чирей не сядет! Не поговорка, а прямо диалектика. А потом, известно ли тебе, что процент гибели людей на железных дорогах больше, чем в авиации? По-твоему, его и на поезд нельзя посадить: а вдруг авария?
— Учиться же ему, Андрей Андреевич, надо. Школу нужно окончить.
— От школы я не намерен его отрывать. Я предлагаю без отрыва от производства. Накануне выходного дня буду за ним присылать нарту. Приедет он ко мне с ночевкой, а за пять минут до начала занятий будет доставлен в школу — как из пушки, при любых обстоятельствах.
Трудно было найти какой-нибудь веский довод против, и директор согласился.
В окно они увидели Таграя, проходящего по улице с Леной. Она что-то оживленно рассказывала ему.
— Таграй! — крикнул директор в форточку. — Зайди!
Таграй вбежал в комнату.
— Эх, Таграй, Таграй, что же ты доктору-то проиграл? — встретил его Андрей Андреевич.
Таграй засмеялся.
— Мне Мария Федоровна сказала, что если я почаще ему буду проигрывать, он готов мне купить в подарок целую упряжку собак.
— Подумаешь, какое дело — собаки! Десять километров в час! Пусть он купит тебе самолет. Так и быть, для такой цели я ему продам один старенький, — шутя заметил Андрей Андреевич.
— Таграй, — сказал директор, — Андрей Андреевич придумал для тебя новое занятие.
— Какое занятие?
— Хочет научить тебя управлять самолетом.
— Меня? А разве можно? — спросил Таграй с сияющим лицом.
— Если хочешь, могу научить, — сказал Андрей Андреевич.
— Очень хочу. Пожалуйста, научи! Только правду ли ты говоришь, Андрей Андрей?
— Правду, Таграй. Сейчас только о тебе говорили.
— О-о! Я очень хочу летать. Я всегда смотрю на самолет и всегда думаю об этом. Один раз во сне даже видел, как я летал над тундрой.
— Значит, договорились? Руку, Таграй!.. — И Андрей Андреевич, звонко ударив по его руке, энергично затряс ее. — По выходным дням будем учиться. Только условие, Таграй: не болтать. Учиться будем по секрету, чтобы никто и не знал, что ты учишься. Может быть, не научишься еще. Смеяться будут.
— Есть, товарищ Горин! — радостно согласился Таграй.
— А теперь пойдем к доктору, поговорим насчет здоровья.
Доктор встретил их с распростертыми объятиями. Сегодня он вообще готов был обнять весь мир. Такой незначительный факт, как победа в шахматной игре, здесь, на далеком Севере, вырастал в грандиозное событие.
— В гости зашли, доктор. Да немного и о деле договорить, — сказал Андрей Андреевич, присаживаясь к столу.
— Пожалуйста, пожалуйста! — кричал доктор.
— Думаю Таграя научить управлять самолетом.
— Чем, чем? — насторожился доктор.
— Самолетом. Вот пришли узнать: может ли он летать по состоянию здоровья или нет?
Доктор порывисто встал со стула, заходил по комнате и резко сказал:
— Нет, не может!
Таграй испуганно посмотрел на доктора, перевел вопрошающие глаза на Андрея Андреевича и опять на доктора.
— Почему, доктор? — удивился Андрей Андреевич.
— Я сказал: не может — и все! — уже сердито заявил доктор.
— Доктор, вы же мне говорили, что я здоров? — спросил Таграй.
— Для чего здоров, а для чего и нездоров. А вообще ты иди, немного погуляй. Иди, иди, Таграй. Нам одним нужно поговорить.
Недовольно оглядываясь, Таграй вышел.
— В чем дело, Модест Леонидович? Что он, действительно нездоров? Надо бы посмотреть, а вы выпроводили его.
— Незачем мне смотреть! Они у меня и так все как на ладони. Вот листы диспансеризации учеников.
— Ну, и что, он болен? Сердце не годится?
— Нет, не болен. Но ты, Андрей Андреевич, не дело задумал!
— Вот это замечательно, доктор! Давно бы на «ты» нужно перейти.
— Прошу прощенья. Это — сгоряча.
— Пожалуйста, пожалуйста! Мы с вами ведь давнишние приятели. Можно сказать, пионеры на Севере.
— Я смотрю, Андрей Андреевич, нечего вам делать на своей заставе. Вот вы и выдумываете всякую чертовню. Летчика ему захотелось сделать! Чтобы он напоролся где-нибудь на торос?
— Модест Леонидович, этот вопрос решен. Поглядите, пожалуйста, в листок Таграя.
— Мне смотреть нечего. Я наизусть их всех знаю. Вот он, листок! Сердце — в норме, нервы — в порядке, а для вашего брата больше ничего и не требуется. А его глазами можно отсюда рассматривать Америку.
— Вот и отлично! Я только, доктор, буду просить вас никому не говорить, что Таграй учится летать.
— Это почему же? Что за секрет?
— Он будет приезжать ко мне под видом обучающего моих бойцов чукотскому языку.
— Тайну мы умеем держать не хуже вас. Но только я ни черта не понимаю во всей этой истории, — развел руками доктор.
Андрей Андреевич засмеялся.
— Модест Леонидович, здесь ничего особенного нет. Дело в том, что если заранее все будут знать, что Таграй учится летать, — это одно дело. И совсем иное, когда он стоит, предположим, около самолета, кругом народ, он влезает в кабину… вспорхнет и полетит один.
Доктор, видимо, представил себе этот момент и улыбнулся, а Андрей Андреевич продолжал:
— Ведь это же целая революция! Какой удар по шаманству! Ведь эти гады до сих пор распространяют болтовню, что в летчиках злые духи сидят.
— Доля правды и резона во всем этом деле есть, — сказал доктор. — Ну ладно. Летать он, конечно, может. Только, Андрей Андреевич, пожалуйста, выкрутасы воздушные не устраивайте. Разные там фокусы-мокусы, петли ваши… — и доктор смешно изобразил все это руками в воздухе.
Таграй стоял у больничного крыльца и с нетерпением дожидался Андрея Андреевича.
У ПОГРАНИЧНИКОВ
Человек в дубленом русском полушубке с бараньим воротником сидел в школьном зале. В одной руке он держал шапку-ушанку, в другой — большие рукавицы из оленьих лапок. Время от времени он покручивал рукавицами в воздухе.
Мимо него прошла школьная сторожиха чукчанка. Она посмотрела на него и молча с усмешкой показала колокольчик.
Не торопясь, вразвалку, как утка, она шла по длинному коридору и звонила около каждой двери, долго размахивая колокольчиком.
Позвонив в свое удовольствие, сторожиха с той же усмешкой прошла мимо красноармейца обратно.
В старших классах окончился последний урок. С шумом выбежали ученики и, увидев пограничника, окружили его. Каждый спешил поздороваться.
— Мне Таграя нужно, — сказал пограничник.
— Он придет. Он в классе, с учителем разговаривает.
— Таграй, Таграй!
— Таграй, Чельгы Арма[52]Чельгы Арма — Красная Армия. приехал. На многоголосый крик вышел Таграй вместе с Николаем Павловичем.
— Товарищ Таграй, я приехал за вами по распоряжению начальника. Нарта стоит около школы, — сказал красноармеец.
— Подождите, подождите! Ему же пообедать нужно, — вмешался учитель.
— Начальник сказал, что пообедать можно у нас в погранпункте. Мы успеем приехать к обеду.
Таграй вопросительно посмотрел на учителя и, не встретив возражения с его стороны, сказал:
— Хорошо. Я быстро оденусь. До свидания, Николай Павлович. На весь выходной уезжаю.
Он сорвался с места и побежал.
Красноармеец поднял собак и, приготовив упряжку, сел с остолом в руках на нарту.
Кругом него стояли ученики.
— Слушаются тебя собаки? — спросил кто-то из учеников.
— Еще как! И остолом тормозить не нужно. Только слово скажу — и сразу останавливаются.
— А давно ты научился управлять ими?
— У нас, в Орловской области, с малолетства ездят на них, — шутя заметил он.
— Там у вас, должно быть, другие собаки?
— Такие же, на четырех ногах.
— Кони на четырех ногах у них, — подал голос ученик, стоявший сзади.
Подбежал Таграй. Он взглянул на упряжку и весело сказал:
— Давай, я буду управлять собаками.
— Не полагается, товарищ Таграй, — ответил пограничник. И, желая смягчить свои слова, добавил: — Садитесь, садитесь.
Нарта побежала мимо больницы.
— Тагам, тагам! До свидания, доктор! — крикнул Таграй и помахал рукой.
Доктор стоял на крыльце и тоже махал. Он смотрел вслед убегавшей нарте и думал:
«Вот черт! Увез все же парня. Летчика готовить! Да из такого пария я бы лучше доктора сделал!»
Домб пограничников расположились у самого берега моря. Виднелись мачты радиостанции и красный флаг, развевающийся по ветру.
Часовой с винтовкой в руках пропустил нарту и вновь зашагал по скрипучему снегу.
Упряжка подбежала к небольшому домику Андрея Андреевича Горина, стоявшему в стороне, и остановилась.
— Здорово, Таграй! — встретил его Андрей Андреевич. — Приехал?
— Приехал, товарищ начальник! — сказал Таграй, по-военному отдавая честь.
Небольшой кабинет Андрея Андреевича был прост. Здесь стоял письменный стол, несколько стульев. Над столом висел портрет Сталина; пол закрывала огромная шкура белого медведя «собственного производства», как говорил о ней Андрей Андреевич; на одной из стен висела карта Чукотского округа. Карта настолько большая, что на ней были все населенные пункты, все бухточки, заливчики, самые незначительные речушки и ручьи.
Таграй засмотрелся на карту.
— Вот она какая, Чукотка! — воскликнул он. — У нас в школе карты, на которых вся Чукотка со спичечную коробку.
— Понравилась?
— Да. А что означают, Андрей Андрей, эти линии — зеленые, красные, черные?
— Это мои маршруты, Таграй, по которым я летал. Сам для интереса вычертил. Вроде самолетная дорога. Вот смотри — прямая дорога в Чаун, на реку Амгуэму, а это — дорога в хребты.
— Андрей Андрей, ты же всю Чукотку облетал!
— Конечно. На собаках попробуй столько объехать. Научишься летать — и ты везде побываешь.
— Только, Андрей Андрей, я, наверно, не научусь, — с сомнением сказал Таграй.
— Я тебе дам «не научусь»! Попробуй, не научись!
Таграй довольно засмеялся.
Андрей Андреевич взял телефонную трубку.
— Как у вас там с обедом? Давно готово? Ну хорошо.
— Никогда не говорил я по телефону. Можно и голос узнать? — спросил Таграй.
— Конечно. Вижу я по твоим глазам, что охота тебе поговорить по телефону.
— Правильно, Андрей Андрей. Ведь интересно!
— Ну ладно. Вон видишь тот дом — столовую? Там же и красный уголок. Беги, оттуда поговоришь со мной. Я вызову тебя.
Таграй убежал.
Андрей Андреевич подошел к телефону:
— Дежурный, сейчас придет к вам Таграй. Дайте ему трубку поговорить со мной. Да нет! Просто для интереса: ему хочется поговорить со мной по телефону.
Андрей Андреевич стоял около телефона и, приложив трубку к уху, тихо смеялся.
— Я слушаю! Таграй? Здравствуй, здравствуй, Таграй. Узнал, говоришь? Близко? Все равно рядом? Вот видишь, как удобно… Что, что? Вот чудак, зачем же мы будем еще разговаривать по телефону, когда я сейчас приду и поговорим без телефона? Нет, нет, Таграй. Мы и так запоздали с обедом. Дисциплину нарушать нельзя. До свидания, до свидания.
За большим обеденным столом сидели бойцы. Красноармеец-повар подавал обед.
— У вас — как в школе-интернате, — сказал Таграй.
— Да, да. И занятия идут у нас каждый день. Садись рядом со мной, — предложил Андрей Андреевич.
Таграй сел, с любопытством присматриваясь ко всему.
— Товарищ Таграй, как же это вы проиграли партию нашему Смирнову? — спросил один из бойцов.
— Нельзя Красную Армию обыгрывать! — смеясь, ответил Таграй.
— А начальника зачем обыграли?
— Начальника — это по дружбе, — вмешался Андрей Андреевич.
Пообедав, Горин вместе с Таграем пошли в красный уголок. Судя по тому, что здесь стояла классная доска, здесь проводились занятия с бойцами.
Андрей Андреевич сел за стол и стал раскладывать какие-то чертежи и перелистывать книгу.
— Ну, Таграй, стенгазету после почитаешь. Иди сюда. Мы сейчас побеседуем.
И он рассказал Таграю, как они будут заниматься теорией, как потом перейдут к занятиям на практике.
— Что такое самолет? — начал Андрей Андреевич. — Взять, например, всякий живой организм. Что в нем самое главное? Сердце. А у самолета что самое главное? Самое главное…
— Мотор, — подсказал Таграй.
— Ну, правильно. Моторы бывают разные, как разные бывают и яранги. Есть рульмоторы, моторы на шкунах, авиационные моторы. Есть большие, есть маленькие. Одни сделаны прочно, другие — менее прочно, а в общем они все как-то по-одинаковому сделаны, что-то имеют общее между собой.
— Принцип один и тот же, — вставил Таграй.
Андрей Андреевич усмехнулся и сказал:
— Ты меня, Таграй, извини. Я все забываю, что ты имеешь семь классов образования. Я и начинаю поэтому так издалека. Ведь я сам такого образования не имею. Раньше нас не баловали образованием. Примерно в твоем возрасте я больше учился волам хвосты крутить.
— Как крутить?
— Ну, пастухом был. А с тобой мы быстро пройдем. Вот день прибавится, посветлей будет — и за штурвал сядем.
Таграй недоверчиво поглядывал на Андрея Андреевича и думал: «Неужели я научусь летать?»
Они долго говорили об авиационных моторах. И Горин видел, что основу мотора Таграй знает.
— Мотор шкуны я на «отлично» изучил, Андрей Андрей. Сам мотористов летом готовил и приучал к чистоте в работе с машиной.
Андрей Андреевич перешел к несущим плоскостям — крыльям. В разговоре появились слова: ажурные ребра — нервюры, продольные балки — лонжероны, хвостовое оперение и так далее, и так далее.
— Андрей Андрей, а эту книжку ты мне не дашь домой?
— Учебник этот? Пожалуй, возьми.
— Я скажу товарищам, что взял почитать про самолет.
— Становись! — послышалась команда с улицы.
Таграй подбежал к окну. Человек двадцать бойцов на лыжах становились в ряд.
— Что такое? Куда они отправляются?
— Лыжная вылазка сегодня. Тренировочный пробег.
— Вот бы и мне с ними побежать!
— Нет, Таграй. Алек — жена моя — очень просила привести тебя. Пойдем ко мне, кстати, посмотришь и моих карапузов. Ох, и орлы! — похвалился Андрей Андреевич. — Хочешь — по-чукотски, хочешь — по-русски разговаривают!
* * *
В квартире Горина вместо ковров лежали пушистые оленьи шкуры. Жена его играла с детьми. На полу валялось множество игрушек. Старший сын стоял около матери и, как видно, собирался затеять какую-то игру.
— Какомэй, Таграй! — вскочила Алек. — Здравствуй! — добавила она по-русски.
— Видишь, какое огромное семейство, — не без гордости проговорил отец.
Он тут же схватил на руки смеющегося черноглазого сына и спросил:
— Играете?
— Мотор заводил, — сказала жена, глядя на мужа и сына.
— А, мотор! Ну-ка, заведи еще, а мы посмотрим.
Он опустил сына на пол, мать села с ним рядом, и мальчик, несколько смущенный, поглядывал на Таграя. Затем, посмотрев на отца, мальчик протянул руки к голове матери, воображая, что это диск рульмотора. Он сделал руками резкое движение, будто шнуром заводил рульмотор.
— Че-че-че! — зачихала Алек, как «чихает» мотор при запуске.
Мальчик немедленно взялся за нос матери. Но «мотор» остановился. Мальчик снова заводил и быстро хватался за нос матери до тех пор, пока «мотор-мамаша» не стала чечекать минуты три подряд.
— Вот видишь, Таграй! Теперь мотор пошел, — сказал Горин.
Таграй захохотал, а Андрей Андреевич сел на пол и попросил:
— А ну, заведи меня!
Польщенный похвалой, мальчик тем же способом начал «заводить» отца. Андрей Андреевич долго играл с сыном-мотористом, жена любовалась ими с нескрываемой радостью. Таграй смотрел на свою соплеменницу Алек, одетую в очень хорошее платье, веселую, красивую.
Андрей Андреевич встал.
— Очень хороший обычай есть у чукчей, — сказал он. — Зайдет гость — и сразу его угощают чаем. А вот она у меня забыла этот обычай.
— Амынь какомэй! — вскрикнула Алек и, взмахнув руками, бросилась в кухню.
— Красивая у тебя жена, Андрей Андрей. И на чукчанку не похожа.
— Ничего подобного. Очень похожа… Ты побудь здесь, Таграй. Я сам пойду приготовлю чай. Ведь ей хочется поговорить с тобой.
Таграй подошел к столу, на котором лежали тетради и книги.
— Это кто так пишет? — спросил он по-чукотски вошедшую Алек.
— Я, — ответила она, обнажив в улыбке свои белые зубы. — Учусь я, Таграй. Андрей заставил учиться. Говорит, нельзя не учиться.
— Правильно он говорит.
— Русский язык почти весь выучила, — и она заговорила по-русски.
— Он, оказывается, и учитель хороший? — удивился Таграй.
После ужина был вечер самодеятельности. Играла гармошка. Красноармейцы пели, плясали, не думая о том, что они находятся среди снегов Арктики, за полтора десятка тысяч километров от своих родных нолей.
Впрочем, пограничники вообще настолько привыкали к Северу и так успевали полюбить его, что, когда подходил срок демобилизации, многие оставались работать в различных северных хозяйственных организациях. Они как вольнонаемные работали здесь года два-три и уезжали домой. Но Север манил. И, побывав дома, многие снова возвращались.
Красноармейский вечер закончился поздно ночью. Таграй не скоро уснул. Сколько новых впечатлений за один день! Он лежал в квартире Андрея Андреевича с открытыми глазами и прислушивался к завыванию пурги.
Рано утром, в жесточайшую пургу, Таграй вместе с Андреем Андреевичем приехали в школу.
Едва успел Таграй сбросить дорожную одежду, как сторожиха пошла звонить на первый урок.
ШАМАН-ЧАЙНИК
Однажды в хороший зимний день, освещенный холодной золотистой луной, на культбазу приехали Ульвургын и старик Тнаыргын. Оставив нарту у крыльца, они важно и не спеша вошли в мою комнату.
Судя по внешнему виду, можно было заключить, что Ульвургын, как всегда, отлично настроен. Лицо же старика, более чем обычно сосредоточенное и задумчивое, вызывало беспокойство: не случилось ли чего?
— Сидели, сидели у себя в ярангах и решили поехать к тебе чай пить, — сказал Ульвургын.
— Значит, не по делу, а просто в гости приехали? Очень хорошо. Раздевайтесь.
Ульвургын молча здесь же, в комнате, снял кухлянку и понес ее в коридор.
— И ты, Тнаыргын, раздевайся, — предложил я старику.
На лице Тнаыргына появилась усмешка. С какой-то стариковской застенчивостью он сказал:
— Я голый.
— Как голый?
— Голый. Без рубашки.
— А-а! Рубашки нет? Ну ничего. Хочешь, Тнаыргын, я подарю тебе рубашку?
Старик опять усмехнулся.
— Рубашка есть, — сказал он. — Велел сшить. Только без пользы валяется она в сенках. Не ношу ее.
— Почему же?
— Тело чешется от нее. Без рубашки лучше. Вошь заводится в матерчатой рубашке, — смущаясь, сказал старик.
— А как же вот Ульвургын в рубашке ходит? Ученики — тоже. Да и я ношу рубашку.
— Коо, — уклончиво ответил он.
— Когда была одна рубашка, — сказал Ульвургын, — и у меня чесалось тело. Завел три — перестало. Не все время ношу одну. Меняю. Стало хорошо.
— Правильно, Ульвургын. А у тебя, Тнаыргын, стало быть, одна рубашка?
— Да, одна. И та не нужна.
— Ну хорошо. Не надо — так не надо. Но все же я хочу тебе подарить рубашку. Пусть она будет второй. И если тело зачешется, ты попробуй сними ее и сейчас же надень вторую.
Старик засмеялся.
— Запутать следы, как путает старая лиса? И вошь обманывать нехорошо!
— Принимай подарок, Тнаыргын. Будет у тебя две рубашки, — сказал Ульвургын.
— Или попробовать, Ульвургын, еще раз? — серьезно спросил старик.
— Попробуй, — посоветовал он ему.
Обрядив его в рубашку, мы присели к столу. Поговорили о зимней охоте, о школе, о том, что у чукчанки Анканаут в больнице родился сын; поговорили о новостях, которые были на побережье. Вдруг Ульвургын прервал разговор:
— Подожди! Если гость приехал, то не сухим горлом он новости рассказывает.
— Забыл, забыл, Ульвургын! Сейчас приготовим хороший, крепкий чай.
Между тем я совсем не забыл. Я давно хотел продемонстрировать Ульвургыну действие электрического чайника. Показать его просто, что называется, ни с того ни с сего, мне не хотелось. Я несколько месяцев ждал удобного момента показать чайник. И теперь случай подвернулся.
Мои друзья чукчи, любознательность которых я испытывал на каждом шагу, пусть не осудят меня. Показать чайник сразу же после приезда — это одно. И совсем другое — когда прошло уже ползимы, когда всякие новинки исчерпаны и жизнь идет своим обычным, нормальным путем.
Я хорошо знал, что каждое новшество, с которым приходилось чукчам знакомиться впервые, показанное в соответствующей обстановке, давало прекрасные результаты. Иногда это служило темой многих бесед. Когда-то они уже познакомились с электролампочкой и давно перестали удивляться горящим внутри железным проволочкам. Лампочка никого теперь не удивляла. Но вот электрического чайника они еще не видели и даже не знали, есть ли такой чайник.
Когда Ульвургын сделал мне замечание по поводу «сухого горла», я вытащил чайник из чемодана.
— Будем пить из нового чайника, — сказал я несколько торжественно.
— Ай-ай-ай! Какой хороший дорожный чайник! — вскрикнул Ульвургын и вскочил со стула.
Я держал чайник, закрыв рукою вилку, а Ульвургын поглаживал его и смотрелся в блестящий никель.
— Можно пить чай и глядеть, как ты пьешь. Все равно зеркало, — восторженно говорил Ульвургын.
Даже старик Тнаыргын привстал и, заинтересовавшись, подслеповато разглядывал его.
Когда наконец они сели на свои места, я поставил чайник на угол стола. Затем я взял кувшин с водой, в котором плавали комки нерастаявшего снега. Вода вместе со снегом забулькала и полилась в чайник. Незаметно включив шнур, я стал рассказывать гостям о новых заводах, где вырабатывают много разных вещей.
— А почему в факторию не привозят такие чайники? — перебил Ульвургын.
Гости очень охотно поддерживали беседу до тех пор, пока Ульвургын не вспомнил, что они до сих пор еще не попили чаю.
— Э, ты опять забыл! — сказал он.
— Нет, я не забыл. Вот сейчас закипит вода, и мы будем пить.
— Не думаешь ли ты, что она закипит от наших разговоров? — усмехнувшись, спросил Ульвургын.
— Да. Пока мы поразговариваем, чайник будет готов.
— Что-то я не вижу, чтобы ты был пьян. Разве ты забыл, что чайник не поставлен на огонь? Ведь под чайником нет примуса.
— Примуса не нужно. Он и так закипит, без примуса.
Старик Тнаыргын посмотрел на меня укоризненно. Казалось, что он счел неуместными мои шутки, тем более, что попить чаю хотелось.
— У нас горло ссохнется, если мы будем ждать, когда он закипит у тебя на столе. Может быть, ты вздумал разложить вокруг него костер из твоих бумаг?
— Да нет же, Ульвургын! Пощупай, он уже теплый стал.
Мои гости переглянулись между собой и, наверно, подумали: не с ума ли я начинаю сходить?
Я взял Ульвургына за руку и потянул его пальцы к чайнику. Прикоснувшись, он вдруг положил на него всю ладонь. Затем, привстав со стула, обхватил чайник обеими руками и, тараща на меня глаза, тут же опустил руки.
— Что такое? — тихо спросил он. — Тнаыргын, пощупай сам. Верно ли, чайник горяч? Не показалось ли мне?
— Показалось, — не поднимаясь с места, серьезно сказал старик. — Или ты был слепой и не видел, как наливалась в него вода со снегом?
Ульвургын виновато посмотрел на старика, потом перевел взгляд на чайник и еще раз потрогал его. Чайник был определенно горячий.
— Руку нельзя держать. Пощупай, Тнаыргын, пощупан его. Что-то я перестал быть Ульвургыном. Я совсем перестал понимать все.
Лицо Ульвургына было растерянным, взор блуждал.
Тнаыргын поднялся со стула, едва пощупав чайник, остановился и, согнувшись, молча разглядывал его.
Потом повернулся к Ульвургыну и кивком головы подтвердил.
— Правда, горячий? — спросил его Ульвургын.
— Да, правда, — тихо ответил Тнаыргын.
Они находились в таком состоянии, что явно хотели услышать человеческий голос.
— Садитесь, садитесь, — сказал я им. — Скоро вода закипит, и мы будем пить чай.
Они сели, уставив взгляды на чайник.
Вдруг чайник запел. Старики насторожились и опять переглянулись.
— Это электрический чайник. Как лампочка нагревается.
Они жадно смотрели на чайник, и казалось, что не слышали моих слов.
Из носика чайника повалил пар, затанцевала крышка, и мои гости одеревенели.
— Какомэй! Шаман-чайник! — рассмеялся вдруг Ульвургын.
— Видишь, я не шаман, а заставил воду закипеть без огня. Пусть ваш шаман попробует так сделать.
И когда напряжение прошло, Ульвургын удивленно спросил:
— Почему так получилось?
Я стал объяснять. В столе у меня был кусок шнура. Обнажив проволочки, я рассказал, как с берега, где стоит ветродвигатель с моторами, по проводу идет тепло к чайнику. Они внимательно разглядывали шнур, чайник с двумя гвоздиками сзади и удивлялись.
— Почему так? — разводя руками, говорил Ульвургын.
— А ты помнишь, Ульвургын, — сказал старик, — раньше, когда у нас не было спичек, как мы добывали огонь? Вертелом. Ведь тетива вертела — она всегда становилась теплой.
Я наблюдал, как они по-своему искали объяснения этому чуду двадцатого века. Но объяснить им хорошо я не мог: у меня для такого «ученого разговора» не хватало чукотских слов.
Старики были так поражены и удивлены чудесным чайником, что вдруг, совсем неожиданно, собрались уезжать. Они уехали, забыв даже о чае. А может быть, с первого раза не захотели пить из таинственного чайника.
Я послал за Таграем.
Последнее время Таграй что-то загрустил. Он сторонился товарищеской компании и весь ушел в книги. Я объяснял это его страстным желанием возможно скорей изучить самолет, но учителя были иного мнения. Они говорили, что Таграй, кажется, увлекся Леной Журавлевой. Таграй, с которым у меня были приятельские отношения, никогда мне об этом не говорил, и я решил, что догадки учителей не имеют основания. А может быть, это новое чувство наполнило его неожиданно, вдруг, и он не решался идти со мной на откровенный разговор?
Вскоре пришел Таграй. Он сидел у меня, очень серьезный и немного взволнованный. С необыкновенной теплотой он рассказывал о горбуне Квазимодо из «Собора Парижской богоматери». Однако, увидев на столе чайник, остановился и спросил:
— Что это? Чайник такой?
— Да, чайник. Электрический.
— Электрический?
Он вскочил со стула, подбежал к столу.
Таграй из уроков физики знал уже о нагревательных приборах, и все же чайник его очень заинтересовал.
— Можно вскипятить? — спросил он.
— Таграй! Совсем недавно я хотел угостить из него Ульвургына и старика Тнаыргына. Но они так удивились, что забыли попить чаю и уехали домой.
Таграй звонко расхохотался и спросил:
— Ты знаешь, почему они уехали?
— Нет, не знаю.
— Они помчались скорей сообщить эту новость. И я думаю, что они будут пытаться устроить такой же чайник у себя в яранге.
— Как устроить?
— Они, конечно, его не сделают, но будут пытаться сделать.
— Серьезно?
— Я так думаю. Ульвургын очень любит такие вещи. Про него рассказывают: раньше он делал граммофон, не сделал только. Верно, верно! Мне так рассказывал отец.
Предположение Таграя оправдалось. По приезде домой Ульвургын позвал колхозного моториста Айвана и сказал ему:
— Поскорей настрой рульмотор!
— Зачем, Ульвургын? Кругом лед, никуда не поедешь!
— Не ехать, а чай будем пить от мотора, — сказал он и тут же сообщил людям новость.
Новость была такая, что поверить в нее не всякий согласился. Но когда ее уж подтвердил старик Тнаыргын, в толпе раздались возгласы удивления.
Ульвургын быстро вошел в ярангу, достал хранившуюся у него проволочку, обернул ее ситцевой тряпочкой настолько аккуратно, что создалось полное впечатление электрического провода.
«Электромонтер» сидел на шкурах и уже крутил в руках обыкновенный закопченный чайник. Напротив сидел Тнаыргын. Он смотрел на работу Ульвургына и изредка отвечал на его вопросы. Работа была сложная. Не так-то просто забить два гвоздика в заднюю стенку чайника. Но Ульвургын справился с этой задачей. Железные подполозки к нартам потолще, чем стенки чайника, однако сколько дырочек в них приходится сверлить! Скоро два болтика от нарты прочно сидели в задней части чайника.
— Посмотри, Тнаыргын, — так ли они торчат, как у того чайника?
Старик посмотрел, пощупал и пришел к заключению, что работа сделана хорошо.
Из моржовой кости Ульвургын выпилил две круглые штучки — наконечники к шнуру, просверлил в них дырочки, в которые плотно входили гвоздики чайника.
— Готово! — крикнул Ульвургын. — Заводи мотор, Айван!
«Электрический» провод он перекинул через верхнюю балку, протянул ее через круглую отдушину полога в сенцы. Мотор фырчал и не заводился. Но после долгих усилий моториста он заработал.
— Останови! — командовал Ульвургын. — Вот здесь мы прицепим мою веревочку, чтобы она крутилась. Малый ход только давай, как бы не соскочила.
От вращения рульмотора, по расчетам Ульвургына, должен был нагреваться его самодельный шнур. И когда мотор был запущен, Ульвургын сидел у чайника и не отрываясь следил за ним. Но случилось самое невероятное. Шнур стал наматываться, и пока Айван успел остановить мотор, чайник, расплескав воду, вылетел в сенцы.
Подъезжая к яранге Ульвургына, мы заметили около нее толпившихся людей.
— Вон, смотри, — сказал Таграй. — Тут что-то делается.
Мы вошли в ярангу.
— Здравствуй, Ульвургын! Теперь я приехал в гости к тебе.
— Здравствуй, — сказал он. — Только «сухим горлом» будешь разговаривать. Сделали такой же чайник, как у тебя, а он не годится.
Ульвургын лежал на спине, держал в руке чайник и разглядывал его.
— И что такое? — разочарованно спросил он. — Как будто все правильно сделал.
Таграй лег на живот около Ульвургына, взял у него чайник и расхохотался.
— Так и не закипел? — спросил он.
— Нет.
Таграй сочувственно покачал головой.
— Электричества здесь нет, — сказал он. — Прежде чем ему вскипеть, надо выработать электричество. Я вот привез такой ветряк — в школе мы сделали, — и если его установить на мачте от вельбота, то в яранге загорится свет.
— Где у тебя то, что ты привез?
— На нарте лежит. Давайте мачту, и мы сейчас устроим, если хочешь, — сказал Таграй.
— Айван, принеси мачту! — крикнул Ульвургын мотористу.
— Мачту? Она снегом завалена. Раскопать придется.
— Раскопай.
Целый час возился Таграй с установкой ветряка. Молодые парни старались точно выполнять его указания. Мачта с оттяжками стояла так прочно, что никакой ветер не мог бы свалить ее.
Таграй пристроил динамомашину и выбежал на улицу. Лопасти ветряка работали хорошо.
В яранге и около яранги было множество народа. И когда все было готово, Таграй ввинтил электролампочку и включил свет. Свет был настолько яркий, что люди, сидевшие в яранге, заморгали.
Ульвургын закрыл глаза ладонью и, затаив дыхание, смотрел на лампочку сквозь растопыренные пальцы.
— Вот видишь, как делается электричество? В машинке делается оно. От кино взяли машинку, — рассказывал Таграй.
— А в машинку кто его впускает? Ветер?
— Да, да, ветер.
— И бензина не надо?
— Нет, только ветер.
— Ай, ай, ай! Сколько у нас ветру! Почему фактория не привозит такие машинки! Ведь мы сами сделали бы крылья для ветра.
Таграй взял лампочку вместе с проводом и пошел в сени, где тоже толпились люди. Собаки, лежавшие здесь, с лаем бросились вон.
— Какомэй, Таграй! — кричали все, удивляясь.
Таграй снова вышел на улицу, посветил лампочкой на лопасти, — ветряк работал превосходно.
— Таграй, неси сюда свет! — позвал его Ульвургын.
С лампочкой в руке Таграй влез в полог.
— Таграй, если ты сделал такой свет в моей яранге, то пусть теперь закипит чайник.
— Ульвургын, одна собака может тащить тяжело груженную нарту? — спросил Таграй.
— Нет. А зачем тебе?
— Это пример такой. Груженую нарту могут потянуть только собак двенадцать. На культбазе ветряк большой. Он много тянет. А этот ветрячок маленький, все равно одна собачья сила. Его силы хватает только на одну лампочку. Вот если здесь установить ветряк сил на пятьдесят собачьих, то во всех ярангах загорятся лампочки и закипят чайники. Но все равно твой чайник не закипел бы.
И Таграй подробно начал рассказывать, почему не годится чайник Ульвургына.
ДОБРОВОЛЕЦ КТУГЕ
Председатель чукотского рика Кукай ходил по учреждениям культбазы. Плотный, кряжистый, лет сорока на вид, невысокого роста, с живыми, умными глазами, он внимательно присматривался ко всему.
Кукай бродил по культбазе, слушал, что говорили доктор, учителя. Казалось, что он только и умел слушать. Он слушал внимательно, немного склонив голову. Трудно было понять: верит ли он в то, что говорят ему русские, или нет.
Вечером в школе состоялось собрание. Здесь были работники культбазы и ученики. Кукай сел за стол президиума и стал смотреть в записную книжку. Он низко склонился над столом, словно боясь взглянуть на такое множество народа, собравшегося в школьном зале. Наконец он встал.
— Товарищи, — сказал Кукай, — я приехал к вам посмотреть, как вы живете, как вы работаете и как учитесь. Я все время слежу издалека за вашей работой. Все новости о вашей работе собираю. А теперь вот приехал сам. И вижу, что работа идет хорошо. Только немножко мало вы работаете.
От неожиданности все вдруг переглянулись. Кукай понял это и, едва улыбаясь, будто от застенчивости, сказал:
— Я сейчас вам расскажу, почему мало. Все вы знаете, что наш народ — все равно два народа. Береговые живут на одном месте и охотятся за морским зверем, а оленеводы — кочевники. Живут в горах. Вот.
Кукай помолчал немного и заглянул в книжечку.
— У меня записано, что береговые люди на девяносто четыре процента живут в колхозах. Что это значит, вы сами знаете, потому что глаза у вас самих есть. Это значит, что люди на берегу забыли, что такое голод.
Культбаза много сделала в этой работе, и за это ей спасибо, спасибо от нашего народа.
Теперь — почему мало. Я слушал доктора. Он очень хороший доктор. Народ верит ему. По всему побережью верит ему народ.
Сколько женщин стало рожать у него в больнице? Много. Но я только спросил его: сколько кочевниц рожало в больнице? Доктор сказал: ни одной. У кочевников-оленеводов нет ни одного колхоза, нет ни одного грамотного человека. Вот с кочевниками культбаза работает мало.
— Правильно, товарищ Кукай! — крикнул доктор.
— Кочевые советы там все равно на веревочке у шамана. Он их крепко держит в руке: хочет — выпустит, а не хочет — не выпустит. Когда я ездил в Хабаровск на съезд, мне было неловко сказать об этом. Но я сказал. Все делегаты удивлялись: почему кочевой совет на веревочке у шаманов? Но ведь это была правда, и я сказал правду. Я обещал: мы много будем работать и эту веревочку вырвем из рук шамана. Все делегаты с радостью застучали в ладоши.
Культбазовцы гулко зааплодировали. Кукай стоял, внимательно оглядывая всех, и, когда аплодисменты закончились, продолжал:
— Рику без культбазы трудно выполнить мое обещание. А культбаза среди кочевников работает мало.
— Товарищ Кукай, не мало культбаза работает, а совсем не работает, — опять крикнул доктор. — Так и нужно правду говорить.
— Все может быть, что это и так, — ответил Кукай. — Так вот, товарищи. Рик пробовал посылать учителей в кочевье. Русских учителей. Трудно им без привычки работать в кочевьях. Язык плохо знали они, но все же уезжали туда. Мы выбирали комсомольцев, здоровых, крепких. Но вскоре они вернулись оттуда — их прогнали. Недавно вернулся последний учитель. Он говорит: стойбище стало кочевать, его посадили на нарту, повезли как будто на новое место кочевки, а на самом деле в другую сторону и там бросили его в горах. Он вышел на берег пешком, обморозился. Потом береговые нашли его и привезли в рик. Богатые, шаманы не хотят, чтобы пастухи учились грамоте. Они гонят учителей, как волков от стада. В рике я сказал: учителей в кочевья надо посылать из своего народа. Нашим людям легче там начать работу. А где их взять? Их ведь нет еще! Может, из старших учеников кого послать? Все в рике сказали: правильно я думаю. Тундру нельзя оставлять такой, какая она есть. Там много тысяч оленей, много пастухов. Если пастухи будут грамотны и если кочевые советы хорошо заработают, оленей будет еще больше, и людям от этого станет лучше жить. А вы все как думаете?
Учитель Николай Павлович встал и попросил слова.
— Я думаю, — сказал он, — что товарищ Кукай говорит правильно. Ждать больше нельзя. Но должен сказать, что русскому учителю без знания языка и условий жизни кочевника работать невозможно. Для начала надо послать к ним кого-нибудь из местных людей. Пусть даже одного человека на первых порах. А потом, когда кочевники примирятся с фактом существования у них школы, можно будет укрепить школу и русскими учителями. Поэтому я предложил бы послать учителем одного комсомольца из наших старших учеников. Конечно, очень плохо отрывать учеников от школы, но я думаю, что мы все, учителя, возьмем на себя обязательство летом подготовить его по всем предметам по программе седьмого класса.
— Правильно, правильно! — радостно захлопал в свои большие ладони председатель рика. — Ведь я в рике то же говорил. Вот хорошо бы туда послать Таграя. Я думаю, он будет хорошим учителем.
— Таграя нельзя. Он обучает красноармейцев чукотскому языку! — в один голос закричали ученики.
Таграй сидел молча и впервые почувствовал всю тяжесть лжи, на которую пошел, лишь бы научиться летать на самолете. Он встал и сказал:
— Я поеду к кочевникам. Я буду кочевать с ними и обязательно научу их грамоте. Но для этого надо поговорить с Андрей Андреем.
— Не надо говорить с ним, — сказал Ктуге. — Если летом, как говорит Николай Павлович, можно догнать по всем предметам, то я поеду добровольно.
Все оглянулись на Ктуге. Послышался чей-то голос:
— Ктуге, в горах нет музыкального ящика!
Долго еще обсуждали кандидатуру кочевого учителя и наконец решили, что Ктуге хорошо справится с новым делом.
На следующий день, рано утром, Ктуге провожала вся культбаза. Он был одет уже по-дорожному и совсем не был похож не только на учителя, но даже и на вчерашнего ученика.
— Ктуге, кто же теперь будет играть на пианино? Кто будет писать стихи в стенгазету? — спросила Лена.
Он засмеялся и, помолчав немного, сказал:
— С гор буду вам присылать стихи. А на пианино играть научи кого-нибудь еще. Если желающих не будет, тогда привезите его мне в горы. Я поставлю его на холм и буду так играть, что даже волки станут смирными и не будут загрызать оленей. Тогда и пастухам будет меньше работы, и я буду их учить.
Все смеялись, пожимали ему руку, просили писать о жизни и работе.
Нарта скрипнула и побежала в горы, вдаль от морского берега. Ребята махали Ктуге рукой до тех пор, пока нарта не скрылась.
И хотя из школы уехал только один ученик, она казалась осиротелой. Вечером не было уже так шумно, как всегда. А пианино безмолвно стояло в углу, и даже Лена не играла в этот вечер.
Ребята собрались в классе и потихоньку разговаривали о Ктуге, о том, как он будет учить детей оленеводов, как будет скакать на быстроногих оленях.
Всем было грустно от разлуки с товарищем, но многим хотелось быть на его месте.
НЕРАВНАЯ БОРЬБА
Собаки бежали крупной рысью. Ктуге сидел за спиной каюра и посматривал вдаль. Но вот собаки, вздернув уши, взяли в галоп. Каюр затормозил и сказал:
— Стадо близко.
И действительно, скоро в тишине гор послышался какой-то совсем необычный шум. Это шли олени, задевая друг друга рогами и пощелкивая копытами. Шум становился все слышнее и слышнее. Собаки насторожились, насторожился и каюр.
Огромное стадо растянулось по склонам гор на многие километры. Казалось, что на склонах не было и снега. Была одна сплошная движущаяся серая масса. Здесь было около четырех тысяч оленей.
Стадо принадлежало крупному оленеводу — шаману Араро. К нему и ехал Ктуге.
Он привстал на колени и с быстро бегущей нарты всматривался в просторы тундры, где безраздельно властвовал Араро.
Белоснежная даль сливалась с небом. И не видно было, где кончалась тундра и где начиналось небо.
Каюр держит собак стороной, не давая им приблизиться к стаду. Щелкая зубами, собаки поглядывают в сторону оленей.
От стада отделился человек и, размахивая посохом, побежал наперерез.
— Останови собак! — сказал Ктуге каюру. — Вон видишь, пастух бежит к нам.
Пастух издали крикнул:
— Эгей! Эгей!
Он подбежал к нарте, остановился и, опершись о посох, стал вытирать пот с лица.
Мех на его старой кухлянке вытерся, и во многих местах, как весенние проталины, виднелась голая кожа.
— Пастухом работаешь? — спросил Ктуге.
— Немножко пастухом, немножко хозяином, — ответил он. — Пять оленей своих имею. А два года тому назад было только четыре, — и «немножко хозяин» с довольным и улыбающимся лицом показал четыре пальца.
— Акционер, стало быть, ты?
— Что такое? — переспросил пастух.
— Акционер, говорю. В Америке вот таких «немножко хозяев» много есть. Главный хозяин имеет миллион оленей, например, а «немножко хозяин» — два оленя.
— Эгей, — мотнул головой пастух, совершенно не понявший Ктуге.
— Да, — сказал Ктуге. — На пять оленей хорошей одежды не справишь.
Ктуге улыбнулся и ткнул пальцем в голые колени пастуха.
— Обморозиться в таких штанах можно.
— Нет, — весело сказал пастух, — у нас жаркая работа. Бегаем все. А когда бегаешь — не холодно. Ты кто такой и куда ты едешь?
— Ульвургына слыхал?
— Слыхал.
— Вот племянник я его.
— У-у-ум, — промычал пастух.
— Учить ребят и пастухов еду к твоему хозяину Араро.
— Э-э! — протянул пастух и совсем тихо заговорил: — Араро не любит учителей. Один раз велел мне вывезти одного русского в тундру, подальше от жилья, и, когда он сойдет с нарты, чтобы ноги размять, — стегнуть оленей и ускакать. Бросил я его. Наверно, пропал. Ходить он по тундре совсем не умеет.
Жалко было самому. Все-таки человек он… А нельзя было не бросить. Смотри, парень, Араро и тебя может прогнать. Хотя ведь ты не русский. Может, и не прогонит.
— Тебя как зовут? — спросил Ктуге.
— Чомкаль.
— Вот что, Чомкаль: меня Араро не прогонит. Учить я буду. Ты знаешь, Чомкаль, кто меня послал? Сам Сталин. Слыхал?
— Немножко слыхал, а понять ничего не могу.
— Подожди, не сразу. Потом поймешь. Сколько вас всего пастухов?
Чомкаль стал считать, произнося вслух имена.
— Одиннадцать, — сказал он наконец.
Ктуге развязал тюлений колауз и вытащил пять букварей.
— Вот, Чомкаль, для начала. Одна эта штука на двух пастухов.
— Не надо нам! — взмахнул тот обеими руками.
— Возьми, возьми! Здесь картинки есть. Видишь, вот олень нарисован.
Чомкаль пристально вгляделся в рисунок и с раздражением сказал:
— Неправильный олень. Так олень не стоит. Ноги неправильно стоят. А куропатка вот правильная. И горностай шею так сгибает.
— Раздай, Чомкаль, эти штуки-книжки по одной на двух пастухов, а эту, с пометкой, — Ктуге ногтем поставил крестик на обложке, — на трех пастухов. Понял?
— И-и… понял.
— Разглядите сначала картинки. Что будет непонятно, приеду — расскажу. Вот это Ленин, а это Сталин.
Неумело держа в руках книжку, Чомкаль стал рассматривать портреты.
Упряжка побежала дальше. Ктуге оглянулся и увидел бегущего рядом с нартой Чомкаля.
— Что такое? — спросил он.
— Не надо нам их. Возьми, положи себе в мешок.
— Нет, так нельзя. Раз мы с тобой договорились, то обратно нельзя. Такой новый закон.
— Араро показать их можно или не можно?
Ктуге встал с нарты, подумал и сказал:
— Пока не надо показывать. Когда придет время, я сам скажу ему.
— Эгей! — и пастух, размахивая книжками и палкой, побежал к стаду.
Стойбище Араро, состоящее из десяти яранг, расположилось в долине реки.
Издали оно казалось вымершим и затерянным в этих глубоких снегах. Лишь из одной крайней яранги тоненьким столбиком тянулся дымок. Но как только нарта стала подъезжать, стойбище вдруг ожило. Поднялся крик, выбежали дети.
Шаман Араро — он же и хозяин стойбища — сидел в холодной части яранги. Перед ним на длинной цепи висел огромный медный котел. В котле варился маленький олень. Араро был одет в пестрые пушистые оленьи шкуры и, сидя на шкурах, курил из длинной, тонкой медной трубки. Это был крепкий человек лет пятидесяти, с упрямым и волевым лицом. Глаза пронизывали готовивших ему обед женщин. Женщины суетливо подкладывали в костер вереск и сухие ветки ивняка. Вода в котле пенилась, и легкий пар метался на поверхности закипавшей воды.
— Кто там приехал? — спросил Араро.
— Береговые чукчи.
— Пусть зайдут сюда.
Исподлобья взглянув на вошедшего Ктуге, шаман спросил:
— Ты приехал?
— Да, я приехал, — ответил Ктуге.
— Чей ты сын?
— Сын Омкая, племянник Ульвургына.
— Эгей! Отец твой был немного похож на человека, а дядя твой — бездельник. Продался русским.
— Если отец был немножко похож на человека, то я, сын его, стал настоящим человеком, — ответил Ктуге.
— Ого! Язык твой навострился болтать вздор, как у русского. Садись. И если ты приехал за мясом, оленя убивать не буду. Не время убивать. Не захочу и вовремя убивать. Пусть береговые жрут тухлого моржа. Они перестали понимать вкус оленьего мяса. Пусть они едят коровальгын[53]Коровальгын — коровье мясо. из железных банок, которые привозят им русские пароходы. Пусть они лижут языком железные банки, и, как черви, объедают остатки жира на опущенной в море нерпичьей шкуре. Пусть.
— Мне не нужно мяса, — сказал Ктуге. — Не за мясом приехал. Я приехал учить грамоте детей и взрослых, кто пожелает.
Араро зло расхохотался.
— Ты хочешь со мной шутить. А к шуткам я не привык. Скажи, бывают чукчи-учителя?
— Да. Появились. Пока я первый учитель. Вот привез книжки, и бумагу, и карандаши. Скоро нужно начать заниматься.
— Тытэ нет вэрин! Вот так диво! — воскликнул шаман. — Я звал тебя к себе? Зачем учителя пристали ко мне, как гнус к оленям в летнюю пору?
— Не сам я приехал. Меня послала сюда советская власть.
— Наплевал я на всех учителей! Уйди отсюда! Уйди! Сейчас я буду заниматься едой. Вон через тебя мясо испортилось — пролежало в котле больше, чем нужно. Эти нерпы раскрыли рты и слушают то, что и не след им слушать.
Женщины, как мыши из-под волчьих лап, бросились к котлу.
— Уйди в крайнюю ярангу. Переспи там, а завтра я поговорю с тобой.
— Может быть, ты угостишь меня кусочком вареного мяса? — спросил Ктуге.
— Уйди, уйди! Живот мой и тот ворчит на тебя, как собака на недруга.
Ктуге поднялся и вышел.
— Чья это крайняя яранга? — спросил он мальчика.
— Чомкаля. Он в стаде. Жена дома, — ответил мальчик.
Ктуге быстрей зашагал, но вдруг повернулся к нарте и, подойдя, развязал мешок, достал мясные консервы и сахар. Он дал мальчикам, крутившимся около него, по кусочку, и они, обрадованные невиданным подарком, запищали от радости.
В яранге Араро принялся за еду. И хотя непрошеный гость испортил аппетит шаману, все же он съел чуть ли не целого оленя. Араро раскраснелся, живот его заметно вздулся. Он ползком полез в теплую часть жилья. Долго он катался на шкурах, словно помогая пищеварению. Наконец донесся его тихий голос:
— Чаю.
Чайники были уже готовы, и две женщины нырнули к Араро поить его.
* * *
Утро было мрачное. Падала изморозь. Люди стойбища и даже дети косо посматривали на своего соплеменника-пришельца Ктуге. Никто не решался с ним разговаривать. И когда в стойбище вбежал Чомкаль сменить обувь, то и он с руганью набросился на Ктуге.
— Ты зачем спал в моей яранге?
— Араро велел мне спать здесь.
— А-а! — просиял от радости Чомкаль. — Тогда хорошо. Живи в моей яранге. То, что ты нам дал, мы всю ночь смотрели. Все спички пожгли. Жалко спички. Теперь не даст нам Араро.
— Спички? Я спичек дам тебе десять коробков. Бери, бери. Я правду тебе говорю. Я напишу записку на культбазу, и мне хоть ящик их пришлют.
— Такой богатый ты? — и Чомкаль схватил пачку спичек, любуясь ими, как самым драгоценным подарком.
— Эгей! — послышался голос снаружи. — Гостя зовет к себе Араро.
Чомкаль прищелкнул языком, подмигнул жене и сказал:
— Вот какой гость у тебя ночевал. Сам Араро зовет его к себе.
— Вчера ругались они… — прошептала жена Чомкаля.
— Не ври… болтунья. Он тебе язык отрежет. Видишь, зовет к себе, а ты… «ругались»!
Когда Ктуге вошел к Араро, тот голый сидел на шкурах.
— Хе-хе-хе, Ульвургынин племянничек, — сказал он вошедшему Ктуге. — Ты безумец, если осмеливаешься без боязни разговаривать со мной.
— Я могу с тобой не говорить. Я приехал учить пастушьих детей грамоте. Мне с тобой не о чем говорить.
— Что ты сказал? Хе-хе-хе! Мне забавно будет поиграть с тобой, как с мышонком. Ты к кому приехал? И тебе никто не сказал, что я здесь хозяин?
— Говорили. Только слова пролетели мимо ушей, как ветер.
— Ай-ай-ай! Какой ты шутник! — И, оскалив зубы, шаман добавил: — Я скажу одно слово, только одно слово — и никто на тебя глазом не будет смотреть, никто тебя не пустит переспать даже в самую худшую ярангу. Ты будешь мерзнуть, как дохлый волчонок.
Ктуге молча выслушивал шамана, взвешивал обстановку и решил изменить тон разговора с ним.
— Зачем ты будешь морозить меня? Правда, я не такой богатый, как ты, но я ведь родился тоже на этой земле. Я ведь человек, а не зверь. Я не сын волка, я — сын Омкая.
— Хе-хе-хе, — довольно засмеялся шаман. — Ночью я думал о тебе. Я решил: ладно, учи. Я посмотрю, как ты будешь учить. А не то — тебя быстро свезут на берег.
— Хорошо. Я затем и приехал.
— Не-не-не. Меня сначала одного учи. Я посмотрю: нужно ли это оленным людям?
— Рик считает, что нужно.
— Наплевал я на ваш рик. Я к нему не езжу, и ко мне он пусть не приезжает. Ступай неси, что привез с собой.
Ктуге сходил за букварем, и когда он сидел уже с книгой у шамана, по всему стойбищу разнеслась совсем необычная новость: сам Араро начал учиться!
Какой-то мальчишка опрометью бросился бежать в стадо к пастухам, чтобы сообщить об этом и им.
Пастухи обрадовались и с еще большей охотой, теперь уже без боязни, стали рассматривать картинки в букварях.
Ктуге показывал шаману букварь, листал страницы и читал текст написанного.
— Постой, достой! Этот разговор сделан по-чукотски?
— Да, — ответил Ктуге.
— А кем он сделан? Где ты видишь этот разговор?
— Вот эти червячки — буквы. Из них состоит разговор.
— Постой, постой! Это как след на снегу от прошедшего стада оленей, — смотри, сколько натоптано. Женщины! — крикнул Араро. — Принесите еще свечей. Устройте яркий свет для важного дела.
Он молча ждал свечей и, когда они загорелись, опять склонился над букварем.
— Вот теперь видно хорошо. Да, это след большого стада. Ну, поговори еще по этим следам.
Ктуге продолжал читать.
— Остановись! Кто этот разговор сделал?
— Старик один в Ленинграде.
— Чей старик? Русский?
— Да, русский.
— А слышал ли ты хоть от одного русского наш правильный разговор? Как мог сделать такие правильные слова русский старик? Не мог он сделать!
— Так вот же — сделал.
— Нет! Не он это сделал. Если учить наш народ, надо разговор делать самим, в горах. И не на этой рвущейся бумаге, а на оленьей шкуре. Пусть наш старик из оленеводов сделает такой разговор. Ты слыхал про Тынневиля? Он тоже в Анадырских горах сделал разговор свой. Этот человек хотя и наш, но бродяга, он нищий. Его разговор мне тоже не нужен[54]Здесь речь идет о действительном изобретателе иероглифической письменности — пастухе чукче Тынневиле. Тынневиль привлек внимание советских ученых. Без всякого влияния со стороны он создал множество иероглифов и этой письменности обучил своего сына. О нем были помещены научные статьи в журналах «Язык и письменность» и «Советская этнография». Я встречал чукчу Тынневиля. Он охотно объяснял свои иероглифы каждому, кто бы ни пожелал с ними познакомиться. Но так как иероглифы малодоступны для широких масс, то, кроме сына, Тынневиль никого не обучил. Весь его многолетний труд по созданию этой своеобразной письменности представляет исключительно любопытное явление, не имеющее, однако, практического значения. Кроме того, этот факт свидетельствует о начавшихся в советское время больших культурных сдвигах на Чукотке. (Примечание автора.). Я сам найду старика и скажу, чтобы он сделал разговор такой, какой нам нужен. Я ему дам за эту работу одного оленя целиком. А такого ученья нам не надо. И про Ленина не надо. Ленин происходит от луны.
— Почему от луны?
— Потому что раньше был Тирк-эрым[55]Тирк — солнце; тирк-эрым — солнечный владыка, царь.. Его Ленин убил. А что дает свет яркий? Солнце. Ленин не может происходить от Тирк-эрыма, раз он его убил. Значит, происходит от луны, от тьмы.
— Что за чепуху ты говоришь! — вскрикнул Ктуге.
— Не надо, не надо! — замахал руками шаман. — Безумец! Я узнаю в тебе племянника Ульвургына. От волка родится волк, от лисицы — лисенок, от зайчихи — заяц. Или ты не знаешь, что русский не может сделать правильного разговора? Эта книжка твоя сделана совместно с «келе». Она на погибель чукотского народа. Уйди от меня! Прочь! Женщины! — закричал шаман. — Оставьте меня одного. Чтобы на расстояние голоса человека никто из живых не приближался к моей яранге. Я буду сноситься с духами.
И едва Ктуге вышел на улицу, как тотчас же послышались глухие удары бубна. Араро начал шаманить.
Между тем Ктуге, воспользовавшись замешательством в стойбище, собрал всех детей и провел с ними беседу. Ведь сам шаман учился у Ктуге!
Дети слушали его, рассматривали буквари. Это было так интересно! Ктуге рассказывал увлекательно. Беседа шла при тусклом свете жирника несколько часов подряд. Лишь под конец Ктуге вспомнил, что он привез с собой целый ящик стеариновых свечей.
* * *
Стойбище погружалось в сон. Мрачные яранги темными силуэтами вырисовывались в долине безыменной реки. Издали доносился топот проходившего в стороне стада оленей.
В яранге Араро все рокотал бубен, и звуки его летели в тундру, как невидимые черные вороны.
Ктуге стоял на улице и молча прислушивался к звукам бубна.
Он прошел мимо яранги Араро, и сейчас же, словно из-под земли, появились женщины и замахали своими широкими рукавами, думая, что он идет к шаману.
Ктуге вернулся обратно, но, сделав несколько шагов, не оглядываясь на женщин, остановился. Он услышал пение и выкрики шамана. Ктуге стал прислушиваться. Слов разобрать было нельзя.
Постояв, Ктуге махнул рукой и, сказав: «А ну тебя к черту!» — пошел спать.
Лишь к утру шаман угомонился. Но едва он заснул, как страшный сон разбудил его. Еще все стойбище спало. Он быстро оделся, приказал заложить оленей и покатил в стадо. Олени мчались под ударами его хлыста, как обезумевшие. Во сне шаман видел, как волки загрызли много оленей в его стаде. И действительно — сон в руку. В эту ночь два оленя пали от набега волков. Пастухи с волнением докладывали ему о происшедшем несчастье.
— Ух! — облегченно вздохнул Арапо, вытирая с лица выступивший холодный пот. — Пусть. Эго ничего. Во сне видел я множество пропавших оленей.
Облегченно вздохнули и пастухи. Чомкаль выступил вперед и сказал:
— Теперь ночь кончается. Волки убежали, пурги нет, и мы тоже, как и ты, стали учиться вот по этой… — он вынул из-за пазухи букварь.
Глаза Араро налились кровью. Он выхватил из рук Чомкаля букварь и сильно ударил пастуха книжкой по лицу.
— Где ты взял эту нечисть? Как она попала к тебе? — закричал он.
Пастухи в испуге отступили. Чомкаль стоял с покорным лицом. Он молчал, не решаясь ни заговорить, ни двинуться с места.
— Зачем молчишь? Или волки съели твой язык?
Чомкаль тихим голосом стал рассказывать.
Выслушав его, Араро сказал:
— Я прогоню вас всех, и вы сдохнете с голода на третий день. На своих дохлых оленях вы не доедете даже до берега.
— Араро, мы не знали. Мы соберем их все и отдадим, чтобы не смотреть на них больше, — сказал Чомкаль.
— Он оставил их пять, — почти в один голос проговорили пастухи и тут же вытащили из-за пазухи буквари.
— Сложите их в кучу и подожгите. С подветренной стороны только, чтобы поганый смрад от них не шел на стадо.
Разорванные буквари, перемешанные с вереском, запылали в костре. По тундре пошел запах горящей бумаги. Пастухи, подражая Араро, с отвращением зажали носы и перешли на другую сторону.
— Араро, пусть я вернусь с тобой и сам прогоню его из своей яранги, — сказал Чомкаль.
— Поедем.
Занятия Ктуге с детьми с самого утра шли полным ходом. От зажженных стеариновых свечей в пологе было светло, как весной на улице. Занятия рано начались, потому что ярангу скоро разберут и женщины будут выбивать из шкур образовавшуюся за ночь наледь.
Ктуге спешил уложиться в тот распорядок дня, какой существовал в стойбище.
Каждый из его учеников был уже вооружен карандашом и кусочком бумаги. Дети, как нерпы, лежали на неровном полу прямо на животах. Перед ними были раскрыты буквари, и все они с жадностью пытались срисовать оленя. На неровном полу карандаш протыкал бумагу, но Ктуге это не смущало.
«Разве дело в этом? Пусть рвут. Без этого не может быть учения», — думал Ктуге.
Вдруг меховую стенку полога кто-то с силой рванул, и все увидели разъяренного Чомкаля. За ним с перекошенным от злобы лицом стоял Араро.
Чомкаль кричал:
— Уйди из моей яранги! Я не хочу, чтобы твой запах оставался здесь!
— Что ты, Чомкаль? Или ты мухомора объелся? — спросил Ктуге, стараясь быть спокойным.
— Уйди, уйди! — настаивал Чомкаль. — Поскорей уйди!
— Постой, Чомкаль, — взяв его за руку, сказал Араро. Он выступил вперед и, обращаясь к Ктуге, сказал со всей злобой, накипевшей на сердце: — Ты зачем приехал сюда, безумный щенок? Разве я тебе вчера не сказал, что не нужно нам учения русского? Ты зачем тут портишь детей оленных людей?
— Я ведь уже говорил тебе, зачем я приехал, — несколько настороженно ответил Ктуге, продолжая сидеть на шкурах.
Араро взбесился, схватил Ктуге за ногу и волоком протащил его в сенцы.
Ктуге вскочил, толкнул Араро в грудь и крикнул:
— Ты меня не трогай своими лапами! Я тебе не пастух! Я не боюсь тебя!
Задыхаясь от злобы, Араро побежал к своей яранге и быстро вернулся с винчестером в руках. Чомкаль оробел и подался в сторону.
— Ты не пугай меня ружьем, — сказал Ктуге. — Если ты мне отстрелишь хоть один палец, приедет Чельгы Арма и Андрей Андрей пробьет тебе пулей лоб.
— Эта земля, на которой я стою, Чельгы Арма земля? — вскричал Араро. — Это моя земля! Я здесь хозяин, а не Чельгы Арма!
— Нет, не ты. Эта земля советская. И я все равно отсюда не уеду. Меня советская власть послала на свою землю. Видишь, как дети хотят учиться?
— Вон отсюда, отросток бездельника Ульвургына! Ты береговой — и живи на берегу.
— Я не поеду.
Шаман вскинул винчестер, раздался выстрел. Ктуге схватился за ногу. Валясь на землю, он сквозь стон проговорил:
— Бандит!
— Чомкаль, отвези его на моих оленях на берег, к русским! Скажи там, чтобы никто из береговых чукчей не приезжал в мое стойбище, — сказал Араро и пошел к себе в ярангу.
Чомкаль уложил Ктуге на нарты, схватил вожжи, и олени понеслись.
Изумленные, напуганные дети долго стояли и молча смотрели вслед ускакавшей оленьей упряжке.
Когда скрылось стойбище, Чомкаль остановил оленей. Он нагнулся над Ктуге, спустил с него окровавленные штаны, быстро отрезал ножом клок шерсти со штанов и старательно начал затыкать ею входное и выходное отверстие пули.
Ктуге застонал, сжал зубы и, подняв голову, спросил:
— Зачем ты?
— Как же? Ведь и оленью кровь жалко. Всегда затыкаем. Чтобы не пролилось много.
Новость о выстреле Араро в ученика Ктуге быстро облетела побережье. На культбазу опять приехал председатель райисполкома Кукай. Вместе с ним прибыл и секретарь райкома партии. Это было событие, которое захватило всех. Везде только и разговаривали о Ктуге. Ведь мальчик не просил смерти, — зачем же стрелять?
Возбужденные ученики горячо обсуждали выстрел в их товарища. В них кипела ненависть к Араро.
В комнату, где остановились Кукай и секретарь райкома, вошел Андрей Андреевич.
— Ну как, товарищ секретарь, нравятся тебе эти дела? Я думаю, что нам пора прекратить церемонии с Араро. Он не только тормозит развитие оленного хозяйства, задерживает советизацию тундры, но он отъявленный уголовник.
Кукай внимательно вслушивался в слова Андрея Андреевича и, помолчав немного, сказал:
— Товарищи, я думаю, его надо взять оттуда и судить. Если его не взять, то все чукчи подумают, что советская власть боится Араро. Надо осудить его при всем народе.
— Правильно, Кукай. И с конфискацией имущества, — сказал Андрей Андреевич.
— Доктор! — крикнул в окно секретарь. — Зайдите сюда.
Вошел доктор.
— Вы знаете, — сказал он, — я иду от учеников. Они там организовали бригаду комсомольскую: ехать хотят к Араро.
— Как Ктуге? — спросил секретарь.
— Плохо. Раздроблена большая берцовая кость. Началось заражение. Думаю сейчас класть на стол, ампутировать ногу. Единственный исход.
— Ну, если единственный — что ж поделаешь? А жалко парня!.. — Секретарь помолчал и решительным голосом продолжил: — Делайте операцию. А мы сейчас едем к Араро. Сколько человек нас едет? — спросил он.
— Если ученики собираются ехать, пусть поедет столько, сколько смогут увезти нарты. Пусть учатся ненавидеть врага, — предложил Кукай.
— Моих пять бойцов поедут, — сказал Андрей Андреевич и, обращаясь к Кукаю, спросил: — Стрелять он будет?
— Нет, я думаю, не будет. Когда много народу приедет, стрелять не будет. Только как бы сам себя не застрелил. Хотя нет. Он не захочет расстаться со своим большим стадом.
Рано утром нарты, рассыпавшись веером, галопом неслись к стойбищу Араро. Возле стада оленей они остановились, и Кукай послал одну упряжку за пастухами.
Едва из стойбища заметили приближение собачьих упряжек, как люди суетливо начали перебегать из яранги в ярангу. Прислонившись к стойке, Араро смотрел на подъезжавшие упряжки с видом полнейшего равнодушия. Он не сказал даже подошедшим к нему людям слова обычного приветствия, а только спросил:
— Зачем так много гостей?
— Говорить к тебе приехали о человеке, которого ты убил, — сказал Кукай.
— Разве мой пастух Чомкаль не передал вам? Я наказал, чтобы ко мне никто не ездил. У меня совсем пропала охота разговаривать с мышеедами.
— Скотина какая! — сказал Андрей Андреевич по-русски.
— Да, Чомкаль передавал, но мы не послушались и приехали. Мы заставим тебя разговаривать, — заявил Кукай.
— Раз приехали — не обратно же уезжать. Будем говорить.
— Скажи: зачем ты стрелял в парня? — спросил Кукай.
Араро обвел глазами приехавших и сказал:
— Я убил на своей земле. Сказал ему: «Уезжай из моего стойбища. Нам не нужно учиться. Мы оленные люди. За оленями нам надо смотреть». Так мне сказал ваш Ленин, когда я с ним говорил.
— Что ты врешь? — закричала со злобой Тает-Хема. — Ленин давно умер, да и не мог он этого говорить!
Араро поднял на нее глаза.
— Мне недостойно разговаривать с тобой. Ты все равно дочь волка и собаки. Язык твой говорит наши слова, а обличье твое наполовину русское.
Тает-Хема хотела еще что-то сказать, но Таграй удержал ее за руку.
— Не надо. Пусть говорит все, что хочет. Все равно мы его увезем сейчас, — тихо сказал он.
Араро с брезгливостью отвернулся от Тает-Хемы и, обращаясь к Кукаю, продолжал:
— Я говорил с Лениным через солнце, — и он поднял палец кверху.
Ульвургын выступил вперед.
— И Ленин велел тебе застрелить моего племянника? Поговори сейчас, при нас, с Лениным.
— Я говорю с Лениным, когда мне хочется, а не когда тебе, мышеед. Ты никогда досыта не наедался оленьего мяса — и хочешь, чтобы я разговаривал с тобой?
— Посмотрим. Нам ведь Ленин тоже кое-что рассказывал про тебя, — сказал Ульвургын.
Но Араро не стал вступать с Ульвургыном в пререкания и повернулся опять к Кукаю:
— Поэтому я застрелил его. И если ты вправду начальник у русских, то скажи им, чтобы не ездили ко мне. Две зимы пусть не ездят сюда и береговые чукчи. А если кто еще приедет в мое стойбище, опять застрелю.
— Ну, хватит, товарищи, разговаривать с ним! Сил больше нет слушать. Собирайся с нами! — сказал Андрей Андреевич.
— Хе-хе-хе! Откуда у меня возьмется охота ехать вместе с вами? Уезжайте отсюда! Женщины, скажите, чтобы подали мне лучшую упряжку оленей. В стадо мне ехать надо.
— Возьмите его! — сказал Андрей Андреевич бойцам.
Два красноармейца взяли Араро под руки и поставили на ноги. В этот момент глаза шамана налились кровью, и он сильным ударом в грудь чуть не свалил красноармейца.
— Свяжите ему руки!
Как затравленный хищник, Араро стоял со связанными руками.
Когда его подвели к нарте, он сделал усилие, остановился и крикнул:
— Не сажайте меня на собачью упряжку! Или у меня нет ездовых оленей?
— Придется понюхать тебе собачьего кала, — сказал Ульвургын, выражая этим высшее пренебрежение к Араро.
Длинная вереница нарт тронулась в путь — обратно на культбазу. Секретарь райкома и Кукай остались поговорить с пастухами стойбища Араро. Пастухи молчали и смотрели вокруг испуганными глазами.
— Ладно, — махнув рукой, сказал Кукай. — Когда пастухи узнают, что Араро не вернется в стойбище, глаза у них повеселеют. Плакать о нем никто не будет. У него нет ни сына, ни брата, ни сестры. Он один, как хищный волк, стучал зубами на всю тундру.
ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ
Трудно представить себе всю прелесть чукотской весны, не пережив радостного чувства при наступлении ее. Она приходит неожиданно, вдруг, после вчерашней пурги. Ляжешь спать зимой, а разбудит тебя ласковое, яркое солнце, сразу наполняющее все жизненной теплотой.
Выбегаешь на улицу и видишь: рыхловатый снег, залитый светом почти круглосуточного солнца; далекие горизонты, не отгороженные атмосферной пылью, необычные краски небесного свода, тихий, прозрачный, чистый воздух.
А когда где-нибудь в сторонке, над прогалиной холма, пролетит первая птичка — это уже настоящая весна!
И хотя здесь не встретишь ни деревца с припухшими весенними почками, ни аромата яблонь и вишен, ни всего того, что привык встречать весной житель умеренной полосы, — все же нельзя не полюбить чукотскую весну.
Может быть, потому так и хороша она, что, казалось бы, самый незначительный признак оживления природы здесь захватывает все твое внимание.
С наступлением весны даже серьезно-строгие лица охотников приобретают совершенно иное выражение.
Чукчи, встречаясь, еще издали кричат:
— Наргынен омычагте! Тепло пришло!
Глаза их светятся по-особенному. На широких лицах улыбки.
В это время быстрей едет каюр. Бесшумно катятся полозья нарты по слегка влажному, твердому насту. Дорога везде, куда бы ты ни поехал.
Человек одет легко. Он сидит на нарте без шапки и тихо мурлычет песню весне.
Он поет о том, что собаки его возьмут первый приз, ружье его возьмет первый приз, ноги его обскачут лучшего бегуна на первомайском празднике.
Май! Новый, веселый, радостный праздник! Он не хуже праздника убоя оленей.
Человек поет про этот новый праздник, где глазам и голове много-много работы, где сердце тоже будет петь свою песню.
Человек идет в строю первомайской колонны по теплому весеннему снегу и высоко держит красный флаг. Он идет в ногу со всеми. Впереди шагают девяносто четыре ученика средней школы. Бодро и звонко звучит их песня: «Широка страна моя родная!..»
Легкий ветерок колышет знамена. Огромная первомайская демонстрация — почти в четыреста человек!
Важной поступью колонна проходит мимо школы, интерната, больницы, ветеринарно-зоотехнического пункта, пушной фактории, механических мастерских, мимо ямы-погреба с запасами моржового мяса.
Демонстранты проходят по берегу моря, а море все еще сковано льдами. Они спешат к ярангам чукотского поселка, где на вершинах шатров празднично развеваются красные флаги. Как гигантские фонари, с неба одновременно светят солнце и луна.
И среди тихого полярного дня с берега в просторы тундры несутся слова молодой советской песни. Колонна бесшумно двигается, словно по снежному асфальту. Песню поют ученики. Им пробуют подпевать гости — колхозники-зверобои.
Вдруг в мелодию врывается гул пропеллера. В небе реет самолет. Песня оборвалась.
— Самолет, самолет!
— Андрей Андрей!
Самолет быстро приближается и кружит над чукотскими демонстрантами. Он то низко опускается, то взмывает в прозрачное широкое небо. Оттого и голос его то сильней, то слабей. Он поет свою самолетную песню. Он кажется живым, этот стальной орел.
Самолет улетает в сторону залива и, круто развернувшись, вмиг возвращается. Он кружит и кружит над спутавшимися рядами демонстрантов. Задрав головы, они смотрят на человека-птицу.
— Вон, вон он сидит!
— Вон его голова!
— Вон он замахал рукой!
Самолет заревел, опустил хвост и над головами демонстрантов «полез» в небо.
Вдруг, как снежные хлопья, с самолета полетели бумажные листки. Вмиг рассыпалась колонна. Дети с веселым криком, напоминающим крик птичьего базара, юноши, взрослые — все бегут, подхватывают с земли, ловят листики в воздухе.
«С первомайским праздником, товарищи! Да здравствует дружба народов СССР!»
Листовки отпечатаны в «типографии» Андрея Андреевича, на самом настоящем «ундервуде».
Таграй задрал голову. Он не сводит глаз с самолета. Ему хочется прыгнуть высоко-высоко и оказаться прямо в кабине, рядом с Андрей Андреем. Ведь никто из стоящих здесь, на земле, не знает так хорошо, как он, почему летает самолет. Он изучил нрав самолета получше, чем самый хороший каюр повадки своего вожака. Он знает, почему самолет слушается человека. Он уже знает, как заставить лететь его вверх, опуститься вниз.
Но что такое? Почему он так долго летает? Почему он не садится? От нетерпения сердце хочет выскочить. Хоть бы прикоснуться скорей к его крылу или лыжам.
«Ага! Сейчас пойдет на посадку».
Этого еще никто не заметил, но он, Таграй, хорошо знает, что через минуту самолет будет стоять на земле. Веселый, дрожащий, с горячим сердцем.
Таграй бежит за несущимся по снегу самолетом. Вслед за ним бежит толпа.
— Вот твои письма, Андрей Андрей! — кричат ученики, махая листовками.
Таграй уже вскочил на лыжу, но от волнения ничего не может сказать. Он смотрит на Андрея Андреевича и глазами о чем-то просит его.
— Садись, Таграй, за штурвал.
Радость краской залила лицо юноши.
Привычным движением он проворно влез в кабину пилота, взялся за штурвал и замер.
— Андрей Андрей, потом меня посади. Я тоже хочу подержаться за этот круг! — кричит кто-то из учеников.
Толпа плотно окружила стальную птицу. Андрей Андреевич дает знак отойти в сторону. Он тоже садится в кабину. Самолет сильней задрожал и ринулся вперед так быстро, что никто не успел обратить и внимания на Таграя. Самолет оторвался от земли и опять запел свою монотонную песню.
Все молча следят за полетом. Лишь Тает-Хема, повернувшись к Лене, говорит:
— Лена, а мне показалось, что самолетом управляет Таграй.
— И мне тоже, — удивленно ответила та,
Но, конечно, это чепуха. Кто в это может поверить?
Все завидуют Таграю. Ведь каждому хочется покататься на самолете.
Самолет дал круг и пошел на посадку. Сейчас в кабину залезет кто-нибудь другой.
Андрей Андреевич вылез из кабины.
— И ты, Таграй, вылезай! — сказала Тает-Хема.
— Вылезай! Вылезай! Другие будут кататься! — крикнули ученики.
Но Таграй сидел и не думал вылезать. Он ждал Андрея Андреевича, чтобы вновь подняться в воздух.
— Вылезай, вылезай, Таграй! — настойчиво кричала Тает-Хема.
— Подождите, ребята. Таграй полетит еще, — говорит Андрей Андреевич.
— Это несправедливо, Андрей Андрей, — сказала Тает-Хема. — Видишь, сколько желающих?
Она подбежала к самолету, залезла на лыжу и опять крикнула:
— Вылезай, Таграй!
Но Таграй сидел за штурвалом, глядел на приборы и будто не слышал, что говорит Тает-Хема.
— Это нехорошо, Таграй!
— Что ты пристала, Тает-Хема? — наконец заговорил он. — Может быть, я еще полечу?
— Нехорошо, Таграй! Вылезь! — сказал подошедший Ульвургын. — И мне вот тоже надо покататься.
— Нет, нет, Ульвургын, подожди! — вмешался Андрей Андреевич. — Таграй сейчас полетит один.
Ульвургын отступил на шаг и, ничего не понимая, уставился на Андрея Андреевича.
— Лети, Таграй, один, без меня.
— Я, один? — высунувшись из кабины и тыча себя пальцем в грудь, спросил Таграй.
— Да, да, один! Ведь сколько раз ты взлетал и садился сам. Я-то сидел как пассажир.
Волнение охватило Таграя. Но, овладев собой, он молча скрылся в кабине, проверил рычаги управления и дал газ. Самолет заревел и побежал. Изумленные люди замерли. С невероятной быстротой самолет побежал по снегу, и вдруг между ним и землей образовался просвет. Самолет с ревом взмыл вверх. Люди бросили друг на друга удивленные взгляды, посмотрели на Андрея Андреевича, а Ульвургын даже пощупал его.
Между тем Таграй парил уже высоко, набирая все большую и большую высоту. Взгляды толпы были прикованы к самолету. И даже сам Андрей Андреевич не может оторвать глаз от него.
Все молчали.
— Молодец! — вдруг закричал Андрей Андреевич. — Правильно ведет машину!
Толпа вышла из состояния оцепенения, раздались крики:
— Какомэй, Таграй!
— Пропал Таграй!
— Теперь не попадет Таграй на землю!
— Пропал Таграй! Ведь Андрей Андрей стоит здесь. С нами.
Обеспокоенный Ульвургын подходит к Горину.
— Андрей Андрей, — говорит он тихо, — все может быть. Таграй теперь побоится приблизиться к земле?
— Не побоится, Ульвургын!
— Коо. Не знаю, — с волнением говорит он.
Но самолет шел уже на посадку, и все четыреста сердец — охотников, учителей, учеников — на минуту замерли.
Самолет с шумом летел над землей, и вдруг все увидели, как осторожно он коснулся снега, слегка подпрыгнул и побежал к прежнему месту.
И когда его окружили люди, из кабины высунулось сияющее, восторженное лицо Таграя. Он во все горло заорал:
— Андрей Андрей! Получилось три точки?
Андрей Андреевич подмигнул и молча показал большой палец.
— Молодец! — сказал он.
— Можно еще раз? — спросил Таграй.
— Лети!
Таграй рванулся к штурвалу, но, повернувшись к народу, спросил:
— Кто из вас хотел покататься?
Все молчали.
— Садись тогда ты, Ульвургын, — предложил он.
Ульвургын попятился назад.
— Карэм! — сказал он и спрятался в толпе, будто кто-нибудь мог его насильно затолкать в кабину.
Правда, Ульвургын любил покататься на самолете с русскими летчиками, но с Таграем… В голове Ульвургына никак не укладывалось, что Таграй — летчик.
— Что случилось? Все так любят кататься на самолете, а никто не хочет. Ну, скорей садись кто-нибудь! А то уеду опять один! — кричал Таграй.
Но толпа молчанием отвечала на его призыв. Таграю стало обидно, что люди не признают его за летчика. Он уже сел было за руль и опять хотел подняться один, как увидел идущего к самолету старика Тнаыргына с поднятой рукой. Старик отделился от толпы, подошел к самолету и молча неумело стал взбираться в кабину. Андрей Андреевич подбежал и помог старику сесть.
Ухватившись руками за борта кабины, старик с обычной серьезностью сказал:
— Вези меня, Таграй!
Самолет взревел и сорвался с места.
Старик закрыл глаза, а когда открыл их, то увидел горы мыса Дежнева. Где-то внизу, под крылом самолета, находился мыс Яндагай, то место, где жил старик. Тнаыргын перегнулся, чтобы посмотреть вниз через борт кабины, но сильная струя воздуха ударила ему в лицо. Он отпрянул и теперь смотрел только вперед.
«Как чавчу вожжами управляет оленем», — подумал он, глядя в спину Таграя.
В этот момент Таграй обернулся и улыбнулся старику.
Тнаыргын ответил улыбкой и показал вперед, на горы мыса Дежнева.
Таграй круто развернул самолет и взял курс на Дежневские горы. Он быстро удалялся от залива Лаврентия, становясь все меньше и меньше.
Толпа следила за ним неотрывно, с восхищением, с восторгом, а лицо Андрея Андреевича становилось мрачным. И вдруг все с испугом стали его спрашивать:
— Что такое, Андрей Андрей?
Самолет скрылся из виду, и Андрей Андреевич бросился бежать на радиостанцию. Но в этот час береговые станции связи не имели.
Между тем самолет пролетел всю долину речки, и когда он подходил к Дежневской горе, Таграй увидел горы Аляски. За узкой полосой Берингова пролива раскинулась такая же, как Чукотка, огромная горная страна — Аляска.
Таграй увлекся открывшимся видом, и на минуту ему показалось, что самолет не летит, а повис в воздухе. Внизу расстилалось широкое поле чукотской тундры, вдали виднелось открытое море.
Мелькнуло селение, и вскоре самолет вышел с побережья Берингова моря на берег Ледовитого океана. Таграй набрал высоту и дал круг над селением Уэлен. Он оглянулся на Тнаыргына, но старик не заметил этого. Он смотрел в сторону мыса Сердце-Камень.
На третьем кругу самолет летел уже низко.
Зимовщики уэленской полярной станции были удивлены неожиданным появлением неизвестного самолета, но все же двое из них побежали на аэродром и быстро разложили букву Т, ориентирующую самолет на посадку. И когда самолет уже приземлился, радист станции выбежал и крикнул:
— Чукчи прилетели!
Эта новость дошла до селения, и огромные толпы прибежали смотреть на своих воздушных соплеменников.
— Какомэй, Таграй! Какомэй, Тнаыргын! Летающие люди! — кричали они.
— Давненько я не бывал в Уэлене, — сказал старик окружающим его людям. — И не собирался. Так и умер бы, не побывав здесь. Сколько нужно ехать на собаках к вам! А Таграй привез меня так быстро, что чайник не успел бы на жирнике вскипеть.
— Кто из вас Таграй? — спросил радист. — Товарищ Горин сообщил по радио, чтобы вы немедленно вылетали обратно.
— Хорошо, — сказал Таграй. — Тнаыргын, поехали!
— Зачем так скоро? Или нас прогоняют уэленцы? Смотри, они радостными глазами встречают нас!
— Андрей Андрей велел. Нельзя больше. Наверно, ругаться будет.
— Ну хорошо, поехали. Тагам, тагам мури, — и старик замахал руками, прощаясь с уэленцами.
Когда самолет приземлился в заливе Лаврентия, подбежал Андрей Андреевич.
— Это что значит, Таграй? Что ты делаешь? Разве я тебе велел в Уэлен летать? — строго спросил он.
— Нет, Андрей Андрей, ты мне ничего не сказал. Я полетел только потому, что вот старик махал мне руками и просил свезти его в Уэлен.
— Нет, Таграй, — вмешался Тнаыргын. — Я тебе не велел лететь туда. Я только помахал руками и сказал: «Хорошо, Таграй, летать!»
Андрей Андреевич внутренне был доволен смелостью Таграя, его блестящим первым самостоятельным полетом и, похлопав своего ученика по плечу, сказал:
— Ну ничего, Таграй! На первый раз прощаю. Но смотри у меня: впредь должна быть дисциплина!
Таграй виновато посмотрел на Андрея Андреевича и еще раз сказал:
— Это старик ввел меня в заблуждение. Да, по правде говоря, и самому захотелось туда слетать.
— Ну хорошо. Может быть, мы сейчас и прыжок сделаем?
— Давай, давай! — вскричал Таграй.
Он быстро вытащил из кабины парашют.
— Таграй, ты умеешь и прыгать? Как в кино? — спрашивали пораженные ученики; все они сейчас прониклись к нему еще большим уважением.
Ульвургын стоял молча и с суеверным страхом смотрел на приготовления к парашютному прыжку. И если бы не вера в Андрея Андреевича, он пошел бы на скандал, но не пустил Таграя прыгать.
Он внимательно следил, как Андрей Андреевич пристегивал Таграю парашют, но не сказал ни слова. Ульвургын тоже, как и ученики, видел в кино парашютистов и — что зря говорить! — не верил во все это. Ему казалось, что на картине какой-то обман. Как можно прыгать с такой высоты, где ходит луна? А вдруг материя лопнет, веревочки оборвутся?
Ульвургын подошел к Таграю и пощупал заплечные ремни. Покачал головой и отошел в сторону, где молча стоял доктор.
— Что это вы, Андрей Андреевич, серьезно обряжаете его или в шутку? — спросил доктор.
— Хорошенькое дело, доктор! Человек собирается совершить восьмой прыжок, а вам все шутки.
— Правда, Таграй? — спросил доктор.
Таграй, пристегивая ремни, кивнул головой.
Но, несмотря на серьезные приготовления, никто не верил, что Таграй действительно собирается прыгать.
Андрей Андреевич сел в самолет, вслед за ним полез Таграй.
Самолет набрал высоту, сделал несколько кругов над большим заснеженным озером, и Андрей Андреевич хотел было уже дать сигнал Таграю, но развернулся еще по кругу.
Каждый раз перед прыжком Таграя у него у самого нервы напрягались до предела. Он был совершенно спокоен за своего ученика, но что-то всегда настораживало его. Андрей Андреевич посмотрел на Таграя, они молча обменялись улыбками. И когда самолет вышел опять над озером, мотор сбавил обороты.
— Приготовься! — крикнул Андрей Андреевич.
Уверенно, осторожно, твердой поступью Таграй вышел на плоскость. Он поправил полуавтомат, вытяжное кольцо и, увидев, как Андрей Андреевич взмахнул рукой, ринулся вниз.
Толпа замерла, вырвалось многоголосое «ах», но над Таграем уже образовался купол, словно крыша маленькой яранги.
Человек с парашютом падал не прямо, а несколько наискось, в сторону. Люди побежали к нему, сшибая друг друга. Не успели они добежать, как Таграй коснулся ногами снега, повалился на бок и, быстро вскочив, стал собирать парашют.
Люди схватили Таграя и с веселыми криками стали качать его.
— Довольно, довольно! Вы поломаете меня! — кричал Таграй.
Они поставили Таграя на ноги и вдруг увидели на лацкане его пиджака значок парашютиста.
Чукчи разглядывали значок. Казалось, что перед ними стоит и Таграй и не Таграй.
А он улыбался, радостный, взволнованный, не зная, с чего начать разговор. Он словно вообще утратил способность разговаривать.
Над ними низко пролетел самолет, и все видели, как Андрей Андреевич помахал рукой.
В ответ Таграй замахал обеими руками. Самолет полез к облакам, перевернулся вверх тормашками.
— Это мертвая петля, — восторженно заговорил наконец Таграй.
Прыжок с парашютом всех взволновал. Люди долгое время даже не решались заговорить с Таграем. И лишь спустя немного времени послышались вопросы:
— Не испугался ты, Таграй, когда отделился от самолета?
— О чем ты думал, Таграй, когда повис в воздухе?
— Не страшно ли?
Таграй чувствовал себя настоящим героем. Окруженный большой толпой учеников, он рассказывал:
— Когда я учился в первом классе и когда в первый раз прилетел самолет, я подумал: наверно, эти русские, которые летают, не люди. Не верилось, что человек может так летать. Теперь все мы верим. Потом, когда я узнал о парашюте, я очень заинтересовался им. Но все-таки прыгать с такой высоты было страшно. Когда я учился у пограничников летать, один раз видел, как красноармеец прыгнул. Было очень высоко. Я первый раз видел живого человека, который прыгал. И он мне сказал, что совсем не страшно. Нужно быть только спокойным и, самое главное, смелым. Тогда мне захотелось самому прыгнуть. Думаю: «Попробую, все равно». Я решил прыгнуть. Когда в воздухе я залез на крыло, мне вдруг стало так жалко расставаться с самолетом, что я чуть-чуть не вернулся обратно. Я взглянул на Андрея Андрея и испугался, что он узнает мои мысли. Не думая больше, я взял да и махнул! Быстро-быстро пронеслись в голове мысли: «Вдруг парашют не раскроется?» Ведь с такой высоты упасть — костей не соберешь. Потянул вытяжное кольцо, меня дернуло, парашют раскрылся, и мне показалось, что я повис в воздухе. «Кто теперь снимет меня отсюда?» — подумал я. Но потом вижу, что я несусь к земле. И стало так досадно мне! Хотелось немного повисеть еще. Эх, ребята, и хорошо же оттуда смотреть на землю! Люди на земле, как евражки, ползают. За заливом виднелось стадо оленей. В короткое время я успел многое рассмотреть. Но гляжу — земля все ближе и ближе, бегут пограничники. Я коснулся земли ногами и от радости не могу слова сказать. Это очень интересно — прыгать с самолета. И совсем не страшно.
Ребята, зачарованные его рассказом, стояли, словно онемев.
— Андрей Андрей сказал, что скоро организует у нас аэроклуб. Тогда смогут учиться все, кто хочет.
— Правда, Таграй? — почти в один голос спросили они.
— Правда!
И УМЕРЕТЬ ЧЕЛОВЕК ХОЧЕТ ПО-НОВОМУ
Легкий южный ветерок, как тепловатая вода, ласкает лицо. Так и хочется идти навстречу этим мягким воздушным потокам.
В такую погоду в чукотском стойбище большое оживление. Дети носятся между яранг, как разыгравшиеся молодые оленята в хороший, ясный северный день. Ватагой они бегут к морю. Они подбирают ракушки, хорошо отшлифованные, красивые камешки. Увидев на берегу морскую капусту, выброшенную волнами, они с криком вперегонки несутся к ней и, схватив, с удовольствием жуют ее.
Обычно, подъезжая к поселку, еще издали слышишь их многоголосый шум и гам. Но сегодня не слышно и не видно детворы.
Сегодня, в это ласковое утро, в поселке необычно тихо. Будто все сговорились молчанием встретить этот тихий, спокойный северный день. Собаки, отлично чувствующие настроение человека, и те притихли. Может быть, здесь случилось какое-нибудь несчастье? Но и шаманский бубен не гремит в этой тягостной тишине.
Чей покой оберегают люди?
В яранге, на оленьих шкурах, лежит человек и редкими вздохами ловит воздух, которого так мало в небольшом меховом пологе. Он шевелит губами, глаза закрыты. Вокруг него молча сидят люди и смотрят на ввалившиеся глаза. Наконец глаза открываются.
— Пить… — слышится слабый голос.
Больного заботливо приподнимают и помогают ему напиться из чашки. Больной делает несколько глотков.
— Вот теперь лучше.
Над ним склоняется пожилая женщина:
— Плохо тебе, Тнаыргын? Тяжело? Или облегчить твои мучения?
Женщине жаль хорошего старика. Она ждет, когда он попросит задушить его. Трудно смотреть, когда болеет хороший человек.
— Да… тяжело… — говорит старик. — Люди, может, болезнь уйдет от меня? Надо помочь ей уйти.
Он открыл глаза. Женщина опять склоняется над ним и тихо говорит:
— Эненылин[56]Эненылин — шаман. сказал, что нельзя изгнать из тебя злого духа. Он сказал, что ты — летающий поверху человек. Только смерть через удушение спасет тебя.
Старик вяло пошевелил рукой.
— Не надо… Пусть я умру по-новому, без ремня на шее. Пить… Я сдружился с русскими… Они достойны моей дружбы. Может, русский доктор захочет приехать ко мне? Может, он изгонит болезнь мою?
К старику подполз Ульвургын.
— Тнаыргын, я давно послал Айвана за русским доктором.
Старик обвел всех взглядом.
— Хорошо, — ответил он. — Надо бы сказать и ученикам. Пусть они кончили бы свои занятия… Если уйду из жизни, глазам была бы радость последний раз увидеть их.
— И ученикам Айван скажет.
А в это время Айван уже мчался к доктору.
Он вбежал в больницу и громко спросил сестру-чукчанку:
— Доктор где?
Доктор выглянул из амбулатории.
— Здравствуй, Айван. Что скажешь хорошенького?
— Хорошего нет, плохие новости есть.
— Что такое? Проходи сюда. Садись и рассказывай.
— Тнаыргын хочет умирать.
— Как умирать? — воскликнул доктор. — Задушить хотят его?
— Нет, нет! — замахал руками Айван. — Наверно, он сам умрет. Шаман сердился: зачем не просит смерти старик? А он еще не сказал этого слова.
— Что же ты не привез его в больницу? — строго спросил доктор. — Ведь, чего доброго, его задушат там!
Словно испугавшись, Айван отступил назад и тихо сказал:
— Наверно, плохой он. Только воду пьет. Вчера еще ходил, а теперь лежит. Наверно, нельзя его везти. Может быть, теперь сам умер.
— Ай-ай-ай! — сказал доктор. — Скажи, чтобы быстро запрягли собак!
Слух о неожиданной болезни старика Тнаыргына быстро проник в школу. Шум во время перемены прекратился, и ребята, окружив больничного завхоза Чими, с волнением слушали его.
Тает-Хема побежала в учительскую. Она обратилась к директору школы:
— Иван Константинович! Мне надо поехать домой. Тнаыргын умирает. Ведь я ему родственница.
— А что с ним? — спросила Татьяна Николаевна.
— Не знаю.
— Ну хорошо, поезжай, — сказал директор. — Если еще кто из учеников захочет — пусть тоже едут. И вам, Татьяна Николаевна, следовало бы поехать.
В яранге Тнаыргына все больше и больше прибавлялось народу. Никто ничего не говорил, но, видимо, каждый считал своим долгом перед смертью старика показаться ему на глаза.
Кто-то из присутствующих пытался закурить трубку, но Ульвургын остановил его:
— Не надо. Если русский доктор приедет, ругаться будет. Я очень хорошо это знаю.
Кивнув головой в знак согласия, чукча молча спрятал трубку.
В сенцы яранги вошли доктор и Татьяна Николаевна. Модест Леонидович взял свой чемоданчик, опустился на колени и неуклюже, как медведь, на четвереньках полез в полог, где лежал больной. За ним полезла и Татьяна Николаевна.
— Ай-ай-ай! Сколько народу! Ульвургын, что же ты, батенька мой, делаешь? Ведь воздуха не хватает здесь даже для здорового человека. Неужели ты не знаешь?
— Знаю, знаю, доктор, — тихо проговорил старик. — Только стыдно мне сказать людям, чтобы они не приходили сюда.
— Ну, друзья мои, надо уйти отсюда. Постойте в сенцах, — сказал доктор.
Чукчи молча один за другим полезли из полога. И когда здесь стало просторней, старик увидел русских. Глаза его загорелись.
— Я знал, что они приедут, — тихо сказал он Ульвургыну.
— И Таня-кай вот, — показал рукой Ульвургын.
Старик перевел взгляд на нее. В полог влезли приехавшие ученики.
— Что такое, Тает-Хема? Ведь ты занимаешься у меня в кружке: должна знать, как дорог для больного воздух.
— Доктор, мы только покажемся Тнаыргыну и уйдем.
Старик заметил всех, и видно было по его лицу, как он повеселел.
Модест Леонидович ползал на коленях по шкурам и тихо, почти про себя, ворчал.
— Татьяна Николаевна, откройте меховой занавес. Впустите сюда струю чистого воздуха.
Покопавшись в чемоданчике, он неуклюже подполз к больному. Он сел рядом со стариком и взял его руку, определяя пульс.
— Упадок сердечной деятельности. Надо впрыскивание сделать.
Солнце поднялось высоко. Лучи его нагревали темные шатры яранг. Глупые щенки бегали по стойбищу и отнимали друг у друга кусочек оленьей шкуры. Они резвились, отворачиваясь от ослепительного солнца.
Вокруг яранги — огромная толпа. Она закрыла собой нарту, на которой заботливо уложен старик Тнаыргын. По небу тянутся прозрачные перистые облака. Они плывут в том направлении, куда сейчас тронется нарта с больным стариком, стариком, который летал поверху.
И только один шаман стоит вдали, около своей яранги, косо посматривая на толпу, не решаясь подойти к ней. Он бессилен, и от злобы перекосился его рот…
* * *
Палата блестит белизной. Сколько здесь взмахов сделал доктор малярной кистью! Но зато как приятно ему самому войти сюда!
Через большое окно солнце бросает столько света, хоть дымчатые очки надевай. А воздуху не меньше, чем в тундре.
На чистой кровати лежит Тнаыргын. Он смотрит на будильник и прислушивается к тиканью его. Старик улыбается и думает:
«Тоже как живой. А если что-нибудь отвинтить у него, то перестанет жить. Наверно, и у него сердце есть, железное сердце».
Открывается дверь, в нее просовывается голова. Человек улыбается во всю ширину рта, кивает головой.
Тнаыргын вытащил руку из-под одеяла и поманил пальцами:
— Иди, иди, Ктуге, сюда. А то я лежу здесь один и думаю: может, я умер? Может, началась моя другая жизнь?
Дверь открывается шире, и Ктуге, стуча деревянными костылями, переступает единственной ногой. Он опускается на табуретку, костыль поднимает кверху и говорит:
— Вот видишь, Тнаыргын, какая нога? Не нога, а весло. Обтянуть вот здесь брезентом — будет похожа на весло, — и он невесело засмеялся.
— Что поделаешь! Вот если бы он тебе голову разломал, голову из дерева не сделаешь, и сердца из дерева не сделаешь.
— Доктор говорил, что если бы не отрезать ногу, то я умер бы.
— Пожалуй, правильно он сказал. Я много знал людей, которые умирали от ран.
— Потом мне доктор сказал, что когда он поедет на Большую Землю, возьмет меня с собой и там мне сделают из кожи почти настоящую ногу. На нее можно будет надевать торбаза и штаны. Она будет сгибаться и ходить.
— Ко-о! Не знаю… — уклонился Тнаыргын от выражения своего мнения по этому вопросу.
— Тнаыргын, он, этот русский доктор, наверно, много знает. Он по-настоящему спасает от смерти. Как ты думаешь?
— Я думаю — это правда!
В палату вошел Модест Леонидович.
— Ну как, Ктуге, прыгаешь? — добродушно усмехнувшись, спросил он.
— Хорошо прыгает он, — ответил за него Тнаыргын.
— А мы как себя чувствуем, старик? Руку!
Модест Леонидович смотрел в сторону и щупал пульс старика. Тнаыргын уставился в лицо доктора, не сводя с него глаз.
— Да, — сказал доктор, — а сердце пошаливает. Старое сердце, оно всегда похуже молодого, верно?..
— И олень старый побежит-побежит немного и язык высунет. Скорей тогда надо его колоть, а то пропадет, — сказал старик.
— Ну ничего, Тнаыргын, мы еще поживем!
— Нет, наверно, я не поживу. Смерть хочет захватить мое сердце себе.
Старик замолчал. Задумавшись, он глядел в потолок.
— Доктор, — сказал он, — если умру я, не надо меня бросать в тундру. Я не хочу. Не надо, чтобы мои глаза клевали птицы. Не надо, чтобы звери грызли мое тело. Я хочу умереть по-новому. По-старому мне нельзя. Потому что от многих старых законов я отказался. Я сдружился с русскими. Я стал ходить по новой жизни. И, пожалуй, умирать по-старому все равно мне будет без пользы. Я много-много думал. А теперь говорю: пусть я умру по-новому.
Доктор со вниманием выслушал старика.
— Тнаыргын, ты помнишь, как несколько лет назад умер у меня один охотник, Вальхиргын? Я хотел его похоронить в земле, но приехали родные и сказали: нельзя. Они забрали его и бросили в камнях, среди гор. Они не послушались меня. Потом собаки притащили к нашему дому его руку. Это нехорошо. И теперь ты вот говоришь, что хочешь по-новому умереть, а ведь в случае твоей смерти опять приедут ваши люди и увезут тебя. Силой ведь я не смогу… Силой мы ничего не делаем.
— Нет, не увезут. Я сказал председателю Аттувге. И люди все знают об этом. Вот и Ктуге слышит наш разговор. Когда умру, я хочу, чтобы меня положили в ящик и крепко забили гвоздями.
— Нет, нет, Тнаыргын, мы еще поживем!
— Ко-о! Наверно, не поживу. А жить охота. И что такое? Никогда я не боялся смерти. Теперь боюсь, — почти шепотом проговорил старик.
Старик Тнаыргын действительно был плох, сердце работало с большими перебоями. И на следующую ночь он тихо скончался.
За свою многолетнюю медицинскую практику доктор Модест Леонидович не в первый раз видел смерть. Он по-разному относился к ней. Бывало, что слишком тяжело переносил смерть человека, которого хотел спасти. Иногда же рассматривал смерть как нечто неизбежное. Он отлично знал все свойства изношенного организма старого человека и говорил: «Мы бессильны помочь».
Модесту Леонидовичу было ясно, что дни старика Тнаыргына — считанные дни. Никакое медицинское вмешательство не могло предотвратить конца. Ну и что же? Естественный ход событий. Но странное дело: смерть этого чукотского старика взволновала его.
Доктор вошел в палату, где лежал покойник, и остановился около койки. Он снял простыню и посмотрел на лицо Тнаыргына. Оно оставалось таким же серьезно-строгим, каким было всегда при жизни, и лишь глубже ввалились глаза. Седые волосы сливались с белизной наволочки.
Доктор вспомнил завещание старика: «Я хочу умереть по-новому».
— Ну что же, старик, — сказал покойнику Модест Леонидович, — мы похороним тебя по-новому. Мы сохраним о тебе хорошую память. Ты был неграмотным человеком, и тем значительней твое стремление к новому.
Странным казался разговор живого с мертвым.
В палату молча на цыпочках входили ученики. Печаль и страх были на их лицах. Около койки они образовали круг. Доктор повернулся к ученикам и сказал:
— Умер хороший старик.
И, словно оправдываясь перед учениками, добавил:
— Я все предпринял, чтобы продлить его жизнь. Но, видно, мы еще бессильны бороться со старостью.
К вечеру спустился туман. Он закрыл собою горы, залив. В гуще влаги потонуло солнце.
Впервые на Чукотке шла большая похоронная процессия.
Гроб посменно несли на руках учителя, ученики, колхозники чукчи.
— Смотри, они не пожалели для него даже досок, — тихо сказал какой-то парень. — Чтобы сделать такой ящик, нужно много досок.
— А доктор сам покрасил этот ящик, — шепотом добавил Чими.
Могила была уже готова. На мерзлых глыбах сидели усталые Николай Павлович, завхоз Чими и Ульвургын. Им много пришлось потрудиться, разбивая кайлом вечную мерзлоту.
Когда процессия подошла сюда, гроб не сразу опустили в могилу.
К изголовью подошла Татьяна Николаевна.
— Тнаыргын умер, — сказала она. — Он больше не придет к нам в школу. В ту школу, которую он помог нам создать. Это было очень важное дело. Школа сблизила, сдружила русский и чукотский народ. Недоверие, которое было у вас к русским, рассеялось, как туман. Вместо этого пришло братское доверие друг к другу. Тнаыргын давно понял, что мы друзья. Он, наперекор шаманам, которые твердили народу, что русские запрут ваших детей в деревянные дома и увезут их, наперекор всему этому сказал: «Пусть наши дети поедут в школу». И мы, учителя, и вы, ученики, теперь уже по-настоящему можем все это оценить. Скажем же Тнаыргыну: «Вечная память тебе, старик со светлым умом и широким сердцем».
Туман сгущался. Люди стояли с обнаженными головами. Люди ловили слова русской девушки, которая была их другом.
Гроб опустили в могилу, засыпали и на холмике поставили столбик с пятиконечной звездой.
Таграй прибил к столбику медную дощечку. На ней он выгравировал четкими русскими буквами: «Тнаыргын».
ВЫПУСКНОЙ ЭКЗАМЕН
Ясный, солнечный день. На улице тишина, пустынно. Редко-редко встретишь ученика. Как будто их и нет. Малыши уже разъехались по домам. Старшеклассники готовятся к экзаменам. Они с волнением переживают самую ответственную пору школьной жизни. Все сидят за книгами, с карандашами и тетрадями.
Около больницы доктор строит солярий. Он ходит в одном халате: так тепло. Он командует, где и как нужно поставить кровати. Доктор решил использовать благотворные лучи солнца.
Педагогический персонал в приподнятом настроении беседует в учительской о проведенном учебном годе, о предстоящих экзаменах. Что-то принесет им проверка знаний? Хорошо ли поработали учителя в этом отдаленном краю?
— Я уверен, что экзамены пройдут хорошо, — говорит директор, раскуривая папироску.
— Собственно говоря, нет никаких оснований предполагать иное, — соглашается учительница литературы. — Вы знаете, товарищи, я с огромным удовлетворением и радостью буду вспоминать годы своей работы в этой школе. Я считаю, что отношение наших учеников к учителю, к занятиям — идеальное. Меня поражает их предупредительность и такой серьезный подход к делу. Ведь в школе не было случая, чтобы кто-то из ребят хоть чем-нибудь обидел учителя. И поэтому хотелось еще лучше работать, хотелось передать им все свои знания. Они подкупают своим отношением. Порой я задумываюсь над вопросами воспитания. Как могли эти, с нашей точки зрения, некультурные люди так замечательно воспитать своих детей? Это парадокс!
— Вы напрасно умаляете и свои достоинства, и достоинства других учителей. Ведь в воспитании учеников мы тоже немало сделали.
— Правильно, Николай Павлович. Все это верно. Но должна вам сказать и о благотворном влиянии семьи на детей. Не будь этого, нам пришлось бы очень трудно. Ведь мы лишь развиваем то хорошее, с чем эти ребята пришли в школу.
— И что интересно, — вмешалась Татьяна Николаевна. — Вот взять хотя бы Лену. Я очень опасалась, что она разовьет в школьном коллективе дурные наклонности. Но посмотрите, какое поразительно критическое отношение они проявили к ее поведению. Ведь, в конце концов, не она повлияла на них. Лена сама резко изменилась. Из девушки с узкомещанскими интересами она превратилась в серьезную, очень способную ученицу.
В учительскую вошел радист с радиограммой.
Директор прочитал.
— Новость, товарищи! На экзамены к нам вылетает из округа депутат Верховного Совета Тынанват. Избранник наш.
— Интересно! — протянул Николай Павлович.
— Надо будет сообщить ученикам, — сказал директор.
— Придется на один денек отложить экзамены. Очень просит депутат.
— Отложим. Я пойду скажу ребятам, — сказала Татьяна Николаевна.
* * *
Выдался на редкость хороший, солнечный день. С моря доносились ружейные выстрелы, бередившие сердца учеников. Вдоль берегов Чукотки шли стада моржей, совершая свой летний переход с юга на север.
Все манило на улицу, на простор, на воздух, в море. Но ученики сидели в домах и, казалось, заставляли себя забыть о начале сезона охоты на моржа.
Таграй с книжкой в руках ходил по классу и о чем-то сосредоточенно думал. Он изредка на ходу открывал книгу и заглядывал в нее.
— Тра-та-та! — гулко и раскатисто доносились выстрелы.
Прислушиваясь, Таграй остановился. На лицо набежала улыбка. Постояв немного, он подошел к форточке, захлопнул ее и опять заходил по залу.
Лена, как лисица, крадучись, быстро шла за его спиной. Она сделала прыжок и обхватила его за шею.
Таграй выронил книжку.
— Товарищ Таграй, можно вас побеспокоить? — с нарочитой вежливостью спросила она.
— Что же ты толкаешься! Так и книжку порвать можно, — сказал он.
— Я хочу спросить тебя об одной штуке. Вот эту формулу как понять? Ты же все знаешь!
Таграй посмотрел в ее тетрадь и сказал:
— Это просто. Пойдем к окну.
И стал серьезно объяснять.
У-у-у-у! — донеслось пение самолета.
Таграй навострил уши, а уже в следующий миг сорвался с места и выбежал на улицу. За ним, не отставая, бежала Лена.
В прозрачном, чистом воздухе летел серебристый самолет. Он сверкал на солнце крыльями, и рев его разносился, казалось, по всей тундре.
— Вот мотор! Нисколько не детонирует! — вскрикнул Таграй, прислушиваясь.
Он с восторгом следил за самолетом. Из школы выбежала ватага ребят, и все они с шумом бросились к берегу залива, куда летела машина.
Самолет пролетел над домами культбазы, повис над заливом и, сделав вираж, пошел на посадку.
Огромная лодка с четырехлопастным пропеллером хлюпнулась на воду и понеслась, как самый быстроходный катер. Пробежав по заливу, летчик стал выруливать к берегу. Метрах в пяти от него самолет остановился и бросил якорь.
Скоро на клиппер-боте, спущенном с самолета, подъехали к берегу прилетевшие люди.
Из всех домов бежали культбазовцы, на берегу толпа все увеличивалась и увеличивалась.
— Какомэй, Тынанват, Тынанват! — кричали ученики.
Депутат долго здоровался с учителями, учениками и всеми работниками культбазы.
Учительнице Татьяне Николаевне он сказал:
— Ну, как поживаешь, Таня-кай? Давно мы не виделись. Последний раз — в Петергофе. Помнишь, ездили, будучи еще студентами.
— Как же, очень хорошо помню! Зайцем ты еще ехал обратно. Денег-то не хватило у нас на второй билет.
Тынанват расхохотался.
— Дай-ка, я погляжу на тебя как следует. Ведь мы в округе знали, что Таграй чуть не утопил тебя, — и депутат снял с ее головы шапочку. — Вот, Таграй, что ты наделал! — сказал он. — Ну, ничего, Таня-кай! Хорошо, что осталась живой. Когда ты выезжаешь на Большую Землю?
— Через два года.
— Хочешь, Таня-кай, на лето в Москву слетать? — спросил он.
— Как в Москву?
— На самолете. Скоро я вылетаю на сессию. Могу захватить и тебя.
— Серьезно?
— Да, да. И к парикмахеру сходишь там, — шутливо добавил он.
Учительница расхохоталась.
— Это смешно! С Чукотки в Москву к парикмахеру!
— Причина вполне уважительная, — сказал Тынанват.
— Нет, верно? А к началу занятий успеем вернуться?
— На месяц раньше вернемся.
Доктор Модест Леонидович торопливо шагал к берегу. Депутат еще издали заметил его и пошел навстречу. Они были большими друзьями. Тынанват еще студентом часто заходил к доктору, на его ленинградскую квартиру. Они встречались почти каждый выходной день. Обедали вместе и затем направлялись в музеи, в кино, в театр.
— Модест Леонидович!
— Тынанват! — Они дружески поздоровались. — Ты извини, пожалуйста. Замешкался. Маленькую операцию заканчивал.
Доктор смерил глазами депутата и, улыбнувшись, сказал:
— Ох, какой ты важный! А?! Это тебе не студент какой-нибудь, прощелыга… Помнишь, в Ленинграде какую ты скорость развивал в своем пальтишке? — И Модест Леонидович добродушно рассмеялся.
Тынанват был одет в кожаное пальто, оно плотно облегало его широкие плечи. Вдумчивые глаза смотрели на доктора и улыбались.
— Модест Леонидович, окрисполком вынес вам благодарность за вашу работу.
— Спасибо, спасибо! Говорят, работа идет у меня неплохо.
— Постановление есть о премировании вас.
— Ну, это зря! Благодарности, может быть, и заслуживаю, но премии не заработал. До кочевников-оленеводов еще не добрался.
— Доберемся. Не все сразу. Решили вас премировать медвежьей шкурой.
— Ха-ха-ха! Что ты говоришь? Не возражаю, не возражаю! Память на всю жизнь, и мне, и детям.
— Распоряжение привез вашей фактории. Только знаете что, Модест Леонидович, выбрать медвежину вы уж доверьте мне. Ведь раньше я в них кое-что смыслил.
— Э-э, Тынанват! Теперь и я в них кое-что понимаю! Я надеюсь, что ты по старой дружбе остановишься у меня. С тех пор как радиограмма пришла, жена все время готовится к встрече. Помнишь, как она обучала тебя культурно пить чай?
Оба рассмеялись.
— Обязательно, обязательно, Модест Леонидович. Вот зайду в школу — и тогда к вам. Марии Федоровне передайте привет и скажите, что теперь я научился пить чай бесшумно.
В учительской большое оживление. Здесь стало тесно, как в чукотском пологе.
Депутат Тынанват сидел за столом и вместе с директором рассматривал расписание экзаменов. На нем был отличный костюм, на лацкане пиджака — значок «Верховный Совет СССР» и орден Трудового Красного Знамени.
— Татьяна Николаевна, неужели он был пастухом в оленном стаде? — шепотом спросила одна учительница.
— Да, да! И совсем недавно. Ну, лет десять тому назад. Он был на положении Чомкаля из стойбища Араро. К профессору Тан-Богоразу в Ленинград он приехал совсем неграмотным — не знал ни слова по-русски.
— Товарищи учителя, — сказал депутат Тынанват, — завтра у вас начинаются экзамены. Я очень хочу вас просить об одном: когда будете экзаменовать, совсем забудьте, что вы экзаменуете чукотских детей. Вы должны спрашивать их по самой полной программе. Не надо делать скидок. Это не полезно нам. Должен вам сказать, что до сих пор еще есть работники, которые приходят в умиление, когда видят чукчу, держащего в руке, скажем, учебник алгебры. И если он еще не совсем хорошо знает ее, они с улыбкой на губах готовы сказать: «Это ничего. Для чукотских юношей и это очень большое достижение». А если вдуматься во все это, то станет обидно за наш народ, это унижает наш народ!
— Правильно, товарищ Тынанват! — послышались голоса.
— Конечно, правильно, — сказал депутат. — Теперь такого положения не должно быть. Это пройденный этап. Требования к нашим ученикам должны быть такими же, как в любом городе Советского Союза. Не знает ученик — пусть учится еще. Не надо замазывать пробоин. Ведь если пробоину в вельботе заделать тонким картоном, подкрасить, то глаз может не заметить этого слабого места. Но стоит выйти в море, как вельбот потонет вместе с ценным грузом. Надо заделывать прочно, хорошо. Пусть и ваши ученики будут знать полностью все, что они должны знать. Хотите, я вам расскажу случай из моей жизни?
— Просим, просим, товарищ Тынанват!
— Когда я учился в институте, были у нас такие преподаватели, которые восторгались тем, что я держал в руке книгу по историческому материализму: «Смотрите, смотрите, какое время! Чукча изучает материализм!» А я ничего не понимал в этой науке. И скажу откровенно: когда шел преподаватель, я старался попасть ему на глаза с какой-нибудь ученой премудростью. Так постепенно я научился обманывать и себя, и своих учителей. Они восторгались, когда я произносил, например, слова: бином Ньютона. Я их, этих учителей, очень хорошо понимаю теперь и ни в какой степени не обвиняю. Но мне толку мало, если я слышал о биноме, не зная его существа. Я закончил институт с некоторыми скидками на свое чукотское происхождение. Те пробоины, которые искусно замазывались, дают теперь себя знать. И скажу вам откровенно, что у меня сейчас много дела в связи с депутатскими обязанностями и обязанностями председателя окрисполкома, но, несмотря на это, те пробоины, которые остались, приходится заделывать теперь. Нельзя оставаться недоучкой. Недоучек бьют. Мое положение обязывает меня много знать. Вот, товарищи учителя, какое дело.
Депутат усмехнулся и добавил:
— Это, кажется, у Пушкина есть в «Борисе Годунове»: «Учись, мой сын! Наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни».
В учительскую вошла чукчанка-сторожиха. Она внесла огромный медный чайник.
— Тынанват, чай пауркен[57]Чай пить., — мягко сказала она.
— Вот это хорошо. Только ты, пожалуйста, мне покрепче, по-нашему, — сказал по-чукотски Тынанват.
Сторожиха кивнула головой и пошла за посудой. Около двери она остановилась и спросила:
— Тынанват, а ты Сталина видел, живого?
— Видел, видел! И даже разговаривал с ним.
— Какомэй! — взмахнула она руками. — Ученики просят рассказать о нем…
* * *
Экзамены окончены. В актовом зале шумно, празднично. Пять учеников сдали на «отлично». Все они веселы, глаза радостно блестят. Лишь Тает-Хема опечалена. Николай Павлович, при всем благосклонном отношении к ней, никак не мог вывести ей по математике больше, чем «удовлетворительно».
— Ты не горюй, Тает-Хема, — успокаивала ее Лена. — Летом возьмем да и подтянемся на «отлично». Николай Павлович сказал, что он поможет. Ведь и у меня оценка только «хорошо». Он сказал, что будет заниматься с Ктуге и нам можно присоединиться.
— Да, не горюй! Тебе можно не горевать. Ведь я — комсорг. Стыдно мне. А я старалась…
— Вот чудачка! У меня в Сочи никогда не было оценок больше «поса». Я и то не унывала.
В зале показался Андрей Андреевич.
— Здорово, ребята! — крикнул он. — Поздравляю вас с окончанием!
Крепко пожимая руки, он сказал:
— Специально приехал поздравить. Как у тебя дела, Таграй?
— Все в порядке, товарищ начальник, — с достоинством ответил он.
— Молодец! Я и не сомневался в тебе.
В зал входили директор, учителя, депутат. Они заняли места за столом, в зале воцарилась тишина. Тринадцать учеников сидели на первых скамьях. За ними — их родители, родственники, знакомые. Чукчи внимательно посматривали на учителей, на учеников — своих детей, которые так много лет учились в школе.
— Андрей Андрей, праздник сейчас будет? — спрашивали они его шепотом.
Заговорил директор школы:
— Товарищи ученики! Позвольте от всего сердца поздравить вас и весь чукотский народ с окончанием вами школы. Это — знаменательная дата в жизни вашего народа. Теперь ежегодно школа будет выпускать учеников все больше и больше. Но вы — первые, которые получили среднее образование. Вы должны с гордостью понести свои знания своему народу. Не успели вы еще закончить школу, а я уже получил заявки на вас. Чукотский рик и райком ВЛКСМ просят, чтобы часть окончивших школу учеников была послана к ним на работу. Мы хотели на следующий год открыть восьмой класс, но, видно, придется уважить их просьбу. Вот и товарищ Тынанват, наш депутат, считает, что эту просьбу надо уважить. И в рике и в райкоме очень нужны грамотные работники, как вы. Вчера я получил радиограмму из Ленинграда. И оттуда просят вас в Институт народов Севера. Но институт просит откомандировать только четырех отличников. Вот вы подумайте и потом скажете мне: кто из вас хочет ехать?
— Мы все хотим! — крикнул кто-то из учеников.
— Речь идет только об отличниках. И беда заключается в том, что нам дают четыре места, а отличников у нас пять.
— Это не беда, — сказал депутат. — Устройство пятого беру на себя.
— Разрешите мне сказать? — послышался голос Андрея Андреевича. — У меня есть замечательный выход. В Борисоглебске у меня работает дружок. Он начальник летной школы. Вот он мне тоже прислал заявку. Правда, он отвечает на мой запрос, но это значения не имеет. Место есть. Я предлагаю Таграя направить в Борисоглебск. Как ты, Таграй, хочешь учиться в летной школе?
— Очень хочу! — быстро ответил он.
— Зачем ему учиться? Он уже научился летать, — кричали ученики.
— Э, ребята! Он научился летать самоучкой. А когда он поучится в настоящей летной школе, может быть, тогда он будет летать прямо из Москвы в Америку. Вот пролетит над нами, да и поприветствует всех нас крылом какого-нибудь чудо-самолета.
— Какомэй, Таграй! — послышался чей-то голос.
Тает-Хема сидела на самом краю скамьи. Она совсем загрустила. Ведь ехать на Большую Землю она хотела больше всех, но теперь получилось так, что о ней не может быть и речи.
— Подвинься немного, Тает-Хема, — сказал Модест Леонидович, заглядывая ей в лицо. — А ты хочешь поехать учиться?
Тает-Хема молча кивнула головой, и доктор заметил, как налились слезами ее большие черные глаза. Длинные ресницы дрогнули.
— Дайте мне слово! — чуть ли не закричал доктор, обращаясь к Тынанвату. — Тает-Хема всю зиму занималась у меня в больнице. Она уже сейчас может быть отличной медсестрой. И то, что она по математике имеет не совсем хорошую отметку, это ничего еще не значит. Должен вам доложить, товарищи, что я вот, ваш покорный слуга, в свое время тоже по математике плелся на троечках. Может быть, поэтому из меня и не вышло инженера. Но это нисколько не помешало мне стать доктором. Андрей Андреевич хитрый. Он заранее списался со своим дружком. Но время терпит. Через десяток дней я тоже буду иметь ответ, получше, чем у него. Поэтому я предлагаю Тает-Хему направить учиться в фельдшерско-акушерский техникум. Устройство ее беру на себя.
Модест Леонидович сел и, как всегда в минуты волнения, снял очки и стал их усиленно протирать.
— Товарищи, — сказал депутат, — то, что сказал сейчас Модест Леонидович, заслуживает большого внимания. Если Тает-Хема поедет учиться на акушерку, а потом, может быть, и на доктора, — это очень хорошо. Вы себе и представить не можете, какой успех будет иметь у отсталых женщин своя акушерка. И если потребуется моя помощь, то я готов для Тает-Хемы провести через окрисполком специальное решение о материальной поддержке. А это будет необходимо, так как она ведь не в Институте народов Севера станет учиться.
Доктор бурно зааплодировал и закричал:
— Правильно, правильно, товарищ Тынанват!
Чукчи — родители учеников — молча вслушивались в разговоры, которые решали судьбы их детей. Молодежь сама выбирала свой жизненный путь.
Никто из родителей не возразил ни слова. Но печаль была видна на их лицах. Разлука на несколько лет — не легкое дело.
Собрание кончилось. Около Ульвургына столпились люди. К ним подошел и Тынанват.
— Что же это такое? — спросил Ульвургын Тынанвата. — Учились, учились наши дети — и еще не выучились? Нужно опять ехать куда-то далеко. На собаках не поедешь посмотреть, как они живут там. И мы не знаем: радоваться или печалиться нам?
Депутат усмехнулся:
— Вы не беспокойтесь. Я был там сам. На Большой Земле такие же люди, как и мы, и жить там можно.
— Мы тоже думаем, что люди там. Только ведь не поедешь посмотреть на них.
— Ничего, Ульвургын. На собаках, верно, туда не доедешь. А мы возьмем да и заведем свой пароход, сделаем тебя капитаном и пошлем в Ленинград кругом света.
— Нет. Той земли я не знаю. И стармеха у меня нет. Плавать не хочет, летать хочет, — с досадой сказал Ульвургын про Таграя.
— Вы за ребят не беспокойтесь.
— Жалко, что уезжают они.
На берегу толпился народ. Ревел мотор летающей лодки. Тынанват и Татьяна Николаевна из клипербота полезли в кабину. С берега кричали. Но голос Николая Павловича заглушал всех.
— Таня-кай! — кричал он. — Смотрите же, возвращайтесь!
— Обязательно! — успела крикнуть она.
Самолет дал полный газ и, оторвавшись от воды, взял курс на Анадырь — окружной центр Чукотки.
И сейчас же по заливу побежали вельботы. Стоя в вельботе, Таграй долго смотрел туда, где черной точкой, словно отбившаяся от стаи птица, мелькал самолет.
— Бросил ты меня, Таграй, — глядя на него, сказал Ульвургын. — Не хочешь плавать, летать хочешь…
ДО СВИДАНИЯ, ЧУКОТКА!
В назначенный день, когда с севера в залив Лаврентия вошел огромный пароход, все отъезжающие ученики прибыли на культбазу. За короткое время они так изменились, что трудно было их узнать. Они выглядели возмужавшими. Все были одеты в костюмы. Охотничий кружок в школе не оказался праздной затеей. Костюмы были куплены на деньги, вырученные, как и предполагалось, от продажи песцов.
Когда пароход принял последние грузы пушнины, тюленьих кож, моржовых клыков, шкур белого медведя, начали грузиться и пассажиры. Но учеников не было на берегу. Они в больнице прощались со своим другом Ктуге.
— Что поделаешь, Ктуге, — говорила напоследок Тает-Хема. — Ведь я тоже чуть-чуть не осталась.
— Эх, ребята! Как мне хочется поехать вместе с вами! Бандит шаман отшиб мне ногу.
— На будущий год поедешь, Ктуге, вместе со мной, — сказал доктор.
Раздались гудки парохода. Ребята быстро попрощались с Ктуге и побежали к берегу.
Ктуге подошел к окну и с грустью смотрел на пароход, на бежавших к берегу товарищей.
К нему вошел Чими.
— Ктуге, — сказал он, — может, на берег хочется тебе?
— Хочется. Только я ведь, Чими, не научился еще ходить по гальке.
— Хочешь, Ктуге, я посажу тебя на велосипед? Одной ногой ты будешь работать, а я буду его вести за рога.
— Давай, давай, Чими! — вскрикнул Ктуге, и, схватив свои костыли, застучал ими, поспешно направляясь к выходу.
На берегу стояла большая толпа. Все махали руками, кто-то палил из ружей. Шесть учеников в вельботе плыли к пароходу. Все они смотрели на берег и тоже кричали и махали кепками.
Вдруг в толпе раздался многоголосый крик:
— Ктуге, Ктуге, Ктуге!
Медленно, со скоростью человеческого шага, Ктуге подъезжал на велосипеде к берегу. Он нажимал одной ногой на педаль, немного раскачиваясь из стороны в сторону, и неотрывно смотрел вперед, на вельбот, в котором плыли его товарищи. Чими, державший руль, шел рядом и катил по гальке необычного велосипедиста.
— Смотрите, смотрите! Ктуге на велосипеде! — крикнула Тает-Хема.
Ребята встали и опять замахали кепками. Кто-то из них хотел крикнуть прощальное: «Тагам, тагам!» — но в этот момент вельбот уже скрылся за правым бортом парохода.
По трапу один за другим ученики проворно влезли наверх и тотчас потерялись на палубе океанского парохода среди возвращающихся зимовщиков-полярников и грузов.
Пароход гуще задымил, загрохотали машины. Медленно разворачиваясь, пароход взял курс из залива во Владивосток, на Большую Землю.
Нескончаемой вереницей гор и отвесных гранитных скал тянутся берега Чукотской земли. Пароход идет уже вдали от берегов, но ребята не могут оторвать глаз от своей родной земли. Сколько часов идет пароход, а все тянутся знакомые, родные берега.
Ребята стоят на борту, и каждый думает о Чукотке, которой они не увидят несколько лет.
Впереди море, словно дымкой, покрыто туманом.
— До свидания, Чукотка! — машет рукой Тает-Хема.
Таграй стоит на носу, около якоря. Пароход входит в молочный туман.
— Все смотришь, Таграй? — взявшись за его плечо, сказал подошедший Андрей Андреевич. — Вот и мне неожиданно пришлось выехать. Учиться предложили. Старик я по сравнению с тобой, а еду учиться. Орлов своих пришлось оставить. Мне ведь тоже грустно расставаться с этими берегами. Сроднился я с ними.
— А ты, Андрей Андрей, в какую школу едешь?
— В высшую пограничную школу. На годичные курсы еду.
Андрей Андреевич помолчал немного.
— Пойдем, Таграй, в кают-компанию, — сказал он вдруг. — Вон уже берега скрылись. Видишь, какой туманище. Погода нелетная. Пойдем.
— Нет, Андрей Андрей, я постою еще здесь. Я потом приду.
— Ну хорошо. Только знаешь, Таграй, вот тебе мой совет: ты нос на квинту не вешай. Хозяином чувствуй себя везде. А впрочем, ладно. На эту тему мы с тобой еще подробно потолкуем.
— Я хорошо чувствую себя, Андрей Андрей. Только вдруг мне жалко чего-то стало. А чего жалко — и сам не знаю. Стою вот здесь и смотрю на берега. Ведь я их вижу сквозь туман. Вот так и хочется молча стоять здесь и смотреть в ту сторону.
Тяжелый, влажный туман ложился на непокрытую голову Таграя. Он провел рукой по волосам и перешел под навес. Таграй оперся спиной о стенку между иллюминаторами и продолжал вглядываться в ту сторону, где в тумане скрылись берега.
Мимо него прошел тучный человек с золотыми нашивками на рукавах морского кителя. Он бросил взгляд на Таграя и, пройдя немного вперед, остановился, внимательно всматриваясь в него.
— Ишь, как тебя обрядили! — добродушно сказал человек с нашивками, возвращаясь к Таграю. — Небось лучше оленьих шкур? Или хуже?
— Ум-гу, — как-то неопределенно промычал Таграй, кивая головой и рассматривая морской китель своего собеседника.
— Твоя на Большую Землю ходи? — спросил человек с нашивками.
Таграй удивился и на вопрос ответил вопросом:
— Вы здесь на пароходе работаете?
— Да, я старший механик.
— А почему же вы плохо знаете русский язык? — спросил Таграй.
— Как плохо?
— «Твоя»… «ходи»…
Механик смутился.
— Это я для ясности хотел. Я думал, вы не знаете русского языка. Мы как-то возили одного «студента» — так он ни звука по-русски. Вы едете учиться?
— Я летчик, — сказал Таграй. — Еду в летную школу.
— Летчик? А где же вы учились?
— На культбазе окончил школу в этом году, а самолетовождению научился у пограничников.
— Вот что! — протянул механик.
— Товарищ стармех, я хочу вас просить познакомить меня с машиной вашего парохода. Мне очень интересно. Я ведь тоже был стармехом, только на шкуне. Маленькая там машина.
— Пожалуйста, пожалуйста! Хоть сейчас. Пойдемте, — и стармех взял Таграя под руку.
— Нет, потом. Говорят, мы долго будем идти до Владивостока. Успеем еще.
— Очень хорошо. Вы, пожалуйста, без всяких стеснений. Как надумаете, так прямо ко мне и обращайтесь. Вы в какой каюте?
— В двадцать первой, — ответил Таграй.
— Очень хорошо. У меня тоже будет к вам просьба: расскажите мне что-нибудь из чукотской жизни — об обычаях, об охоте на кита. Я, знаете ли, пишу книжечки для детей о разных странах.
— О, я вам много могу рассказать.
— Вас как зовут?
— Таграй.
— Разрешите, я запишу.
Положив записную книжку на влажное стекло иллюминатора, стармех записал: «Таграй. Каюта 21».
Они дружески распрощались.
На десятые сутки, поздно вечером, пароход входил в бухту Золотой Рог Владивостокского порта.
Весь склон горы, где расположен Владивосток, горел огнями электричества. Множество пароходов, катеров заполняло бухту. Вот он какой, город!
Уже предвкушая удовольствие побродить по каменному городу, о котором они знали понаслышке, ребята с затаенным дыханием смотрели на огни. Стоял тихий, теплый вечер. Издали доносился шум города, лязг железа, гудки пароходов. Сколько предстоит интересного! Жаль, что не видно каменных домов. Только огни, огни и огни. Весь город в огнях.
— Ребята! Ребята! — крикнул Андрей Андреевич. — Скорей идите на этот борт! Смотрите, подводная лодка!
Недалеко от парохода к выходу из бухты низко шло что-то серое, похожее на необычайного морского зверя с надстройкой на спине.
Пройдя немного, подлодка стала погружаться и ушла вглубь моря. Странное чувство охватило ребят. Не верилось, что в ней находились такие же, как и все, люди.
— Вот бы, Андрей Андрей, нам в залив Лаврентия такую подлодку! — с восхищением сказал Таграй. — За моржами охотиться.
— И тебя стармехом, — шутя добавила Тает-Хема.
— А тебя, Тает-Хема, судовым врачом, — вставил Андрей Андреевич.
— И командиром подводной лодки товарища Горина, — сказала она.
Все засмеялись, а лодки уже и след простыл.
Едва пароход пришвартовался к причалу, как на палубу вбежал экспедитор Главсевморпути.
— Кто здесь с Чукотки?
Чукотцы его быстро окружили.
— Вот хорошо, товарищи! Думал, пароход запоздает и билеты пропадут. Через час поезд отходит на Москву. Скорей выгружайтесь. Машины в порту, садитесь — и прямо на поезд.
— Андрей Андрей, а как же Владивосток смотреть? — спросил Таграй.
— Не выходит, стало быть. Ну, это ничего, ребята. И даже очень хорошо. Не будем болтаться здесь, а прямо покатим в Москву. Первый город, который вы увидите, будет Москва.
В МОСКВЕ
Всюду, в какую сторону ни посмотреть, бегут машины. Как дома на колесах, с окнами и дверями, с шумом и грохотом катятся трамваи. Неисчислимое множество людей двигается во все стороны. Людская лавина напоминала большие стада оленей. Одни шли медленно, не спеша, как сытые олени; другие торопились куда-то, сбивая на пути прохожих, и бежали, словно за белыми медведями.
Поминутно оглядываясь по сторонам и жадно ловя новые впечатления, ребята шли за Андреем Андреевичем, как телята за опытной важенкой. Они пересекли широкую площадь, напоминающую озеро, покрытое прозрачным льдом, и вышли на улицу, ведущую к центру. С разгоревшимися глазами, оробевшие, они молча шли за Андреем Андреевичем, ошеломленные величием грандиозного города.
Они шли долго. В голове скопилось так много вопросов, что лучше и не спрашивать. Молчал и сам Андрей Андреевич. На переходах он превращался в руководителя уличного движения и поднятием руки останавливал свою группу. Он и сам не на шутку оробел, опасаясь, как бы на кого-нибудь из них не наскочил автомобиль.
И когда поток транспорта на момент прекращался, Андрей Андреевич кивал им головой, взмахивал рукой и быстро переходил опасное, по его мнению, место. Ему самому хотелось поговорить с ребятами, у него у самого было много впечатлений, но тут не до разговоров. Не на нарте едешь!
С величайшей осторожностью шли они по улице, привлекая внимание любопытных москвичей.
Стройная девушка с черными косами держалась за портупею пограничника и бросала во все стороны изумленные взгляды своих широко открытых красивых глаз.
Плотной группкой двигались за ними пятеро чукотских юношей.
Так шли они долго, пока не попали в центр города.
— Андрей Андрей, это дом Совнаркома? — спросил Таграй.
— Не знаю, — ответил Горин. — А почему ты думаешь?
— Помнишь, в кино показывали там у нас, в заливе Лаврентия?
Рядом проходила девушка с портфелем. Андрей Андреевич остановил ее и спросил:
— Скажите, пожалуйста, это дом Совнаркома?
— Да, да. Это дом Совнаркома. А это — гостиница «Москва». Этот домик — Колонный зал дома Союзов. А там вон — Большой театр, — охотно объясняла любезная москвичка.
Она оглядела их всех и не преминула спросить:
— А вы откуда, товарищи?
— С Чукотки мы. Слыхали? — сказал Андрей Андреевич.
Вскоре они попали в Александровский сад.
— Садитесь, ребята. Вот здесь уж мы поговорим спокойно. Здесь нас никто не задавит, — сказал он.
Ребята сели на скамеечку, и внимание их привлекли деревья. Настоящие, живые деревья, а не на картинках.
— Ну, это такие деревья, какие вы видели еще из вагона, когда мы ехали, — сказал Андрей Андреевич.
Окружив дерево, они прикасались к нему руками, подбирали упавшие листья.
— К нам туда привозят мертвые деревья, а это — живое дерево. Вот мы стоим около него, а оно живет, растет, — сказал Андрей Андреевич.
И вдруг странным показалось ему самому, что эти взрослые юноши, познакомившиеся уже с современной техникой, словно только что родились и впервые увидели растущее дерево. Они долго говорили о деревьях, лесах.
Тает-Хема потрогала нос и сказала:
— Дымом пахнет в Москве, Андрей Андрей.
— Андрей Андрей, а почему москвичи не работают? — спросил Таграй. — Почему все они гуляют? Ведь вот сколько мы ни шли, все улицы заполнены народом.
— Вы знаете, в чем тут дело, ребята? Ведь в Москве четыре миллиона человек. Люди работают в разное время. Некоторые ночью работают. Есть иждивенцы, которые совсем не работают. А на улице всего, может быть, мы и встретили тысяч сорок человек.
— Четыре миллиона? Сколько нужно пищи! Кто это кормит Москву и чем? — спросил Таграй и тут же занялся каким-то подсчетом.
— Ты что это высчитываешь?
— Подожди, Андрей Андрей. У нас на Чукотке сто тысяч оленей. Вес чистого мяса одного оленя тридцать — тридцать пять килограммов. Что же получается? Выходит, москвичи, если дать каждому человеку по кило оленьего мяса, могут съесть все чукотское поголовье оленей за один день? Ой-ой-ой! Вот это Москва!
И все были очень удивлены этим открытием. Даже сам Горин впервые обратил внимание на чрево Москвы. Подсчет Таграя произвел и на него самого очень сильное впечатление.
«Черт возьми! И в голову не приходило это никогда, — подумал он. — А ведь на самом деле удивительно!»
Андрей Андреевич вывел их на Красную площадь. Мавзолей Ленина, Кремль — ведь все это те места, о которых им рассказывали учителя.
С волнением они входят в мавзолей. Здесь лежит величайший из мыслителей человечества. Это человек, гению которого они обязаны тем, что стоят в строю равноправных советских народов.
Выйдя из мавзолея, по асфальтированной дорожке, взволнованные, они направляются к Москве-реке.
На набережной их внимание привлек огромный дом. Он напоминает самые высокие гранитные чукотские скалы.
Задрав головы, они ходят мимо него и спрашивают:
— Сколько же в нем живет людей, Андрей Андрей?
— Не знаю, ребята. Но думаю, что тысяч десять — пятнадцать.
— Какой дом!
— Вот бы два таких дома построить на Чукотке, можно было бы поместить в них весь наш народ.
Три дня в разных районах города москвичи видели группку юношей с раскосыми глазами и русского пограничника.
На четвертый день все они, за исключением Таграя, выехали в Ленинград.
— Ну вот, Таграй, теперь мы остались вдвоем. И прошу тебя не задавать мне больше никаких вопросов!
— Почему, Андрей Андрей?
— Башка у меня уже трещит от вопросов. Кажется, за всю жизнь столько я не думал, сколько за эти три дня. Поедем кататься на метро. Про него тоже не спрашивай. О нем я знаю не больше, чем ты. Построили его, пока я находился на Чукотке.
На следующий день Таграй уезжал в Борисоглебск. Он уезжал один. Все, все здесь ново, ни одного знакомого холмика, ни одной знакомой речки. И только солнце такое же светлое и небо такое же ясное, как и на Чукотке.
Таграй стоял с Андреем Андреевичем на перроне. Это был последний час, когда они видели друг друга.
— Письмо, Таграй, передай самому начальнику летной школы. Понял?
— Понял, Андрей Андрей.
— И смотри у меня! Чувствуй себя хозяином. Не забудь, что я тебе наказывал. Веди себя смело. Знай, что ты находишься у себя на родине.
— Жалко мне с тобой расставаться, Андрей Андрей!
— А мне, думаешь, легко?
Раздались звонки.
— Ну, прощай, Таграй. Сейчас тронется поезд.
Они крепко пожали друг другу руки, и вдруг Андрей Андреевич сказал:
— Дай я тебя поцелую, Таграй.
Медленно зашевелились колеса вагонов, и поезд тронулся. Таграй вскочил на площадку вагона и закричал непонятное окружающим:
— Тагам! Тагам!
Андрей Андреевич бежал по перрону и тоже кричал:
— Тагам! Тагам!
Наконец он остановился. Вдали мелькнул хвост поезда. Горин подумал:
«Поезжай, Таграй… Пути не заказаны тебе. Ты должен ездить и по неезженым дорогам».
Кругом было уже пусто, и только русский пограничник одиноко стоял на перроне вокзала.
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления