Онлайн чтение книги
Чукотская сага
ИМЯ ЧЕЛОВЕКА
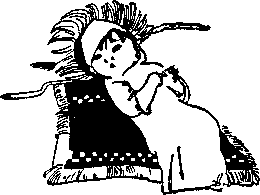
Ещё и часу, пожалуй, не прошло с тех пор, как начался шторм, а Унпэнэру кажется, что уже целую вечность продолжается эта страшная борьба. Нос моторной байдары едва успевает разрезать гребень волны, а навстречу уже поднимается другая — ещё более высокая, ещё более темная и грозная, за нею третья, четвертая. Кажется, что нет им конца, нет и никогда не будет…
В байдаре, кроме бригадира, ещё четверо: Ринтувги, Аре, Атчылын и Кэнири. За четыре жизни борется сейчас Унпэнэр, стараясь направить байдару наперерез волнам, чтобы не захлестнуло её, не потопило. За четыре жизни, не говоря уже о своей собственной. А своя ведь тоже чего-нибудь стоит.
Утром погода была спокойная, ясная; только изредка налетал небольшой ветерок. А позавчера, когда отправлялись из дому, стоял полный штиль. На воде не то что волны, а даже самой легкой ряби не было.
Унпэнэра и Ринтувги вызывали в райцентр на совещание молодых передовиков зверобойного промысла. Аре и Атчылын поехали с ними просто так, за компанию, а Кэнири — чтобы сделать кое-какие покупки в районном универмаге. И вот на обратном пути захватил их этот проклятый шторм.
Унпэнэр старается разрезать волну носом байдары, но море словно взбесилось: только что волна была спереди, и вдруг её не стало, а справа налетает другая. Того и гляди ударит в борт, захлестнет, опрокинет.
Ветер крепчает, волны становятся всё выше и выше. Легкая байдара между ними — словно беспомощная щепка. То поднимает её волна высоко-высоко — так высоко, что дух захватывает, то бросает вниз, в пропасть между двумя валами, будто в раскрытую черную пасть. У Кэнири при каждом падении всё внутри словно переворачивается и взлетает кверху. Он давно уже заметил это и решил тогда, что внутренности просто не успевают падать с такой же скоростью, с какой падаешь сам: они ведь гораздо легче костей; вот и получается, что ощущаешь желудок где-то в груди, чуть ли не у самого горла…
Но сейчас Кэнири не думает об этом, ему не до рассуждений. При каждом падении байдары он судорожно хватается за борт и старается не глядеть вниз. И в то же время какая-то непонятная сила заставляет его смотреть туда, в самую глубину пропасти. Кэнири видит там белую чайку. Она спокойно сидит между двумя огромными валами. Но вот — Кэнири даже не успевает понять, как это получилось, — байдара уже внизу, а чайку вынесло наверх, на самый гребень волны. Минуты не прошло — байдара взлетела вверх, а чайка снова оказалась внизу.
Ринтувги тоже не может оторвать взгляда от птицы. Уж больно хороша она сейчас, среди бушующих волн! Никаких других красок — только темные волны да белая чайка. Какая могучая красота в этом спокойствии белой птицы среди темных беснующихся валов!
Унпэнэр не смотрит на чайку, он следит за направлением ветра, то и дело поглядывает на компас, прислушивается к голосу мотора. Никто, кроме Унпэнэра, не знает ещё, как велика опасность, никому не известно, что горючее на исходе. Все они не раз попадали в шторм, бывали штормы и посердитей этого. Но сейчас бензина в бачке осталось только минут на двадцать… Что делать потом? Справа — море, слева — скалистый берег, горы Эввыквыт. На много километров тянутся эти высокие скалы, эти крутые, почти отвесные стены. Пристать некуда.
Да, до ближайшего пологого спуска километров семь. Нет, побольше, километров восемь, пожалуй. Не дотянуть. Куда там! Против такой волны мотор и километра не протянет. Значит, надо решаться.
— Товарищи! — говорит Унпэнэр.
Но никто не слышит его. Даже Ринтувги, сидящий рядом, и то не услышал.
— Товарищи! — повторяет Унпэнэр, стараясь перекричать шум бури. Все поворачиваются к нему. Все сразу понимают, что бригадир встревожен не на шутку: слово «товарищи» звучит гораздо серьезнее, чем обычное «ребята».
— Горючее кончается. Только на несколько минут осталось. Сейчас поворачиваю к берегу, попытаюсь как-нибудь выбросить байдару на камни. Если не удастся… Словом, надо быть готовым ко всему. Вяжите весла. Приготовьте пыхпыхи.
Пыхпых — это нерпичья шкура, мешок из нерпичьей шкуры. Если надуть его воздухом да как следует завязать — на таком поплавке не утонешь. На нём и сутки можно продержаться и двое суток. Но всё-таки пыхпых — это уже последнее дело. Раз уж Унпэнэр вспомнил про пыхпыхи — значит, надо поторапливаться.
Закипела работа в байдаре. Атчылын связывает весла, Ринтувги рубит мачту — тоже пригодится для плотика. Аре и Кэнири надувают пыхпыхи.
Теперь, за работой, Кэнири чувствует себя гораздо спокойнее, чем прежде. Он старается изо всех сил, сопит, его толстые щеки надуваются, глаза вот-вот, кажется, вылезут из орбит. Когда надо набрать в легкие новую порцию воздуха, он и руками и губами зажимает горловину кожаного мешка, а воздух набирает через нос. Он так поглощен этим занятием, что на время даже забывает об опасности.
А байдара уже приближается к скалистому берегу. Каждый прибрежный камень, каждый выступ скал кажется покрытым белой шапкой снега. Но это, конечно, не снег, — откуда же быть сейчас снегу? Это пена от разбивающихся о камни волн.
План у бригадира такой: неподалеку от берега, поравнявшись с Эввыквын-скалой, круто развернуться и через узкий проход ввести байдару в залив. Унпэнэр хорошо знает этот небольшой залив: там, за широкой спиной Эввыквын-скалы, поспокойней, чем в море. Только бы удалось провести туда байдару, — уж очень узок проход. Если удастся, тогда всё в порядке. Можно будет переждать шторм.
Так, крутой поворот. Всем уже понятен план Унпэнэра, все с надеждой и тревогой смотрят на узкие, чуть расширяющиеся кверху ворота залива.
— Надо высокую волну выждать! — кричит Ринтувги, наклоняясь к самому уху Унпэнэра. — Внизу не пройдем, надо на волне!
Унпэнэр кивает головой. Да, конечно… Но в это время умолкает мотор.
— Заглох? — с ужасом спрашивает Кэнири, крепко прижимая к себе пыхпых. Хорошо, что на плече его плотно лежит рука Аре, не то Кэнири, наверно, выпрыгнул бы сейчас за борт.
Теперь уж не приходится выбирать, какая волна достаточно высока, а какая недостаточно. Первая же из них подхватывает байдару и стремительно несет её вперед. Удар! Так и есть, волна всадила байдару в ворота залива, заклинила её между двумя каменными стенами — между берегом и Эввыквын-скалой. Затрещал каркас байдары, кожаная обшивка лопнула.
Волна обрушилась, а байдара осталась высоко над водой. Не успели опомниться, как ударила следующая волна. Окатила с ног до головы, чуть не до половины наполнила искалеченное суденышко и сразу же вытекла в огромную дыру, образовавшуюся в обшивке.
Долго здесь не просидишь. Ещё десяток-другой таких ударов, и от байдары ничего не останется. Либо сломается каркас, и она рухнет вниз, либо вышибет её в залив. И в том и в другом случае она теперь сразу же затонет.
Вверху, метрах в пяти, гранитная стена берега резко отступила назад, образуя небольшую площадку. Эта площадка казалась теперь счастливейшим местом на земле. Но как добраться туда? Как преодолеть пять метров почти отвесного, отшлифованного волнами гранитного склона?
Схватив кожаную бечеву, Унпэнэр быстро мастерит аркан и, прицелившись, бросает его на один из выступов, виднеющихся над площадкой. Петля касается камня, но, не обхватив его, соскальзывает вниз. Не удается и вторая попытка. Унпэнэр передает аркан Ринтувги.
— Попробуй-ка ты.
Снова летит кверху петля, и на этот раз она обхватывает выступ, повисает на нём. Ринтувги осторожно натягивает кожаную бечеву, петля становится всё меньше, затягивается. Ринтувги сам повисает на бечеве всей тяжестью своего могучего тела. Это не только испытание аркана — это прежде всего испытание прочности каменного выступа: кто его знает, может, это и не выступ вовсе, а просто камень, лежащий на площадке… Нет, он остается неподвижным.
— Порядок! — радостно говорит Ринтувги, снова становясь на ноги. — Держит!
— Полезай! — отвечает Унпэнэр.
Держась за ремень, подтягиваясь, Ринтувги поднимается по гранитной стене. Он почти уже в безопасности. Каждый инстинктивно придвигается поближе. Чья теперь очередь?
— Сначала мотор, — говорит Унпэнэр.
Очередная волна окатывает их в это время, никто не слышит его слов. Но Аре и Атчылын и без слов понимают бригадира. К тому времени, когда Ринтувги достигает площадки, мотор уже снят с байдары и привязан к ремню. Ринтувги тащит его наверх.
Унпэнэр стоит на корме и внимательно следит за Подъемом мотора, раскачивающегося в воздухе и время от времени ударяющегося о гранитную стену. Ринтувги торопится, удары становятся всё чаще, одна из лопастей вкнта отламывается, и, падая, обломок оставляет тоненькую черту пореза на щеке Унпэнэра.
Кэнири сокрушенно покачивает головой, увидев кровь, выступившую из ранки.
— Ерунда, — говорит Унпэнэр. — Винт сменить недолго. Был бы только мотор цел.
Боли он ещё не чувствует.
Ринтувги втаскивает на площадку мотор, быстро отвязывает его и бросает вниз конец бечевы. Новая волна окатывает байдару, снова угрожающе трещит каркас. Лишь на секунду зажмурился Унпэнэр, вытирая лицо рукавом, а когда открыл глаза, увидел, что Кэнири с удивительным проворством привязывает бечевку к своему поясу.
Что ж, может, это справедливо. Может быть, так и надо. У него всё-таки дети… Но Ринтувги сверху кричит:
— Нет, нет, отвязывайся! Мне одному тебя не вытащить! Отвязывайся, Кэнири, отвязывайся! Живей!
Как ни жаль беднягу Кэнири, но Ринтувги совершенно прав. Подтянуться на руках Кэнири не сумеет, а вытащить такую тушу — это даже для Ринтувги непосильно.
— Правильно, — говорит Унпэнэр. — Пусть вторым поднимается Атчылын. Он полегче тебя. А вдвоем они мигом тебя поднимут.
Унпэнэр даже улыбнулся и ободряюще подмигнул. Чувство обиды странным образом переплетается у Кэнири с чувством благодарности — за эту улыбку, за то, что никто не обозвал его паникером, за то, что следующая очередь фактически уже обещана ему… Он хочет как можно скорее развязать узел, но пальцы плохо слушают его, и узел развязывается гораздо дольше, чем завязывался.
С невольным вздохом Кэнири передает Атчылыну конец кожаной бечевы. Даже на одну минуту трудно ему расстаться с этим тонким — не шире пальца — лахтачьим ремнем, который кажется сейчас единственной нитью, соединяющей с жизнью.
Не обвязываясь — только ухватившись руками за бечеву, Атчылын в несколько секунд взлетает наверх, к Ринтувги. Затем они поднимают на площадку Кэнири, и на гранитной стене, забрызганной морской пеной, остается четкий след тела, которое протащили по ней. Аре пытается взобраться, как Атчылын. Он сам не знает, что руководит им — удаль, привычка ни в чём не отставать от своего приятеля или желание поскорее освободить бечеву для Унпэнэра. Но, поскользнувшись на одном из выступов, больно ударив колено и чуть не сорвавшись, он сразу затихает, становится осторожнее…
Унпэнэр оставляет байдару последним.
* * *
Здесь, на площадке, к молодым охотникам быстро возвратилось их обычное, веселое настроение. Приятно почувствовать под ногами твердую почву! А уж тут она так тверда! Даже слишком, пожалуй. Если бы чуть помягче была, тоже никто не стал бы возражать.
Все пятеро сидят почти в одинаковых позах: положив руки на колени, подтянутые до самой груди, уткнувшись подбородками в руки. Так вроде бы потеплее. Да и не настолько просторна площадка, чтобы рассесться как-нибудь посвободней.
Никому не хочется думать о том, что будет дальше. Хочется хоть немного отдохнуть, насладиться тем, что самое страшное уже как будто позади, что можно посидеть, ничего не делая, перебрасываясь немудрыми шутками.
— Кэнири, — спрашивает Аре, — ты был на полярной станции, когда туда привезли корову?
— Нет.
— А я думал, что был. Её, понимаешь, выгружали с парохода подъемным краном, очень смешно было, когда она висела в воздухе… Представляете себе? Когда Ринтувги и Атчылын тащили Кэнири, он был очень похож на эту корову. Я даже думал, что он нарочно.
Молодые охотники смеются. Кэнири пытается отыграться:
— Лучше корова, которая с самого начала спокойно висит, чем корова, которая прыгает без толку. Ты вон прыгал, а потом хуже коровы повис. Мы даже хотели тебя обратно спускать — думали, что ты что-нибудь в байдаре забыл.
Унпэнэр тоже улыбается, но улыбка у него не такая веселая, как всегда. Он привычным жестом откидывает назад черные прямые волосы, но и жест этот усталый, неточный, — волосы почти сразу же снова падают на лоб. Если бы кто-нибудь из охотников внимательно вгляделся сейчас в его лицо, то увидел бы, что знаменитый бригадир молодежной бригады сильно изменился за несколько часов. Постарше стал, что ли.
Ринтувги смотрит на приятеля, но смотрит рассеянно и замечает только кровь, размазанную по щеке.
— Здорово тебя царапнуло, — говорит Ринтувги. — Кэнири, цело у тебя зеркальце?
Унпэнэр берёт зеркальце Оно вделано в кожаную обложку записной книжки, Кэнири всегда носит его с собой. Унпэнэр долго рассматривает царапину, даже слишком, пожалуй, долго. Но в том-то и дело, что он вовсе не думает о ней, он думает о своей неудаче, о потере байдары. Что он скажет теперь отцу, старому Гэмалькоту? Что он скажет правлению колхоза? Нет, это не только потеря байдары, это потеря доброй славы!
С бригады, наверно, снимут. Два раза уже предупреждали на правлении, в последний раз председатель Вамче так и сказал: «Ещё одна такая выходка, и придется нам отобрать у тебя бригаду. И на славу твою не посмотрим». Это было всего лишь месяц назад — после того, как молодежная бригада целые сутки штормовала в открытом море: увлеклись охотой, понадеялись на то, что ветер скоро уляжется, а попали в такую переделку, что еле выбрались. Но тогда ведь выбрались благополучно! И всё-таки, когда вернулись, Гэмалькот, встречавший сына на берегу, сказал: «Ну, готовься, Унпэнэр. Сегодня же на правление тебя вызываем. Возьмут тебя старики в переделку — покрепче, чем в море была». Так и вышло.
Отец уже тогда предлагал снять Унпэнэра с бригады. Но тогда Унпэнэр мог защищаться. «Что, — говорил он, — хоть одно весло у меня сломалось? Нет! Хоть один гарпун потерялся? Нет! Все охотники — целые, вся материальная часть — целая!» Он даже не упоминал о том, что, кроме всего прочего, добыча у молодежной бригады богаче, чем у всех остальных. Это и так все знали. И поэтому, как бы ни ругали его старики, но в конце концов прощали. Да, прощали до поры до времени.
— Был бы с нами Вуквукай, — говорит Унпэнэр, возвращая зеркальце Кэнири, — так ничего бы этого не случилось.
— Почему это? — спрашивает Атчылын. — Что мы, с Вуквукаем никогда в шторм не попадали?
— Попадали. В шторм всякий может попасть. А только у Вуквукая такое правило: пока доверху бачки не зальешь, никогда с места не трогайся!
— Это верно, — соглашается с бригадиром Ринтувги. — Что верно, то верно.
Он даже не подозревает, что, соглашаясь, ранит своего друга в самое сердце. Теперь всё ясно. Значит, даже Ринтувги считает, что виноват бригадир. Если бы моторист Вуквукай поехал с ними в райцентр, всё, наверно, обошлось бы благополучно. А бригадир не взял моториста, понадеялся на себя, не позаботился даже о том, чтобы горючее захватить с запасом. По хорошей погоде хватило бы, конечно, и того, что было в бачке… Да только никогда нельзя забывать, что погода может измениться.
Унпэнэр старается направить свои мысли на другое: надо решить, что дальше делать. Но мысли упорно возвращаются к прошлому, к тому, что говорили ему старики. «Ты думаешь, — говорили они, — что море тебя постепенно учить будет: сначала весло сломает, потом гарпун отнимет… Тогда, дескать, ты поумнее станешь? Нет, Унпэнэр, море не так учит. Не так, как в школе, нет. Оно тебя балует, а ты гляди не разбалуйся. Разбалуешься — оно тебя не жалея ударит. Сразу байдару отнимет, а то так и самого заглотнет. Ты не веслам рискуешь, ты жизнью рискуешь. А ведь женатый уже! Аймына рожать собирается, а ты — как мальчишка…»
Тогда Унпэнэру казалось, что они немного завидуют удачам его бригады, тому, что море «балует» его. В их словах, казалось ему, проскальзывала такая мысль: «Если бы мы рисковали так же, как Унпэнэр, так и у нас добыча была бы не менее богатой».
Но вот случилось именно так, как ему говорили. В море, конечно, всякое может случиться, самого опытного моряка может захватить непогода… Но всё-таки это произошло именно с ним, а не с кем-нибудь другим. Нет, старых зверобоев не обманешь, они сами прекрасно знают, в чём виновато море, а в чем виноват моряк… И надо же чтобы это случилось даже не во время охоты! Во время самой обыкновенной поездки, из которой — было бы горючее — вернулись бы, не замочив торбаса!
А шторм всё шумит и шумит. С грохотом разбиваются волны о каменную стену берега. Даже сюда, на площадку, долетают иногда холодные соленые брызги. Чуть подавшись вперед, Унпэнэр заглядывает вниз. Байдары уже нет, узкий проход между берегом и Эввыквын-скалой свободен…
— О чём, бригадир, задумался? — спрашивает Аре. — Домой захотел? Про Аймыну вспомнил?
— Захотел или не захотел, а добираться надо.
— Добираться?
Интересно, как это бригадир думает добираться? Уж не по этой ли каменной стене? Аре смотрит направо, потом налево. Остальные охотники тоже осматриваются. Площадка, на которой они сидят, и справа и слева не сразу сходит на нет. Она продолжается узеньким карнизом, очень удобным, наверно, для птиц, но совсем неудобным для человека.
— Нет, — убежденно говорит Кэнири, — тут не пройти.
Кажется, он даже доволен, что тропка так узка: будь она хоть немножко, хоть сантиметров на десять пошире, уж тогда Унпэнэр обязательно повел бы по ней бригаду. А разве это тропка? По ней и звери-то никогда не ходили, не то что люди…
— Не пройти? — переспрашивает Унпэнэр. — Посмотрим. Сюда взобраться тоже не легко было.
— Сравнил! Если б мы сюда не взобрались, так и в живых бы уже не были теперь. Сюда нас шторм гнал. А отсюда никто не гонит. И всё равно выхода отсюда нет.
— Посмотрим, — повторяет Унпэнэр. — Если выхода нет — значит, придется тут сидеть, дожидаться, пока снимут.
Кэнири считает, что вопрос таким образом решен в самом благоприятном направлении. Но Унпэнэр продолжает:
— Только хорошего в этом, ребята, мало. Еда у нас есть? Ни кусочка. Воды ни капельки. Скоро ли нас найдут? Могут и несколько дней проискать. Долго тут не просидишь, завтра или послезавтра сам захочешь тропку испробовать. А силы уже не будет. Закружится у тебя с голодухи голова, и совершишь ты, дорогой товарищ Кэнири, рекордный прыжок.
— Я-то не совершу, — злится Кэнири. — Никуда я отсюда не тронусь — мне и здесь хорошо. Думаешь, если у тебя жена родила, так все должны с ума посходить? Торопись, если тебе так надо, а мы не торопимся. Нам не к спеху.
Унпэнэр не отвечает. Две большие родинки, примостившиеся у него над самым переносьем, медленно приближаются друг к другу — так сурово сходятся брови бригадира. Кажется, что вот-вот эти родинки сольются в одну. А в таких случаях шутки в молодежной бригаде смолкают. Только один Кэнири, совсем недавно попавший в бригаду Унпэнэра, ещё не знает, что приближение этих родинок друг к другу предвещает обычно нешуточную бурю… На этот раз бури, видимо, не, будет. Унпэнэр так огорчен гибелью байдары, так озабочен, что даже наскоки Кэнири не могут вывести его из мрачного раздумья.
Кэнири ждёт ответа минуту, другую. В первую минуту он ещё злится, к концу второй он испытывает уже некоторую неловкость. Ему хочется как-то смягчить резкие свои слова. Он говорит улыбаясь:
— Моя Тэюнэ уже два раза рожала, я к этому делу привык.
Почти всегда эта тема вызывает множество шуток: у Кэнири и Тэюнэ две пары двойняшек — как не посмеяться по поводу такой редкостной удачи? Но сейчас Унпэнэр пропускает мимо ушей шутку Кэнири точно так же, как только что пропустил мимо ушей его грубости. Унпэнэр ещё бригадир пока что! Может быть, недолго ему оставаться бригадиром, но пока что это так. И никто не посмеет упрекнуть его в том, что он способен рисковать жизнью товарищей только из желания поскорее повидать новорожденного сына. Да, Унпэнэр, конечно, бывал неосторожен. Иногда — из желания во что бы то ни стало добиться первого места по добыче морского зверя, иногда — из охотничьего азарта. Бывало — из желания испытать силы, поиграть с опасностью. Бывало, если уж говорить начистоту, — из простого молодечества, чтобы удаль показать; из-за беспечности наконец. Но никогда не примешивалось к этому ничто постороннее, никакие личные, семейные дела, никакие задние мысли! Нет уж. За такие слова стоило бы, пожалуй, дать как следует по уху. Но драться Унпэнэр, конечно, не станет. Значит, лучше всего не обращать внимания, промолчать. Молчание действует иногда гораздо убедительнее, чем самые громкие слова. И даже убедительнее, чем хорошая оплеуха.
— Вот что, — говорит Унпэнэр через несколько минут. — Ты, Атчылын, сходи-ка направо, разведай, что это за тропка. А ты, Аре, с другой стороны посмотри. Колено не болит?
— Давай я схожу, — предлагает Ринтувги.
— Нет, нет, — говорит Аре, поднимаясь и потирая ушибленное колено. — Давно прошло, не болит.
— Далеко не ходите, только до поворота. Пусть каждый свою тропку разведает, есть ли дальше дорога. Если тропка ненадежная, не рискуйте. Сразу тогда обратно.
— Хорошо.
Они уходят, один — направо, другой — налево. Кэнири никак не может понять этого: только что ему казалось, что ребята скорее согласны с ним, чем с бригадиром. И вдруг оказалась совсем не так…
Аре огибает небольшой выступ и почти сразу же скрывается из глаз. Атчылына видно долго. Вначале тропка идет почти горизонтально, но потом начинается спуск. Вот Атчыльгн скрылся до пояса, вот уже только голова его видна… Но затем он поворачивается и возвращается на площадку.
— Нет, ребята, там действительно не пройти. Тропка там узкая, крутая. А главное — никуда она не ведет: под воду уходит, в море.
Атчылын опускается на то же место, на котором сидел раньше, снова скрещивает руки на согнутых у самой груди коленях.
— Чайка, — говорит Ринтувги.
Да, на темных волнах по-прежнему качается белая чайка. Вверх-вниз, вверх-вниз. Та это или другая? Наверно, другая — та была далеко от берега.
— Ну так, ребята! — начинает Аре, едва показавшись из-за выступа. — Картина такая: тропка всё время кверху идет и даже вроде бы расширяется немного; пройти можно. А только ведет она к водопаду. Метров триста отсюда. Упирается прямо в водопад. И конец. И другого пути тоже никакого нет: что вниз, что вверх — гладкие стены метров по двадцать.
— До водопада не доходил? — спрашивает Унпэнэр, почему-то явно довольный словами Аре.
— Нет, не доходил. Там — ходи не ходи — ясно видно: прямо в воду упрешься. А с этой стороны?
— Тут и тропки-то почти нету, — отвечает Атчылын. — Почти что на нет сходит. И дорога по ней — вниз, к морю, больше никуда.
«Значит, с обеих сторон вода», — хочет сказать Кэнирй, но успевает удержать эти слова на самом кончике языка. Зачем говорить то, что и без него уже всем ясно? Зачем снова обнаруживать свое желание сидеть на месте и ждать, пока придет помощь? Зачем показывать, что обрадован? Наоборот, теперь он мог бы без всякого риска заявить о своей готовности к любому походу: идти-то всё равно некуда! Но почему же Унпэнэр так решительно поднимается?
— Правильно, ребята, — говорит Унпэнэр. — Я так и думал. Водопад — это как раз то, что нам требуется.
Охотники с недоумением смотрят на бригадира. Судя по выражениям их лиц, никто из них не испытывает особой потребности в водопаде.
— Я в горах Эввыквыт часто бывал. — продолжает Унпэнэр, — у матери родичи тут жили. Отсюда километров десять… Ну, может быть, двенадцать, не больше. Один раз мы с матерью целое лето у них гостили, так я тогда все эти горы облазил.
— Ну? — торопит Аре.
— Ну так вот. Мы тогда с моим двоюродным братом за гагачьими яйцами сюда лазили. Их тут гнездилось — этих гаг — миллионы, наверно!
— А водопад?
— И до самого водопада добирались. Только с той стороны. Понимаете?
— А может, это совсем и не тот? Может, это другой какой-нибудь?
— Нет, здесь только один и есть. Его и с моря видно. А тропка эта поперек него идет: с одной стороны входит, с другой выходит.
Теперь уже всем ясен дерзкий замысел бригадира. Кэнири ошалело поглядывает на товарищей. Аре, зябко передернув плечами, говорит:
— Нет, Унпэнэр, там не пройдешь. Там как бьет! С двадцати метров вода падает, представляешь себе? Нет, там только ступишь — сразу собьет! Смоет как щепочку.
— Это тебе издали так показалось. Вот увидишь. Там вода ведь не сразу вниз рушится, она дугой падает. Понимаете, ребята? Пройдем по тропке — и не замокнем! Будто под крышей, только под водяной. Ну, конечно, замокнем… Брызги все-таки… Так ведь и теперь не сухие. Я там один раз спрятался от брата, несколько минут просидел под водопадом. Мокро, конечно, брызги, а терпеть можно. Как под дождиком. Брат уже думал, что я в море свалился, — ему и в голову не пришло, что я под водопадом сижу…
Унпэнэр прерывает свой торопливый рассказ, сгоняет с лица улыбку, вызванную воспоминаниями, и спрашивает:
— Ну что ж, ребята, согласны идти? Здесь сидеть — никакого смысла. Ничего мы тут не высидим, всё равно придется идти.
— Пошли, — спокойно говорит Ринтувги, словно речь идёт о чем-то уже давно решенном, да и вообще о чем-то совсем простом, не требующем особых размышлений.
— Пошли на прорыв! — радостно восклицает Атчылын. Чем опаснее предстоящее дело, тем веселей он становится, такой уж у него характер. Даже Унпэнэр по сравнению с ним — образец осторожности.
— Что ж, идти так идти, — произносит Кэнири, медленно поднимаясь. Он уже понимает, что если останется, то останется один. А это, пожалуй, ещё страшнее, чем попытка пробраться через горы. Нет, уж лучше не отставать от товарищей. Кэнири даже постарался опередить Аре, чтобы не самым последним заявить о своей готовности.
— Ой боюсь! Боюсь! — кричит Аре, скорчив испуганную мину. Но все знают, что он на самом деле нисколько не боится. И даже Кэнири, глядя на Аре, чувствует, что бояться — какая бы ни грозила тебе опасность — смешно, в сущности. Просто-напросто смешно.
* * *
Может быть, дорогой мой читатель, тебе никогда не приходилось бывать в горах Эввыквыт? Может быть, ты ни разу даже не проезжал мимо них морем? Тогда представь себе огромный гранитный склон, почти отвесно возвышающийся над водой. В нескольких местах эту темно-серую громаду пересекают ещё более темные полоски — прослойки камня в камне. Параллельно этим полоскам, всё время чуточку забирая вверх, идет тропка, вернее, та узенькая естественная терраска, которую без особых оснований называет тропкой, Унпэнэр. Многие миллионы ветров мастерили эту терраску в течение многих тысячелетий. И всё-таки неважно смастерили, кое-как. Того и гляди оступишься, сорвешься, камнем вниз полетишь. Впрочем, до Унпэнэра и его товарищей ни один человек никогда ещё не ступал на эту тропку — по крайней мере на ту ее часть, которая расположена за водопадом. А птицы — те ступали бесчисленное множество раз, и ещё ни одна из них не сорвалась. Может, именно для них и мастерили эту терраску ветры?
Вот и сейчас несколько чаек сидят здесь. При приближении Унпэнэра они взлетают, кружатся немного и садятся повыше. Значит, и там гранитная стена не совсем всё-таки гладкая; и там, наверно, есть такие же терраски, выступы, площадки, почти неприметные с моря. И светло-серые, почти белые, пятна, виднеющиеся кое-где на склоне, — это не светлый камень, вросший в гранит, а тоже, наверно, птицы. Да, если вглядишься, увидишь, что это так и есть.
Прямо перед склоном высится Эввыквын-скала, похожая на великана-рыбака, по пояс зашедшего в воду. А в нескольких сотнях метров от скалы — водопад. С грохотом несется по склону поток: то падает свободно там, где склон совсем отвесный, то ударяется о камень, дробится, пенится и стремительно катится дальше, в море.
От Эввыквын-скалы к водопаду медленно продвигаются по узенькой птичьей тропке пятеро молодых охотников. Красиво, должно быть, выглядит эта картина с моря, красиво и удивительно! Мрачная темно-серая громада нависает над путниками; под ними — до самого моря — крутой обрыв. Штормовые валы то и дело налетают на гранит, силятся взбежать по крутой стене и нехотя откатываются обратно. Самы могучие из них добираются почти до тропки; брызги и клочья пены падают на торбаса путников. Можно подумать, будто море забрасывает сотни водяных сетей, стараясь дотянуться до смельчаков, стащить их с тропки.
Но в море нет сейчас никого, кто мог бы полюбоваться этой суровой красотой, никого, кто мог бы удивиться смелости молодых охотников. Только одна белая чайка качается на волнах.
Впереди идет Унпэнэр. За ним — Ринтувги с мотором на плече. На площадке, когда он брал мотор, Унпэнэр сказал: «Может, здесь оставим? Потом бы приехали за ним». Ринтувги выразительно посмотрел тогда вниз и ответил: «А как ты его достанешь отсюда? Нет, лучше возьмем. Лучше в горах оставим, туда за ним придем, если не сумеем сразу донести».
Третьим идет Кэнири. Он старается идти в точности по следам Ринтувги: себе в данном случае он меньше доверяет. Это по крайней мере заставляет его не отставать.
За Кэнири идет Аре. Даже он перестал балагурить. Молчит, сосредоточенно смотрит на тропку, чтобы не оступиться. Намокшие подошвы торбасов скользят по сырому камню, — нет, тут не разгонишься! Кроме того, Аре сказал Унпэнэру неправду: колено у него ещё болит, сильно болит. Время от времени он останавливается, незаметно — так, чтобы не увидел идущий сзади Атчылын, — потирает колено, смотрит вперед на водопад, в который упирается тропка, и, крутнув головой, продолжает путь. Трудно сказать, что именно должно выражать это движение головой, скорее всего восхищение Унпэнэром, его решительностью, его уменьем находить выход из любого положения.
Атчылын отстал шагов на тридцать. Он не испытывает сейчас ничего, кроме чувства обиды. Почему Унпэнэр не разрешил ему идти первым? Много ли интереса в том, чтобы прорываться сквозь водопад, когда кто-то уже сделал это до тебя? Кажется, Унпэнэр мог бы не сомневаться ни в смелости его, ни в ловкости… От обиды Атчылын пропустил вперед всех, даже этого толстяка Кэнири.
Да, читатель, ты можешь, конечно, спросить: «Как попал в эту компанию Кэнири?» Как такой солидный человек, отец большого семейства, оказался в молодежной бригаде? Сейчас расскажу.
Я, кажется, назвал Кэнири «солидным человеком»? Извини, читатель, это я, конечно, зря его так назвал. Правда, он иногда старается напустить на себя солидность, но чем больше он старается, тем хуже это ему удается. Какая уж тут солидность, когда во всем нашем поселке, во всем колхозе «Утро» не найти человека более легкомысленного, чем Кэнири! Даже его трехлетние сыновья-близнецы Эйгели и Омрылькот и те, пожалуй, посерьезнее своего непутевого папаши.
Дело в том, что из двух других бригад Кэнири, попросту говоря, выгнали. В последнее время он был в бригаде Кымына — человека требовательного, но справедливого, спокойного, терпеливого. Однако и Кымын не выдержал, от имени всей бригады попросил правление, чтобы забрали у него лодыря Кэнири.
Вамче — председатель правления — позвал Унпэнэра и спросил, не попробуют ли молодые охотники приучить Кэнири к работе. Унпэнэр посоветовался с товарищами и согласился. «Ну, Кэнири, — сказал тогда Вамче, — приходится сделать тебе небольшое омоложение. В третью бригаду тебя переводим, в молодежно-комсомольскую. Если ты и здесь за ум не возьмешься, так молодежь с тобой церемониться не станет, сам знаешь. Тогда уж переводить тебя некуда будет. Разве что в женскую бригаду переведем, в пошивочную».
Кэнири вначале твердо решил проявить себя в молодежной бригаде с наилучшей стороны. Пусть все видят, что Кымын просто не умеет использовать талантливых людей, не создает условий для работы. Такое твердое решение не помешало Кэнири проштрафиться в первые же дни, да ещё и Аре подвести. Унпэнэр поручил им починить сети. Кэнири предложил Аре сыграть в шахматы, с тем чтобы проигравший произвел всю починку один. При этом Кэнири дал вперед ладью! Азартный Аре соблазнился, проиграл, к сроку с починкой сетей не управился, и в результате им обоим крепко влетело от Унпэнэра.
А теперь вот приходится таскаться с этими мальчишками по таким проклятым местам. Нет, всё-таки в бригаде Кымына было поспокойнее.
Когда до водопада остается шагов сорок, Унпэнэр останавливается, поджидает Ринтувги. Уж не раздумал ли бригадир в последний момент?
— Воды не бояться! — кричит Унпэнэр, стараясь перекрыть грохот водопада. — Рывком не брать! Идти, как идешь, все внимание — на тропку! Главное — не брать рывком, не торопиться! От воды ничего не будет, пусть поливает. А дорогу надо осторожно выбирать, неизвестно, какая она там… Я ведь насквозь не проходил, не знаю. Только с той стороны под водопад подбирался.
Ринтувги понимающе кивает.
— Передай остальным, — добавляет Унпэнэр. — Никаких рывков, никакой спешки! На воду внимания не обращать! Не примерившись, ни одного шага не делать!
Они стоят уже почти рядом, но, кроме Ринтувги, никому не слышны слова бригадира. Ринтувги передает их Кэнири, Кэнири — Аре, Аре — Атчылыну. Атчылын слушает Аре, но смотрит на Унпэнэра и кивает ему головой. «Не беспокойся, бригадир, — говорят его глаза, — я и сам понимаю, что дело не шуточное».
Ринтувги снимает с плеча мотор, осторожно ставит его у ног и вытаскивает из-за пазухи кожаную бечеву.
— Только на всех не хватит, — говорит он.
— Будем меняться. Я, как пройду, натяну ремень и подергаю его три раза. Вот так. Это значит, что я уже на той стороне, что ремень уже свободен. Тащи его тогда и сам обвязывайся. А конец — следующему. Ну, всё. Двинулись.
Говоря это, Унпэнэр успел обвязаться. Он весело подмигивает товарищам, поворачивается к водопаду и идет дальше.
Основная масса воды падает действительно на некотором расстоянии от гранитной стены склона. На расстоянии полуметра, пожалуй. Чуть пониже тропки, где склон уже не совсем отвесный, вода снова встречается с гранитом и стремительно катится в море, пенясь и грохоча. Но и здесь, в узком пространстве между стеной и основным потоком, — сотни маленьких потоков, тысячи струй. А брызги… Нет, это нисколько не напоминает моросящий дождик. Это посильнее самого страшного ливня.
Не обернувшись, не приостановившись, только замедлив шаги, Унпэнэр пригибается и уходит под ревущий поток. Ринтувги снова — гораздо торопливее, чем раньше, — снимает с плеча мотор и, намотав на руку конец бечевы, ложится на тропку: так будет вернее, надежнее.
Несколько секунд полусогнутую фигуру Унпэнэра ещё можно различить. Вот он приостановился. Наверно, разглядывает тропку. Может быть, ждет, пока глаза привыкнут к полутьме: уже темнеет, а там, под водой, совсем, наверно, плохо видно. Вот он снова двинулся вперед, и почти сразу же фигура его стала неразличима, исчезла за потоками воды.
Сколько времени проходит в ожидании? Минута? Две? Даже рассудительный Ринтувги начинает немного тревожиться. Атчылын давно бы уже бросился на выручку бригадира, если бы… Но вот бечева постепенно натягивается, и все видят, как она трижды дергается, чуть приподнимая каждый раз руку Ринтувги.
Один за другим прошли охотники под водопадом, и, когда последний из них — Атчылын — выбрался на тропку, Унпэнэр едва удержался от того, чтобы самым настоящим образом пуститься в пляс. Впервые с той минуты, как налетел шторм, на лице Унпэнэра заиграла та молодая, открытая, белозубая улыбка, которая не только у Аймыны, но и у самых сварливых и хмурых стариков всегда вызывает ответную улыбку.
— Ну? — говорит он, хлопая Ринтувги по мокрой спине. — Ну? А?!
Больше он ничего не может сейчас произнести. Он хочет спросить: «Здорово получилось?!» — но какой-то комок подкатывает к горлу, мешает говорить.
Впрочем, нужны ли сейчас слова? Остальные охотники чувствуют примерно то же, что и Унпэнэр. Вода стекает с них бесчисленными струйками, но радость не менее заметно струится из глаз и согревает всех пятерых таким живительным теплом, перед которым бессильны даже самые холодные воды Эввыквынско-го ледника. Это радость победы. Молодые охотники притоптывают, хлопают себя по груди, по бокам и ногам, но это не только для того, чтобы быстрее согнать воду, — это рвется наружу радость.
— Пошли, ребята, — говорит Унпэнэр, справившись, наконец, с волнением. — Пошли, надо до темноты на настоящую тропку выйти.
Здесь каменная терраска немного пошире, чем с той стороны водопада, но Унпэнэр не называет её «настоящей тропкой». «Настоящая» начнется повыше, после поворота к перевалу; там уже не будет этого страшного обрыва, по обе стороны будет спокойная, надежная твердь.
— Здесь недалеко, с полкилометра. А там привал устроим.
В том же порядке, что и раньше, охотники продолжают путь. Атчылын несколько раз оглядывается на водопад. Ещё бы разок пройти там! Сквозь этот полумрак, наполненный обманчивыми, дрожащими, перебегающими тенями струй, сквозь эти стремительные потоки и оглушительный грохот, сквозь сладкое ощущение опасности… Только туда — и сразу же обратно. Вот если бы оказалось сейчас, что забыли там что-нибудь!
Размечтавшись, Атчылын едва не наталкивается на внезапно остановившегося Аре. Что случилось? Что там произошло впереди?
Ринтувги стоит на одном колене, с трудом удерживая равновесие. Он оступился, упал на одно колено, изогнулся, стараясь перенести центр тяжести подальше от обрыва. Он пытается ухватиться за что-нибудь свободной рукой, но ухватиться не за что, а вторая рука занята мотором, и мотор гнет, гнет к обрыву. У Ринтувги мелькает мысль о том, что надо сейчас же бросить мотор — может быть, тогда удастся удержаться… В тот же момент кто-то схватывает его сзади.
Это Кэнири. Он побледнел, глаза его от ужаса округлились, но он крепко, изо всех сил держит Ринтувги за плечи. Ринтувги уже установил равновесие и теперь хотел бы просто присесть на тропку, чуточку отдохнуть, перевести дыхание.
Поняв, наконец, что опасность миновала, Кэнири отпускает Ринтувги, снимает у него с плеча мотор.
— Я немного понесу. Ты отдохни.
— Спасибо, Кэнири. — Ринтувги садится, с наслаждением расправляет уставшие плечи, заглядывает вниз и, вздохнув, повторяет: — Спасибо!
Через минуту они снова шагают по тропке. Унпэнэр даже не догадывается о том, что произошло позади него.
* * *
Старый охотник Гэмалькот довольно сурово воспитывал сына. «Холод и чукча — родные братья, — говорил Гэмалькот. — Чукча не должен бояться холода». И он так непреклонно придерживался этого правила, что Нутэнэут нередко плакала тайком, пока не убедилась, что маленькому Унпэнэру суровое воспитание явно идет на пользу. Но вначале даже соседи, хоть и сами они своих детей не баловали, удивлялись, считали, что Гэмалькот слишком уж беспощаден к сыну. Другой ребенок навряд ли мог бы выдержать, но Унпэнэр родился таким здоровяком, что любые испытания только укрепляли его крепкое тело.
Это началось, когда Унпэнэру исполнилось шесть лет. Незадолго до того Нутэнэут родила второго сына. «Ну, — сказал жене Гэмалькот, — теперь ты занимайся своим Йорэлё, а Унпэнэром я сам займусь». А Унпэнэру он сказал так: «Тебе уже седьмой год пошел, тебя уже можно считать мужчиной. Я рад, что дождался, наконец, помощника. Тем более что семья у нас, как ты знаешь, увеличилась, забот прибавилось и у меня и у матери».
Мальчик должен был вставать так же рано, как вставал отец, — с первыми проблесками зари. Босиком, не одеваясь, должен был выбежать из яранги, осмотреть небо, определить, откуда дует ветер, и, вернувшись, доложить отцу, готовившему пока что свою охотничью снасть. Пусть сечет по голому телу пурга, пусть мороз сковывает землю, пусть леденящий ветер несется с Чукотского моря или студеная слякоть ранней весны мучительными колодками охватывает ноги — всё равно. Какая бы ни была погода, порядок не нарушался.
Отец внимательно выслушивал сына, не прекращая работы. Нужно было рассказать о том, какого цвета небо на востоке, есть ли облака, много ли их, какой они формы, и всегда нужно было особо доложить о том, нет ли предательского облачка над Дежнёвской горой. Если же сведения были недостаточно точны, приходилось снова выбегать наружу. Только много лет спустя понял Унпэнэр, как, не выходя из яранги, старый охотник безошибочно обнаруживал эти неточности простым сопоставлением сведений, которые приносил сын.
Предутренняя стужа закаляла тело, наблюдения приучали к тому пониманию природы, без которого невозможно стать настоящим охотником. Но босиком на морозе не постоишь, а вести наблюдения, всё время приплясывая, было очень трудно.
Вернувшись, Унпэнэр уже не имел права забраться обратно под шкуры. И, рассказывая отцу о том, какой злой ветер налетает с моря, выбивать зубами дробь тоже не разрешалось. Надо было быстро одеться и браться за завтрак. Мороженого мяса можно было есть сколько угодно — только бы не засиживаться за завтраком дольше, чем отец. Но чаю полагалось лишь одно блюдечко: и заварка и пресная вода зимой были дороги, нелегко доставались.
Отец уходил на охоту, а Унпэнэр — к маленькому, промерзшему до самого дна ручью. Здесь он откалывал куски льда, складывал их на саночки и вез домой, матери. Так добывалась вода.
К этому времени на улице поселка появлялись его сверстники. Закончив работу, он мог играть с ними, кататься с горы, мог забегать и в ярангу, но только в её наружное помещение, в сенки. В теплый внутренний шатер, именуемый пологом, Унпэнэру разрешалось входить лишь под вечер, когда возвращался с охоты отец.
Одежду старшему сыну Нутэнэут шила из грубых, невыделанных шкур. «Выделанная шкура — одежда летняя, — говорил Гэмалькот. — Настоящий охотник никогда не сидит без дела. А движения сделают мягкой любую шкуру. Лучше всякой обработки!» — «А когда сидишь в засаде? — спрашивал Унпэнэр. — Тогда ведь нельзя двигаться? Ты сам говорил, что охотник должен уметь на целые часы превращаться в неподвижный камень».
Гэмалькот, прищурившись, взглядывал на жену, как бы приглашая её полюбоваться сыном, и отвечал: «Видишь ли… Видишь ли, когда совсем не шевелишься, так тогда и самая жесткая шкура не может поцарапать. Неподвижному камню безразлично — в мягком он мешке или в твердом».
Постепенно приучил Гэмалькот своего старшего сына к охоте. И на тундрового зверя ходил с ним и на морского. Унпэнэр оправдал ожидания отца: к шестнадцати годам он был уже одним из лучших охотников во всем колхозе. Только вот благоразумию и осторожности не смог научить его Гэмалькот. За что ни брался Унпэнэр — всё ему удавалось на славу. Но слишком горяч он был на охоте, слишком любил риск.
Да и не только на охоте сказывалась в нём эта черта. Одним из первых в поселке Унпэнэр научился плавать, — у нас ведь раньше почти не знали этого искусства, хоть и живем мы у самого моря. Уж очень наше море сурово, никто по собственной воле не отваживался залезать в его холодные воды. Унпэнэр научился плавать в Петролавловске-Камчатском, когда ездил на курсы механизаторов зверобойного промысла. Было это, разумеется, летом. А вернувшись домой, когда лагуну уже сковало льдом, Унпэнэр на спор переплыл широченную полынью. И даже ни разу после этого не чихнул. Через несколько дней, узнав об этой выходке, фельдшер полярной станции как следует выругал Унпэнэра, осмотрел его, прослушал и, покачав головой, тихо произнес: «Да… Типичный белый медведь».
— Черный, Алексей Вадимович, — уточнил Унпэнэр.
Фельдшер серьезно поглядел на черные волосы молодого охотника и сказал:
— Да… Черный белый медведь…
Этакому «черному белому медведю» многое, конечно, дается легче, чем другим. Вот он идет своей легкой походкой впереди товарищей. Всё вверх и вверх. Тропка становится круче, зато шире, гораздо шире. Уже виден крутой поворот, после которого тропка пойдет не над пропастью, а по отлогому ровному склону. Ещё легче, ещё веселее становятся шаги Унпэнэра, да и на душе у него совсем не так мрачно, как было сразу после гибели байдары. Правда, мысли о байдаре, о том, что придется держать ответ, не выходят из головы, но постепенно они принимают совсем другой оборот. Унпэнэр огорчается теперь не столько за себя, сколько за старика Гэмалькота: старик будет, конечно, очень расстроен, хотя сам — Унпэнэр вполне уверен в этом — первым будет настаивать на назначении другого бригадира. Ещё больше будут расстраиваться Нутэнэут и Аймына, да ещё Йорэлё, братишка. Ну да ничего, если самому не показывать вида, что очень огорчен, так и они скоро успокоятся. «Что ж, — думает Унпэнэр, — пусть теперь другой бригадиром поработает. Наверно, всё-таки спросят, кого я сам предложу. Предложу Вуквукая или Ринтувги, пусть выбирают. Любой подходит».
Мысли Унпэнэра всё чаще обращаются к дому. Как там сейчас, всё ли в порядке? Как чувствует себя Аймына? И надо же было, чтобы это произошло в его отсутствие! Конечно, Нутэнэут сделает всё, что нужно, но хотелось бы быть в это время дома… Скоро ли он увидит их? Если бы не разыгрался шторм, Унпэнэр уже вернулся бы, увидел бы жену и сына. Значит, Аймына уже, наверно, ждет, с тревогой прислушивается к гулу шторма. А тревожиться ей нельзя, никак нельзя: от этого, говорят, может молоко пропасть…
У самого поворота Унпэнэр останавливается, поджидает товарищей. Вон они, все четверо. Только отстали почему-то. И мотор несет уже не Ринтувги, а Кэнири. Правильно, надо сменяться. Кэнири несет мотор и даже напевает себе под нос — гляди ты!
Кэнири действительно напевал. Не потому, конечно, что ему нравилось идти с грузом, — вовсе нет. Наоборот, он считал, что Ринтувги мог бы уже освободить его от ноши. А напевал он просто потому, что чувствовал себя гораздо увереннее, чем раньше. Это чувство расширялось по мере того, как расширялась тропка, но родилось оно в тот самый момент, когда он бросился на выручку к Ринтувги. Кто выручил силача Ринтувги? Кэнири! Получается, что Кэнири в чем-то, хоть в одном каком-то деле, оказался даже сильнее, чем Ринтувги… Правда, так получается только в мыслях у самого Кэнири, но этого достаточно для того, чтобы прибавить ему веры в собственные силы. Ринтувги и тот чуть не свалился, а Кэнири прошел это самое место с мотором на плече — прошел, даже глазом не моргнув!
Унпэнэр дождался товарищей и вместе с ними поднялся на тропу, идущую к перевалу. Теперь можно уже идти не гуськом, а рядом. Хоть всем пятерым в одну шеренгу! Можно идти по тропе, а можно и прямо по отлогому склону, по мху.
— Привал! — объявляет Унпэнэр и, крякнув от удовольствия, первым растягивается на земле.
Шторм либо утих немного, либо отсюда уже почти не слышен. Хорошо лежать, растянувшись, расслабив все мускулы… Впереди ещё трудный и опасный путь; но разве можно сравнить его с тем, что пройдено? Кожаная бечева, по которой поднимались на площадку с байдары, доживавшей свои последние минуты; узенькая птичья терраска, по которой пришлось столько времени пробираться над обрывом; водопад, под которым нужно было пройти, — всё это уже позади.
— Сейчас, наверно, часов девять, не больше, — говорит Аре.
— Ты по каким часам судишь? — отзывается Атчылын, оглядев небо, сплошь затянутое тучами. — По желудочным?
— Нет, я так, приблизительно. Если по моим желудочным судить, так мы уже третьи сутки в дороге. Я бы сейчас целого моржа слопал.
— Ближе было к тому, чтобы он тебя слопал. Ещё бы чуть-чуть — и попал бы ты на подводный обед… А по-моему, сейчас и семи ещё нету. Это из-за туч так стемнело.
Сходятся на том, что сейчас, должно быть, часов восемь. Ринтувги спрашивает:
— К утру дома будем?
— К утру вряд ли, — отвечает Унпэнэр. — А к полудню, я думаю, придем. К полудню должны прийти.
— А подарки ты не взял, Унпэнэр? — спрашивает Кэнири.
— Подарки наши в море плавают. Тут уж не до них было.
Кэнири почему-то улыбается. Но в темноте никто не видит его улыбки.
Вчера на вечернем заседании совещания молодых зверобоев выступал секретарь райкома. После его выступления объявили перерыв, но секретарь поднял руку и сказал: «Одну минутку, товарищи. Одну минуточку внимания. Хочу сделать внеочередное сообщение. Информацию, так сказать, неофициального характера. Два часа назад я говорил по радиотелефону с товарищем Вамче, председателем колхоза «Утро». И товарищ Вамче сообщил мне, в частности, что сегодня утром жена участника вашего совещания, знатного зверобоя Унпэнэра родила сына. Товарищ Унпэнэр здесь? Вот, товарищ Унпэнэр, Вамче просил передать вам поздравления. И мы к этим поздравлениям целиком, конечно, присоединяемся!»
Что тут было! Смех, поздравления, аплодисменты… Смущенный Унпэнэр еле выбрался из зала. Утром пошли в районный универмаг покупать подарки для Аймыны и новорожденного. К счастью, у Ринтувги, у Кэнири и Аре было с собой немного денег. Сложились, купили красивый цветастый платок, полдюжины мягких рубашечек с тесемками вместо пуговиц, крохотное пушистое одеяльце и даже матросский костюмчик. Продавщица говорила, что этот костюмчик «самое меньшее — для пятилетнего», но всем он очень понравился и решили взять. Унпэнэру было даже чуточку обидно, что такие малюсенькие штанишки продавщица считает слишком большими для его сына… Но когда байдару заклинило между берегом и Эввыквын-скалой, Унпэнэр и не вспомнил, конечно, про сверток с подарками. Надо было людей спасать, а не рубашонки с тесемками!
— Эх, ребята, костер бы сейчас развести! — говорит Кэнири.
— Неужели замерз? — с притворным удивлением спрашивает Аре. — Такой жирный, а мерзеешь. Жир лучше шубы греет, у любого кита спроси.
— А ты, скажешь, не замерз?
— Так ведь я худой — это совсем другое дело. И то, по-моему, температура самая подходящая.
Но Аре говорит неправду, он тоже многое отдал бы сейчас за возможность погреться у костра. Только не из чего развести костер: в горах Эввыквыт ни одной хворостинки не найдешь, кругом камни да сырой мох.
Какой там костер! Атчылын пытался закурить и то не сумел: спички у всех отсырели, головки спичек отваливаются при первом прикосновении.
— Пошли, ребята, — говорит Унпэнэр. — На ходу всё-таки потеплее.
— Темно, — отзывается Ринтувги. — Тропу в темноте не потеряем?
— Нет, здесь теперь прямая дорога. Все прямо и прямо. И всё на подъем, до самого перевала… А спуск… — Унпэнэр на несколько секунд умолкает, раздумывая о том, что спуск — это, собственно, одна из самых опасных частей пути. — Ну, к спуску, я думаю, уже и светать начнет… Ты, Атчылын, возьми теперь мотор. Как устанешь, передашь Аре, а после Аре я понесу. Ты, Ринтувги, держись позади, смотри, чтобы кучно шли, не растягивались.
…Всю ночь шли не останавливаясь: Унпэнэр боялся, что если остановятся, лягут, так уж не смогут потом подняться. В торбасах подстилки из сухой травы свалялись в твердые комки. Эти комки причиняли боль на каждом шагу, но охотники долго не могли собраться с силами, чтобы разуться и выкинуть их.
Чем выше поднимались люди, тем становилось холоднее. Мокрые непокрытые волосы Унпэнэра смерзлись, покрылись сплошной коркой льда. Одежда на всех обледенела. Даже на сгибах она стала грубой, неподатливой, а на груди и спине превратилась в тяжелые, мрачно поблескивающие ледяные панцири.
Первыми выдохлись Кэнири и Аре. Кэнири откровенно жаловался, отставал. Аре не жаловался, но и не балагурил больше и хромал уже не тайком, а открыто. Мотор несли теперь только Ринтувги, Унпэнэр и Атчылын, да и то всё чаще и чаще сменяя друг друга.
Лишь под утро охотники увидели впереди что-то светлое. Это был Эввыквынский ледник; от него до перевала оставалось не больше ста метров. Но для того чтобы пересечь ледник, хоть он в этом месте не шире обычной горной речки, потребовалось ещё около часу. Ветер здесь хлестал с особой силой и был особенно холодным. Руки окоченели. Атчылын с мотором на плече заскользил вдруг, заскользил и грохнулся на лед. Если бы Ринтувги не успел удержать его, Атчылын скатился бы, наверно, до самого низа, до самого конца ледника. Но Ринтувги ухватился одной рукой за камень, наполовину вмерзший в лёд, а другой рукой удержал Атчылына. После этого стали перебираться через ледник ползком.
Когда подошли к перевалу, совсем уже рассвело. Это хорошо — начинать спуск в темноте было бы слишком рискованно. Унпэнэр оглядывает товарищей. Вот Ринтувги, Аре, Атчылын… Но где же Кэнири?!
Унпэнэр бросается обратно и находит Кэнири, сидящего посреди тропы. Вслед за Унпэнэром подбегают остальные.
Кэнири пытается унять дрожь, силится что-то сказать, но лишь беззвучно шевелит губами. Наконец он произносит едва слышно:
— Я, ребята, больше не могу.
— Надо, — говорит Ринтувги.
Кэнири смотрит на него, на других и повторяет чуть громче:
— Я, ребята, больше не могу.
— Можешь, — говорит Унпэнэр. — Можешь, Кэнири.
* * *
Над поселком колхоза «Утро» поднялось ясное, но по-осеннему холодное, неласковое солнце. И всё же — каким бы ни было оно неласковым — засверкали покрытые инеем толевые крыши новых домиков, заиграл солнечными бликами ручей. Казалось, что он даже зажурчал немного погромче. Наперебой зачирикали над ним, перелетая с берега на берег, птички. Может быть, сегодня они соберутся и полетят на юг, куда давно уже тянется стая за стаей. Вот они и прощаются с ручьем, возле которого выросли, возле которого только этим летом научились летать. Прощаются, желают ему долгого сна — на несколько месяцев, до самой весны, до тех пор, пока солнце начнет пригревать и птицы начнут возвращаться с юга.
Йорэлё прибежал на ручей за водой. С тех пор как Аймына родила, забот у него прибавилось: то Нутэнэут посылает на полярную станцию за фельдшером Алексеем Вадимычем; то Гэмалькот велит сбегать в правление, узнать, нет ли из райцентра каких-нибудь вестей об Унпэнэре; то сама Аймына попросит принести ей чего-нибудь. В глубине души некоторые поручения Йорэлё считает излишними. Зачем, например, тревожить Алексея Вадимыча, если и Аймына и ребенок прекрасно себя чувствуют? Зачем бегать в правление? Ведь если бы стало известно что-нибудь об Унпэнэре и его товарищах, так председатель и сам, наверно, пришел бы. Или счетовода Рочгыну сразу бы прислал.
Зато каждую просьбу Аймыны Йорэлё выполняет с особым старанием. Ведь он таким образом делает то, что делал бы Унпэнэр, если бы успел вернуться. А больше всего Йорэлё хочет быть похожим на старшего брата.
Кроме того, почти все просьбы Аймыны можно выполнять, не выходя из дому, а дома сейчас интересней, чем где бы то ни было. Во-первых — племянник. Правда, ему только два дня, но рассматривать его очень забавно. И раз он существует — значит, Йорэлё уже дядя. Дядя Йорэлё! Во всем шестом классе ни один мальчишка, ни одна девчонка ещё не имеют племянников.
Во-вторых, дома всё время гости. Одни уходят, другие приходят. Поздравляют, приносят подарки для новорожденного, говорят о всяких интересных вещах. Иногда — правда, очень редко — высказывают какие-нибудь предположения о том, где могли бы высадиться молодые охотники, захваченные штормом. К этим разговорам Йорэлё прислушивается особенно внимательно. И если ему удается услышать что-нибудь утешительное, он торопится прошмыгнуть в комнату, где лежит Аймына, и тихонько пересказать ей это.
Сейчас у Гэмалькота сидят несколько старинных его приятелей: Всеволод Ильич, дядя Мэмыль, Атык. Вошел косторез Гэмауге. Надо бы поздравить отца, но отца нет. Гэмауге поздравляет деда. Степенно и немногословно, как полагалось в старину, он говорит:
— Слышал я, гость приехал к тебе. Радость сопутствует хорошему гостю.
Гэмауге разворачивает газету, в которой он принес подарок, и ставит его на стол. Это письменный прибор, вырезанный из моржового клыка. Закинув на спину рога, мчится «ылвылю» — дикий олень. Взявшись за рога, можно откинуть голову оленя — тогда открывается чернильница. За оленем бежит охотник, готовый метнуть копье. Это копье, оказывающееся при ближайшем рассмотрении ручкой, легко вынимается из поднятой руки охотника. Рядом лежит уже поверженный «ылвылю», взявшись за которого очень удобно промякнуть написанное массивным пресс-папье.
Хороший подарок, он всем очень нравится. Но есть в нём что-то, что заставляет призадуматься. Дело вовсе не в том, что новорожденные обычно обходятся без письменных приборов: ведь дарили же новорожденным и трубки, и гарпуны, и охотничьи ножи, а всё это тоже не детские игрушки. Подарок, сделанный при рождении, может послужить человеку через много лет. Но всё же…
Гэмалькот, полюбовавшись прибором, говорит:
— Не слишком ли это щедрый подарок, Гэмауге? А? Такая вещь больше подходит сыну профессора, а не сыну зверобоя.
— Ты зверобой, Гэмалькот, и отец твой был зверобоем, и сын твой стал зверобоем. Но откуда мы знаем, кем станет сын твоего сына? Теперь другие времена, Гэмалькот.
— Да, — подтверждает Атык. — Да, теперь совсем другие времена. Это раньше так считалось, что приморский чукча на всю жизнь к морю прикован, всю жизнь должен моржа бить. Даже в песнях «рабами моря» себя называли. Теперь не так…
Из скромности Атык не приводит примеров, но всё понимают, что он думает сейчас о своём сыне Тылыке, который учится в Ленинградском университете.
— Садись, Гэмауге, — приглашает Гэмалькот, уступая гостю китовый позвонок — своё любимое место.
Но Гэмауге не садится, потому что сам хозяин опустился на пол: кроме китового позвонка, верой и правдой служившего Гэмалькоту ещё в яранге, в комнате три табуретки, занятые гостями. Старый Мэмыль, лукаво прищурившись, хлопает себя по коленям и спрашивает:
— Да что в самом деле — в райисполкоме мы сидим, что ли?
С этими словами он опускается на пол, рядом с хозяином. Все старики, очень довольные, следуют его примеру, не исключая и Всеволода Ильича, поселившегося у нас ещё тогда, когда во всём поселке не было, говорят, ни одной табуретки. Продолжая прерванный разговор, Всеволод Ильич говорит:
— Всякое, конечно, может случиться. Может быть, сын Унпэнэра охотником станет, зверобоем. А может быть, и не охотником, а ученым каким-нибудь, профессором.
Гэмалькоту такое предположение очень приятно, конечно, но он считает нужным возразить:
— Ну, Севалот, это уж ты слишком высоко взял. Такого у нас ещё никогда не бывало.
— Не бывало, верно. А мало ли у нас теперь такого имеется, чего тридцать лет назад не бывало и быть не могло? Мог ты тогда в доме жить? Могли Атык и Мэмыль детей своих в институты посылать? Не могли! А тут, пока сын Унпэнэра вырастет, ещё годы и годы пройдут. Может, и профессор из него получится, ничего в этом нет удивительного.
— Ничего удивительного, — подтверждает Атык.
Гэмалькоту смешно. Слово «профессор» неразрывно связывается у него с представлением о стройном, светловолосом человеке, о серых глазах, внимательно глядящих сквозь круглые очки в тонкой золотой оправе. Таким запомнился Гэмалькоту профессор Визе, приезжавший сюда лет двадцать пять назад. Он производил тогда промеры глубин, расспрашивал зверобоев о течениях, о нравах моржей, о перемещениях льдов. Он больше слушал, чем говорил, но очень скоро Гэмалькот с изумлением убедился, что почти все тайны Чукоткого моря этот приезжий знает лучше самих чукчей… Трудно, очень трудно представить себе крохотное существо, лежащее сейчас в соседней комнате, таким стройным светловолосым человеком в золотых очках!.. Впрочем, ведь и Степанов — тот молодой ученый, который приезжал сюда когда-то записывать чукотские песни и сказки, — он тоже стал теперь профессором. Тылык писал отцу что слушает и лекции Визе, и лекции Степанова. А ведь Степанов — он совсем из простых людей, его отец в Анадыре пекарем был.
— Да, — произносит Гэмалькот, продолжая вслух то, о чём только что думал. — Отец профессора Степанова в анадырской пекарне работал. Совсем, говорят, простой был человек.
— А по-моему… — старый Мэмыль берет со стола костяного охотника, вынимает из его руки ручку-копье, вкладывает её обратно и продолжает: — По-моему, дело тут не только в этом. Теперь не только профессору, теперь и зверобою такая штука нужна. Мы с тобой, Гэмалькот, и то на старости лет читать-писать научились. Атык вот говорил, что мы себя звали «рабами моря». Правильно, были такие песни. А сейчас зверобой из этого рабства вышел. Так я тебя понимаю, Гэмауге?
Мэмыль смотрит на костяного человечка, которого держит в руке, и кажется, будто свой вопрос он тоже задал этому человечку, а не косторезу. Гэмауге молча кивает головой.
— Я тебя понимаю так, — продолжает Мэмыль. — Я бы на твоем месте так сказал: «Вот я принес подарок для мальчика. Ещё никто не знает, кем станет ваш мальчик, но, кем бы он ни стал, я надеюсь, что этот подарок ему пригодится. Если мальчик станет охотником, пусть не отстает от грамоты, от науки. Если станет ученым человеком, пусть не забывает про свою родную Чукотку».
— Так, Мэмыль, так, — говорит молчаливый косторез.
Все снова начинают рассматривать письменный прибор. После слов Мэмыля искусная работа Гэмауге кажется ещё более искусной, ещё более значительной.
Гэмалькот посматривает на часы. Уже половина восьмого. На восемь тридцать, если Унпэнэр со своими товарищами ещё не вернутся, Вамче назначил выход на поиски. Часок ещё нужно подождать. За это время Вамче обещал связаться с районным центром: может быть, молодые охотники возвратились туда или смогли известить о себе из какого-нибудь поселка, в котором решили переждать шторм…
— Как назвали внука? — спрашивает Гэмауге.
— Никак ещё не назвали. Отца дожидаемся. Третий день без имени мальчик живет.
— Это ничего, — говорит Атык. — Ему ещё не скоро паспорт получать. Успеете.
— Конечно, успеется, — подхватывает Мэмыль. — Имя человеку на всю жизнь дается. С этим делом торопиться нечего, надо хорошее имя выбрать.
— А ведь раньше, — говорит Гэмалькот, — раньше не так думали. Многие считали, что надо похуже имена давать. Чем хуже будет имя, тем, считалось, лучше будет у человека жизнь. Чтобы, значит, злых духов обмануть. Такие имена давали, чтобы даже злым духам противно было.
— Да, да, — говорит Мэмыль. — Помните старого Вэльпонты? Помните, откуда он для своего сына имя взял?
Все, конечно, помнят покойного Вэльпонты, у которого под старость после четырех дочерей родился, наконец, сын. Но почему Вэльпонты назвал своего сына «Кэнири»? Нет, такое может помнить только Мэмыль — живая история всего нашего поселка, живой сборник всех семейных преданий, всех событий, о которых забыли даже их непосредственные участники.
— Тащил Вэльпонты моржовую шкуру на берег, — продолжает Мэмыль. — Размачивал он её в море, а теперь вытаскивал. Жена ему помогала. Вдруг почувствовал Вэльпонты, что жена перестала ему помогать, — шкура сразу будто тяжелей стала. Обернулся, а жена, оказывается, на песке лежит, рожает. Он со страху так приналег, что сразу один вытащил шкуру из моря. Подбежал потом, видит — родился у него сын. Обрадовался, заплясал на берегу. И заметил в это время, что на моржовой коже копошатся кэнири — морские червячки. «Знаешь, — спрашивает, — как мы своего сына назовем?» — «Как?» — «Кэнири! Вот как мы его назовем!» Жене это имя понравилось. «Хорошее, — говорит, — имя. Никто не позавидует. Злые духи — и те внимания не обратят». Вот и назвали человека червяком.
Гэмалькоту вспоминается то далекое утро, когда Нутэнэут впервые показала ему сына. Разворачивая новорожденного, она сказала: «На нем столько родинок, сколько звезд на небе». Самая большая родинка примостилась у мальчика на лбу. Гэмалькот назвал своего первенца Унпэнэром — Полярной звездой, хотя шаман Эвынто ругал его за это. «Слишком красивое имя, — говорил шаман, — слишком гордое. Это неосторожно, Гэмалькот. Злые духи могут рассердиться». Но мальчик вырос, и красивое имя нисколько не помешало ему стать хорошим охотником. Правда, уже не раз ему грозила смертельная опасность. Может быть, теперь с ним и в самом деле приключилось что-нибудь худое? Может, лучше всё-таки было бы не называть сына Унпэнэром?..
— Да, — говорит Всеволод Ильич, выслушав рассказ о рождении Кэнири. — Да, сами родители любимого своего сына червяком назвали. И ещё радовались, что хорошее имя нашли!
Гэмалькот прекрасно понимает, что все эти разговоры ведутся с единственной целью — отвлечь его от тревожных мыслей. Но, как ни стараются старые друзья, это им плохо удается — на душе у Гэмалькота становится всё тревожнее. Из всего рассказа Мэмыля Гэмалькот понял только то, что речь шла о Кэнири; но Кэнири ведь тоже там, с Унпэнэром… Где они сейчас? Живы ли?
Гэмалькот всё время поглядывает в окно. Вот вернулся с ручья Йорэлё. Он несет полное ведро воды, старается не расплескать. Перед тем как перейти дорогу, он ставит ведро на землю, чтобы переменить руку. Но в это время Йорэлё увидел что-то необычайное в дальнем конце улицы. Он метнулся было туда, но остановился, вбежал в дом.
— Там… там, — говорит Йорэлё, — какие-то ледяные люди идут.
Все выбегают на улицу. Пять человек шагают по ней, пять богатырей, закованных в ледяные доспехи. Холодное солнце поздней осени сверкает на этих доспехах, но не растапливает их. Йорэлё сразу, конечно, догадался, что это молодые охотники возвращаются в поселок, что впереди шагает его старший брат Унпэнэр. Но Йорэлё ведь известный выдумщик! На какую-то долю секунды молодые охотники показались ему сказочными ледяными людьми, и вот он повторяет, притворяясь, будто всё ещё не узнает идущих:
— Видите? Видите? Ледяные!
Через минуту отец уже стоит возле Унпэнэра, положив руку ему на плечо. Наверно, старику захотелось не только глазами, но и на ощупь убедиться в том, что сын возвратился домой.
— Пришли, значит? — спрашивает Гэмалькот. — Пешком, значит, пришлось идти?
И то, что молодые охотники пришли, и то, что они пришли пешком, совершенно очевидно, конечно. Старик и не ждет ответа, он спрашивает только для того, чтобы что-нибудь произнести, чтобы скрыть волнение. Но Унпэнэр понимает отца иначе. В вопросе отца ему слышится заслуженный упрек. Ему кажется, будто отец спросил. «Пешком, значит, пришлось идти? Угробили, значит, байдару?»
— Да, — отвечает Унпэнэр. — Байдару я разбил. Но мотор мы успели снять, мотор цел. Мы его даже через перевал перенесли. Перед самым спуском его оставили, не могли дальше перетащить, боялись, что уроним. Завтра мы с Ринтувги сходим за ним.
— Ладно, успеем сходить, — говорит Атык. — Отдохнуть сначала надо как следует.
— А что мотор сберегли — это вы молодцы, — говорит Гэмалькот.
— Молодцы! — подтверждает Всеволод Ильич. — А ещё лучше, что головы свои сберегли.
— Да, — смеется Мэмыль, — хоть и дурные у вас головы, а всё-таки молодцы, что сберегли их. Могут ещё пригодиться. И даже поумнеть ещё могут.
— Оставь, оставь! — кричит выбежавшая из дома Нутэнэут на Кэнири, припавшего к ведру, которое Йорэлё забыл на дороге. — Оставь, зубы застудишь… Чего ты держишь людей на холоде? — обращается она к мужу. — Думаешь, мало они намерзлись? Веди в дом, сейчас чай пить будем.
Она подхватывает ведро, и вслед за нею все заходят в кухню, шумно рассаживаются. Кэнири и Аре одновременно устремляются к табуретке, стоящей возле плиты, сталкиваются, смеются. Табуретка достается Кэнири, оказавшемуся на этот раз проворнее. Он быстро опускается на неё, хрустнув своими ледяными доспехами, сразу изломав их в добром десятке мест. Дверца плиты раскрыта, приятное ощущение тепла охватывает Кэнири, от его одежды поднимается густой пар. Но уже через несколько минут он начинает сомневаться в преимуществах своей позиции: он ближе всех к огню, но дальше всех от миски с моржовым мясом, от блюда с лепешками… Впрочем, лепешек столько, что, пожалуй, всем хватит.
Только Унпэнэр, не задерживаясь на кухне, прошел в свою комнату, к Аймыне. И Йорэлё, конечно, прошмыгнул вслед за ним. А когда Унпэнэр держал в руках белый сверток, внутри которого попискивало что-то смугло-красное, и Аймына вглядывалась в лицо мужа, стараясь определить впечатление, которое произвело на него это попискивающее существо, в комнату вошел Алексей Вадимыч — фельдшер с полярной станции.
— Здравствуйте, — говорит Алексей Вадимыч. — Поздравляю тебя, Унпэнэр. Поздравляю вдвойне!
— Почему вдвойне?
— Во-первых, с рождением сына. А во-вторых, и тебя-то самого можно считать вторично родившимся. Из такой, говорят, переделки выбрался… А ну-ка отдай сына, безобразник! Смотри, прямо на ребенка вода капает. Хоть бы вытерся сначала, обсушился…
Действительно, ледяной шлем на голове Унпэнэра растаял. Только одна прядь свешивается на лоб сосулькой, и частые капли падают на белоснежный сверток.
— Ничего! — улыбается Унпэнэр. — Моему сыну ледяная вода не должна вредить. Это ведь белый медвежонок будет. А? Черный белый медвежонок!
Но всё-таки он отдает ребенка Алексею Вадимычу. А в комнату уже входят все остальные. Впереди — Гэмалькот, позади — Кэнири с чашкой чая в одной руке и недоеденной лепешкой в другой.
Гэмалькоту всё уже известно. Он говорит:
— Их, Аймына, у Эввыквын-скалы разбило. Знаешь Эввыквын-скалу?
— Знаю, — говорит Аймына. — А как же вы добрались оттуда? Оттуда ведь никакого пути нет — крутая гора, стена…
— Вот по стене и добрались, — отвечает за Унпэнэра Гэмалькот. — По птичьим тропам к водопаду вышли, оттуда дальше, по горам Эввыквыт, через ледник…
— Да уж, действительно, — задумчиво произносит Мэмыль. — Действительно эввыквыт[3]Эввыквын означает по-чукотски — твёрдокаменный, стойкий; эввыквыт — множественное число — твердокаменные, стойкие. (Прим. перев.).
И всем становится ясно, что старик подразумевает не столько горы, сколько молодых охотников, сумевших пробраться через неприступные кручи, по нехоженым тропкам.
Чтобы заслужить такую похвалу, стоило, пожалуй, и померзнуть, и торбаса ободрать об острые камни в горах Эввыквыт, и руки исцарапать, и на тонком ремешке покачаться над пропастью.
Кэнири торопливо допивает чай, дожевывает лепешку. Потом ставит чашку на подоконник, вытирает руку о штаны, достает из-за пазухи какой-то измятый пакет и торжественно подходит к кровати, на которой лежит Аймына.
Бумага разорвана, всем виден яркий, цветастый платок.
— Это тебе, Аймына, — говорит Кэнири, разворачивая пакет. — Тебе и твоему сыну. Это от всей нашей бригады.
Вслед за платком появляются крохотные рубашонки с тесемками вместо пуговиц, за рубашонками — матросский костюмчик.
Ай да Кэнири! Значит, ещё в байдаре он успел засунуть за пазуху пакет с подарками и никому ни слова не сказал! Не в каждом стойбище найдется такой хитрец!
А продавщица-то была, оказывается, права: теперь Унпэнэр и сам видит, что матросский костюмчик велик, непомерно велик. Не скоро ещё можно будет надеть этот костюмчик на сына.
Пока все заняты рассматриванием подарков, Унпэнэр присаживается на корточки у изголовья.
— Послушай, Унпэнэр, — тихо говорит Аймына. — Разве Эввыквын — плохое имя для мальчика? Как ты думаешь? Давай назовем его Эввыквын!
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления