Онлайн чтение книги
Чукотская сага
ПЯТЬ ПИСЕМ ВАЛИ КРАМАРЕНКОВОЙ
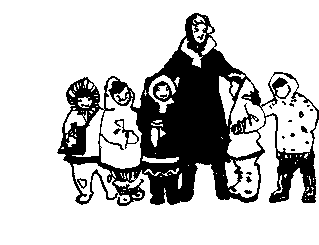
(Мой дорогой читатель! Прежде чем ты приступишь к чтению этих писем, я хочу сказать тебе несколько слов. До сих пор я рассказывал всё по порядку: сначала — о том, как Унпэнэр и Йорэлё, сыновья охотника Гэмалькота, прорезали в отцовской яранге первое самодельное окошко, затем — о том, как появились в нашем поселке и настоящие жилые дома с настоящими светлыми окнами… Лето сменилось осенью, и Тэгрынэ улетела в Хабаровск, в институт, а её верный друг Инрын, сын резчика Гэмауге, остался в поселке, неумело скрывая свою любовь и тоску. Потом пришла зима с её жестокими буранами, и во время одного из буранов, в месяц Старого дикого оленя, чуть не погиб среди тундры отважный Йорэлё. Дыхание ранней весны уже доносилось из-за гор в ту ночь, когда на усталых собаках Гэмауге примчался на аэродром, чтобы вручить делегату Этувги искусно вырезанную из моржового бивня Трубку Мира. Возвращалось и снова уходило короткое заполярное лето, приезжала на каникулы Тэгрынэ; она привезла отцу морской бинокль, который помог ему вывести на чистую воду бездельника Кэнири…
В одной из первых глав я рассказал тебе о том, как молодежная бригада Унпэнэра спасла в Чукотском море потерпевших бедствие американских эскимосов, но о том, как те же молодые зверобои одолевали суровые высоты Эввыквынского ледника, ты прочел гораздо позже, потому что между спасением эскимосов и походом через ледник прошел целый год. Словом, до сих пор я рассказывал обо всех событиях из жизни своих земляков, строги придерживаясь того порядка, в котором происходили эти события.
Но теперь я прошу тебя временно возвратиться мыслями на несколько месяцев назад. К тем дням, когда старый Мэмыль в часы, свободные от работы, уже овладевал при помощи дочери удивительными тайнами азбуки, а Кэнири, вовсе позабыв о работе, валялся на меховом одеяле и предавался сладостным мечтаниям о «кэнирийских лайках». Дело в том, что примерно тогда же Валя Крамаренкова писала первое из этих писем.
А пятое письмо она писала уже весной, уже после того, как летчик Бакшеев, успешно выполнив задание, покинул наш маленький поселок. Таким образом, возвращение к прошлому будет, как видишь, совсем непродолжительным.
Зато из писем Вали Крамаренковой ты узнаешь о ней самой и о других героях этой книги кое-что новое — то, чего сам я рассказать не сумел. Именно поэтому я и включаю её письма в свою книгу. Если же кое-где она касается событий, уж известных тебе, то ты сможешь, таким образом, увидеть их в новом свете, дополнить новыми чертами своё представление о них.
Хочу ещё сказать, что я не во всем согласен с Валей Крамаренковой. Но я не считал себя вправе переделывать её письма. Передаю их тебе в точности такими же, какими они попали ко мне в руки.).
Анадырь, 20 августа.
Здравствуй, Танечка! Привет с далекой Чукотки, с самого «края земли»!
Вот, наконец, я и добралась. Вернее, почти добралась. Сегодня утром приехала сюда на теплоходе, сразу пошла в окрисполком, к заведующему отделом народного образования. Он меня принял очень хорошо, предложил на выбор три места. Я выбрала Эргырон. Это стойбище на побережье Чукотского моря, охотничий колхоз. Отсюда ещё километров восемьсот. Там, говорят, одна из лучших в округе школ, и там как раз очень нужен биолог. Так что завтра я снова отправлюсь в дорогу, в последний этап моего путешествия.
Если хочешь, Танечка, пояснее представить себе, куда занесло твою Вальку, раскрой атлас и на карте Советского Союза отыщи Анадырь, центр Чукотского национального округа. Нашла? Это, как видишь, на крайнем северо-востоке страны, у самого Берингова моря. Теперь мне предстоит еще проехать по проливу, соединяющему Берингово море с Чукотским, обогнуть мыс Дежнева, и вскоре после этого я буду у цели, в Эргыроне. На карте его не ищи — на общесоюзной карте его, конечно, нет. Там есть Уэлен и Ванкарем, а это где-то между ними. Поставь крохотную точечку на берегу Чукотского моря, где-нибудь между Уэленом и Ванкаремом, и знай, что в этой точечке живет и работает преподавательница биологии Валентина Алексеевна Крамаренкова.
Эргырон — это даже не название населенного пункта, а только название колхоза. По-чукотски это, кажется, означает «Рассвет», или «Утро», или «Заря». Что-то в этом роде. А как стойбище на самом деле называется, я ещё даже не знаю. Здесь все его называют Эргыроном, по имени колхоза.
Танечка, мне здесь всё-всё нравится — и люди, и язык, и море, и собаки, и олени, и горы… А знаешь, оказывается, на нартах ездят не только зимой, но и летом! Только зимой полозья деревянные, и в пути их время от времени обливают водой, чтобы образовалась тонкая ледяная корочка — они тогда лучше скользят. А летом полозья железные. Конечно, ездят на них не везде, а по болотным мхам, по так называемой «мокрой тундре». Это я ещё с теплохода увидела, — какие-то чукчи ехали по прибрежной тундре на нартах. Я, конечно, очень удивилась, а помощник капитана объяснил мне насчет полозьев.
Ты знаешь, Танечка, здесь, оказывается, совсем не холодно. Я сижу перед открытым окном в платье с короткими рукавами. Правда, говорят, что через две-три недели здесь сразу похолодает, начнутся осенние штормы… Но пока что тут погода нисколько не хуже, чем в Москве. Наоборот, когда я уезжала — помнишь? — весь день шел дожди. А тут солнышко. Правда, уже не летнее, но всё-таки солнышко.
Прости, что я пишу так сбивчиво — то о нартах, то о погоде. Уж очень много разных впечатлений. Сейчас напишу обо всем по порядку, как обещала. Моих соседей по купе ты, наверно, помнишь. На всякий случай напоминаю. Эго были двое мужчин (на которых мама косилась с нескрываемой опаской) и одна блондинка (которую мама трогательно просила «приглядеть в дороге за Валенькой»)
Прежде всего я познакомилась с тем худощавым, невысоким, остроглазым дяденькой, которого провожала красивая нарядная женщина. Он оказался очень интересным. У него и в голосе и в глазах всё время смешинка — даже когда он серьезно говорит. О лесах, мимо которых мы проезжали, он рассказывал так увлекательно, что я сначала приняла его за ботаника, за ученого лесовода. Я от него узнала такие вещи, которых ни в одной лекции по дендрологии не слыхала, ни в одном учебнике не читала. Но он как-то сказал: «Если бы я был ботаником…» Я поняла, что у него, значит, другая специальность. Потом мне показалось, что он писатель: он так внимательно прислушивался к языку людей, к звучанию каждого слова. Но спросить я постеснялась. Зовут его Константин Георгиевич, а спрашивать фамилию мне было неловко. Ты не знаешь, среди наших писателей нет никого с таким именем и отчеством? Если нет, тогда он, наверно, моряк: к концу пути он разговорился с другим пассажиром о морях, о ветрах, о старинных кораблях и говорил обо всём этом с таким знанием дела, что мысленно я уже произвела его в «старые морские волки».
Второй мой сосед по купе — тот пожилой, в очках, которого никто не провожал, — оказался инженером одного дальневосточного судостроительного завода. С этим я разговорилась только на четвертые сутки, потому что трое суток он спал почти беспробудно. Слезал он со своей полки для того, чтобы поесть и спросить у проводника или у кого-нибудь из нас: «Где мы, собственно, находимся?» После этого, ни к кому не обращаясь, он смущенно произносил: «Вы уж меня извините, я, пожалуй, ещё немного сосну», — и снова забирался на полку, где немедленно приводил своё намерение в исполнение. Но на четвертые сутки вместо обычного «я, пожалуй, ещё немного» он весело сказал: «Ну, кажется, выспался». Побрился, переоделся, стал разговорчив. Оказалось, что он возвращается из командировки, в которой был занят какой-то очень срочной работой — целый месяц спал только урывками, по три-четыре часа в сутки. Словом, выспавшись, он совершенно преобразился, оказался очень славным дяденькой. В чемодане у него было столько книг и журналов, что скоро наше купе превратилось в библиотечку для всего вагона.
Блондинка — единственная из нас четверых — непрерывно ругала дорогу. Для неё дорога была «невероятно утомительной» и «невыносимо скучной», «убийственной». Сначала я думала, что она скучает по мужу (её муж — тот офицер, который её провожал, помнишь?). Но она заявила, что «полезно иногда отдохнуть друг от друга». Детей у неё нет, по работе она тоже не могла скучать, так как нигде не работает, домохозяйка. Скучала она просто потому, что ничего не знает, ничего не хочет узнать, ничем не интересуется. Её не интересовали ни люди, с которыми мы ехали (потому, наверно, что никто из них не пытался ухаживать за ней), ни книги (потому, что это были хорошие книги), ни замечательные места, по которым мы проезжали…
Четвертым обитателем купе была, как ты знаешь, я — существо, вообще не умеющее скучать, а тем более в дороге, где все — новое, неизвестное, неизведанное. Мы проезжали по таким местам, что несколько раз я ловила себя на мысли о том, как хорошо было бы сойти на ближайшей станции, поселиться здесь, поступить на работу… Ты понимаешь меня, Татьянка? Каждый день видеть эти могучие реки, эта горные хребты, подружиться с этими лиственницами и столетними кедрами! Но решение давно уже принято, назначение давно уже лежит в портфеле, и это назначение — на Чукотку…
После поезда — теплоход. В Охотском море нас немного покачало. Некоторых пассажиров так укачало, что они ни обедать, ни ужинать не стали, целые сутки не поднимались со своих коек. А я, оказывается, совсем не подвержена морской болезни! Как видишь, мне и тут повезло. Ты ведь всегда говорила, что я везучая.
На теплоходе я познакомилась с одним педагогом, возвращавшимся в Анадырь из отпуска. Он уже три года работает на Чукотке, называет себя старожилом этих мест. Если бы ты знала, Танька, какой эго неприятный тип! Всё ему тут не нравится, всех он ругает. Откровенно заявляет, что привлекли его сюда только высокие заработки. Считает, что каждый, кто едет сюда, руководствуется этим же, только не все, дескать, решаются в этом признаться. Фамилия у него какая-то актерская — Дальский.
Вообще-то, конечно, я сама виновата: обрадовалась, что встретила «старожила», «товарища по профессии», и прилипла к нему. А потом уж не знала, как отвязаться, когда увидела, какое это гнилье. К счастью, тут как раз и началась качка. Дальский стал глотать какие-то пилюли, а потом и вовсе убрался в свою каюту. Наивно было бы предполагать, что сюда едут одни только энтузиасты. Да я этого и не предполагала, конечно. И всё-таки встреча с этим «коллегой» оставила у меня неприятный осадок.
Зато помощник капитана и два ленинградских гидрографа, с которыми я тоже познакомилась на теплоходе, — это настоящие энтузиасты Севера. А особенно мне понравилась Мария Феоктистовна Лесникова — местный педагог. Я от неё и пишу тебе, меня к ней устроил заведующий окроно. Она тоже биолог. Сейчас она ушла по своим делам, а я тут одна у неё хозяйничаю. Из окна виден Анадырский залив, на рейде стоит теплоход, на котором я приехала. Завтра он уйдет обратно и повезет это письмо. А если бы я тебе написала только с места, из Эргырона, — ты бы, наверно, получила письмо через месяц, не раньше. Вот я и решила отсюда послать.
Я поеду дальше завтра рано утром — как раз есть оказия, моторный вельбот пойдет в Эргырон. Ты представляешь себе, Танька, что это значит? Из одного моря в другое, через весь Берингов пролив — и не на пароходе, а на моторке! Около восьмисот километров на колхозном рыбацком суденышке! Как подумаю, у меня даже душа замирает. Ты только не подумай, пожалуйста, маме об этом рассказать. Я ей писала ещё с дороги, из Хабаровска, а теперь уж с места напишу, когда всё мое путешествие будет позади. Здесь относятся к 800-километровой поездке на моторном вельботе по Берингову и Чукотскому морям как к чему-то совсем обычному. Я, как ты понимаешь, делаю вид, что отношусь к этому точно так же.
Пора кончать письмо, оно и так получилось ужасно длинное. А я ещё о стольких интересных вещах не успела тебе написать! Ни слова не написала о море. Море, Татьянка, произвело на меня такое впечатление, что теперь мне трудно себе представить, как это я жила до двадцати четырех лет и даже не видела его ни разу. Только на картинках да в кино! Всё время, пока ехали на теплоходе, я наблюдала: море каждый день, каждый час разное! У него столько различных обликов, сколько выражений на человеческом лице. То оно доброе, ласковое, то мрачное, разгневанное, то по-детски весёлое, играющее, то грустное, задумчивое… Словом, чуть ли не любое настроение, какое можно прочесть на лице человека, можно увидеть и на море. Я не знаю, сама ли я придумала это сравнение. Может быть, я когда-то прочла это где-нибудь. Если и прочла, я тогда не могла, конечно, понять, до чего это верно.
Не писала я тебе и о тех, с кем отправлюсь завтра в Эргырон. Меня с ними уже познакомили; завтра утром они обещали зайти за мной по дороге к вельботу. Это председатель колхоза Вамче и ещё два колхозника — чукотские охотники, зверобои, родители моих будущих учеников.
До свидания, родная моя! Крепко обнимаю тебя и целую!
Твоя Валька .
P.S. Пиши мне, Танечка, по следующему адресу: «Чукотский национальный округ, поселок колхоза «Эргырон», школа, учительнице В.А. Крамаренковой». Пиши мне обо всём и обо всех — о себе, о маме, о Васе, о Сережке. Только сразу же напиши, не откладывай, помни о том, как далеко нужно добираться письму.
Колхоз «Эргырон», 31 августа
Здравствуй, Таня!
Пишу тебе уже второй раз, а ты, наверно, и первого моего письма ещё не получила. Что же касается твоего ответа… до тех пор, когда я его получу, пройдет столько времени, что и подумать страшно.
Ох, Танька, Танька! До чего же мне тоскливо, если бы ты только знала! До чего мне нужно было бы побывать с тобой, рассказать тебе о всех своих печалях, пореветь как следует…
Ты не думай, ничего особенного у меня не случилось. Просто очень мне тут одиноко. Уж очень далеко я себя зашвырнула.
Винить некого: сама я выбрала себе это назначение, никто меня не уговаривал. Наоборот, мама, как ты знаешь, даже старалась отговорить. И сама всякие ужасы выдумывала, и через тебя, и через Сережку пыталась на меня повлиять. Всю её нехитрую дипломатию я прекрасно понимала… Я никого не хотела слушать, размахнулась изо всех сил и к черту на кулички закинула свою собственную судьбу — так далеко, что никому, пожалуй, и не найти. Да никто и не станет искать!
Завтра начинается учебный год. Как я мечтала когда-то об этом дне, о первом дне своей педагогической работы в далекой чукотской школе! И не «когда-то», а всего лишь неделю назад. Мне это казалось таким интересным, таким значительным событием… А теперь мне это совершенно безразлично. Ну что из того, что начнется новый учебный год? Начнется и будет продолжаться всю долгую чукотскую зиму. И молодая учительница, затерянная в одной из бесчисленного множества школ, будет всю эту долгую зиму рассказывать ребятам о тычинках и пестиках — ребятам, с трудом понимающим русский язык и никогда в жизни не видевшим не только пестиков и тычинок, но и вообще ни одного порядочного цветка. В общем, Танечка, тундра — это, как известно, не сад, не субтропики. И даже совсем наоборот, как любит говорить Вася.
Ты можешь, конечно, спросить меня, что же, собственно, изменилось за одну неделю. Уверяю тебя, что ничего не произошло, ничего не изменилось. Кроме меня самой, разве что. Просто я немного повзрослела за это время, увидела собственными глазами то, что издалека выглядело гораздо привлекательнее.
Мама почему-то больше всего боялась самого путешествия. То ей казалось, что у меня обязательно украдут в дороге чемодан и сумочку, то что я сама попаду под поезд. Что же касается морского путешествия, то кораблекрушение представлялось маме одной из его неотъемлемых частей.
Если бы она знала, насколько здесь, на месте, хуже, чем в пути! Я готова была бы всё то время, что мне предстоит здесь пробыть, непрерывно скитаться, терпеть любые неудобства, подвергаться в пути любым опасностям, только бы не торчать в этой унылой дыре, где и словом перемолвиться не с кем, где некому даже пожаловаться, когда очень уж паршиво на душе.
В бытовом отношении тут вполне прилично, гораздо лучше, чем я предполагала. Мне дали хорошую комнатку в школьном доме. Есть электричество. В поселковом магазине полно всяких продуктов (правда, консервированных). Довольно большой выбор тканей. Но к чему мне всё это?
Только умоляю тебя, Танечка, не утешай меня, не лиши мне о том, что «жизнь — везде и во всём», что «надо в любой обстановке найти своё место», и прочее и прочее. Не надо ни утешать меня, ни стыдить, ни ругать. Всё это я могу сделать сама и — уверяю тебя — делаю это преусердно. Милая, что ты можешь мне написать об этом? Можешь, наверно, написать что-нибудь в таком роде: «Что с тобой, Валька?! Это так на тебя не похоже! Это просто малодушие! Ты ведь ехала работать, а не развлекаться! Разве можно так поддаваться плохому настроению? Разве можно так падать духом после первых же трудностей, ещё даже не приступив, по существу, к работе?!»
Видишь, поскольку твой ответ придет ещё не скоро, я сама отвечаю себе за тебя. Вот до чего дошла — сама себе письма пишу! Может, я уже спятила с тоски? Нет, Танечка, не беспокойся, я ещё не спятила. Просто хотела освободить тебя от обязанности утешать затосковавшую подругу. А если ты всё-таки сочтешь это необходимым, так уж придумай, пожалуйста, что-нибудь более убедительное, не повторяй того, что я сама написала себе от твоего имени.
Ну вот я и не выдержала, разревелась. Всю страницу слезами закапала. Ты не сердись на меня, Танечка, что чернила расползлись, постарайся разобрать. А если чего-нибудь и не разберешь — не беда: чем меньше дойдет до тебя моего скулежа, тем лучше.
Погода здесь совершенно под стать моему настроению: серая, хмурая. Перед моим окном — спортивная площадка. Волейбольную сетку уже сняли: холодно, мокро, кругом лужи. На улице поселка никого нет, разве что собака изредка пробежит.
Правда, у собак здесь вид довольно веселый. Может быть, такое впечатление создается потому, что это всё лайки, а у лаек хвосты задраны кверху. Но люди, Танька, люди — до чего это всё мрачные типы!
Вот тебе несколько примеров. Директор школы Эйнес. Местный парень, чукча. Угрюмый, неприветливый — за десять дней я не слыхала от него и десяти слов. В Анадыре в окроно мне говорили, что он кончил Хабаровский пединститут. Когда видишь его очень трудно в это поверить: внешне он ничем не отличается от любого из здешних колхозников. Такая же одежда из оленьих шкур, такой же охотничий нож болтается у пояса. Даже в самые последние дни перед началом учебного года, когда надо готовить школу к зиме, наш директор в школе почти не показывался. Иногда только зайдет вечером, походит по классам, посидит полчаса у школьного сторожа, попьет чайку и уйдет. А целые дни он на охоте, «на промысле», как здесь говорят. Словом, он со всех точек зрения — рядовой колхозник, рядовой член охотничьей бригады. Ничуть, может быть, не хуже, но, видимо, и не лучше. А всё-таки хотелось бы, чтобы директор школы был хоть немного покультурнее рядового чукотского колхозника.
Характерная деталь: в поселке среди дедовских яранг стоит уже несколько домов; некоторые передовые колхозники живут уже в домах, по-культурному; а директор школы живет в яранге! В его распоряжении довольно просторный школьный дом и — рядом — два отдельных жилых домика для учителей. Словом, для директора, я думаю, комнатка нашлась бы. Даже сторож и тот живет в школьном доме. Я слыхала о старых чукчах, предпочитающих непривычному дому темную, тесную, грязную, но привычную ярангу. А тут — молодой парень, член партии! Я не знаю, много ли стоит его высшее образование, но уж одно то, что он четыре года прожил в Хабаровске, казалось бы, должно было как-то отразиться на нём. Нет, оказывается, в некоторых людях бескультурье сидит так глубоко, прошлое так крепко держит их в своих цепких лапах, что тут и высшее образование не помогает. Возвращается такой человек в свое стойбище после четырех лет жизни в Хабаровске, и оказывается, что «каким он был, таким он и остался»…
Весь школьный коллектив вполне под стать своему руководителю. Есть тут и «европейцы»: хромой завуч (он же — учитель математики) и школьный сторож. Первый — Всеволод Ильич Вербин, может быть, и был когда-то культурным человеком. Он очень опустился, но по некоторым признакам чувствуется, что не всегда он был таким, как теперь. По-моему, он из «бывших людей», из аристократов, бежавших от революции. Может быть, даже из белых офицеров. Знаешь, они ведь не все за границу эмигрировали, кое-кто забрался в такие медвежьи углы, как этот Эргырон, и сидят здесь.
Второй — поляк Кабицкий. Мрачный, рыжебородый. Типичный убийца. Кажется, за убийство он и попал когда-то в Сибирь. Видимо, такие черные дела на совести этого человека, что, даже отбыв свой срок, он не захотел возвращаться в родные места. Его комната — рядом с моей. Соседство, как ты понимаешь, не из приятных.
К тому же и тот и другой старики. Вербину под шестьдесят, а Кабицкому, наверно, ещё больше. Оба «очукотились» полностью — и по одежде и по языку. Вербина называют здесь «Севалот» (видимо, это бывший «Всеволод»). Кабицкий женат на чукчанке.
Знать чукотский язык — это, конечно, очень хорошо. В этом отношении я искренне завидую Вербину. Представляешь себе, как мне трудно будет со школьниками — я совсем не знаю чукотского, они почти не знают русского… Изучить язык было бы, конечно, хорошо, но во всем остальном я не хотела бы уподобиться Вербину. Но кто знает, какой я стану через три года? Три года! Боюсь, что я вообще не выдержу такого срока. Одна неделя прошла, а я уж по горло сыта этой Чукоткой…
До свидания, Танечка.
В. К .
Эргырон, 3 сентября
Очень глупо, Танька, получилось: на днях я отправила тебе письмо, которое, конечно не следовало отправлять. Но его уже увезли в бухту Провидения, ничего теперь не поделаешь. Пишу вдогонку другое. В обычных условиях ты получила бы это моё письмо вскоре после того письма — дня через три или четыре. Но здесь условия далеко не обычные. Может оказаться, что ты их получишь одновременно (если последний пароход ещё не ушел из бухты Провидения). А в противном случае это письмо отстанет на месяц или даже на два, так как морская навигация заканчивается. Ищи потом оказию…
Видишь ли, Татьянка, когда я писала тебе прошлый раз, на душе у меня было так скверно, так скверно! Непосредственный повод этого отвратного настроения был ещё так близок, что даже упоминать о нем не хотелось. А с другой стороны, обязательно нужно было поделиться с тобой, пожаловаться тебе… Вот и получилась ерунда: наревела целый бочонок, а толком ничего не объяснила.
Сейчас я уже немного успокоилась, хотя настроение у меня по-прежнему преунылое и нет никаких надежд на то, что оно изменится к лучшему. Нет, в этом отношении всё, о чем я тебе писала, остается таким же неутешительным, таким же безрадостным. Но острота отчаяния, которое меня охватило, кажется, проходит. Что ж, перетерплю как-нибудь три года.
Здесь, в поселке, до вчерашнего дня находился один уполномоченный из райисполкома. Какой-то работник районного центра, чукча. Лет ему около двадцати пяти, не больше. Хорошо говорит по-русски и вообще довольно развитой парень. Но бездельник, пропойца, словом — полнейшая мразь. Прислали его сюда для проверки готовности к зимнему охотничьему сезону или для помощи в проведении осеннего забоя моржей — точно не знаю. Во всяком случае, по каким-то охотничьим делам. Для зверрбоев здесь сейчас самая страдная пора — вроде того, как у нас во время уборочной кампании. А он в оружии ничего не понимает, поехать с бригадой на лежбище моржей побоялся, лез к опытным охотникам с нелепыми советами. К тому же почти все время он был пьян.
Кончилось тем, что вчера колхозники подобрали его, мертвецки пьяного, посреди поселка, уложили в моторку и отвезли обратно в райцентр, к нему домой.
Ты, наверно, не понимаешь, зачем я описываю тебе этого горе-уполномоченного, какое мне дело до всей этой истории. Да?
Дело в том, что я с ним познакомилась ещё в дороге: по пути из Анадыря в Эргырон мы заехали в райцентр, и там он к нам присоединился. В вельботе мы оказались рядом.
Он и тогда был не совсем трезв. Шутил насчет того, что «выпил в дорогу, чтобы не замерзнуть, а погода, как назло, оказалась теплая». Погода действительно была очень хорошая, спокойная. Мы с ним всё время болтали, и — представляешь себе? — он даже показался мне довольно интересным, приятным собеседником. Учти, Танюша, что к этому времени я уже трое суток находилась в вельботе, почти целые сутки штормовала. Учти, что спутниками моими были пожилые чукотские колхозники, настолько молчаливые, что временами их можно было принять за глухонемых. Меня они ни о чем не расспрашивали, на мои вопросы отвечали двумя-тремя словами, между собой тоже говорили мало, да и то по-чукотски. А тут появляется молодой парень, веселый, разговорчивый. И главное — местный работник, готовый удовлетворить моё ненасытное любопытство. Я ведь не знала, что он собой представляет, не понимала, что все его разговоры ерунда, рассчитанная на таких восторженных дур, как я.
Через несколько дней мы встретились неподалеку от школы. Я несла воду. Вообще-то сторож (тот самый старик, о котором я тебе уже писала) приносит по утрам два ведра, но я в тот день стирала и всё израсходовала. А тут, перед вечером, захотела чаю себе согреть, решила сама принести и на обратном пути встретилась с этим самым уполномоченным. Он любезно взял у меня ведро, дотащил до крыльца, стал расспрашивать, как я устроилась на новом месте, довольна ли я. Против обыкновения, он был совершенно трезвым. Впрочем, я ведь видела его только второй раз в жизни, почти ничего о нём не знала и понятия не имела о том, какие у него обыкновения. Мы посидели на крылечке, я откровенно призналась ему, что многое меня тут разочаровало, что друзей я тут не нашла и, по всей видимости, не найду, что временами меня одолевает такая дикая тоска, что хоть воем вой…
Он слушал меня очень сочувственно, говорил, что и сам переживает нечто подобное: его недавно перебросили в район из Анадыря. «Если мне, говорит, в районном центре тошно, так представляю себе, каково вам тут, в этом поселке. Да ещё после Москвы!»
Мне пришло в голову позвать его к себе, попить вместе чаю. Знаешь, Танька, для одинокого человека самое тягостное — это время еды. Я уже привыкла, почти привыкла проводить вечера одна, сама с собой. Но садиться одной к столу никак не могу привыкнуть — просто кусок в горло не лезет… Ну так вот, я его пригласила зайти ко мне, если вечер у него ничем не занят. Только у меня ещё не убрано после стирки, и я его пригласила зайти через часок. Он охотно согласился.
Вечером он пришел, успев за какой-нибудь час или полтора так нализаться, что от него через всю комнату несло водкой. Но держался он поначалу прилично — только ещё оживленнее, чем во время пути, в вельботе. Я отошла от стола, чтобы выключить закипевший чайник, а когда вернулась, увидела, что на столе стоит нераспечатанная бутылка вина.
Конечно, нужно было сразу же вытурить его, но я, Танечка, не сделала этого. Я подумала, что обижаться было бы глупо, что он, наверно, и сам не понимает оскорбительности своего поведения. Правда, я решительно заявила, что пить вино не собираюсь, и положила бутылку обратно в его портфель. А потом я стала разливать чай и говорить о том, что являться к девушке в таком состоянии да ещё с таким подарком недостойно, неуважительно; что напиваться, да ещё так часто, как это, видимо, делает он, вообще нехорошо, какое бы ни было у человека настроение… Словом, я завела такую душеспасительную беседу, от которой хмель, по моим расчетам, должен был улетучиться у него из головы. Он выпил несколько стаканов чаю, но хмелел всё больше и больше, будто бы пил не чай, а водку.
Вначале я думала, что у него, может быть, какая-нибудь беда, что он пьет, как говорится, с горя. Но постепенно я стала догадываться, что единственное его горе в том и состоит, что он почти всегда пьян.
Мою откровенность, моё доброе отношение и дружеский интерес к его судьбе он понял по-своему. Стал целовать мне руки и заплетающимся языком объясняться в любви. Я отняла руки, поднялась, попыталась урезонить его. Сказала, что объясняться в любви полагается в трезвом состоянии, а путать любовь со скотством вообще не полагается. Но он уже ничего не слушал, лез ко мне, пытался облапить. Я вырвалась, выбежала из комнаты. Он бросился вслед за мной…
Куда тут побежишь? К сторожу Кабицкому стучать? Он со своей старухой давно уже спят, наверно. Вся остальная школа пуста, классы заперты. Ломиться к сторожу, просить у него защиты я постеснялась, бросилась к выходу. Стала дергать дверь на себя, забыла с перепугу, что она открывается наружу, а не внутрь — он в это время подбежал, схватил меня сзади. Мне опять удалось вырваться, выскочить на улицу, но у него в руке остался воротничок от моей блузки (кружевной воротничок, помнишь?).
Тут мне повезло: сбегая за мной с крыльца, он споткнулся и упал. Это дало мне возможность немного отбежать, пока он поднимался, — шагов на двадцать, если не больше. Услышав, что он опять гонится за мной, я пустилась вокруг школы, успела вернуться в свою комнату и запереть дверь. В ту же секунду слышу, он подбегает к двери, дергает её раз, другой.
Некоторое время мы стояли молча. Потом, немного отдышавшись, он говорит: «Откройте». Я молчу. Он говорит: «Откройте, у вас мой портфель остался. Я только возьму портфель и сразу уйду».
Я тихонько отошла от двери, открыла форточку, выбросила портфель (в нём, по-моему, ничего, кроме, этой бутылки, и не было) и говорю: «Ваш портфель на улице лежит, под моим окном». Он немного постоял, потом пошел. Тогда я скоренько погасила свет в комнате, схватила табуретку и притаилась, жду. «Ну, — думаю, — если он высадит окно и попытается лезть в комнату, так и двину его табуреткой по башке». Честное слово, Танька, я бы его оглушила. Знал бы тогда! Табуретка у меня тяжелая, дубовая, а зла я была как дикая кошка. Но он, к счастью, только подобрал свой портфель, посмотрел на мое темное окно и, пошатываясь, удалился. Я подождала ещё немного, потом легла на кровать и дала слезам волю — всю подушку залила.
Представляешь себе? Ночь, весь поселок спит, никому здесь до меня дела нет. Мама, ты, друзья — все, кому я хоть немного дорога, кому я хоть сколько-нибудь нужна, — за тридевять земель, всё равно что на другой планете. Заступиться за меня некому, со мной здесь могут сделать всё что угодно. Этот подлец может наговорить на меня всё, что ему заблагорассудится, и поверят, разумеется, ему — местному работнику, представителю районного центра, а не какой-то молодой «учителке», чужой, приезжей девчонке. Так мне по крайней мере казалось тогда. Могут, я думаю, узнать и не от него: если Кабицкий что-нибудь слышал, если он проснулся от нашей беготни, то завтра же по всему поселку болтовня пойдет. И люди будут, конечно, винить в первую очередь меня. Почему, скажут, он пошел именно к ней, а не к кому-нибудь другому? Танечка, ведь я его действительно сама пригласила! Хороша, скажут, новая учительница, у которой сразу же после её приезда затеваются какие-то пьяные ночные скандалы…
Лежала я, плакала, думала эту невеселую думу — не знаю, сколько времени так прошло. Вдруг, слышу, кто-то стучит в окно. Оказывается, вернулся. Дубасит кулаками по раме, стекла дребезжат. Кричит, ругается, обзывает меня самыми отвратительными словами.
Я-то думала, что ом совсем ушел, а он, оказывается, напился где-то до полного свинства и обратно пришел покуражиться надо мной. Пришлось снова вооружиться табуреткой и занять свой пост сбоку от окна.
Наслушалась я тогда! Не только по собственному адресу, но и вообще-то мне такой грязной ругани никогда раньше слышать не приходилось. И не только я наслушалась, — он орал так, что наверняка во всех соседних ярангах проснулись. Теперь уж мне не приходилось сомневаться в том, что по всему поселку пойдет обо мне дурная слава.
Он кривлялся под моим окном, кричал, перемешивая русские ругательства с чукотскими, старался как можно грубее оскорбить меня, вызвать меня на перебранку. Я, конечно, молчала, я дала себе слово не отзываться, что бы он ни говорил.
Не знаю, сколько это продолжалось. Я устала, меня мучило ощущение своего бессилия, своей беззащитности. В полном изнеможении я опустилась на пол и снова разревелась. А он всё кричал и кричал за окном. Он выдумал, будто я «чукчей за людей не считаю». Дескать, если бы он не был чукчей, так я бы с ним поласковей обошлась, не считала бы его скотиной. Понимаешь, как повернул?
Кому-кому, а тебе, Танька, хорошо известно, что я комсомолка не только по документам. Для меня интернационализм — это не какое-то отвлеченное понятие, а твердое моё убеждение, жизненный принцип, частичка моей душевной сущности. Национализм я считаю самой гнусной несправедливостью, просто-напросто контрреволюцией, и всё. Для меня все люди равны, совершенно независимо от нации. А он всё наоборот повернул. Но я и тут смолчала.
Он ещё какие-то гадости орал — я уже старалась не слушать. Нервное напряжение так меня утомило, что я впала в забытье. Его голос то доносился до моего сознания, то словно затихал. Потом он громко вскрикнул и совсем замолк. Наверно, свалился и сразу же заснул мертвецким сном, как это бывает с пьяными.
Больше я его, к счастью, не видела. Вчера, как я уже упоминала, после того как он снова перепился, его уложили в моторную байдару и отвезли обратно в райцентр. Этим и закончилась его «работа» в Эргыроне.
Дописываю 4 сентября, вчера не успела. Сегодня воскресенье. Это ещё хуже, чем будни. Те три дня, что я занималась с ребятами, были хоть работой заполнены. Хоть во время уроков удавалось забыть о своей тоске. Заниматься, Танечка, так невероятно трудно, что обо всем позабудешь!.. А сегодня я опять одна со своими невеселыми думами.
Вчера я подробно описала тебе эту неприятную историю. Но не думай, пожалуйста, что только она вышибла меня из колеи. Она была только последней каплей, ядовитой каплей, переполнившей чашу. Не потому я затосковала, что какой-то пропойца поднял ночью шум под моим окном, а скорее наоборот — вся эта история только потому и произошла, что очень уж паршиво у меня на душе: ведь если бы тоска меня не одолела, так разве я позвала бы к себе чаевничать человека, которого почти не знала?
Никто мне по поводу этой истории ничего не говорил пока. Даже директор не вызывал. Впрочем, что представляет собой наш директор Эйнес, я уже как-то писала тебе. Угрюмый местный парень. Может быть, он хороший зверобой, но на педагога он так же похож, как я на японского императора. Правда, 1 сентября он пришел в школу в европейском костюме, при галстуке, без охотничьего ножа. Но вежливости это ему не прибавило. Может, именно из-за того ночного скандала он так неприветлив со мной? Не думаю. По-моему, он с самого начала был со мной ничуть не любезнее.
К началу учебного года все приоделись — и учительницы, и математик Вербин, и школьный сторож. Учительницы здесь все местные, чукчанки. Образование у них — Анадырское педучилище, только одна окончила двухгодичный учительский институт в Хабаровске.
Вербин, оказывается, тоже без настоящего высшего образования. Хорош завуч! Он мне сам сказал, что «в 18-м году пришлось уйти с 3-го курса» (о причинах, по которым пришлось уйти, как и о происхождении хромоты своей, он умалчивает). Ни старость, ни многие годы педагогической работы не вытравили из него какого-то дворянского душка. По всем манерам видно, что он из «бывших». Когда он пришел в школу приодевшимся, выбритым, наодеколонившимся, это стало ещё заметнее, чем обычно. Здороваясь, он так пристукивает пяткой о пятку, будто на ногах у него до сих пор не мягкие оленьи торбаса, а офицерские сапоги и шпоры «со звоном»
Я начинаю думать, что фрукт, с которым я встретилась на теплоходе, был прав. Кажется, я писала тебе о нём еще в первом письме, из Анадыря. Забыла сейчас его фамилию, помню, что актерская какая-то. Рисуясь своим цинизмом, он говорил, что работает на Чукотке только из-за «неизлечимого пристрастия к длинному рублю». И утверждал, что «все здесь такие». Да, сюда едут, видимо, либо охотники за длинным рублем, либо те, кто по каким-нибудь причинам на лучшие места не рассчитывает. Одним не приходится надеяться на лучшее вследствие полной своей бездарности, другим — потому, что прошлое у них темноватое (как, например, у нашего сторожа и у нашего математика).
Как же меня сюда занесло? Биография у меня ещё совсем небольшая, и ничем, кажется, не запятнанная; бездарностью, как ты знаешь, в университете меня не считали; за длинным рублем я не гонюсь, мне и «короткого» хватило бы… Значит, попадают сюда и такие экземпляры — дурочки, начитавшиеся романтических книжек и возомнившие, что могут принести здесь какую-то пользу.
В этом-то, Танечка, и заключается моя ошибка, в этом-то всё дело. Какую пользу я смогу тут принести? Я даже с самыми элементарными своими обязанностями не справлюсь, это мне уже совершенно ясно. И никто на моем месте не справился бы! Посуди сама. Во-первых, мне придется, кроме ботаники, преподавать географию. Географа в здешнюю школу не прислали, предложили «обходиться собственными силами». То, что я в географии ничего не смыслю, это нашего директора нисколько не интересует. Такие вещи здесь самое обычное явление: математик, кроме алгебры и геометрии, преподает физику; преподавательница русского и литературы тянет еще и немецкий (в котором она смыслит, кажется, не больше, чем я в географии). Представляешь себе: уже несколько лет здесь существует семилетка, а до сих пор нет ни географа, ни физика, ни преподавателя языка!
Вторая беда заключается в том, что некоторые школьники плохо говорят по-русски. В 7-м классе ещё кое-как я с ними сговариваюсь, в 6-м тоже, а в 5-м есть ребята, с которыми совсем невозможно. Как мне их учить, если мы друг друга не понимаем?
Хорошо ещё, что я не преподаю в младших классах. Там в этом году сложилось такое положение, что и местным учительницам, чукчанкам по национальности, никак не объясниться с некоторыми учениками: в младшие классы пришло семеро эскимосских ребят, не знающих ни русского, ни чукотского. А учебников на эскимосском языке в нашей школе нет. Это какое-то дикое головотяпство! Дело в том, что раньше колхоз был только чукотским, а в этом году, в связи с укрупнением, в него влилось и несколько эскимосских семей. Словом, из-за того, что райзо и роно не договорились вовремя, ребята остались без учебников.
Вот какие печальные дела, дорогая моя Танечка. Как видишь, унылое моё настроение — это не девичьи капризы. Есть от чего взвыть!
До свидания. До свидания, которое состоится ещё, к сожалению, очень не скоро. Я даже не уверена, Танечка, что оно состоится когда-нибудь, что мне удастся когда-нибудь вырваться отсюда, вернуться домой, к родным, к друзьям.
Твоя Валя .
5 января.
Танька, Танечка, Татьянка моя дорогая! Какая же ты умница! Ай да я — как я здорово умею выбирать себе подруг! По сколько нам было, когда мы подружились? По восемь? Или по семь? И как это я уже тогда догадалась, что из тебя вырастет такая умница?!
Вот уже пятый месяц я работаю здесь. За это время многое изменилось. Вернее сказать, я многое узнала, многое поняла. Разобралась в здешних делах, в людях, в которых поначалу совершенно не могла разобраться. От настроения, в котором я писала тебе свои первые письма, давно уже не осталось и следа.
Четыре месяца прошло с тех пор, как я их послала тебе. Я часто, очень часто думала о тебе, Танечка, с большим нетерпением ждала твоего письма. И каждый раз я представляла себе, как ты меня изругаешь, сколько резких слов мне придется прочесть. Мне было при этом и смешно (потому что я не могу теперь без улыбки вспоминать о том ужасном ребячьем отчаянии, которое охватило меня в первые дни), и в то же время было, признаюсь, немного боязно, стыдновато.
И вот я получаю твое письмо, читаю страницу за страницей, наслаждаюсь. Где-то на середине вспоминаю: «А где же ругань?» Читаю ещё страничку или две, становится даже немного обидно: «Я-то, дескать, изливалась перед ней, всю бумагу слезами закапала, а она — ноль внимания». И, наконец, на предпоследней странице читаю: «Ни утешать тебя, Валька, ни ругать за те твои письма не буду. Уверена, что к тому времени, когда мое письмо дойдет до тебя, твоя «безысходная тоска» улетучится до капельки».
Умница ты моя, умница-разумница! В одном только ты ошиблась: это произошло не к тому времени, когда я получила твой ответ, а гораздо раньше. Тогда, когда ты читала мои отчаянные вопли, от самого-то отчаяния не оставалось уже ничего, кроме воспоминания и чувства некоторого смущения. Какой глупой, какой слепой я была! Ничего, совершенно ничего не понимала.
Буду отвечать тебе по порядку. Прежде всего — относительно работы. Дел здесь тьма-тьмущая, залезла я в них по уши. Можешь судить хотя бы по тому, что я четыре месяца — целых четыре месяца! — не писала тебе. И даже получив твой ответ, села писать только через десять дней, благо новогодние каникулы подоспели. Кстати, поздравляю тебя, Танечка, с Новым годом! Чуть не забыла.
С географией я справляюсь как прирожденный географ. Да я и есть прирожденный географ — удивительно, как это я раньше об этом не догадывалась! Как моя любовь к путешествиям могла сочетаться с полным равнодушием к этому интереснейшему предмету?
Вначале было трудновато. В моем распоряжении был только старый, потертый глобус и школьные учебники. В поселковой библиотеке, когда я попросила что-нибудь о зарубежных странах, о путешествиях, мне смогли предложить только… «Путешествие Гулливера». Как-то ученики седьмого класса меня спросили, что такое «колония». Я попыталась ответить, привела несколько примеров, сказала, в частности, что английские колонизаторы до сих пор не вернули Китаю «город Гонконг». Один семиклассник спрашивает: «А разве Гонконг — это город?» — «Да, — говорю, — конечно, город. Крупный портовый центр».
Я почему-то была в этом совершенно уверена. А он говорит: «Нет, Валентина Алексеевна, это остров. Я в одной книжке читал. Город на том острове есть, только он как-то иначе называется». Я готова была сквозь землю провалиться!
После занятий я рассказываю об этом директору, заявляю ему, что не могу преподавать предмет, которого не знаю. «Тем более, — говорю, — что литературы нет, проконсультироваться не у кого». А он вдруг спрашивает: «Вы на лыжах умеете ходить?» — «Умею!» — «Возьмите у меня лыжи и сбегайте на полярную станцию. Там чуть не каждый сотрудник — профессор географии».
Так я и сделала. Здесь, совсем неподалеку от поселка, расположена одна из полярных станций Главсевморпути. Почему я сама не сообразила пойти к ним? Не знаю! Правда, профессоров там не нашлось, но начальник станции оказался кандидатом географических наук и очень славным дяденькой. У них подобранная, хоть и небольшая, библиотечка, которой я теперь пользуюсь как собственной. Если что не ясно, всегда есть возможность спросить, посоветоваться. В первый же раз я выяснила, что насчет Гонконга была не права. Но это уже не очень меня опечалило — настолько я была обрадована соседством дружной семьи полярников, их приветливым отношением, их готовностью помочь.
Я уже провела три экскурсии на полярную станцию (с каждым из старших классов). Начальник станции был у нас на пионерском сборе, посвященном великим русским исследователям Севера, подарил школе очень хороший атлас. Ребята заинтересовались географией, вошли во вкус предмета — это главное! Да я и сама вошла во вкус, что не менее важно. Признаюсь, что будущей осенью, когда нам пришлют географа (наверно, пришлют наконец), мне будет даже немного жаль расставаться с этим предметом.
С биологией дело было, конечно, проще, чем с географией. Тут я с самого начала чувствовала себя увереннее, знала, как пробудить у ребят интерес. К тому же мне очень помог Эйнес — директор нашей школы. Он ещё в конце сентября ездил в Анадырь, в окроно, добыл много нужных для школы вещей и, в частности, привез мне такой биологический кабинет! Три огромных ящика со всякими наглядными пособиями! Кроме того, я со своими юннатами сделала уже двадцать пять чучел здешних птиц и зверей. Даже в Москве не во всякой школе имеется такой биологический кабинет.
Ты спрашиваешь о ребятах, плохо владеющих русским. Это, Танечка, до сих пор самый сложный для меня вопрос. Это очень, конечно, затрудняет работу. И всё таки мне удается объясняться с любым из учеников — неуспевающих у меня нет. Видишь ли, таких, которые совсем не знают русского, в старших классах уже не встретишь. В младших классах имеются такие, но там преподают местные учительницы, чукчанки.
На моих уроках ребята рассаживаются так, чтобы на каждой парте был мальчик или девочка, хорошо владеющие русским. Пришлось пойти на такую систему «уроков с переводчиками». Кроме того, стараюсь уж, конечно, шире пользоваться наглядными пособиями и говорить попроще, пояснее.
Даже с эскимосскими ребятами (помнишь, я писала тебе о них) и то не провалили дела, хотя тут положение казалось мне совсем безнадежным. Из той же поездки Эйнес привез учебники на эскимосском языке, но только по одному экземпляру каждого учебника. Еле добился, пришлось действовать через окружком партии, а то бы и этого не получил. А эскимосских малышей у нас семеро!
А тут еще в октябре вернулась из тундры, с отдаленных пастбищ, оленеводческая бригада И с оленеводами пришли трое семиклассников, которые раньше учились в другой школе (это всё связано с укрупнением: раньше эти оленеводы составляли отдельный колхоз и жили в другом месте). В той школе знали, что эти ребята от них ушли, и не стали получать на их долю учебники, а нас никто не поставил в известность об этих новых ребятах, и учебниками для 7-го класса обеспечили в обрез, только по весенней заявке. Так что же, ты думаешь, сделали эти четырнадцатилетние оленеводы? Они переписали себе от руки все учебники! И одновременно с ними шестеро наших комсомольцев — два мальчика и четыре девочки — переписали от руки учебники для эскимосских малышей. Специально оставались после занятий. И хоть бы один попытался увильнуть от этого кропотливого, утомительного дела! Думаю, что в наших больших городах многие школьники, привыкшие ко всему готовенькому, постарались бы увильнуть: терпения не хватило бы. А у этих маленьких чукчей такая тяга к знаниям, такая дисциплина, такое упорство и трудолюбие, что я сразу прониклась к ним не только нежностью, но и самым серьезным уважением.
Танечка, почти всё, о чём я писала тебе в таких мрачных тонах, на самом деле выглядит совсем иначе. И прежде всего это относится к людям. Мой ближайший сосед — Степан Андреевич Кабицкий, школьный сторож. Я тогда услыхала краем уха, что он был осужден за убийство, взглянула на его спутанную бороду — и готово, определила его в закоренелые преступники. Даже побаивалась такого соседства. А это, оказывается, добрейший старик. В школьниках, особенно в малышах, он души не чает — малыши прямо льнут к нему. Своих детей у Кабицких нет, но в их комнате всегда стоит детский гомон.
Насчет убийства все чистейшая правда. Было это в 1906 году. Кабицкий действительно был послан царским судом на каторгу за убийство, но убил он, оказывается, одного из карателей, которые зверствовали в его родном городке. Этот каратель шашкой зарубил старшего брата Кабицкого, тогда Кабицкий и бросился на него с топором… А я-то считала его «темной личностью», уголовником!
Эйнес его очень ценит. Кабицкий хоть и числится всего лишь сторожем, но на нём всё школьное хозяйство держится, Эйнес называет его своим заместителем по хозяйственной части. Он и плотник прекрасный, и сапожник, и стекольщик, и печник. Ко мне и он и жена его очень внимательны, как родные.
Вначале, например, он каждое утро приносил мне два ведра воды. Я думала, что это так и полагается, что это входит в его обязанности. Даже, точнее сказать, ничего не думала, а просто приняла это как должное. Ещё и недовольна бывала, как последняя нахалка, если он приносил воду немного позже, чем обычно. И только месяца через полтора или два я случайно увидела в окно нашего директора с вёдрами. На следующее утро установила наблюдение и, к своему большому смущению, обнаружила, что Степан Андреевич никому воду не носит — ни другим учительницам, ни директору. Только себе и мне. Я, конечно, воспротивилась, ношу с тех пор сама. Но если посплю утром подольше, не успею принести, то, придя с уроков, всегда нахожу ведра полными. Вот какие бывают на свете чудеса!
Мало того. Форточка у меня в комнате плохо закрывалась, перекосилась немного. Я ещё только собиралась сказать об этом Степану Андреевичу, смотрю — форточка уже исправлена. Другой случай. В начале зимы я как-то положила свои валенки в печку, хотела получше просушить. А там, под золой, был ещё, видимо, непогасший уголек. Один валенок прогорел, пришлось утром туфли надевать. Днём-то не страшно: я ведь в самой школе живу, мне на улицу выходить не надо. Но вечером я собиралась в клуб пойти, а туда уж в туфельках не дойдешь, пожалуй. Возвращаюсь печальная с уроков, смотрю — стоят возле кровати мои валенки, и на одном из них красуется аккуратная латочка. Очень меня тогда растрогала эта забота.
Кстати, Танька, теперь я щеголяю не в туфлях и не в латаных валенках, а в самых настоящих чукотских торбасах, в чудесных торбасиках, расшитых лучшей из здешних мастериц. Обязательно привезу тебе отсюда такие торбаса! Ты знаешь, что это такое? Это мягкие сапожки из оленьей шкуры. Шьются они шерстью наружу, а на них нашивается узор из маленьких кусочков шкуры другой масти. Получается очень красиво. Они удобные, теплые и при этом нарядные.
Я отвлеклась. Возвращаюсь к характеристике моих новых друзей. О старом «Севалоте» — нашем завуче и учителе математики Всеволоде Ильиче — я тебе уже писала. И писала, надо сказать, дикую чушь. Я почему-то решила тогда, что Всеволод Ильич — это какое-то старорежимное ископаемое, укрывшееся здесь от революционных бурь. Почему мне взбрело это в голову? Не знаю! Мне всё представлялось тогда в самом худшем свете. Кажется, ещё по дороге сюда тот самый уполномоченный (помнишь?) намекал мне на «темное прошлое» здешнего математика. А я и уши развесила Он вообще, пока мы ехали вместе в вельботе, плел мне всякое про моих будущих сослуживцев, которых, оказывается, почти и не знает вовсе.
Когда я в первый раз увидела Всеволода Ильича, он был в таком обтрепанном, грязном костюме, что произвел на меня впечатление вконец опустившегося человека. В сочетании с этим обтрепанным, измазанным глиной костюмом его манеры (какие мне приходилось видеть только на сцене, в пьесах из великосветской жизни), его старомодное пенсне, его изысканные выражения выглядели особенно жалкими.
Скажу тебе сразу, Таня, что сейчас это один из самых лучших моих друзей, хоть он мне чуть ли не в дедушки годится. Редко приходилось мне встречать людей такой душевной чистоты, такой преданности своему делу, такой цельности.
В те дни, перед началом учебного года, он помогал Кабицкому ремонтировать печи в школе. Потому он и был так одет, а вовсе не потому, что «опустился».
Это прекрасный педагог, простой, душевный человек. Для любого колхозника он просто старый сосед, «дядя Севалот», человек образованный, уважаемый, но такой же привычный, свой, как дядя Мэмыль, Атык, Гэмалькот и другие старики нашего поселка. И держится он с ними совершенно обыкновенно, как все люди. А изысканные манеры и выражения, которыми он меня встретил, были, как я теперь понимаю, рассчитаны специально на меня: чудной старик решил, что здесь мне всё покажется слишком суровым и грубым, что со мной нужно особое «столичное обхождение», пока я не попривыкну к здешней обстановке.
И он действительно очень помог мне, помог справиться с отчаянием, охватившим меня в первые дни. Конечно, не расшаркивания его мне помогли, не старомодные любезности, а его пример. (Я даже хотела сейчас написать «героический пример», да почему-то постеснялась. А между тем здесь это слово не было бы слишком громким, потому что жизнь Всеволода Ильича — это действительно героический пример для всякого педагога). Его жизнь здесь даже легендой окружена.
Рассказал мне эту легенду Мэмыль. Впрочем, ты ведь ещё не знаешь, кто такой этот Мэмыль.
Во время летних каникул здесь жила одна местная девушка — студентка Хабаровского пединститута. Она тоже на биологическом учится, очень славная девушка. Я с ней познакомилась перед самым её отъездом. У нас даже общие знакомые нашлись: она десятилетку кончала в Анадыре, была юннаткой у той самой Лесниковой, у которой я ночевала по дороге сюда. Так вот, эта девушка, уезжая, попросила меня позаниматься с её отцом — он решил на старости лет овладеть грамотой. Ученик оказался на редкость способный, заниматься с ним было одно удовольствие. Из всех жителей Эргырона дядя Мэмыль был первым, к которому я почувствовала полное доверие. Успевал он отлично, но думаю, что мне эти занятия принесли ещё больше пользы, чем ему. Он понял, видимо, что на душе у меня было тогда скверно, и старался развлечь меня, почти каждый вечер рассказывал какую-нибудь историю.
Иногда это были очень смешные истории, иногда — вполне серьезные. До сих пор не могу без улыбки вспомнить рассказ о том, как один здешний охотник — большой сластена — стрелял в белого медведя конфетой. У него в патронташе вместе с патронами лежали конфеты, вот он и спутал второпях, когда повстречался с «хозяином льдов». Попал будто бы в самую пасть, а Мишке это дело понравилось — медведи тоже ведь сластены. Мишка стал ещё просить, а охотник решил, что это заколдованный зверь, которого никакая пуля не возьмет… Ты бы слышала, Танька, как Мэмыль рассказывает эту сказку, как он изображает и медведя и незадачливого охотника! Не знаю, где тут кончается правда и начинается выдумка. Во всяком случае, охотник, стрелявший в медведя конфетой, — это не вымышленное лицо, я с ним лично знакома (только всё не решаюсь порасспросить его о том, как он медведя угощал).
Однажды Мэмыль рассказал мне другую сказку — «О том, как на Чукотку свет пришел». Я в тот же вечер записала её в свой дневник.
Незадолго до смерти позвал будто бы Ленин товарищей своих и спросил: «Сколько в Советской стране народов живет?» — «Много, — отвечают. — Если с маленькими народами считать, так, пожалуй, и шестьдесят наберется». — «Правильно, — говорит, — шестьдесят народов. А какой из них в самом темном краю живет?» — «В самых, — отвечают, — темных краях живут ненцы да чукчи. У них всю зиму одна сплошная ночь. А зима у них долгая, северная». — «Тоже, — говорит, — правильно. Полярная ночь — это дело нелегкое, невеселое. А скажите ещё, товарищи, какой из всех наших советских народов — из всех, значит, шестидесяти — дальше всех от Москвы проживает?»
Спросил, а сам на карту смотрит. По карте каждому сразу видно, что самый далекий край — Чукотка. Тогда Ленин говорит: «Мы из Москвы много хороших дел начинали, да бывало иной раз, что эти дела где-нибудь на полпути останавливались, не до всякого уголка доходили. А нам надо каждое дело до конца доводить. Вот и доложите мне, товарищи, как у нас обстоят дела на Чукотке. Что советская власть чукотскому народу дала? Уж если что в самом дальнем краю нами сделано, так оно, значит, по всей нашей земле прошло, не застряло на полдороге».
Тогда товарищи отвечают Ленину. «Немало, — отвечают, — сделано всё-таки на Чукотке. Чукчей, эскимосов, юкагиров от окончательной смерти спасли. Эти народы совсем погибали, а советская власть настоящую жизнь им дала. Немало всё-таки», — «Хорошо, — Ленин им говорит. — Очень хорошо». И просит рассказать в подробностях — как и что. Докладывают ему и про то, и про другое, и про третье. И про хорошее и про плохое. Ленин спрашивает: «А как там насчет света?» — «На этот счет, — отвечают, — тоже стараемся. Ещё в нашей республике керосину мало, а всё-таки отправляем туда, выделяем, сколько возможно, для чукотских людей. Электрификация туда ещё не дошла, но в дальнейшем обязательно доведем и электрификацию. Чтобы в каждой яранге лампочка Ильича горела».
Прищурился Ильич, покачал головой. «Надо, — говорит, — дальше смотреть. Не только об том надо думать, как бы яранги осветить. Не вечно будут чукчи в грязных ярангах ютиться, скоро захотят в домах жить, как все люди. Надо думать, как им помочь в этом деле. И насчет света тоже больше заботы требуется. Надо об том свете побольше заботиться, от которого в мыслях яснее, в голове. Называется он «светом науки». Без него человеку плохо видит много, а понять как следует не может. Позовите ко мне ученых людей».
Позвали. Пришли к Ленину ученые русские люди. И Севалот наш пришел. Он тогда совсем ещё молодой был, а всё равно ученый. Ленин и говорит им: «Вот какое дело, товарищи. Должны мы чукотским людям помочь. Плохо они жили, совсем плохо — не жили, а, просто сказать, помирали. Их четыре гнета давили: американский скупщик да царский чиновник, байдарный хозяин да ещё шаман. Американские хищники хозяйничали на Чукотке свободней, чем у себя дома, царские чиновники им во всем потакали и тоже, конечно, наживались на горьком чукотском горюшке. И байдарный хозяин мало не брал, так что простому охотнику оставалось только кости глодать да лед сосать. А чтобы легче было охотников обманывать-обирать, для этого шаманы их в темной дикости держали, в беспросветной слепоте. Хищники крепко за этот край цеплялись, нелегко нам было вызволить чукотских людей. Первых наших ревкомовцев на Чукотке поубивали — геройски погибли они за свободу, за советскую власть. Но теперь Чукотка уже наша, советская. Американских, скупщиков и царских чиновников там теперь нет. Байдарным хозяевам тоже спеси поубавили. Посылаем чукчам по возможности продукты, охотничий припас. Будем в охотничьих поселках ставить ветродвигатели и проводить электричество».
Налил себе Ленин воды из графина, отпил малость и спрашивает ученых людей: «Что теперь требуется, чтобы в полном смысле вывести чукчей к новой жизни?» И сам на эти слова отвечает: «Для этого должны мы рассеять вековую темноту и всякие дикие шаманские страхи. Одним словом — вызволить чукотских людей из-под последнего гнета: одолеть шаманов, ликвидировать безграмотность, школы поставить. Дело это трудное. Грамотных среди чукчей ни одного нет. И даже самой грамоты чукотской ещё нет — ни одной буковки. Надо для чукотских людей грамоту составить и вообще принести в этот далекий и темный край свет новой жизни. Должен вас, товарищи, предупредить, что условия там тяжелые, а отчасти даже опасные. Кому-нибудь, может, придется не легче, чем нашим героям-ревкомовцам. Но которые из вас захотят все-таки поехать, те пускай помнят, что советская власть окажет им поддержку и ждет от них полной победы. Неволить никого не будем. У кого из вас, товарищи ученые люди, есть на это благородное дело сердечное желание, у кого хватит силы-смелости, те пускай сами скажут. Тех и пошлем».
Сидят ученые люди, думают. Одни робеют, другие с мыслями собираются. Первым наш Севалот поднялся. «Есть, — говорит, — у меня такое сердечное желание. И силы-смелости тоже, пожалуй, хватит. Посылайте меня, товарищ Ленин». Ну, за Севалотом ещё сколько-то человек поднялось. Которые посмелее да сердцем пошире…
Танечка, милая, вчера не успела дописать тебе письмо — ко мне вечером гости пришли. И с полярной станции были ребята и здешние. Дописываю 6-го. Хорошо, что каникулы — можно писать письмо хоть три дня подряд. Ты не сердись, Танечка, что оно такое длинное получается. Если находишься так далеко от самой близкой своей подруги и пишешь ей после четырехмесячного перерыва, то уж хочется наговориться как следует, за всё время.
Остановилась я вчера на сказке. Она большая, в ней потом рассказывается, как «Севалот» организовал здесь школу, как шаман насылал на него злых духов — «кэле»; как учитель не испугался злых кэле, одолел и их и самого шамана.
За этой сказкой — сущая правда. Я теперь знаю, как создавалась наша школа, каких трудов, какого мужества это требовало. Помещения не было, небольшая группа учеников (среди которых был и наш теперешний директор Эйнес) занималась в яранге, при свете жирника. Всеволод Ильич жил в этой же яранге — темной, душной, грязной, обгоревшей и кое-как, по-бедняцки, залатанной после пожара (шаман дважды поджигал её в отместку за то, что хозяева пустили к себе учителя). Влияние шамана было тогда очень сильным. Он запрещал охотникам посылать детей в школу. Один школьник погиб при каких-то подозрительных обстоятельствах, а шаман объявил, что разгневанные кэле забрали мальчика и заберут всех, кто ходит учиться у «чужака». Гибель мальчика была скорее всего подстроена самим шаманом.
Один раз учителя избили до полусмерти. В другой раз камнем угодили ему в колено, так что началось какое-то заболевание и чуть не пришлось ампутировать ногу. Он до сих пор немного прихрамывает. Но, подружившись с простыми охотниками, действуя вместе с маленьким, тогда ещё только формировавшимся колхозным активом, Всеволод Ильич выдержал всё это. Выдержал, одолел все препятствия, отстоял школу.
Вот как создавалась школа в Эргыроне. Вот какой человек наш старый «Севалот»!
Я его как-то спросила: «Всеволод Ильич, вы действительно слышали Ленина?» — «Нет, — говорит, — не привелось, к сожалению. Это всё здешние старики выдумали. Атык или Мэмыль — теперь даже трудно установить, от кого это пошло. Пробовал разубедить — ничего не выходит. Больше того: заявляют даже, будто бы я сам им рассказывал об этом. И — что самое смешное — это, собственно, так и было».
Конечно, я очень удивилась, Всеволод Ильич засмеялся и объясняет: «Видите ли, Валя, в первое время мне часто приходилось убеждать охотников в том, что каждый из них может овладеть грамотой, в том, что наука станет достоянием всех народов. Как-то я добавил: «Этому нас ещё товарищ Ленин учил». Наверно, я даже не раз это повторял. Вполне возможно, что когда-нибудь и так сказал: «Нам это сам товарищ Ленин говорил». Формула, как вы знаете, обычная, общепринятая; мне, разумеется, в голову не приходило, что она может быть неточно истолкована. А они, видите ли, поняли это выражение слишком буквально, в прямом смысле слова».
Он помолчал немного, а потом очень сердито спрашивает: «Вам, наверно, рассказывали и про то, как я сражался с кэле? Вы понимаете, какая нелепица получается? Рассказывают о том, как я одолел шамана. Хорошо. Я ведь действительно долгие годы трудился над тем, чтобы очистить их головы от шаманизма, от суеверий. Результаты, казалось бы, налицо, не зря трудился. Но вот, рассказывая о моей борьбе, они вдруг начинают приписывать мне рукопашные схватки с мифическими существами, с этими самыми кэле. Словом, воскрешается старая шаманская чушь, столь же дикая, сколь и живучая, к сожалению. Как же это так? Выходит, что кэле оказались, по существу, сильнее меня, хоть в сказке и говорится о моей победе над ними. Так, что ли? Выходит, что моя победа над шаманом носит, так сказать, только формальный характер? Дичь какая-то, явная дичь».
Так и не удалось мне тогда убедить старика, что в устах Мэмыля кэле являются уже не «шаманской чушью», а сказочными персонажами, поэтическими образами. Он печально ответил мне, что «подобные утешения годятся только для людей, неспособных к ясному математическому мышлению».
Между прочим, Танька, если бы ты знала, как такой суровый и даже на первый взгляд грубый народ, как чукчи, ощущает поэзию, красоту! Вот посмотри хотя бы на их имена. Одного из лучших охотников здешнего колхоза зовут Унпэнэр, что в переводе на русский означает «Полярная звезда». Его братишка Йорэлё учится у нас в школе (очень смышленый паренек, мечтающий стать агрономом); Йорэлё — это «Повелитель ветров». Месяца три назад у этого самого Унпэнэра родился мальчик, которого назвали Эввыкван — «Стойкий». Дочку Мэмыля, о которой я тебе уже писала, зовут Тэгрынэ; Тэгрынэ — это значит «Летящая стрелой».
Правда, красиво? Есть у них, конечно, и другие имена, в том числе совсем не поэтичные (а по нашим понятиям, даже неприличные). Но должна тебе, Танька, сказать, что настоящая поэзия, настоящая романтика заключается вовсе не в том, в чём я искала её раньше. Она гораздо трудней. Трудней, грубей и жизненней.
Опять я отвлеклась! Через несколько дней после того разговора с Всеволодом Ильичом я убедилась, что при всём своём «математическом мышлении» он вовсе не чужд романтики и прекрасно понимает сущность сказки, рассказанной мне Мэмылем. Он как-то зашел ко мне вечером попросить чернил и заметил, что глаза у меня зареванные (что бывало со мной тогда довольно часто). Минуту он постоял, рассматривая свою пустую чернильницу, потом строго посмотрел на меня и сказал: «Вы хорошо помните, что вам рассказывал Мэмыль? Не забывайте, Валя, что мы с вами присланы сюда товарищем Лениным. Никогда не забывайте об этом!» Налил себе чернил, перелил, огорченно поглядел на измазанные чернилами руки и ушел.
Танечка, самое важное я оставила напоследок. Я хочу написать тебе о нашем директоре, об Эйнесе. Я, видишь ли, оказалась по отношению к нему в глупейшем положении. Ох, если бы ты была сейчас тут рядом! Ты бы, наверно, придумала, как поступить, а я без твоего совета ничего не могу придумать.
Ты уже догадалась, конечно, что мои первые впечатления от знакомства с Эйнесом не имели ничего общего с истиной. Единственное, о чём они свидетельствовали, — это о том, как мало я знаю жизнь, как плохо разбираюсь в людях. По отношению к Эйнесу я была, пожалуй, ещё более несправедлива, чем к Вербину и Кабицкому.
Прежде всего, если помнишь, я возмущалась тем, что перед началом учебного года Эйнес почти не заглядывал в школу, целые дни проводил на охоте. А зачем ему было торчать в школе? Ремонт в основном уже был закончен, оставалось только привести в порядок печи, заменить кое-где стекла. В этом Эйнес мог спокойно положиться на Вербина и Кабицкого.
Кроме того, колхоз, оказывается, крепко выручил летом Эйнеса — помог в ремонте школы и учительских домиков. Перекрыли крыши, дали краски для полов и для парт. Зато осенью, в разгар охоты на моржей, и Эйнес и все старшеклассники отплатили добром за добро, поработали как следует в охотничьих бригадах.
Но дело тут не только во «взаимной выручке». Дело ещё и в том, что Эйнес — настоящий чукча, настоящий охотник, плоть от плоти своего маленького народа. Я-то сначала подумала, что он по культурному уровню не многим отличается от любого из здешних охотников, а он, оказывается, человек большой культуры, глубоких и разносторонних знаний. Таким директором и учителем истории самая лучшая школа могла бы гордиться. Но он сознательно не хочет отрываться от жизни своих односельчан, от интересов рядовых колхозников-зверобоев. И, кроме того, морская охота — это его страсть, это для него то же, что для Васи — его радиоприемники, что для Сережки — шахматы, а для тебя — театр. Он не только влюблен в морскую охоту, но, видимо, и знает её во всех тонкостях: я слышала, как даже Вамче — председатель колхоза, опытный охотник — советовался с Эйнееом относительно какого-то спорного случая, происшедшего во время выезда на лежбище моржей.
Наш директор, как говорит Севалот, — «это сложный и чрезвычайно интересный характер». Он невероятно застенчив. Для этого энергичного директора, эрудированного историка и мужественного охотника, каждый новый, незнакомый человек страшнее любого зверя. К счастью для него, в Эргыроне новые люди появляются очень редко. Пока Эйнес не привыкнет к человеку как следует, для него разговор с этим человеком — просто пытка. Особенно, я думаю, если незнакомец оказывается незнакомкой, да ещё и молодой. Как я теперь понимаю, это было одной из причин, по которым Эйнес так редко бывал в школе в первые дни моего пребывания здесь. Он явно избегал меня тогда, а если уж должен был что-нибудь мне сказать, то делал это с неохотой, стараясь как можно скорее закончить разговор. Но то, что казалось мне угрюмостью, невежливостью, даже признаком некультурности, было в действительности результатом мучительной, непреодолимой застенчивости.
Это такой знающий, такой способный парень, что я не перестаю поражаться. В любой области, не говоря уже, конечно, об истории, он знает по крайней мере вдесятеро больше меня. Может быть, только в биологии я посильнее (и то подозреваю, что он просто по скромности не касается при мне вопросов, связанных с моим предметом).
Лет пять назад он кончил пединститут, получил диплом с отличием. Оставляли в аспирантуре — не остался, сказал, что хочет сначала немного поработать. Добился назначения в родной поселок. Здесь тогда была только начальная школа, четырехлетка — та самая, в которой Эйнес когда-то учился. Под его руководством она выросла в семилетку и стала одной из лучших школ округа. В Анадыре говорят, что по истории, математике и литературе «эргыронская четверка стоит подороже иной пятерки» (надеюсь, что с будущего года к этому перечислению будут добавлять и биологию).
На всё предложения (а ему уже несколько раз предлагали разные высокие должности и в районном центре и в окружном) Эйнес отвечает, что уедет отсюда только тогда, когда здесь будет создана десятилетка. И добьется, уверена, что добьется! Но в конце концов ему придется, конечно, поехать в аспирантуру — либо в Хабаровск, либо в Ленинград. Ему и самому-то охота поступить в аспирантуру, и в окружкоме ему советуют. Да и грешно в самом деле с такой светлой головой не взяться за научную работу.
Ты помнишь, Танька, историю с тем типчиком — уполномоченным из района? Я тогда думала, что он куражился под окном до тех пор, пока хмель не свалил его с ног. А на самом деле всё произошло совсем не так. Кабицкий проснулся от его криков, вышел, чтобы прогнать хулигана, но, увидев, что это приезжий, постеснялся, решил разбудить Эйнеса. Тот вышел из яранги, не стал осведомляться о чинах приезжего, а, не говоря ни слова, хорошенько тряхнул его, заткнул ему рот своей кожаной рукавицей и в одну минуту связал ему ремешком руки. Затем вместе с Кабицким они отнесли этого сразу присмиревшего типчика к правлению, развязали. Эйнес вынул у него изо рта рукавицу, обтер её полой его пиджака и молча ушел. Кабицкий так же молча поднял свой кулачище, многозначительно повертел им перед носом уполномоченного и последовал за Эйнесом.
Они проделали всё это в такой полной тишине для того, чтобы никто ничего не услышал, чтобы не было никаких разговоров на эту тему, чтобы не трепали моё имя. И в то же время они старались, чтоб я не узнала об их вмешательстве, а думала, будто и они ничего не слыхали. Только недавно, справедливо считая, что теперь меня это уже не встревожит, Кабицкий рассказал мне, как было дело. Да и то под большим секретом от Эйнеса.
Рассказ Кабицкого позабавил меня и обрадовал: значит, уже и тогда я была здесь совсем не такой одинокой и беззащитной, как мне казалось! Но некоторое время назад я узнала о другом поступке Эйнеса, и эта новость, признаюсь, не только обрадовала меня, но и порядком озадачила.
Иду я как-то на лыжах с полярной станции, догоняет меня один семиклассник. Через плечо у него висит ружье, а у пояса болтается несколько белых куропаток. Смотрю — среди куропаток темнеет какая-то другая птица. Головка, спина и хвост черные, блестящие, животик белый, клюв прямой, довольно длинный, красный. Трехпалые ноги тоже красного цвета. Словом, типичный Haematopus ostralegus, славная такая пичуга из отряда куликов. А по орнитологическому справочнику северная граница распространения этих птиц находится на Камчатке, зимой же им вообще полагается улетать далеко на юг. Меня это очень заинтересовало. Почему эта пичуга залетела так далеко на север? Почему она осталась тут на зиму? Я договорилась со школьником, что вечером он занесет мне эту птицу и мы сделаем чучело для нашего биологического кабинета. На всякий случай спрашиваю: «Ты знаешь, где я живу?» — «Да, — говорит, — конечно, знаю. В той комнате, где раньше директор жил».
Вот так, совершенно случайно, я узнала, что Эйнес жил в школьном доме, в комнате, которую занимаю теперь я. Вернувшись, зашла к Кабицким; его, к счастью, не оказалось дома. Пристала к его жене и убедилась в том, что школьник сказал правду.
Эйнес жил в этой комнатке до самого моего приезда. Если бы его мать согласилась расстаться с ярангой, он давно уже мог бы переехать в большую комнату, в один из жилых домов. Но для одного ему было вполне достаточно и этой, а старая Рультынэ категорически отказывалась оставить ярангу, говорила, что в доме ей непривычно, неуютно.
В августе прошлого года в школе уже и не надеялись получить биолога, когда вдруг из Анадыря радировали, что биолог едет. Да не какой-нибудь, а «выпускница Московского университета»! Я сама потом видела эту радиограмму из окроно: «Согласно вашей заявке направляем вам биолога. Фамилия направляемой — Крамаренкова, Валентина Алексеевна. Выпускница Московского университета, комсомолка. Обеспечьте комнату и прочие бытовые условия».
Свободной комнаты, конечно, не было. Правда, можно было поселить меня с преподавательницей литературы (остальные учительницы живут по двое, а она — одна). Но, во-первых, Эйнесу не хотелось стеснять её, а во-вторых, они с Севалотом почему-то решили, что мне обязательно требуется отдельная комната. И Эйнес освободил для меня свою, накануне моего приезда перебрался в ярангу матери. Рультынэ была очень рада: пять лет сын уговаривал её переехать в дом, а кончилось тем, что сам к ней в ярангу вернулся.
Вернулся он, правда, не насовсем. В навигацию сюда привезут ещё несколько домишек, в том числе один для школы, для учителей. Но пусть это будет один только год, всё равно. На целый год поселиться в яранге, уступив свою комнату приезжей девушке, — это, знаешь ли, больше, чем простая любезность. Что же это? Гостеприимство? Настоящая забота о подчиненных? Исключительное, прямо-таки рыцарское благородство? Не знаю. Но уверена, что не всякий сумел бы так поступить, далеко не всякий!
А я-то какова! Сперва я считала Эйнеса человеком некультурным, отсталым и в «привязанности к яранге» видела одно из доказательств этой самой отсталости. Вскоре я убедилась, что Эйнес — культурный, очень начитанный, передовой человек, настоящий представитель молодой чукотской интеллигенции, а «привязанность к яранге» я стала рассматривать как психологическую загадку, как признак удивительной живучести традиций.
Мало того, что я сама предавалась этим глубокомысленным рассуждениям, так я ведь и вслух их высказывала! Стыдно вспомнить! Всего лишь дня за три или за четыре до того, как я узнала, в чьей комнате живу, я говорила Севалоту, что меня удивляет пристрастие Эйнеса к некоторым отжившим традициям. «Не понимаю, — говорю, — почему такой культурный человек, как Эйнес, цепляется за жилье, оставшееся в наследство от старого, нищего быта, чуть ли не от самой первобытной дикости!» А Севалот только улыбнулся в ответ, поиграл своим пенсне и перевел разговор на другую тему. Да, здесь умеют молчать! Представляю себе, как старик в душе смеялся тогда надо мной.
Как мне теперь быть? Посоветуй, Танечка, ты ведь умница, ты всё понимаешь. Делать вид, что я по-прежнему не знаю, кто жил до меня в этой комнате? Просто, дескать, не задумываюсь над тем, каким образом она вдруг оказалась свободной? Вообще-то говоря, так оно и было… И всё-таки теперь, когда я уже знаю, что свободная комната не с неба свалилась, я не смогу притворяться. Да и свинством это было бы с моей стороны, самой элементарной неблагодарностью.
Или поблагодарить, сказать Эйнесу, как я тронута его поступком, и… принять эту жертву? Но ведь это никуда не годится! Почему он должен жить из-за меня в яранге? Он ничуть не хуже меня ощущает преимущества комнаты! Он больше пятнадцати лет назад распрощался с ярангой, когда учился в старших классах, жил в интернате анадырской десятилетки, потом жил в Хабаровске, в студенческом общежитии, а последние годы — здесь, в этой комнатке. Больше пятнадцати лет! Он был, конечно, совершенно уверен, что никогда уже не придется ему возвращаться к прежнему образу жизни. Почему же он должен жертвовать из-за меня всеми удобствами, лишать себя минимум на год таких вещей, как стол, кровать, печка, окно… Ведь ничего этого в яранге нет!
Не могу я допустить, чтобы из-за меня человек целый год терпел такие неудобства, жил, работал, готовился к урокам в таких условиях. Скорее уж я должна бы уступить ему, а не он мне: он старше и по возрасту и по своему положению. У него уже пятилетний педагогический стаж, он директор школы, а я девчонка, только что с вузовской скамьи. Словом, со всех точек зрения пользоваться такой жертвой мне просто-напросто неудобно.
С другой стороны, жить в яранге мне, конечно, тоже не хотелось бы. Лучше всего, если б удалось снять угол у кого-нибудь из колхозников, живущих в домах (здесь уже десятка полтора таких домов, не считая школы, клуба, правления колхоза и других поселковых учреждений). Скорее всего, я так и попытаюсь сделать. Думаю, что мне сдадут. Буду платить рублей пятьдесят в месяц. А Эйнеса постараюсь убедить, что в семье мне даже удобнее: во-первых, печку не надо топить, во-вторых, быстрее пойдет изучение чукотского языка. Правильно?
Наверно, Танечка, и ты мне так посоветовала бы. Во всяком случае, ничего лучшего я не смогла придумать. Поживу немного в чукотской семье (теперь уж месяцев семь осталось — в августе можно будет, наверно, перебраться в новый домик). По крайней мере поближе узнаю обстановку, в которой живут мои ученики.
Ну всё, Танечка, пора кончать. Весь день сегодня писала это письмо. Собиралась пойти в магазин и то не пошла. Пойду завтра с утра. Решила купить себе на платье, там есть голубой шелк очень приятного тона. Одна наша учительница взяла себе и уверяет, что мне к лицу этот цвет.
До свидания, Татьянка! Крепко обнимаю и целую тебя, подруженька! Жду от тебя писем, не менее подробных, чем мои.
Твоя Валька .
* * *
(Мой дорогой читатель! Пришло время хотя бы вкратце сообщить тебе, как эти письма оказались у меня в руках. Это произошло совершенно случайно. Далеко от родного поселка, за тысячи километров от Чукотки я познакомился однажды с девушкой, с сестрой моего товарища по студенческому общежитию. Да, да, это была Таня! Узнав о том, что я родом с Чукотки, Таня рассказала мне, что там работает её лучшая подруга — Валя Крамаренкова. Потом Таня прочла мне как-то несколько отрывков из присланного подругой письма. Она сделала это потому, что хорошо понимала, как интересна мне каждая весточка из родных краев. При этом она выбирала для прочтения только такие места, в которых не было ничего сугубо личного, ничего такого, что предназначалось Валей лишь для глаз близкой подруги. Я слушал эти отрывки, радовался упоминанию дорогих мне имен, и хотя во впечатлениях Вали многое было неточным, меня трогала непосредственность её впечатлений, её искренность и горячность. И я подумал тогда, что и тебе, читатель, было бы, наверно, интересно увидеть колхоз «Утро» не только таким, каким описываю его я, но и таким, каким он представляется, приезжему человеку. По моей просьбе Таня написала об этом своей подруге, и впоследствии я получил в свое полное распоряжение четыре письма. Ты уже прочел их, мой дорогой читатель. Что же касается пятого письма… Дело в том, что из всего пятого письма мне были переданы только два последних листочка, четыре странички: на предыдущих было написано, видимо, то, чего не надлежит знать никому, кроме Тани. Может быть, самое интересное, самое важное содержится именно в тех листках, которых я так и не увидел? Возможно. Но тут уж ничего не поделаешь. Я могу привести здесь только конец пятого письма, четыре странички, начинающиеся с середины фразы, с полуслова. Как и первые письма, я привожу их полностью, без всяких изменений, в том виде, в каком они были мне переданы.)
* * *
…чилось опять, что я посвятила почти всё письмо своим переживаниям и всяким делам, связанным с моей собственной персоной. А я хотела написать тебе, Татьянка, о здешней жизни, о необыкновенной заполярной весне… Но я не писала тебе с января — около пяти месяцев, — и поэтому мне прежде всего хотелось поделиться с тобой тем, что так волновало меня всё это время.
Между тем в нашем поселке происходят десятки событий, каждое из которых заслуживает целого письма. Вот, к примеру, хоть одно из этих событий. Недавно от берегового припая оторвалась большая льдина, и на ней унесло в Чукотское море одного здешнего охотника. Несколько дней его носило по открытому морю, он уже почти и не надеялся на спасение. У него не было ни пищи, ни пресной воды, его льдина столкнулась с айсбергом и раскололась, так что он остался на маленьком осколке. Словом, досталось бедняге крепко, он уж действительно был, можно сказать, одной ногой в могиле.
У нас тут всё было поднято на поиски. Я тоже три дня ходила по тундре с одной из спасательных партий (мы ведь не знали сначала, что его унесло на льдине). Потом его обнаружил самолет, специально присланный из Анадыря, и вскоре пароход «Уэлен» снял его со льдины. Самое замечательное в этой истории не её внешняя сторона, не приключения охотника, которого носило по морю, а та удивительная внутренняя перемена, которая произошла в этом охотнике. Ты бы видела, Танечка, как он переменился! Был он человеком легкомысленным до крайности, хвастунишкой, редкостным лентяем. А теперь он в своей бригаде один из лучших.
Одни говорят, что это результат испытаний, пережитых им. Несколько суток он боролся один на один со смертью, сумел одолеть немалые трудности. Вплавь перебирался с расколовшейся льдины на более прочную, по крупинкам собирал уцелевший кое-где снег, чтобы добыть себе пресную воду… Словом, лениться было некогда, работать приходилось не жалея сил, по-настоящему. Только неустанный труд помог ему продержаться до прихода «Уэлена». Вот, говорят, он и приучился на льдине работать.
Другие — и не только в шутку — объясняют перемену тем, что этот охотник побыл некоторое время наедине с самим собой (вообще это ему совсем несвойственно). Дескать, болтать не с кем было, вот и пришлось впервые в жизни задуматься, вспомнить, как жил, посмотреть на себя со стороны. Картина получилась неприглядная, вот и понял человек, что надо жить по-другому, если удастся спастись от смерти.
А мне кажется, что на Кэнири (этого охотника зовут Кэнири) больше всего повлиял огромный размах спасательных работ. Он, видимо, и не предполагал, что на его поиски будут брошены такие силы — столько людей, вельботов, собачьих упряжек, самолет, пароход! Может, некоторые люди потому и бахвалятся, что смутно ощущают свою легковесность, ощущают несерьезное, неуважительное отношение товарищей. Вот и пытаются «набить себе цену». А тут Кэнири увидел, что, несмотря ни на что, его ценят, борются за его жизнь, рискуя собственной жизнью. Тут уж, конечно, не до бахвальства, тут надо платить чистой монетой труда. Думаю, что он это понял, почувствовал.
Я никогда, Таня, не забуду, как прощался Кэнири с летчиком, который его обнаружил. Летчик действительно очень рисковал во время поисков, так как погода была тогда нелетная. А он сумел не только обнаружить Кэнири, но, и сбросить ему на льдину пакет с продовольствием. Когда он улетал в Анадырь, весь поселок вышел провожать его. Кэнири ни одного слова не мог произнести. Летчик протянул руку, а Кэнири даже пожать её не смог, потому что у него на руках было в это время двое малышей — его сыновья. А спустить их на минутку с рук или передать жене он от волнения не догадался. Летчик и сам был взволнован, но старался не показать этого. Он взъерошил черные головенки мальчишек и похлопал Кэнири по плечу. А тот только кивал головой и смотрел полными слез глазами на своего спасителя, уже садившегося в самолет.
Теперь, когда удивляются перемене, происшедшей в Кэнири, мне всегда вспоминается эта сцена прощания. А перемена, видимо, на самом деле удивительная. Вчера встретил меня старый Мэмыль и говорит: «Слышали, Валя, новость? Не нашли мы Кэнири! Наверно, потонул он в Чукотском море. Вместо него совсем другого человека со льдины сняли. Совершенно другой человек! Подменили Кэнири морские кэле. Только просчитались: плохого взяли, а дали хорошего».
Ну, Танечка, не буду больше отнимать у тебя время эргыронскими новостями. Крепко-крепко целую тебя, моя родная, и надеюсь, что ты употребишь всё свое влияние для того, чтобы воздействовать на мою маму. Не люблю, когда она меня ругает.
Васе и маме твоей — самый сердечный привет!
Валька .
P.S. Танечка, хочу внести небольшое уточнение в свой адрес. Речь, собственно, идёт не столько об адресе (который остается прежним), сколько об адресате. Пиши теперь не «Валентине Алексеевне Крамаренковой», а «Валентине Алексеевне Эйнес». В первый же день после окончания учебного года мы зарегистрируемся. Так что к приходу твоего следующего письма у меня уже будет новая фамилия.
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления