Онлайн чтение книги
Чудодей
Der Wundertäter
II. МНОГИЕ СТРАНСТВУЮТ ДОЛГО…
Введение, повествующее о тех людях, которые затем будут сопутствовать Станислаусу в жизни и в бедах.
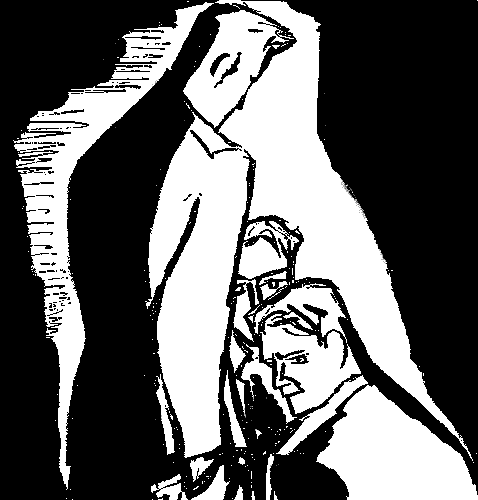
В один из дней тысяча девятьсот тридцать восьмого года в казармах немецкого города Беренбурга встретились восемь человек. То были: владелец маленькой лавчонки Тео Крафтчек, путевой сторож Август Богдан, садовник Бернгард Вонниг, богатый крестьянин Альберт Маршнер, батрак Али Иогансон, рабочий-цементщик Отто Роллинг, поэт Иоганнис Вайсблат и подмастерье пекаря Станислаус Бюднер.
Тео Крафтчек, как и большинство бедняков в Горной Силезии, был когда-то шахтером. Но он был хитер и богобоязнен и к деве Марии относился лучше, чем к своей родной матери. В один прекрасный день Крафтчек начал продавать своим товарищам на шахте пиво и жевательный табак. Этому научила его врожденная хитрость и божья матерь:
От торговли больше грошей и меньше поту,
Чем от самой хорошей и легкой работы.
Крафтчек продавал пиво и табак в кредит за неделю до получки. У него в комнатенке можно было и выпить. Водку он тоже отпускал в долг. Товарищи похваливали.
— Тео — он не какой-нибудь там. Он понимает, что шахтерская глотка тоскует без водки.
Мелочная торговля из-под полы постепенно выросла в лавчонку. Тео продавал водку немногим дешевле, чем трактирщики, но зато уж старался, чтобы пойло не было слишком крепким, чтоб не вредило здоровью его приятелей шахтеров. Он добавлял воды — впрочем, ровно столько, чтобы не вызывать нареканий.
Нашлось несколько баб, которые хотели сжечь дом Крафтчека. Но местный капеллан вразумил эти заблудшие души, потому что сам он сердечно благоволил ревностному, богобоязненному прихожанину Крафтчеку. В лавке Крафтчека висела большая икона девы Марии, и к тому же время от времени он доставлял экономке капеллана бутылку отличной мятной настойки — смиренное жертвоприношение на алтарь церкви.
В конце концов Крафтчек пристроил к своему домишке конюшню, купил лошадь, совсем перестал работать на шахте и сам развозил товары по окрестностям. Он торговал бакалейными товарами, красной капустой, копченой селедкой и сливовым повидлом. Не забывал он и о церкви и продавал маленькие изображения девы Марии, большой кучей лежавшие под козлами его повозки.
— Ты что же это сидишь на святой матери божьей и еще, чего доброго, воняешь? — спрашивали иные.
— Нет, что вы, я согреваю ее, всемилостивую, — отвечал Крафтчек. Он был умен.
Политических взглядов Крафтчек не имел. Только католические. Ему этого было достаточно. Он платил небольшой взнос в «национал-социалистский союз народной благотворительности» — пускай народу творят блага. Тем самым он финансировал производство санитарных машин для перевозки будущих раненых и убитых. Он бросал монеты в копилки сборщиков, которые входили в его лавчонку, требуя пожертвований на зимнюю помощь, и тем самым оплатил несколько пистолетов военного образца для своих будущих товарищей.
Так с каждым днем приближалась война, и требовалось все больше солдат. Лавчонка избавляла Крафтчека от многих бед, но не могла избавить от военной службы.
Впервые в жизни Крафтчеку не помогла его хитрость. Ах, если бы он оставался шахтером и работал под землей! Ведь тогда бы он получил броню. Захватив бутылку мятной настойки, он отправился за советом к капеллану. Задумавшись, капеллан расхаживал взад и вперед по своему кабинету. Он даже задрал с одного бока сутану и сунул руку в карман брюк; так он выглядел почти что нормальным мужчиной. Капеллан вынужден был признаться, что он в хороших отношениях с богом, но не с окружными и областными руководителями национал-социалистов. Выпив пятую рюмку мятной настойки, он наконец нашел решение.
— Можно служить господу и на военной службе, — заявил он.
Тео Крафтчек напрасно израсходовал целую бутылку мятной.
Август Богдан был владельцем маленького крестьянского хозяйства, доставшегося в наследство его жене в деревне Гуров под Ветшау. Несколько пахотных участков, кусок луга, одна корова, которая и молоко давала и в упряжке ходила. А в те дни, когда корова должна была уже вот-вот отелиться, Богдан и его жена сами тянули и плуг, и борону — то он, то она. Они работали за корову, а чтобы отдохнуть, то он, то она становились погонщиком. Работы было много, а денег мало. Богдан стал работать на железной дороге. Для начала взяли его в бригаду по ремонту пути. То лопатой, то киркой, то лопатой, то киркой… Горькие были будни, да и праздники оказывались не слаще. По воскресеньям, в праздники и долгими вечерами Богдан копался в своем огороде. Но в то же время он продолжал и карьеру делать. Не прошло и десяти лет, как его назначили сторожем при шлагбауме в лесу между Гуровом и Ветшау. Так он стал государственным служащим. И тогда его жена купила шляпку для воскресных выходов и церковь. Август Богдан был образцовым служащим. На нем, как-никак, лежала ответственность за жизнь пяти крестьян, одного письмоносца и нескольких — пяти-восьми — коровьих упряжек, которые летом пользовались лесной дорогой и перебирались через рельсы на его участке. Иногда появлялся еще и ветеринар, и Богдан нес ответственность также и за жизнь ветеринара.
У Августа Богдана было много свободного времени там, у одинокого шлагбаума. Он разбил огородик, цветочную клумбу и снабжал семью овощами и цветами. В дни отпуска его заменяла жена, а он дома выполнял женскую работу. Отличный получался отпуск! Все же однажды он решил использовать полагавшийся ему бесплатный проезд по железной дороге. Он доехал до Берлина. Но именно в это время заболела корова. На нее кто-то навел порчу. Август Богдан доискался, кто именно была эта ведьма, отлупил ее веником, и корова опять выздоровела.
С тех пор Август Богдан никогда не пользовался бесплатным проездом. Пусть пропадает, хоть и жаль было: ведь сколько денег стоит такой билет! Он часто видел диковинные сны, особенно по ночам, но никогда не спал в часы дежурства. Ему снились огненные драконы, пролетавшие через сосновый лес к деревне. И каждый раз после того, как ему снился дракон, он твердо знал, что в деревне у кого-нибудь хворает скотина. А иногда Богдану снились и его собственные служебные успехи. Однажды во сне он увидел себя в красной фуражке, начальником станции в Гурове. Ему предлагали одеть коричневый мундир,[7]Коричневый мундир — форма гитлеровских партийных чиновников и штурмовиков. — Прим. ред. но он отказывался. Он хотел получить мундир начальника станции. Но ему не давали, он должен был сперва надеть коричневый мундир и участвовать в военно-полевых занятиях. Времени на это у него не было. И без того после работы хватало дел на собственном поле.
Однажды ему объявили, что настал час еще выше продвинуться по службе: он должен на некоторое время отправиться в армию. А как же шлагбаум? К шлагбауму приспособили стальной трос и управляли им прямо со станции. Так Августа Богдана заменил трос. А самого Августа спихнули в солдаты.
Бернгард Вонниг прибыл из Тюрингии. Он был садовником и превратил пять моргенов каменистого поля, принадлежавшего его отцу, в маленький рай. Он и сам уже готовился к тому, чтобы стать обитателем рая, ибо ищущий обрящет. В его сад пришли как-то сектанты, закупавшие свежие овощи. Бернгарду Воннигу они понравились тем, что питались только фруктами и овощами, и тем, что хотели увлечь за собой весь мир. Как здорово это было бы для садовников и огородников! Бернгард Вонниг чувствовал себя обязанным божьим людям и даже сродни им.
«Все к лучшему» — таков был девиз этих сектантов. Чем чаще Бернгард Вонниг с ними встречался, тем ревностнее старался следовать их принципам. Но это было не просто. Вот, например, сороки клюют еще не созревшие початки кукурузы. Разве это к лучшему?
— Сороки призваны возбуждать изобретательский дух и мышление человека, — отвечали ему.
Бернгард Вонниг долго размышлял и додумался до того, что человек и впрямь уже кое-что изобрел для борьбы против этих проклятых птиц. Он купил мелкокалиберное ружье и стрелял по сорокам. Все могло бы быть в порядке, но Вонниг не всегда попадал. Тогда он снова поразмыслил, напряг свой изобретательский дух и соорудил пугало. Впрочем, оно действовало только наполовину — отпугивало не всех сорок. Зато, как убеждался Вонниг, все другие предметы и явления были действительно «к лучшему».
То, что горох начинал прорастать лишь весной, а не зимой, было к лучшему; как бы в противном случае его ростки переносили морозы? К лучшему было и то, что яблоки росли на ветвях деревьев, где их грело солнце и обдувал ветер; ведь если бы они росли в земле, как, например, картофель, то как можно было бы предохранить их от гниения?
Однако внезапно произошло нечто такое, что опять оказывалось вовсе не к лучшему — Бернгарда Воннига призвали в армию. Он долго раздумывал над этим, но так и не нашел объяснений для военной службы. Он расспрашивал деятелей секты, как ему быть. Те отвечали:
— Государство, в пределах которого мы пребываем как гости, запретило нашу семью, семью нашего священного братства. Разум велит нам теперь молчать и заговорить снова лишь тогда, когда настанет наш час. Все к лучшему.
Так садовник Бернгард Вонниг отправился в армию, не получив ответа на многие вопросы.
Богатый крестьянин Альберт Маршнер жил в Мекленбурге, в деревне Пазентин. В одной из тех немногих мекленбургских деревень, где не было ни рыцарских имений, ни дворянских вотчин — словом, никаких барских поместий. Поэтому двое самых богатых крестьян считали своим долгом играть роль местных бар.
— Что слышно нового у Маршнера и Дина? — спрашивали при встрече друг дружку бедняки.
Дин соблазнил красивую батрачку, за которой увивался Маршнер, и девушка забеременела. В отместку Маршнер случил своего кобеля-таксу с овчаркой Дина — то-то будут уродливые щенки! А когда Маршнер пошел охотиться, то Дин подстроил все так, что тот стрелял по чучелу лисы, а к чучелу была прикреплена записка: «г…му стрелку, привет от соседей». Маршнер не остался в долгу и так размалевал белилами диновского вороного, что тот стал похож на зебру.
Стремление к мировому господству, которым был одержим диктатор с куцыми усиками, не миновало и Мекленбурга. Те, кто раньше других воспринял это стремление как свое личное и жил и действовал в соответствии с ним, стали наместниками новой власти. В Пазентине таким наместником оказался Дин. Когда богатей и грубиян Маршнер спохватился — было уже поздно.
Однажды в воскресенье Маршнер увидел, что Дин шагает в церковь в глинисто-коричневой куртке с кантами, затянутый портупеей и с кинжалом у пояса. Ах, черт подери! Дин стал царьком деревни. Маршнер задумал месть.
Дин проводил много времени в разъездах, он ездил то в окружной, то в областной город. Он пыжился от величия — глава деревни! — и от боевого разбойничьего задора. Его жена должна теперь носить волосы венцом, как Гретхен, и вообще во всем стать насквозь немецкой и германской. Ей хотелось стать заодно уж и образцовой немецкой матерью, но Дин то и дело где-то на стороне портил свою германскую кровь. Однажды в воскресенье в церкви во время молитвы Маршнер поймал на себе взгляд истосковавшейся по мужской ласке фрау Дин и в тот же вечер отправился к ней. Он сказал, что пришел покупать теленка, и мягкая солома в телятнике стала брачным ложем для него и похотливой жены Дина.
Это явилось одним из самых необычайных событий в деревне Пазентин в пору двенадцатилетней империи: жена Дина забеременела от его соперника Маршнера. Носитель пышного мундира, величавый Дин отлупил жену тайком, но во всю силу своих германских кулаков. Однако не смог выбить плод из ее тела. Ему оставалось делать вид, что это он вколотил ей ребенка в чрево своими побоями.
Но Маршнер не упускал случая во время попоек поговорить о том, что вот, мол, некоторые персоны, лезущие в деревенские маршалы, предоставляют делать детей за них другим, более здоровым и плодовитым крестьянам. Дин узнал об этом и во время тактических занятий и атак на форты-сараи и крепости-скирды яростно гонял новоиспеченного штурмовика Маршнера. Тогда Маршнер во время очередной попойки в деревенском трактире подговорил ночного сторожа вымазать почетный кинжал Дина горчицей. За это ночной сторож смог бесплатно привести свою тощую коровенку на случку к чистопородному племенному быку Маршнера.
Так соперничали деревенские воротилы — то один одолевал, то другой, — пока Маршнера не осенила самая замечательная в его жизни мысль: он подал заявление о добровольном вступлении в ряды защитников отечества. Вот уж Дин удивится и схватится за свой кинжал, когда Маршнер заявится в деревню лейтенантом, а то, чего доброго, и капитаном! Но тогда уже никто не будет принимать всерьез жалкого деревенского начальника Дина.
Мать Али Иогансона была батрачка — высокая и неуклюжая девка. У нее были мужские руки, рябое лицо и голубые детские глаза, полные печали и жажды любви. Но кто в угрюмой фрисландской деревне мог полюбить батрачку Фрауке? Никому из местных парней не нравилась рябая великанша. Все они боялись заразиться оспой, изуродовавшей ее лицо.
Однажды в деревню пришли цыгане. Бойкий молодой цыган охотно взял у Фрауке несколько серебряных монет и кусок окорока, а ночью на сеновале взял и ее любовь. Цыгане легки на подъем, непоседливы, словно ветер. Уже на следующий день парень распрощался, сытый любовью и обильно снабженный в дорогу. А батрачка Фрауке осталась, и все в деревне, потешаясь над Фрауке, нетерпеливо ожидали появления на свет цыганского младенца.
Ребенок родился белобрысым, голубоглазым и таким же крепким, как мать. На первых порах не было никаких поводов для шуток. Но после родов Фрауке стала настоящей медведицей. Стоило нанимавшему ее крестьянину пренебрежительно отозваться о мальчике, как она бросалась на обидчика и немедленно уходила с его двора. Так она по нескольку раз в год меняла хозяев и таскала сына, как самое драгоценное сокровище, в своем сундучке, поверх всех пожитков. Вскоре крестьяне привыкли к этому «приданому», так как Фрауке, если ее оставляли в покое, работала за двоих.
Мальчика назвали по отцу — Али, вырос он на полях. Его убежищем были стога и густые кустарники. Десятилетний Али таскал бревна и строил, играя, рубленые домики. Глядя на него, хозяева ждали, когда подрастет молодой батрак-силач. С десяти лет Али стали давать работу. Правда, мать оберегала его и лапами медведицы отстраняла слишком тяжелые поручения, но и ей были по душе те несколько грошей, которые в конце месяца она получала за работу Али и прятала в своем сундучке.
В школу Али ходил только зимой. Учитель встречал его неласково и называл прирожденным бездельником. Несколько раз Али, разозленный насмешками, подзадориваемый озорными и жаждущими развлечений крестьянскими ребятами, швырял за окно «парту штрафников», за которой вынужден был восседать. А если он не успевал во время урока переписать задание, то снимал классную доску и уносил ее на спине домой.
Молодого батрака Али крестьянские парни постоянно зазывали на вечеринки и попойки в трактире. Ему давали кусок колбасы или ломоть окорока, и за это он поднимал огромные бочки, выжимая их до самого потолка. Взвалив на себя шесть, а то и восемь человек, он расхаживал по трактиру или вносил на руках хозяйского бычка и ставил его на стол.
Пришло время, когда в Германии забота о чистоте породы стала своеобразной религией скотов. Деревни Фрисландии превратились в питомники, поставлявшие человечьих производителей чистой расы. Вербовщики, набиравшие белокурых верзил для личной охраны куцеусого диктатора, пришли и к матери Али.
— Ведь правду же говорят, что отцом твоего сына был фрисландский рыбак, утонувший в путину?
Фрауке поглядела на этих людей своими честными глазами и возразила:
— Нет, он не был рыбаком.
Тогда ей сунули денег и спросили:
— А ты хорошо помнишь?
— Я очень хорошо помню, — сказала Фрауке и спрятала деньги в карман юбки. — Он был цыган и хороший человек, он не побрезговал мною. — Она сказала это с гордостью, отвернулась и занялась своей работой.
— Тогда отдавай деньги и знай, что тебя нужно арестовать за то, что ты блудила с цыганом и, значит, почти что с евреем.
Фрауке подняла перепачканные в земле ручищи. Вербовщики отступили.
— Говорю вам, он был хороший человек. Он дал мне ребенка, вот и все, — крикнула Фрауке вдогонку вербовщикам.
Прошло еще некоторое время, и сын крестьянина, у которого работал Али, должен был идти в солдаты. А он лишь недавно женился и очень не хотел быть убитым. Он вступил в переговоры с местным руководителем партии, заботившимся о чистоте арийской расы.
— Из меня будет только один солдат. А этот парень стоит трех-четырех бойцов.
Так Али попал в казарму.
Когда новый властитель Германии куцеусый Адольф в роковую ночь января 1933 года завоевал сердца обывателей с помощью факельных шествий, а политическую власть — с помощью убийств, бетонщик Отто Роллинг еще некоторое время продолжал встречаться с товарищами, печатал листовки и разбрасывал их с крыш и с фабричных труб. Однажды утром, когда он шел на явку, его схватили. Его выдал предатель. Прощай, жена, не горюй. Прощайте, дети, оставайтесь такими, какими были всегда… Он попал в концлагерь и три года не видел семьи. Ему пришлось копаться в болотах, голодать, стоять навытяжку, подставлять спину под удары и опять голодать. Его хотели сжить со свету. Но это не удалось. Его жизнерадостность, скрываемая под сердитым ворчаньем, была неистребима. Как теплый огонек, светилась она над мглистыми топями и во мраке лагеря согревала души его товарищей.
Когда его отпустили, он сам едва мог поверить этому чуду. На прощанье ему сказали:
— Еще раз попадешься — голова слетит.
Он ответил:
— Каждый делает, что может; мир еще до конца не доделан.
Он ломал себе голову: почему его отпустили, может быть, он чем-нибудь изменил своему делу?
Он опять получил работу — поступил на цементный завод Вайсблата. Старик Вайсблат был христианином и социалистом. Он считал себя христианско-социалистическим немецким фабрикантом. А новый берлинский властелин именовался национал-социалистом и был австрийцем. У старика Вайсблата было с ним мало общего. Фабрика Вайсблата выпускала цементные и бетонные изделия — столбики для заборов, которые возводили вокруг своих садиков и огородов небогатые люди, насадки для дымовых труб и каминные полки. Вайсблат не нуждался в благосклонности рейхсканцлера, он придавал больше значения благосклонности своих рабочих. Он знал их всех, знал и их семьи, называл по именам их детей, приносивших отцам на работу завтрак, танцевал с их женами на фабричных праздниках и свой день рождения каждый год праздновал не только дома, но еще и на фабрике.
Старик Вайсблат был очень наблюдателен. Он издалека различал и людей и предметы. Однажды незастывший цемент случайно растекся по опилкам. Старик заметил, что цемент, смешавшись с опилками, превратился в прочную, легкую, пористую массу, напоминавшую пемзу. И старик Вайсблат понял, что он изобрел пемзобетон. Он взял на него патент. Благодаря наблюдательности владельца фабрика расцвела. Он нанимал новых рабочих. Это он кормил их и, сознавая себя волевым человеком, собирался осчастливить своим пемзобетоном всех каменщиков и все человечество.
Старик наблюдал и за новым рабочим, пемзобетонщиком Отто Роллингом. Про себя он восхищался Роллингом, потому что тот осмелился выступить против австрийца-канцлера. Но в присутствии других рабочих поучал его, что необходимо повиноваться «властям предержащим».
— Одинокой собаке опасно лаять на волков.
— А вы лайте вместе с другими, — ворчал Роллинг, размешивая бетон.
Но старик Вайсблат не мог лаять вместе с другими: у него была фабрика и на нем лежала ответственность за хлеб насущный для многих рабочих семей.
Роллинг относился к старику Вайсблату не лучше, чем ко всем другим предпринимателям, которым он ранее помогал богатеть. А между тем старик заслужил его благодарность. Следуя своим твердым патриархальным принципам, он перехватывал шпиков, которым было поручено следить за Роллингом, и, воздвигая частокол из коньячных бутылок, преграждал полиции доступ во внутренние помещения фабрики. Благодаря этому Роллингу даже удалось вновь установить связи с некоторыми из прежних боевых друзей.
Сын Вайсблата был поэтом; он изредка проходил через сушильный цех, но не замечал рабочих, выбивавших формы, спотыкался о рулоны фанеры и говорил:
— Наступает бетонная эра.
— Вишь расхаживает и сочиняет стишки за наши денежки, — говорил Роллинг, но другие бетонщики шикали на него:
— Заткнись-ка. Наш старик получше других.
— Мир-то еще до конца не доделан, — ворчал Роллинг, но они его не понимали.
Время шло, и однажды старик Вайсблат получил большой заказ. Из-за этого возник спор между ним и пемзобетонщиком Роллингом. Вся фабрика пришла в движение. Многие опытные цементщики должны были вместе со своим инструментом собираться в путь. Им поручалось воздвигнуть огромный неприступный вал на границе с Францией — могучую, великую германскую твердыню. Старик Вайсблат обратился к Роллингу:
— А вы не собираетесь ехать?
— Нет, я не поеду. Вы уж возьмите своего сынка. Он там на целый вал стишков навалит.
Роллингу, пожалуй, не следовало говорить так, потому что он обидел своего хозяина и кормильца.
— Моего сынка? Мне неприятно слышать, что вы потешаетесь над моим, пусть и не совсем удачным сыном.
— Как мне кажется, хозяин, вы все-таки помирились с этим национально-социальным канцлером.
— С кем?
— Вы же будете строить вал для него.
Старик Вайсблат пожал плечами.
— Речь идет об укреплениях, защищающих нас от французов, прошу не забывать этого.
То был последний разговор между бетонщиком Роллингом и его таким справедливым хозяином — отцом рабочих, потому что после всего сказанного старик Вайсблат уже не мог ничего сделать для строптивого члена своей рабочей семьи. Ведь нельзя же допускать, чтобы упрямство маленьких людей препятствовало исторической необходимости. Во всяком случае, фабрика Вайсблата перебазировалась на запад, чтобы построить там укрепления, которым были бы нипочем любые снаряды. Но смогут ли они устоять и перед самолетами? Самолеты? Дело в том, что у французов главное оружие — артиллерия. Они отлично орудуют пушками. От пушек и следует обороняться. Ведь опыт уже есть.
Роллингу также пришлось отправиться в путь. Теперь у него не было брони. Повестка пришла, как назло, именно тогда, когда только начала развертываться политическая работа. И каких только случайностей не бывает на свете! Роллинг и сын Вайсблата встретились у ворот казармы. Вайсблат-младший нес кожаный чемодан, испещренный наклейками иностранных отелей. Яркие переводные картинки с изображениями солнца и голубых небес. У Роллинга была картонная коробка из-под мыльного порошка. Они не поздоровались. Рабочий Роллинг знал поэта, но поэт Вайсблат не знал рабочего Роллинга.
1
Станислаусу приказывают, чтобы он сам себя обругал перед строем гордых всадников, но он упорствует, и его обрабатывают кирпичами.
— Бюднер, конечно же это Бюднер! Как он висит, как висит! Точь-в-точь перезрелая груша!
Глухо стучат копыта по опилкам манежа. Голос вахмистра — словно треск сухих сучьев в лесной тишине.
— Спешиться! На ослах вам ездить!
Жеребец Попрыгун не стал ждать, пока всадник спешится. Его подгоняли другие кони, рысившие по кругу, он сделал скачок, и Станислаус свалился в опилки.
— Ну впрямь обезьяна с кокосовой пальмы! — голос вахмистра стал еще язвительней. — Не вставать, обозный ездовой. Ползком, вперед!
Станислаус полз, упираясь локтями в опилки.
— Бегом марш, марш!
Станислаус вспрыгнул и побежал рядом с лошадьми своих товарищей.
— Лечь!
Станислаус повалился в опилки.
— Ползком! Кому говорю, ползком вперед! Эй, вы, старая задница, поживее!
Бледное лицо пекаря Станислауса разрумянилось. Он вспоминал о карательных упражнениях в пекарне Клунтша. Но здесь не было груды железных листов, которые он мог бы швырнуть под ноги рычащему вахмистру.
— Лечь! Встать! Лечь! Ползком вперед!
Станислаусу надоело. Внезапно он встал как вкопанный.
— Вы не подчиняетесь? — Вахмистр Дуфте, бывший коммивояжер мармеладной фирмы в Берлине, подошел к нему ближе. — Вы не подчиняетесь?.. Лечь!
Станислаус повалился. От опилок пахло конской мочой. И вдруг ему показалось, что он окунается во что-то родное. Он уже начинал ощущать себя лошадью. Лошадью, которую истязают.
— Бегом марш, марш!
Станислаус поднялся медленно, с отвращением.
— Бегом на конюшню, калека!
Станислаус пытался пробраться через цепь скачущих по кругу лошадей. Вахмистр подгонял всадников. Станислаус не находил прохода, а по спине бичом хлестал голос вахмистра:
— На конюшню бегом, выродок!
Станислаус пригнулся для прыжка. Теперь уж все равно. Жизнь опрокинула его навзничь. Так пусть окончательно растопчут копыта.
Одна из лошадей встала на дыбы. Станислаус проскользнул в образовавшийся проход. Всадник упал на опилки. Станислаус услышал, как он стонет. Это был Вайсблат — смиренный Иоганнис Вайсблат. Неужели он намеренно вздернул коня? Неужели он заметил, в каком отчаянии был его товарищ Бюднер? Станислаус помчался по коридору, ведущему к конюшне, он добежал до кирпичной стены. Только там он остановился. А вахмистр орал уже на Вайсблата:
— Встать — лечь! Я вам, книжному червяку, покажу, как падать с коня.
Долговязый Вайсблат дрожал всем телом. Вахмистр Дуфте остановил всадников. Одна из лошадей, подняв хвост, роняла яблоки.
— Снять шапку. Подобрать навоз.
Вайсблат собирал конские яблоки в свою шапку. Его бледные тонкие пальцы охватывали теплые комья навоза, словно здесь — на северном полюсе человечества — это были последние частицы жизни и тепла. Дуфте довольно ухмылялся.
— Поживее, вы, сосунок!
Вайсблату он также приказал бежать к конюшне. На бегу из шапки вываливался конский навоз.
— Стой! Смирно! Кругом!
Вайсблат стоял рядом со Станислаусом. Дуфте орал на них из манежа:
— Кто вы такие?
Молчание.
— Вы г....ки, понятно? Вы г....ки! Итак, кто вы такие?
Молчание. Только заржал Попрыгун, жеребец Станислауса.
— Г....ки, ответа не слышу.
Тишина, как в глухом лесу. Дуфте топчется по опилкам.
— Лечь!
Станислаус и Вайсблат падают на землю у конюшни. Последние остатки навоза вываливаются из шапки Вайсблата. Дуфте бьет хлыстом по голенищам.
— Встать! Лечь! Встать! Лечь! Кто вы такие?
Станислаус стиснул зубы, его рот стянулся в узкую полоску. Вайсблат откашлялся, поглядел на свои руки, измаранные навозом, и крикнул:
— Мы горняки!
— Врешь, меня не обманешь, книжный червяк!
Вайсблат затрясся.
— Г....ки! Мы г....ки! — Он был противен самому себе. Но после этого ему позволили вернуться к своему коню.
— Г....к Бюднер, явиться ко мне после обеда!
Жеребец Станислауса наскакивал на кобылу. В манеже завертелся клубок конских тел. Вахмистр Дуфте хлестал куда попало. И Станислаусу, когда он помогал разгонять лошадей, досталось несколько ударов его бича.
После обеда Станислаус пришел в канцелярию эскадрона. Дуфте прогнал его.
— Вернуться через пять минут в полном походном!
Товарищи отставили свои котелки и помогали Станислаусу укладывать ранец, скатывать одеяло, плащ-палатку, надели на него стальной шлем.
— Лучше бы уж ты сказал, что он хотел, — хныкал Вайсблат.
Станислаус заметил, что рядом с его котелком лежит конверт — письмо от Лилиан.
— Назвать себя г....ком — ну нет!
— Г....ком ты был, когда сюда напросился, — сказал Роллинг, которого с первых же дней все прозвали Роликом. Шрам на его лбу набух и покраснел. Он так яростно дернул ремень, стягивавший одеяло Станислауса, что оторвалась пряжка. Станислаус схватил винтовку и побежал.
— Выполняй все, что прикажут, но не спеши, — крикнул Роллинг ему вдогонку.
Но добрые советы Роллинга растаяли, как мороженое на палящем солнце. Станислаус лежал на щебне казарменного двора. Его ладони были окровавлены, штаны на коленях изорваны. Пот струился за ворот. Три унтер-офицера сменяли друг друга, стараясь выбить из него строптивость.
Уже через полчаса Станислаусу казалось, что он больше не может подняться. Тогда пришел сам Дуфте. Он пригрозил ему расстрелом по законам военного времени. Расстрел? По законам военного времени? Станислаусу приходилось читать об этом. В нем открылись источники новых сил. Он уже не чувствовал боли. Его мышцы одеревенели. Он двигался, как лунатик. Унтер-офицеры расхаживали вокруг него, изумленно таращась, словно это было спортивное состязание. На сколько еще хватит этого болвана новобранца? Такое обращение с новобранцами они, так же как казарменные лекари, называли «облучением». Станислаус падал, поднимался, снова падал, поднимался, падал опять… Временами у него возникала мысль: плоть и воля едины, воля иссякнет, когда окончательно обессилеет плоть. Думая об этом, он несколько дольше оставался лежать.
— Изучаем земную поверхность, вот она геология, — торжествовал Дуфте. Доставляло ли ему удовольствие видеть, как Станислаус, словно червь, извивается у его ног? Отнюдь нет. Он приказал набить ранец Станислауса кирпичами. Станислаус согнулся. А Дуфте, казалось, вырастал.
— Теперь уж ты скажешь, что ты г....к. Итак, кто ты?
Молчание. Станислаус гнулся все ниже под грузом кирпичей. Он червяк, которому предстоит быть раздавленным.
За десять минут до сигнала на мертвый час Станислаус уже лежал неподвижный, придавленный ранцем с кирпичами. Теперь его уже не могли поднять даже угрозы расстрела. Дуфте стоял над ним, как уродливый идол, вздымающийся к казарменным небесам.
— Я так и знал, что г....к.
Вайсблат и его товарищи унесли потерявшего сознание, измученного Станислауса Бюднера в санчасть.
— А не лучше ли, если бы он все-таки сказал? — сетовал Вайсблат.
Роллинг огляделся. Его ответ был как удар ножа:
— Нет!
На черной табличке над койкой Станислауса было написано мелом: «Г....к Станислаус Бюднер». Так приказал вахмистр. Полковой врач делал вид, что не замечает необычной надписи. Почему бы Дуфте и не пошутить? Ведь это он время от времени помогал развлекаться полковому врачу. Тот во внеслужебные часы приводил своих дам в манеж и, вопреки всем запрещениям, обучал их там верховой езде. А Дуфте обеспечивал им смирных лошадей и отряжал солдат обслуживать манеж.
Станислаус бредил, в его кошмарах мешки с мукой перемешивались с конскими крупами. Пекарь Клунтш подходил к его постели, весь усыпанный цветами.
— Ты опять отметил мне край мишени…
Лилиан измеряла циркулем его бедро и говорила:
— Вот он, иудейский круг, в нем сорок пять граммов.
Какой-то человек с красным толстым носом протягивал Станислаусу пакет:
— Слишком легок, слишком легок, молодой человек. Стихи берем не менее тридцати кило. — Этот человек превращался в отца Марлен — в пастора. Из его рта сочились слова, сладкие, как сироп, сладкие слова:
— Смирение — главное, смирение!
2
Станислаус выдерживает все истязания и за это попадает в карцер, озаряет тьму карцера огоньком любви и надеется на сочувствие прусского ротмистра.
Станислаус пробивался сквозь дебри бреда, страдал от жажды и телесной боли, погружался в мутную воду глубокого сна и снова был выплеснут на берег жизни.
Санитар стряхнул термометр.
— Итак, тебя уже объездили? Значит, теперь ты настоящий солдат.
В обед пришел Вайсблат. Его верхняя губа не закрывала длинных передних зубов, и казалось, что он постоянно улыбается. А когда Вайсблат действительно смеялся, то это был смех первого ученика, получившего двойку по поведению.
Вайсблат засунул руки в карманы холщовых рабочих штанов. Он хотел выглядеть лихим парнем. Но он не выглядел. Его рукам с тонкими пальцами было страшно и темных карманах. Правая выскользнула, как испуганный белый шпиц из мрачного мешка. Она рыскала по карманам куртки.
— Письмо. У меня было письмо для тебя, — говорил он. Однако его рука не находила письма.
— Забывчивость! Все забываю. Когда-нибудь погибну из-за этого. — И вот он уже совершенно забыл о письме. Его зубы улыбались. Он пустился философствовать. Он спрашивал:
— Что такое голова? Шар, покрытый волосами и насаженный на шею. Этот шар излучает в тебя воспоминания, только воспоминания. И эти воспоминания в общем неприятны… как песок в сапоге. — Он повернулся почти что строго по уставу, потому что в это время вошел санитар, и, выбрасывая ноги, парадным шагом отправился за позабытым письмом.
Это письмо было от Лилиан. Оно оказалось самым целебным снадобьем для Станислауса. Нет, Лилиан не стала начальницей у девушек. Это занятие для более строгих дам, писала она. И она собирается скоро приехать, чтобы поглядеть, как выглядит Станислаус в мундире. Ее интересовало, носит ли он шпоры и палаш. Станислаус улыбнулся, высунул ногу из-под одеяла и посмотрел на длинные ногти. Отличные шпоры.
Итак, приедет Лилиан. Человек из родного дома. Родного ли? Во всяком случае, человек, которого он знает. Человек, которого он любит. Любит ли? Во всяком случае, она человек.
Роллинг принес газету. Станислаус, не глядя, сунул ее под подушку.
— Принеси мне чернил и бумаги, Ролик.
— Лучше не пиши сейчас невесте, горькое получится письмо.
— Будет очень сладкое письмо, Ролик. Скоро ты с ней познакомишься.
— Ты что же, хочешь, чтобы она увидела раздавленного мышонка? — Роллинг вытянул из-под подушки газету. — Вы, болваны, не читаете этого. А тут уже в заголовках чуется гроза. Они будут воевать.
— Не забудь чернила, — сказал Станислаус.
У Роллинга покраснел шрам.
— Ты лучше напиши невесте, что ей пора бы заказывать траур. Скоро будет нелегко доставать черные ткани.
Он снова сунул газету под подушку и укатился.
Чернила и бумагу принес Иогансон, долговязый, белобрысый фрисландец, главный обжора отделения. Он съедал все, что попадалось под руку.
— Вот. Ролик получил внеочередной наряд. Собирает окурки на казарменном дворе. Вот. А это твое повидло. Эх, разве стал бы я раньше есть повидло! Колбасу, ветчину, десяток-другой яиц между делом, но не повидло же…
Станислаус встревожился.
— Что случилось? Ролик с кем-нибудь сцепился?
— Да нет! Просто плюнул. А тут с другой стороны шел ефрейтор, случайно шел и заметил. А знаешь, я, пожалуй, съем твое повидло. Знаешь, как я его люблю.
Станислаус протянул Иогансону банку с повидлом. Долговязый засунул в нее язык и, не присаживаясь, вылизал всю банку дочиста.
Станислаус писал послание Лилиан. В нем шумели, шептали и пели ласковые слова. «Мы будем вдвоем бродить по осенним аллеям. Листья будут осыпаться, но солнце будет светить — и над нами и внутри нас…»
Санитар заглянул ему через плечо.
— Ты здесь целую канцелярию устроил. А ну, выметайся!
Но, сидя в сорочке и босиком на жесткой табуретке, Станислаус продолжал выписывать черными чернилами алые слова любви. В нем еще жили остатки души поэта.
Из санчасти он отправился в карцер. Валяясь на койке, он не мог искупить своей вины — невыполнения приказа. Трое суток темного карцера на хлебе и воде. Он расхаживал по камере и жужжал себе под нос. Здесь, в самом мрачном закутке казармы, ему светило его собственное солнце. Лилиан — его солнце. Он уже становился настоящим твердым мужчиной. Да, это он, Станислаус Бюднер, — человек, который научился терпеть и повиноваться. Да, это Станислаус Бюднер, катанный между жерновами унтер-офицерской мельницы… Да, это он, Станислаус Бюднер, — человек упрямой кремневой породы.
Во дворе казармы осыпались листья кленов, словно золотые капли падали с деревьев. Однажды утром они заблестели от ранних заморозков. Роллинг не видел этих поэтических чудес. Для него они были поганой листвой, мокрой и скользкой. И эту поганую листву приходится подбирать за то, что сплюнул в присутствии ефрейтора. И чего не наделает один плевок! «Мир еще до конца не доделан». Роллинг собирал листву кленов и у той стены, за которой, как он знал, томился Станислаус. Он простучал ему камнем привет: «Каждый делает, что может».
Станислаус не понял стука. Он впервые в жизни был в тюрьме, если не считать незримых стен одиночества. Он расхаживал взад и вперед по камере и декламировал про себя все стихи, которые сочинил раньше, — Косноязычие, ребячье самодовольство. — Он сам себя похлопал по плечу и сел на нары. Что бы придумать еще? Он стал вспоминать все поцелуи, которые ему доставались, и журил или хвалил тех, кто целовал его. Самую высокую оценку получила Лилиан. Благоухание ее поцелуев было еще свежо в его памяти.
Так и прошли дни карцера. Станислаус доложил о своем возвращении вахмистру Дуфте.
— Итак, вы уже осознали, кто вы такой?
— Так точно, господин вахмистр.
— Так кто же вы?
Запоздалая навозная муха, жужжа, билась об оконное стекло.
— Так кто же вы такой, я вас спрашиваю?
Теперь и муха замолчала. Станислаус был бледен и судорожно глотал слюну.
— За это месяц без увольнения из казармы. Понятно?!
Дуфте яростно стукнул деревянной линейкой по столу.
Настали трудные дни. Вахмистр велел оказывать на Станислауса давление. И на него давили все унтер-офицеры и ефрейторы. При осмотре обмундирования они отрывали пуговицы от его гимнастерки.
— Да как это вы осмелились явиться на построение с болтающимися пуговицами? — Рраз-рраз — и пуговицы одна за другой летели на щебень. Станислаус должен был пришивать их заново в часы обеда. «Не беда, — думал он. — Ведь приезжает твоя Лилиан».
Станислаус нес котелок с кофе для своего отделения. Навстречу ему шел ефрейтор Рехорн. Приветствуя его, Станислаус дернул головой так, что затрещали шейные позвонки.
— И это ты называешь приветствовать, человекообразное? Лечь! Встать! Лечь!..
В котелках не осталось ни капли кофе. Не сидеть же его товарищам без кофе потому, что он не так приветствовал? Станислаус помчался снова на кухню, одергивая мокрые штаны. «Не беда, — думал он, — ведь приезжает твоя Лилиан».
Станислаусу приказали поливать только что посаженные деревца из своей кружки. Под наблюдением ефрейтора Рехорна он должен был чистить все койки отделения своей зубной щеткой. Потом протирать носовым платком у всех лошадей под хвостом. Жеребая кобыла лягнула его, и он захромал.
Давление вахмистра Дуфте не раздавило Станислауса. Его куда больше угнетало нечто совсем другое… В воскресенье приедет Лилиан, а он не может выйти из казармы. В его сердце теплилась робкая надежда на сочувствие. Станислаус надеялся на сочувствие ротмистра фон Клеефельда. Благороднейший человек этот ротмистр. Аристократический профиль, как на рекламе шестипфенниговых сигарет «Аттика». Стройный, как конская шея. Короткий френч из самого дорогого сукна. Бриджи, на бедрах раздутые, как меха, и плотно облегающие колени. Тонкие, прямые, без икр ноги, как у страуса, в тесных сапогах из мягкой кожи. Когда эскадрон шел рысью по улицам, девушки едва не вываливались из окон. Впереди красовался ротмистр фон Клеефельд, настоящий прусский бог и спаситель.
…почтительнейше прошу господина ротмистра иметь сочувствие к новобранцу Станислаусу Бюднеру, невеста коего, обрученная с ним, позволит себе прибыть сюда в воскресенье, ввиду чего прошу предоставить кратчайшее увольнение из казармы вечером. И новобранец Станислаус Бюднер будет благодарен за сочувствие и в последующие дни возместит сверхурочными полученное увольнение.
Станислаус в конюшне упражнялся в совершении священного ритуала рапорта. Было уже за полночь, и в ответ на его просьбу о сочувствии раздавалось только всхрапывание той самой жеребой кобылы, из-за которой он охромел.
В субботу после занятий он явился в канцелярию эскадрона в стальном шлеме, надраенных ремнях, сияющих сапогах. Ефрейтор Рехорн зевал, развалившись за столом. Трах-тарарах — Станислаус с треском щелкнул каблуками так, что даже покачнулся.
— Ты что же это, совсем обессилел?
Ефрейтор Рехорн велел Станислаусу двадцать раз присесть для укрепления мускулов ног.
— Новобранец Бюднер просит разрешения доложить господину ротмистру.
Ефрейтор Рехорн вскочил.
— Ах ты свинья! Ротмистру? — Он вцепился в пуговицы на гимнастерке Станислауса — ррраз! — И в таком виде ты осмеливаешься идти к ротмистру? — Рраз-рраз-рраз! — Кругом! Пришить все пуговицы!
— Надевай мою гимнастерку. Ручаюсь, они еще что-нибудь придумают, — сказал Роллинг.
Они выкурили вдвоем сигарету. Нужно было, чтобы прошло некоторое время. Станислаус отправился в гимнастерке Роллинга. На этот раз его встретил вахмистр Дуфте.
— Новобранец Бюднер просит…
Дуфте сунул руку в пепельницу.
— Крругом! — Станислаус почувствовал, что его схватили за ремень.
— Весь в грязи, а лезет к ротмистру. Ваша мамаша родила швабру. Чтоб через пять минут ремни сверкали.
— Он тебя вымазал сигаретным пеплом! — Роллинг чистил ремни Станислауса. — Брось это. Тебе легче добраться до неба, чем выбраться из казармы.
Станислаус думал о Лилиан. Нет, он не может отступить. Он снова зашагал в канцелярию. Теперь его мундир был в порядке, но оказалось, что прошение ротмистру нужно представить в письменном виде. Станислаус писал прошение. Роллинг шил, сидя в углу.
— Не проси ты здесь ни о чем, тогда и не будешь нарываться.
Станислаусу так и не пришлось подать свое прошение. Вахмистр Дуфте встретил его уже в коридоре:
— Вон отсюда, сортирный выкидыш!
3
Станислаус встречает настоящего товарища, но не узнает его. Его любовь умирает у казарменной ограды, а возлюбленную уводит звенящий шпорами осел.
Наступил воскресный вечер. Дул резкий ветер. Листья клена трепыхались на черном щебне казарменного двора. Достаточно работы для любителей плевать, таких, как Роллинг и ему подобные. Внутри казармы пахло красной капустой, тушенной на сале. По лестницам и коридорам перекатывался стук сапог. Увольнения…
Белобрысый Али Иогансон запихивал себе в рот тушеную капусту пальцами. Перед ним стояли четыре опустошенных котелка.
— Вот красной капусты я раньше никогда не ел, никогда. А теперь вот жру красную капусту!
Новобранец Станислаус Бюднер лежал на нарах. Он прислушивался к пению ветра за окном. Он услышал гудок паровоза и встрепенулся. Хлопнула дверь. Иогансон вышел. Все ушли. Он остался один. Теперь он мог беспрепятственно выть и проклинать свою жизнь.
За койками скрипнул шкаф. Перед ним стоял Роллинг. Он растянул свою пилотку и надел ее поперек лысого черепа. Он всегда норовил носить ее именно так. «Каждый делает то, что может». Роллинг вытянулся перед койкой Станислауса и щелкнул каблуками.
— Старший плеватель Роллинг, именуемый Роликом, готов к отправке для встречи невесты новобранца Бюднера.
Станислаус хотел обнять Роллинга, но тот вытянулся и щелкнул каблуками.
— Рад стараться, сколько передадите невесте поцелуев авансом?
— Сумасшедший черт!
Роллинг ушел, вскидывая ноги, как на параде. Его шаги отзвучали в коридоре.
Станислаус стоял перед зеркалом и примерял пилотку, сдвигая ее то вправо, то влево. Потом стянул сапоги и начистил их. Потом отстирал все пятна на гимнастерке в настое ячменного кофе. Теперь он мог предстать перед любым унтер-офицером.
На улице перед казармой разгуливали по-воскресному нарядные люди. Девушки в пестрых пальто приветливо махали часовым. Женщины катили коляски с младенцами. Промаршировала колонна коричневорубашечников со знаменем, на котором раскорячился паучий крест. Матери останавливали коляски и, поднимая вытянутые руки, приветствовали это знамя. Мужчины в цилиндрах и с воскресными галстуками вытягивались по-солдатски и отдавали честь этому знамени. Молодые девушки, словно удлиняясь, протягивали навстречу этому знамени пестрые рукава своих пальто. Какой-то инвалид поднял костыль и едва не упал — он приветствовал знамя своей третьей ногой. Внимание, внимание, здесь приветствуют кусок цветной ткани, болтающейся на палке!
Станислаус тоже приветствовал ткань и палку. Он отступил на шаг от ограды, потому что проволочная сетка мешала ему вытянуть руку. Его пальцы прикоснулись к холодной проволоке.
Между стволами кленов, которые росли перед последними домами города, мелькнуло темно-красное пятно. Да, да, это Лилиан с маленьким зонтиком под мышкой. Она шла, осторожно переступая, и желтые кленовые листья шуршали под ее замшевыми туфлями.
Они стояли друг против друга. Проволочная сетка была слишком густой — нельзя было протянуть сквозь нее руки, и она поднималась слишком высоко, чтобы протянуть их поверх нее. Станислаус просунул указательный палец в ячейку проволочной сетки. Но Лилиан не замечала этого призывного белого пальца. Ее руки прижимали зонтик и сумку, ее ладони грелись в карманах пальто.
— Мой друг Роллинг сразу узнал тебя?
— Он снял шапку и поклонился.
— Он чудесный человек.
— Какой-то унтер-офицер заметил его поклон и задержал его, — сказала Лилиан и перебросила через забор маленький пирожок. — Привет от мамаши Пешель. — Через забор перелетела пачка табака. — Привет от папаши Пешеля.
— И это все?
Да, это было все. Лилиан разглядывала свой зонтик так, словно видела его впервые. Станислаус ковырял цементный цоколь забора. Ему казалось неуместным и недопустимым для него, неполноценного человека и недовершенного солдата, спрашивать, любит ли она его еще. Лицо Лилиан побледнело в сумраке конторы. Кое-где уже виднелись первые морщинки.
— Ни одного листка на деревьях, — сказала она. И добавила: — Скоро уже зима.
Станислаус молча кивнул. Он стоял униженный до последней степени, он был ниже камней, валявшихся на дороге. Его человеческое достоинство было растоптано солдатскими сапогами. За что? О Станислаус, Станислаус, небо над солдатом пасмурно всегда!
Вахмистр Дуфте проснулся позже по случаю воскресенья. Его денщик все приготовил ему. Наглаженный и начищенный, уходя, он еще опрыскал парадный мундир пахучим одеколоном. Даже серебряному прусскому орлу попало на крылья несколько капель ароматной жидкости. Вахмистр Дуфте шел показать себя воскресному городу. Можете положиться на нашу могучую армию.
Вахмистр Дуфте прошествовал через проходную будку. Он следил за тем, чтобы дежурный, сидевший за столом у окошечка, отметил его появление надлежащим по уставу приветствием. Господин вахмистр шел в город, чтобы нести человечеству славу эскадрона, славу дивизиона и всей казармы. Вахмистр проследил и за тем, как часовой у караульной будки, вместо того чтобы отвечать на вопросы женщины с кошелкой, сперва застыл перед ним в немом испуге, как перед смертельным врагом. Вахмистр придавал особое значение именно воскресному блестящему ритуалу приветствия. Невесты и жены, беременные немецкие матери, дети и родители новобранцев, толпившиеся в ожидании у ворот казармы, расступались перед ним, восхищенно кивая или критически оглядывая его. Вахмистр Дуфте шагал вдоль выстроившихся шпалерами штатских, как белый король, высадившийся на дальнем материке и озирающий с высоты своего величия человекообразных негров и продавцов обезьян. Он так отупел от высокомерия, что просто не замечал критических улыбок некоторых мужчин и ненавидящих взглядов беременных женщин. Его походкой управляли сверкающие сапоги и звенящие шпоры. Его движения определял волочившийся по земле палаш.
Вахмистр Дуфте гордо вышагивал, направляясь в штатский мир носителей галстуков, в мир кабаков с женской прислугой. Все штатские представлялись ему приодетыми пещерными людьми. Настоящий человек начинался с унтер-офицера.
Вахмистр Дуфте заметил пещерную девушку в темно-красном платье, которая стояла у забора казармы, видимо, не в слишком веселом настроении. Да и с чего бы ей было веселиться? Ведь перед ней был Бюднер — позорище эскадрона, урод, а не солдат. Дуфте выходил в штатский мир, чтоб пастись. И теперь он жадно оглядывал лицо Лилиан. При этом оно немного прояснилось. Лилиан была одним из тех цветков на лугах человечества, которые глядят на пасущегося осла до тех пор, пока он мимоходом не лизнет их шершавым языком и не сожрет.
Вахмистра Дуфте осенила пронзительная фельдфебельская мысль. Он остановился перед парочкой, разделенной проволочной сеткой забора. Холщовые рабочие штаны Станислауса затрепетали на ногах, сведенных стремительной судорогой приветственной стойки. Рука взметнулась к пилотке. Он замер, притиснув ладони по швам, так как вахмистр Дуфте соблаговолил заговорить с ним во внеслужебное время запросто, как с хорошим знакомым. Станислаус ощутил даже гордость — пусть Лилиан видит, что он не из последних в своей казарме. Во всяком случае, она может убедиться в том, что он занимает определенное место в сознании великих вахмистров, выдающихся военных деятелей. Лилиан смотрела на вахмистра эскадрона как на ангела, слетевшего с небес. Дуфте заговорил менее строго, чем обычно:
— Бюднер, принесите-ка пачку сигарет из лавки! Бегом марш!
Станислаус не слишком надеялся на дружелюбный разговор с Дуфте, поэтому и не испытал ни особого гнева, ни испуга. Приказ проник в его сознание, опрокинул крохотную надежду и привел в движение его ноги. Он побежал. Пачку сигарет для вахмистра Дуфте. Пачку сигарет для… А какие он курит? «Экштайн»? Или «Оверштольц»? Лучше уж взять дорогие «Оверштольц». А то за «Экштайн» Дуфте чего доброго обидится, изругает его в присутствии Лилиан и заставит второй раз бежать в лавку, обменивать. Станислаус попросил «Оверштольц». Получил и задумался над новой проблемой. Сказать, чтобы записали на вахмистра Дуфте? Он ведь и это может принять за оскорбление. И Станислаус заплатил за «Оверштольц», которых никогда не купил бы для себя.
От лавки до забора всего несколько сот метров. Станислаус мчался со всех ног туда и обратно, ведь это время он отнимал от вечера, посвященного Лилиан. По пути он проверял подворотничок, выскакивавший из-за ворота рабочей куртки. Нельзя же появиться перед Лилиан и вахмистром этаким остолопом с вылезшим наружу подворотничком.
Он мог бы спокойно вытянуть не только подворотничок, но и нижнюю сорочку из брюк, потому что у забора уже никого не было. Неужели и Лилиан тоже ушла? Да, и Лилиан тоже. Разве она приехала не для того, чтобы навестить его? Его, Станислауса, кого она любила, с кем обручилась? Позорище эскадрона Станислаус Бюднер уставился на пачку «Оверштольц», потом уже совсем бесцельно — на улицу. Он увидел солдата, который шел в город с двумя девушками. Этот солдат блаженствовал от избытка девичьей любви. Он был как тот богач в библии, которого согревали два плаща, и он не думал о бедняке, не имевшем ни одного. На мгновение Станислаус опять стал ребенком и ждал невозможного и верил во все. Разве не бывало так, что брат или сестра посылали его под каким-нибудь предлогом в дом? А когда он возвращался, они прятались, а потом выскакивали, смеясь, когда видели, что он уже собрался расплакаться. О бедный, ребячливый Станислаус, теперь ты можешь плакать слезами крупнее стеклянных елочных шаров — все равно никто не придет!
Станислаус поплелся в казарму. Он шел согнувшись и, казалось, хромал. Он был совершенно раздавлен.
4
Станислаус ищет свободы, его товарищ Вайсблат увлекает его на снежные вершины духа, и оттуда он взирает на топи обыденной жизни.
Много лет прошло с тех пор, как Станислаус стал пекарем из склонности к ватрушкам и пирожкам со сливами. Склонность исчезла, а пекарем он остался. Ему пришлось учиться и стать пекарем во что бы то ни стало: так уж было решено, и записано на особом листе бумаги, и скреплено подписями многих лиц.
Позднее Станислаус из склонности к девице Лилиан Пешель пошел в солдаты. Эта склонность исчезла в один воскресный вечер у казарменной ограды. Но снова он вынужден оставаться тем, кем уже стал. И это было также решено и записано на листе бумаги, скрепленном многими подписями, в том числе и его собственной. И этот договор грозил ему не более не менее, как смертью в том случае, если бы он вздумал отказаться от ремесла, потому что уже утратил ту склонность, которая привела к нему. А если он останется верен этому ремеслу, которое выбрал из любви к Лилиан, что тогда? Разве это обеспечит ему хорошую и вечную жизнь?
— Да что же это, черт возьми, разве человек не свободен? — Так закричал Станислаус, лежа на своей койке, уставившись в потолок казармы… Видимо, потолок был побелен совсем недавно. Потому что, как известно, только свежая известь способна, попадая в глаза, так раздражать их, что текут слезы. Впрочем, нет, потолок в казарме белили в последний раз два года назад. Но вот лежит новобранец Станислаус Бюднер, он уставился в потолок, и из глаз его текут слезы.
А в другом углу того же помещения лежит на койке, скрытый рядом шкафчиков, другой новобранец. Никто не хотел занимать койку в этом полутемном углу. Она досталась тому, кто пришел последним и уже поздно вечером выбирал себе койку. Этим новобранцем был Вайсблат.
В нынешний воскресный вечер Вайсблат вышел из казармы и, неуклюже вышагивая длинными ногами, поплелся на пастуший холм — голую травянистую высоту за казармой. На пастушьем холме проводили тактические полевые занятия с новобранцами. Неужели Вайсблат был таким вдохновенно-прилежным солдатом, что даже в воскресенье стремился к этому клочку земли, пропитанному потом новобранцев? Отнюдь нет, ведь на этом лобном месте, пожалуй, ни над кем так жестоко не измывались, как именно над ним. Но он там назначил свиданье цветку. То был цветок жесткого овечьего клевера, белый в середине и чуть розоватый по краям. Накануне во время занятий Вайсблат свалился на землю рядом с этим цветком; изможденный, теряющий последние надежды на то, что вынесет новые испытания, он поклялся цветку: «Если я выживу, я спасу тебя от солдатских сапог, от пасущихся коней».
Вайсблат выжил. Прошло и ощущение полной изможденности. Как же он мог нарушить слово, данное цветку?
Он выкопал его и вносил в ворота казармы как раз в то самое время, когда Станислаусу еще казалось, что Лилиан приехала к нему. И вот цветок стоит в кружке у сумрачной койки Вайсблата. Он смотрит на цветок, и ему кажется, что и тот смотрит на него. Двое спасенных смотрят друг на друга. Спасены, но надолго ли? Мир вокруг них соткан из прохудившейся ткани. Во все его прорехи заглядывает смерть. Значит, нужно только представить себе, что смерть желанна. И тогда уже все будет хорошо.
Когда Вайсблат додумался до этого, он услышал рыдание. Оно донеслось с койки Станислауса. Но Вайсблат не признавал утешений. Он считал их нелепой чепухой. Каждому человеку приходится тащить свою долю земных невзгод.
К шести часам вечера новобранец Станислаус Бюднер сполз со своей койки, чтобы снова начать земное существование. Он утер последние следы влаги, оросившей его глаза, и достал из своего шкафчика чернила и папку с почтовой бумагой, на которой значилось: «Горячий привет родине». Это были листки тисненой бумаги и желтые конверты с лиловой подкладкой. Нужно изготовить прощальное письмо к Лилиан: потребовать, чтобы она сняла его кольцо и не смела больше даже упоминать его имя. Станислаус написал несколько вариантов письма, и ни один, по его мнению, не соответствовал величию его решения. Потом из письма начало возникать стихотворение, и когда первые рифмованные строки легли на желтую тисненую бумагу, Станислаус почувствовал облегчение и успокоение. Эта легкомысленная девчонка Лилиан после смерти будет всеми забыта, умрет вдовой неизвестного фельдфебеля, а стихи поэта Станислауса Бюднера впоследствии будут обнаружены. «Как нам сообщили, только недавно обнаружена рукопись с неизвестным стихотворением поэта Станислауса Бюднера, которое посвящено прощанию с девушкой. Это творение пронизано подлинным поэтическим очарованием» и т. п. и т. д. Так или в этом роде напишут тогда в газетах.
Стихотворение Станислауса лежало в толстом желтом конверте, а рядом с ним — строго по линейке выровненные сорочки и кальсоны, под ними — полка со стаканчиком для повидла и кусочка маргарина — порция новобранца. Письмо получалось очень значительным и пухлым. Впрочем, Станислаус адресовал его не Лилиан, а папаше Пешелю. «Мой дорогой Пауль Пондерабилус! Вот она перед тобой, судьба поэта. Это ты произвел на свет сию дочь, ставшую горьким страданием для поэта. Передай Лилиан это стихотворение и знай, что между мною и ею все кончено навеки. Твой коллега в поэзии Лиро Лиринг».
Станислаус заметил, что его товарищ, новобранец Вайсблат, лежит на своей койке с видом величавого спокойствия.
— Да, да, твои семейные дела в порядке. Вот и полеживаешь здесь, думая о том, как приятно всё там дома.
— Я родился на свет, видимо, уже заранее обреченным на одиночество, — ответил Вайсблат.
Станислаус присел на край его койки.
— Значит, и тебе нелегко приходится в жизни? Значит, и у тебя есть своя ноша?
Вайсблат развернул в общих чертах схему великого одиночества, которое обволакивает человека, едва лишь он покинет чрево матери.
— Они ласкают тебя и пеленают, а в действительности они любят лишь самих себя и то, что из них самих вышло.
Станислаус кивнул, соглашаясь, и попытался вслед за Вайсблатом взобраться на снежные вершины человеческого одиночества. Приятно с такой высоты взирать на долины страстей. Там внизу среди копошившихся блохоподобных существ находилась и некая Лилиан Пешель: и право же, она не была самой преступной из тех, кто согрешил против духа человечности.
Вайсблат излагал свои взгляды и теории о том, что в мире можно достичь удовлетворения жизнью, только если принять страдание и считать смерть желанной. При этом он все время лежал. Все мудрецы поучали только лежа, потому что каждый шаг есть лишняя дань жизни, деятельной и несущей страдания. Но зато он выкурил по меньшей мере пятнадцать сигарет. Это были «Амарилла», по шестнадцати с половиной пфеннигов штука. Он курил не больше половины от каждой, а окурок тушил в коробке из-под сардин, морщась от отвращения. Потом он стал приводить суждения других великих ученых, которые разделяли его мнение о несостоятельности жизни.
Станислаус жадно впитывал эти утешения, как промокательная бумага впитывает чернила.
— Пусть бог благословит твою мудрость, но ты, видно, ни разу не встречал в этом недопеченном мире девушки.
Вайсблат скривил рот так, словно укусил кислый помидор. Потом зажег новую сигарету, втянул голубой дым. И Станислаус услышал историю первой любви Вайсблата.
Иоганнес Вайсблат в двадцать лет был студентом юридического факультета и изучал законы. Есть люди, изучающие на рынках мира беззаконие, неправый произвол, но он, Вайсблат, изучал законы и для этого посещал университет. Так угодно было его отцу — фабриканту и изобретателю пемзобетона. Сколько денег должна расходовать солидная фирма, чтобы все было законно? Вайсблат-отец знал, зачем он велел сыну изучать законы.
В двадцать лет Вайсблат влюбился в сорокалетнюю женщину. Она была женой небогатого помещика, ровесницей и подругой его матери и его крестной. Ее звали Элли, но она писала в конце своего имени «игрек» и требовала, чтобы его произносили, как «ю». У нее был очень трудный характер.
— Как ты меня окликнул — Элли или Эллю? — могла она спросить своего мужа помещика.
— Я крикнул — Элли!
— В таком случае позволь уж мне не отвечать, так как я не состою у тебя в батрачках.
Минуту спустя он окликал ее «Эллю» и спрашивал:
— Ты купила за один день три шляпки. Ты сама этого хотела или так получилось вследствие ошибки твоей шляпницы?
Она отвечала ему резко, в тоне великосветской дамы:
— Если уж ты, любезнейший, интересуешься такими мелочами, то сперва ответь мне сам: разве я виновата, что вынуждена жить вблизи провинциального городка, в котором есть лишь совершенно несостоятельные шляпницы?
— Извини, — говорил он, — я просто хотел услышать твой голос.
Любовь Вайсблата к Эллю Маутенбринк была подобна грозе. Именно в это время он выпустил в небольшом издательстве за собственный счет, вернее, за счет владельца фабрики пемзобетона, первую книжку своих стихотворений. То были туманные, загадочные стихи, казалось написанные бледной лимфой. Одно из них — любовное послание — звучало так:
Твой зыбкий шаг, и мочка уха,
И запах пота твоего,
И промежутки между пальцами.
Росою нежной капельки слюны.
О волосы твоих подмышек — пух трепетный
Моей души…
Именно это стихотворение обратило на себя особое внимание некоторых дам из круга знакомых фабриканта пемзобетона. Начали поступать приглашения на имя поэта Иоганнеса Вайсблата. Несколько каникулярных дней он провел в поместье Маутенбринков. Так как в ту пору лошадь была для Вайсблата совершенно неведомым существом, не менее сложным, чем локомотив, то он не ездил на верховые прогулки с Эллю Маутенбринк, а она вывозила его кататься в двухколесном элегантном шарабане на резиновом ходу. Она правила и поэтому надевала для прогулок плотно облегающее платье и плоский цилиндр.
Вайсблат раньше только читал о подобных катаньях. Он смущался и молчал. Однажды в лесу она как бы нечаянно прикоснулась к его бедру кнутовищем и спросила:
— Простите, может быть, я спрашиваю слишком прямолинейно, но скажите, когда вы писали это стихотворение, вы имели в виду какую-нибудь определенную женщину?
Иоганнес знал, о каком стихотворении идет речь. Нет, он не имел никого в виду. Это стихотворение слетело к нему однажды утром, когда он, лежа в постели, размышлял о любви.
Она вздохнула.
— Держу пари, что если бы вы это хоть раз действительно испытали, то появились бы еще более глубокие стихи, — сказала она.
Вайсблат вздохнул. Он был слишком начитан и боялся сифилиса.
И этот день стал для Вайсблата началом слепой, извращенной любви. Они лежали вдвоем на лужайке в лесу. Она жадно стала его раздевать, говорила, что хочет только поглядеть, есть ли у него еще та очаровательная коричневая родинка на ляжке, которой она любовалась еще тогда, когда несла его, младенца, на белой подушке в церковь крестить.
Он вернулся домой весь искусанный, изнасилованный и решил, что уедет в Африку или покончит с собой. Он никогда не представлял себе, что любовь может быть такою. Но она не оставляла ему времени ни на самоубийство, ни на побег в Африку. В те дни он написал несколько стихотворений, одно другого отчаянней и печальней. Но она не давала ему покоя, не позволяла передохнуть; она врывалась в его комнату, лгала его матери, обманывала своего мужа.
Потом все открылось. То был омерзительный день, когда ее муж Маутенбринк застал их в сарае на сене. Она умела подыскивать самые диковинные ложа для их встреч. Вайсблат не понимал, что происходит. Эллю Маутенбринк и не подумала признаться в том, что это она его совратила. Напротив, она во всем винила только его. Первоначально он и сам принял на себя вину — так поступали все благородные кавалеры, о которых ему приходилось читать. Но когда Маутенбринк во всеуслышание пригрозил, что убьет его, и действительно, приобретя разрешение на оружие, купил пистолет, Иоганнес Вайсблат рассказал всю правду своей матери. Между семьями Маутенбринков и Вайсблатов нарастала жестокая вражда, и тогда-то произошло самое чудовищное. Вайсблат внезапно полюбил Элли Маутенбринк. Он даже изменил начертание своего имени и вместо «Иоганнес» стал подписываться «Иоганнис». Этим «и» в концевом слоге он как бы молча поддерживал ее «игрек» и тайно с нею обручался. После двух месяцев разлуки он чувствовал, что ему и впрямь чего-то недостает. Он написал письмо. Она загорелась, как скирда соломы, — ее ответ пылал страстью, она звала его к себе.
Он ждал ее в парке поместья, расхаживая взад и вперед по аллее. Она писала, что ему нечего опасаться, так как муж в отъезде. Вайсблат пришел с букетом ландышей и, предвкушая наслаждение, глубоко засовывал свой тонкий нос между белыми душистыми цветками. Обогнув кустарник, он увидел перед собой не Эллю, а Маутенбринка. Помещик Карл Маутенбринк выстрелил дважды. Вайсблат рухнул на клумбу анютиных глазок, однако несколько минут спустя убедился в том, что жив. Его сразил испуг. Друг его отца, видимо, намеренно промахнулся.
У выхода из парка кто-то сзади вцепился в Вайсблата. То был отец.
— Неужели мне сужден такой позор? — Вайсблат-отец был бледен, и его щеки дрожали. Он вышел из дома помещика, где вместе с Эллю Маутенбринк сидел у окна гостиной, наблюдая, как его отпрыск разгуливает, нюхая ландыши. Он прислушивался к пистолетным выстрелам друга, дрожа от страха за сына.
— Тебя следует выпороть, — кричал он.
— Поступайте, как сочтете необходимым, — гордо ответил отцу побледневший Вайсблат. И с тех пор он уже никогда не обращался к отцу на «ты», впервые взобравшись на одну из вершин своей философии.
Но что же все-таки произошло? Помещик Маутенбринк основательно поколотил жену, и после этого она стала покорна и послушна ему во всем.
Она не возражала против того, чтобы ее любовь продали. Дела в поместье Маутенбринка шли из рук вон плохо. Нужны были деньги, и Маутенбринк получил беспроцентную ссуду от своего друга и собутыльника Вайсблата-старшего, владельца фабрики пемзобетона, который тем самым рассчитывал покрыть любовные грехи своего незадачливого сына-поэта.
Такова была история первой любви Вайсблата.
Он искал утешения. Однажды вечером, когда он печально сидел на скамье городского парка, к нему запросто подсела девушка. Она очень сочувствовала его печали. Вайсблат был растроган. Он позволил себя утешать и, вернувшись в тот вечер домой, сочинил оду, прославлявшую «Незнакомку». Девушка нуждалась в помощи и попросила у Вайсблата десять марок для больной матери. На следующий день он послал ей еще пятьдесят марок. За одну только ночь ее образ стал для него почти что ликом святой девы. К сожалению, ее имя было Нелли, а он так охотно называл бы ее Марией.
Однако и эта любовь оказалась для Вайсблата древом, несущим гнилые плоды. Уже через несколько недель они свалились ему на голову. Нелли потащила его в парк, на площадь аттракционов. Там в суматохе она куда-то исчезла. Потом он увидел ее на качелях. Она взлетала в невообразимо пестром челноке: ему было страшно за нее, и он стоял с беспомощно повисшими руками рядом с визгливой шарманкой. Через мгновение он услышал свист и гогот толпы; освистывали его Нелли. Женщины отворачивались и плевали. Все выше и выше взлетал челнок качелей, и теперь уже и Вайсблат заметил, что у Нелли под юбкой ничего не надето и всем взглядам открыты ее ноги и живот. Полицейский приказал остановить качели. Татуированный хозяин качелей обратился к Вайсблату, который беспомощно цеплялся за шарманку, выводившую: «О Гаваи, о Гаваи, острова моей мечты».
— Это ваша девчонка? — спросил владыка качелей. — Если ваша, так надавайте ей хорошенько по шее.
Вайсблат был возмущен. С чего это он станет бить Нелли? Разве и сам он частенько не забывал, например, надеть носок? Ему уже не раз случалось приходить на лекции в одном носке. Нелли снимали с качелей какие-то парни, которые шумно и торжественно потащили ее с ярко освещенной площади в темные аллеи парка. Вайсблату пришлось наблюдать, как парень, посадивший Нелли к себе на плечи, грубыми руками ощупывал ее белые ляжки. В эту ночь Вайсблат отыскал в энциклопедии слово «проститутка» и размышлял о том, что, может быть, он и впрямь имел дело именно с такой особой.
Потом Вайсблат перестал учиться. Он чувствовал, что призван стать профессиональным писателем, чтобы исправить мир. Он снял меблированную комнату и принялся писать свой первый большой роман «Можно ли торговать любовью?». Вероятно, он умер бы с голоду из-за своей гордости и философии, если бы ему тайком не помогала мать. Она дала деньги на печатание романа и позаботилась, чтобы он попал в руки тем, о ком был написан, — семейству Маутенбринков.
5
Станислауса заставляют молиться окурку, он знакомится с отцом сверхчеловеков и отрекается от женщин.
Слушая рассказ Вайсблата об истории его любви, Станислаус забыл то горе, которое ему причинила Лилиан. Потом Вайсблат достал из своего шкафчика книгу.
— Вот почитай о том, каковы женщины. Так или иначе, а все сбиваются с пути.
Станислаус даже поклонился ему, исполненный благодарности, и уже собирался рассказать новому другу, настоящему поэту, историю своей любви, когда вошел Роллинг. На обратном пути с вокзала он обогнул центр города, избегая освещенных улиц.
— Не хотелось встречать еще одного унтер-офицера; этого я не смог бы уже переварить, — сказал он и швырнул пилотку на кровать.
Один за другим в комнату № 18 возвращались новобранцы, как вороны, слетающиеся на ночлег. Долговязый Иогансон вытряхнул на стол по меньшей мере двадцать булок и принялся уплетать одну за другой.
— Раньше я никогда не ел их без масла, никогда бы так не стал есть, а вот теперь ем как придется. Вот оно как.
Потом пришел Крафтчек. От него пахло ладаном. Роллинг заткнул нос.
— Вонь хуже, чем в борделе.
— Ну конечно же, тебе, евангелисту, приятнее нюхать смрад дьявола, чем благовоние мадонны, — сказал Крафтчек. Он ходил к вечерней мессе побеседовать со своим богом. Он сел, достал открытку и стал писать жене, которая вместо него хозяйничала в лавке. На открытке была изображена улыбающаяся богородица. Святая дева расставила руки так, как делают женщины, когда перематывают шерсть.
Последним пришел Маршнер. Он жевал окурок сигары и шатался. Комната наполнилась гоготаньем. Вайсблат отвернулся к стене:
— Прискакал, сатана!
Маршнер снял портупею и швырнул ее на койку.
— Ио-хо-хо, вот был денек! Эх вы, жалкие казарменные черви.
— Чем он такой особенный, этот день? — проворчал Роллинг.
Маршнер подмигнул ему и утер ладонью жирное лицо.
— Если я говорю: вот был денек — значит, был денек, и ты тотчас же заткнешься, когда узнаешь, что мы с нашим вахмистром… с нашим господином вахмистром вместе выпивали, прошу иметь в виду.
Роллинг щелкнул каблуками и иронически поклонился. Маршнер сел на табуретку, далеко протянув ноги.
— Можете смеяться сколько влезет. Потом вам будет не до смеха. Вот увидите… настанет скоро времечко… — Маршнеру неудержимо хотелось говорить. Его никто не слушал, но он продолжал рассказывать, обращаясь к печке:
— И чего только не случается, братец, в жизни, прошу иметь в виду. Вот сидит себе господин вахмистр в кафе со своей супругой, или невестой, или кто там она такая. И вот входит наш брат в это кафе. Входит и, конечно, ведет себя как полагается: становится по стойке смирно, приветствует, прошу иметь в виду. Потом я иду дальше, ищу себе место. И вдруг господин вахмистр меня подзывает. Наш брат, конечно, ко всему готов: а что если прорешка не застегнута и сейчас тебя посреди кафе начнут драить как следует? Стоишь себе и думаешь: упаси боже, и косишься одним глазом на штаны, но господин вахмистр ласков, как солнце; «Садитесь», говорит он. Тут уж, конечно, приходится садиться, и тебе оказывают честь, прошу иметь в виду, сажают рядом с супругой, или женой, или кто там она такая. Господин вахмистр уже достаточно веселы, и их супруга тоже не очень ломаются, вижу, они под столом друг дружке ноги тискают. И тут же господин вахмистр в присутствии своей красавицы жены изволит сказать: «Маршнер, вы мой самый лучший новобранец. Вы уже где-нибудь проходили воинское обучение?» И тогда я рассказываю ему, что проходил в штурмовиках и что участвовал даже в ночи длинных ножей,[8]Ночь длинных ножей — 30 июня 1934 г., когда в течение одной ночи гитлеровцы убили несколько десятков тысяч человек не только антифашистов, но и своих приверженцев, подозреваемых в недовольстве режимом Гитлера. — Прим. ред. прошу иметь в виду. И мы выпиваем по такому поводу, и эта особа, которая с вахмистром, тоже выпивает: сначала одну рюмку мятной, потом другую, а потом еще яичного ликеру. И они меня уже совсем не стесняются, прямо как близкого друга, и сидят, взявшись за ручки. А потом наш уважаемый господин вахмистр даже начинают сами подпевать музыкантам: «Лора, Лора, Лора, Лорхен, мой свет, хороши девчонки в восемнадцать лет…» И я, разумеется, подпеваю, как положено, прошу иметь в виду. И тут господин вахмистр и его спутница берутся под руки и начинают сидя приплясывать. И мне была оказана честь, и сам господин вахмистр самолично взяли меня под руку. И мы выпили еще по одной, и тут господин вахмистр были уже малость навеселе и сказали, что «вот никогда я не надеялся, что встречу своего брата штурмовика в этой пустыне», и тут же господин вахмистр публично поблагодарили меня, что вроде как бы я их пригласил, а я сразу же сказал, что заплачу за всю выпивку сам, хотя бы до утра здесь сидеть. После этого стало еще веселее. Господин вахмистр и его супруга стали чувствовать себя со мной совсем интимно, вполне по-семейному. Он ее обнимает и даже засовывает ей язык в ухо. У этих господ свои повадки, прошу иметь в виду. А его супруга тоже уже не стесняется. Целует его почем зря. И потом он велит, чтобы она и меня поцеловала, потому как я их угощаю, и она меня действительно поцеловала. И вот, видите, я здесь, поцелованный самой госпожой вахмистершей, принятый высшим обществом… — Роллинг приподнялся на койке и схватился за кружку, наполненную кофе.
— Заткни свою поганую пасть, чертов кулак!
Станислаусу казалось, что его распяли и еще ковыряют палкой в ранах. Ревностный железнодорожник Богдан напустился на Маршнера. Пусть этот хвастун немедленно ляжет спать. С минуты на минуту может появиться дежурный офицер, чтобы осмотреть комнату и принять рапорт. Станислаус спохватился: ведь это он дневальный — и стал торопливо проверять, высыпана ли зола из печки. Потом начал протирать тряпкой Гитлера. Портрет куцеусого Адольфа висел между окнами. На нем не должно быть ни пылинки. Маршнер раздевался, толкаясь о железные стойки двухэтажных коек. Он толкнул Крафтчека, погруженного в вечернюю молитву, и тот пнул его ногой. А Маршнер, в кальсонах, в торчащей бугром сорочке, пытался погрозить кулаком, но зашатался и схватился за стойку.
— Смейтесь, смейтесь, придет еще времечко, прошу иметь в виду.
Он тряс койку, как медведь трясет прутья клетки. Станислаус, дневальный, подталкивал Маршнера к постели. Вонниг хохотал и спрашивал:
— Ты что же, пил с вахмистром на брудершафт?
Маршнер отрыгнул.
— Что там брудершафт, это, брат, самое маленькое. Он меня потом просил и даже умолял обеспечить ему комнату в гостинице для него и для его уважаемой супруги. Я был у них за квартирьера. Достал комнату с двумя постелями, ванной — и все за мой счет, прошу иметь в виду.
Коричневая кофейная жижа окатила голову Маршнера. Роллинг отставил пустую кружку и повернулся к стене. Маршнер, опираясь на Станислауса, взбирался на койку.
— Что это, кофе или бурда какая-то? Я подам жалобу. Господин вахмистр будут очень довольны, прошу иметь в виду.
Вонниг хохотал. В комнату ворвался офицер. Его сопровождали унтер-офицер и эскадронный писарь. Станислаус отрапортовал. Молоденький лейтенант Цертлинг, заложив руки за спину, расхаживал по комнате так, словно искал грибы. Он велел писарю проверить, не осталась ли в печке зола. Но там уже было все в порядке. Лейтенант шагал по проходу между койками. Он поднял край одеяла Маршнера, чтобы проверить, чистые ли у него ноги. Станислаус вспотел от страха. Неужто ему еще придется мыть ноги Маршнеру? Лейтенант поморщился. С другого конца постели доносилось бормотание Маршнера:
— Более просторных кроватей нет во всем отеле, рад стараться, господин старший вахмистр, прошу иметь в виду.
Лейтенант смотрел на хрипло лопотавшего во сне Маршнера и заметил кофейные пятна на его сорочке.
— С-свинья! — прошипел он.
Ротный писарь сделал пометку. Внезапно лейтенант наклонился: он наступил на что-то. То был окурок сигары Маршнера. Вот когда на Станислауса обрушилась гроза. Ему было приказано лечь и подползти к окурку. Он должен был прямо над ним пятьдесят раз выжиматься на руках и пятьдесят раз поклониться, не сгибая колен, и все это делать, не спуская глаз с изжеванного окурка.
— А теперь вы его видите? Еще тридцать раз выжаться, чтобы улучшить зрение! — Ротный писарь продолжал что-то записывать.
Они ушли, а Станислаус все еще продолжал выжиматься. Голос Роллинга с верхней койки прозвучал как божий глас с небес.
— Он ушел!
Станислаус еще несколько минут оставался лежать ничком и размышлял о своей жизни.
Один за другим ползли тусклые казарменные дни. Настала зима. Однажды утром пронзительный свист прервал чудесный сон. Станислаусу приснилась Марлен. Она была его первой, его лучшей любовью. Солдаты, разбуженные унтер-офицерским свистком, вскакивали с постелей: в комнате было холодно и сыро. Они хлебали коричневую жижу ячменного кофе из котелков, размазывали жалкие пятна маргарина по темному черствому хлебу.
Потом начиналось то, что почему-то называли службой. Налево! Направо! Кругом! Левое плечо вперед, бегом марш! Правое плечо вперед, бегом марш! Бесконечные, утомительные упражнения в прицеливании. Ружейные приемы. Солдаты монотонно бормотали заученные наизусть отрывки из боевого устава и смотрели на галок, летавших над крышей казармы. Заучивали и наизусть перечисляли части винтовки и пулемета. Чистили оружие, каждый день снова и снова чистили оружие. Чистили мундиры, проверяя все швы, натирали до блеска ремни и сапоги. И, наконец, чистили коней. Прикасаясь к лошадям, они ощущали живое тело. В конской шерсти скрывались последние остатки жизни, сохранившиеся в казарменной пустыне. Когда наступала пора любви, кобылы становились упрямыми, а жеребцы дичали. Им нельзя было запретить любовь. С ними считались. Следили только, чтобы они не повредили себе, не поранились. Лошади были дороги, а люди дешевы.
В те редкие вечера, когда у Станислауса не бывало внеочередных нарядов по конюшне, он находил утешение, читая тоненькую книжонку, данную ему Вайсблатом в то знаменательное воскресенье. На первой странице книги был изображен автор. Человек с покатым лбом и густыми косматыми волосами. Из-под лохматых бровей сверкали глаза сумасшедшего. На рот нависали волнистые усы. Станислаус был убежден, что, садясь пить кофе, этот человек сосал его через усы. Его звали Фридрих Ницше. Он выглядел бы полубогом, если бы не пиджак в мелкую клетку. Фридрих Ницше описывал в этой книжке жизнь человека, который ушел в горы и там десять лет наслаждался своим духом и своим одиночеством. Потом человек спустился с гор и снова пришел к людям. И трудно себе представить — но за это время он стал более мудрым, чем сам Иисус Христос. Где бы он ни появлялся, он так и рассыпал толпам свои поучения: «Глядите! Я устал от мудрости, как пчела, которая собрала слишком много меда. Мне нужны руки простертые, чтобы черпали мудрость» — так странно выражался этот поэт.
Станислаус простирал обе руки — подавайте мудрость! Он читал, морща лоб, но некоторых мест так и не понял. Он стал подозревать, что эти места мог понять только сам Фридрих Ницше, потому что он был отцом сверхчеловеков.
Однако Станислаус находил и такие отрывки и поучения, которые воспринимались легко, как мед. Фридрих Ницше, словно пчела, заполнял соты его мозга медовыми испражнениями. «В женщине все загадка, но все загадки в женщине имеют одно решение — беременность». Да-да, этот Фридрих знал толк! Станислаус не мог себе простить, что не сделал ребенка Лилиан. С малышом на руках ей было бы не так легко охотиться за вахмистрами. И Фридрих Ницше поучал: «Счастье мужчины означает: я хочу. Счастье женщины означает: он хочет». И это помогло Станислаусу понять, в чем он ошибался. Всегда было так, что Лилиан хотела, а он только уступал.
— Мы не пойдем сегодня в кафе, я буду писать стихи, — говорил Станислаус.
— Пошли в кафе, я хочу потанцевать, — заявляла Лилиан и поглаживала его мизинцем. И они шли в кафе.
Станислаусу не нужно было так поступать. Да, этот Фридрих был прав. Он знал что к чему, усатый Фридрих Ницше.
«Женщина должна повиноваться и должна найти глубину для своей поверхности. Ибо нрав женщины — это поверхность. Он — зыбкая волнуемая пленка над мелководьем». Так поучал Фридрих. Это было так же справедливо, как многие изречения в библии. Станислаус знал это по собственному опыту. Как это чудесно, когда твои мысли подтверждает кто-то другой, особенно в печатных строках книги.
Вахмистр Дуфте раздавал письма. Солдаты выстроились во дворе казармы.
— Вонниг! — выкрикнул вахмистр.
— Есть! — откликнулся Вонниг.
— Вам почты нет, — сказал вахмистр.
— Ха-ха-ха-ха! — Маршнер хохотал над остроумной шуткой господина вахмистра.
— Гогочет, как насос на помойке, — проворчал Роллинг.
— Бюднер! — выкрикнул вахмистр Дуфте. Он перевернул конверт и прочел обратный адрес. Его глаза по-ястребиному застыли. Станислаус вышел из строя. Вахмистр уронил конверт на землю. Станислаус наклонился за ним.
— Лечь и не подыматься! — заорал Дуфте.
Станислаусу пришлось сорок раз выжиматься на руках над конвертом. При этом он смог прочесть обратный адрес: «Пауль Пешель, столяр-краснодеревщик». Станислаус мог бы выжаться и пятьдесят, и шестьдесят раз. Его ладони задубели от щебня казарменного двора и от ружейных приемов.
— Встать! Бегом марш!
Станислаус добежал до угла казармы. Там он должен был снова лечь и ползти, опираясь на локти. Так он без особого труда дополз до своего письма. Взял его и снова стал в строй. Господин вахмистр был удовлетворен; к тому же он порядком устал за день. В заключение он сообщил, ухмыляясь, что Маршнер может получить посылку, увесистую посылку, которая ждет его в канцелярии. Потом зевнул в перчатку и приказал разойтись.
Станислаусу не терпелось прочесть письмо папаши Пешеля. Он принялся за него еще до обеда, не успев помыться. Пешель просил извинить его. Он увещевал свою дочь Лилиан. Но ведь сегодня нельзя все сказать. Таковы уж обстоятельства… Правда, поэт еще может некоторые вещи описать иносказательно. Так или иначе, но Лилиан его послушалась и восприняла его наставления. «Что же еще написать тебе, дорогой Лиро Лиринг? Ты ведь и сам это чувствуешь, когда твоя возлюбленная, моя дочь, тебя обнимает. Она теперь с каждым разом все охотнее уезжает к тебе, и я этому бесконечно рад. И когда я думаю о том, как вы вдвоем счастливы, мне вновь хочется писать стихи. Не забывай своего Пауля Пондерабилуса.
Вопреки страданьям, пыткам и раненьям
Знает мое сердце дивные мгновенья.
P. S. Надеюсь, что письма не проверяются; в этом маленьком стихотворении я имею в виду, конечно, мой брак, а не правительство».
Станислаусу стало жаль бывшего своего тестя Пауля Пешеля. Дочь беззастенчиво обманывала его. В женщине все ложь, и в женщине все имеет одно решение, которое называется беременностью. Так размышлял он, чистя обмундирование для послеобеденных занятий.
6
Станислаус сражается с призраками, ищет сверхчеловека и становится юным ястребом без перьев.
Вахмистр Дуфте, блистая начищенными голенищами сапог и звеня шпорами, шагал по конюшне. Может быть, именно сейчас он вспоминал воскресенье, проведенное с некоей девицей Лилиан?
Али Иогансон протирал ноздри своей кобыле. Он вытащил из лошадиной ноздри серую тряпку, вытянулся по струнке и отрапортовал:
— Солдат Иогансон чистит лошадь.
— А что ты там жрешь во время службы? Открой пасть!
Али сперва проглотил, а потом открыл рот. Его зубы сверкали белизной, все тридцать два как один.
— Ты что жрал?
— Ветчину, господин вахмистр.
Ответив, Али снова открыл рот, поскольку не было приказано закрывать.
— Откуда у тебя ветчина?
— Моя порция окорока, господин вахмистр.
— Закрой пасть! Где взял окорок?
— Он стоял на столе, господин вахмистр. В нашей комнате стояла коробка с окороком, большой окорок, на восемь человек. Я отрезал свою порцию. Я съел свою порцию. — Али выпучил глаза и замолк.
Вахмистр ушел. Ушел, вышагивая размашисто и звонко. На его виске набухла жила. Он позвал Маршнера. Тот валялся на сене, так как отдавал еженедельно ливерную колбасу, чтобы за него другие чистили коня. Маршнер вскочил и побежал вслед за вахмистром, как большой пес.
История с ветчиной выяснилась. В коробке, стоявшей на столе в комнате № 18, была посылка, полученная Маршнером из дому. Он вынул оттуда все, кроме окорока, который предназначался для вахмистра. Дуфте принял подарок, но заметил, что от него отрезан большой кусок, ровно одна восьмая часть отличной жирной ветчины. Разумеется, никто, кроме Али, не был настолько наивен, чтобы поверить, будто отечество в своем легкомыслии дошло до того, что раздает солдатам целые окорока — по одному на отделение.
— Ты покусился на окорок своего начальства, прошу иметь в виду. За это последует кара, — торжествовал Маршнер.
За стенами казармы стояла ночь, мигавшая тысячами звездных глаз. Люди суетились, занятые обычными хлопотами. Ночь была одинока. Спертый воздух казармы сотрясался от многообразного храпа. Вонниг во сне затянул молитвенный гимн баптистов. В него швырнули крышкой от котелка. Вонниг замолк. Ему приснилась гроза, и он испугался. Крафтчек видел во сне золотых рыбок, он вылавливал их в черной воде шахты и удивлялся, что раньше не сообразил заняться этим.
Койка Маршнера была пуста. Неужто его дела пошли настолько хорошо, что он уже получал увольнительную на ночь? Дверь тихонько приоткрылась. Вошли четыре фигуры в белом. Три из них на мгновенье задержались у железной печки посредине комнаты, потом подошли к четвертому, который, словно молясь, стоял на коленях у койки Али. Они сорвали одеяло со спящего Али. Двое белых схватили его, заткнули чем-то рот и потянули долговязого, беспомощно трепыхающегося парня к столу. Белые одежды привидений распахнулись. Взлетели мокрые, жесткие веревки. Удары обрушились на тело Али. Он застонал. Роллинг соскочил с койки и толкнул Станислауса.
— А ты разве не хочешь посчитаться с этими псами?
Станислаус бодрствовал, но стал притворно зевать и потягиваться.
— Откуда же я знаю, кто прячется под простынями?
Роллинг изумленно посмотрел на него.
— Ты только бей, а достанется как раз тому, кому следует.
Али пытался огромной ручищей вытащить тряпку, затыкавшую его рот. Привидения крепче вцепились в него. Веревки снова со свистом опустились на спину Али. Но те, кто держал, уже порядком упарились. Раздался треск, стук, грохот. Али высвободил одну руку, вырвал тряпку изо рта.
— Ага-га.
Это был уже не крик боли, а угрожающее рычанье. Со свистом пролетела тяжелая пепельница, брошенная Роллингом. Одно из привидений зашаталось. За пепельницей полетела стальная каска, но ударилась об пол, ни в кого не попав. Привидения явно были испуганы. Али высвободился. Вся комната наполнилась шумом возни и стуком ударов. Одно из привидений вылетело через окно во двор казармы. Али стоял полуголый, словно древний германский бог или предводитель легендарных арийцев. Он схватил табуретку, и она разломалась от удара об шкаф. Али схватил вывалившиеся ножки, по одной в каждую руку, две другие стали дубинками для Роллинга и Станислауса, Станислаус лихо дрался, защищая голодного Али.
Однако Роллинг оказался неправ. Среди тех, кого они отлупили, не было вахмистра Дуфте и ни одного из унтер-офицеров и ефрейторов. Колотушки достались солдатам из других отделений, которых наняли, чтобы избить Али. Впрочем, с ними был Маршнер — владелец окорока, ему даже пришлось лечь в санчасть. Это уже неплохо. Маршнер, кроме всего прочего, порезался осколками стекла, так как вылетел в окно, которое давно уже не открывали.
— Он летел, как белая ворона, вот как! — вспоминал Али.
Для Али, Роллинга и Станислауса снова начались трудные дни. Во время поверок их коней проверяли прикосновениями белых перчаток и всегда находили пыль на шерсти.
Маршнер вылечился. Однажды вечером он вернулся из санчасти и уже забрал свои вещи из комнаты № 18. Все могли полюбоваться маленьким серебряным угольником на его рукаве: Маршнер стал ефрейтором, и его назначили заведовать каптеркой. Каждый, кому требовалась новая фуражка или гимнастерка, должен был с ним ладить, ибо теперь Маршнер мог любого солдата сделать посмешищем.
Станислаусу понадобились новые брюки. Вследствие множества штрафных упражнений его брюки совершенно протерлись на коленях. Он затягивал прорехи нитками, но стоило сесть в седло, как ветхая ткань снова расползалась. Вахмистр Дуфте не мог допустить, чтобы солдат его эскадрона сидел на коне и у него сквозь дыры на коленях мерцала белизна подштанников: это мог бы заметить ротмистр. Новобранец Бюднер отправился в каптерку доставать новые брюки. Маршнер крайне дружелюбно уговорил Станислауса взять поношенные офицерские бриджи. Но когда Станислаус их надел, они оказались слишком узки и он выглядел, как молодой ястреб или еще не оперившийся голоногий коршун.
Маршнер обезобразил так же и других. Али стал похож на огромного подростка в день первого причастия. А склонному к полноте Роллингу тоже достались чрезмерно узкие брюки. Казалось, что они припаяны к его ягодицам.
— Ладно уж, казарма не ателье модного портного, — сказал Роллинг.
Вечером, когда все занимались починкой и чисткой, Роллинг снял брюки. Он нарисовал на них сзади мелом лунообразное лицо с высунутым языком. Нарисовал так, что язык высовывался каждый раз, когда Роллинг наклонялся. Маршнер пришел навестить свою бывшую комнату. Роллинг был дневальным. Он возился у печки, то и дело поворачиваясь к Маршнеру задом. И всякий раз лунная физиономия на его брюках показывала ефрейтору язык.
Потом Роллинг тайком укоротил одну штанину. Вечером, отбывая внеочередной наряд, он стоял на часах у офицерского собрания. Ротмистр фон Клеефельд заметил, что у солдата его эскадрона, стоящего на посту, штанины разной длины. Он вызвал этого дьявола Дуфте. Вахмистру пришлось прервать свой обеденный отдых и отправиться изучать штаны Роллинга. Наказать его он больше не мог, так как Роллинг уже отбывал наказание и вместо обеденного отдыха должен был убирать и мыть посуду в столовой офицерского собрания. Гнев Дуфте обрушился на ефрейтора Маршнера.
Маршнеру пришлось в свое обеденное время отправиться в каптерку и подобрать новые брюки для Роллинга. Маршнер про себя решил, что в следующей посылке у него уже не найдется окорока для Дуфте.
Прошла весна, и наступило лето. Но вот уже и летние дни стали короче, напоминая, что предстоит другое время года. Месяцы текли по стране неторопливо, как большие величавые реки. Но они обходили стороной казармы, словно мели и острова. На щебне казарменных дворов ничего не росло и не цвело. На винтовочных ложах не распускались почки. И даже в самые жаркие дни нельзя было выйти на занятия без мундира или в соломенной шляпе.
Станислаус начинялся премудростями Фридриха Ницше. Этот Ницше возвещал приход сверхчеловека. Он утверждал, что все приметы свидетельствуют о скором рождении сверхчеловека, а только в нем и есть единственный смысл всей жалкой возни людей на этой земле.
Станислаус, перебирая всех солдат своего эскадрона, старался отыскать в них черты грядущего сверхчеловека. Нет, в вахмистре Дуфте нет ничего похожего на сверхчеловеческие качества, ведь его так заботила украденная ветчина! В поисках Станислаус добрался до командира эскадрона ротмистра фон Клеефельда. О нем уже скорее можно было сказать: вот кто ближе всех к богам. Ротмистр фон Клеефельд восседал на своем жеребце, как на троне. Говорил он редко и мало. Улыбался высокомерно и загадочно. Достаточно было одного его взгляда, и все мелкие бесы — вахмистры, унтер-офицеры и ефрейторы — начинали выплясывать так, что пыль столбом поднималась. Они беспощадно муштровали новобранцев. А господин ротмистр невозмутимо взирал на это с недосягаемой высоты. Может, он и впрямь был владельцем этой огромной мельницы, которая перемалывала сорное новобранческое зерно в тончайшую, отборную сверхчеловеческую муку? Господин ротмистр никогда не останавливал в казарменном дворе новобранца, если тот небрежно отдал честь или от избытка почтения споткнулся при этом. Господина ротмистра нисколько не беспокоил тот факт, что Али отдубасил ножками от табуретки призраков, которые собирались его проучить, и даже вышвырнул в окно новобранца Маршнера. Ротмистр проезжал верхом или шагал на негнущихся ногах через казарменный двор, оставаясь божественным и недосягаемым для всех мелочей казарменных будней.
Станислаус чувствовал, что он достигает философской зрелости, наполняется мудростью, которая бродит в нем, как пиво в бочке. Пожалуй, чего доброго, он сам еще в один прекрасный день превратится в сверхчеловека.
7
На Станислауса нежданно обрушивается война, его судьбу определяют без него, и он познает чудо зачатия на расстоянии.
Еще два жарких дня проползли через казарму, и внезапно началась война.
— Ты что, спятил?
— Так точно, война уже началась. — Вонниг ходил за кофе и по дороге услышал радиопередачу — приемник был в эскадронной канцелярии.
Вайсблат стоял в кальсонах у печки. Он глядел в окно неподвижными глазами.
— Началась великая эпоха уничтожения.
Ефрейтор Маршнер ходил по казарме из комнаты в комнату, рассказывая новость.
— Они навязали нам войну.
— Кто они? — спросил Роллинг.
— Полячишки, прошу иметь в виду.
— Что ж они, залезли в твою каптерку? Или, может, задерживали твои посылки с окороками?
Господин ефрейтор Маршнер счел ниже своего достоинства отвечать рядовому Роллингу.
В канцелярии эскадрона сидел скромный, дрожащий человек. И это был вахмистр Дуфте. Он задумчиво разорвал лист бумаги — донос ефрейтора Маршнера на солдата Роллинга: «распространение ложных слухов о приближении войны».
Куда только делись остроты и шуточки вахмистра Дуфте! Он раздавал письма на дневной поверке без всяких околичностей, как любой почтальон в деревне или в городе.
Солдат Бюднер снова получил письмо от столяра Пауля Пешеля. Вахмистр Дуфте на этот раз вовсе не обратил внимания на адрес отправителя, и это письмо Станислаусу уже не пришлось добывать, переползая по щебню и выжимаясь на руках. Дуфте был бледен, и у него дрожали щеки.
Станислаус узнал, что ему предстоит быть отцом. Неужели родится тот самый сверхчеловек, которого он создавал мысленно по рецептам Фридриха Ницше? Пешель требовал, чтобы Станислаус взял отпуск. Необходимо обвенчаться — так сообщил его поэтический собрат Пауль Пондерабилус. Сам Пондерабилус был счастлив, оказавшись кандидатом в дедушки. Он даже воспел это обстоятельство в стихах, но Станислаусу было не до лирических излияний будущего деда Пауля Пондерабилуса.
У Фридриха Ницше не нашлось для Станислауса никаких указаний, подходящих для подобных случаев. Видимо, у самого Фридриха не было детей. Станислаусу пришлось обратиться к Вайсблату. Ницше был мертв, а Вайсблат жив. Хотя, может быть, Вайсблат являлся живым мертвецом? Он замкнулся в мудрое молчание и тихо улыбался, избегая вопросов и прикосновений внешнего мира.
— Теперь война. Человечество движется, насколько я могу судить, гигантскими шагами навстречу своей судьбе — уничтожению. Стоит ли тут беспокоиться о нерожденных детях? Разумеется, нет!
Казалось, война вызывает в людях не только страх, но и дружелюбие. Когда Станислаус проходил по казарменному двору или шел в лавку за почтовыми марками, унтер-офицеры улыбались ему очень дружелюбно и кивали. Роллинг шагал по двору. Он размышлял о войне и, засунув руки в карманы, стискивал кулаки. Из каптерки вышли ефрейтор Маршнер и какой-то унтер-офицер. Но Роллинг не вынул рук из карманов. Его никто не окликнул, ему так и не помешали шествовать, спрятав кулаки.
Наступил вечер, а эскадрон все еще оставался в казармах. На войну пока не отправляли. Во всех комнатах казармы кипела похлебка слухов.
— Мы в резерве, неприкосновенные кадры. Там управятся одними танками. Кавалерия нужна для парадов.
По всей казарме скрипели перья. Казалось, все солдаты пишут завещания. Крафтчек передавал приветы своим постоянным покупателям. Когда мы опять получим колонии, станет куда больше колониальных товаров. Какао всегда шло хорошо, да и на кофе с помощью матеры божьей можно неплохо заработать.
Роллинг швырял на листок почтовой бумаги скачущие буквы: «Будьте тверды. Делайте, что сможете. Мир еще не доделан до конца».
Вонниг писал одному из собратьев по секте, прося позаботиться об огороде. Нужно высеять зимний салат. Сражающемуся народу необходимы витамины. Все к лучшему.
Вайсблат написал длинное письмо матери: «Передо мной огромная дыра. Скачу в нее. Это великая пустота. Холод и мрак. Нужно как-то привыкнуть к этим мыслям. В них — величие человека».
Станислаус писал Паулю Пондерабилусу. Это уже слишком. Он даже ни разу не поцеловал Лилиан. Они виделись, разделенные забором из проволочной сетки. Откуда же ребенок? Об этом пусть Пауль Пондерабилус запросит некоего весьма могучего вахмистра Дуфте. Со своей стороны Станислаус не хотел бы ничего утверждать слишком решительно, но именно в этом направлении следует вести розыски отца для новорожденного внука Пауля Пондерабилуса.
После отбоя Станислаус отнес письмо в почтовый ящик, висевший у канцелярии. Ночь была теплая. Осенний воздух дышал весной. Из канцелярии доносилось пение пьяных храбрецов: «Скачут синие драгуны!..»
Дни уходили, ожидание оставалось. Когда же прозвучит в казарме великий зов войны? Ожидание угнетало даже коней. Они ощущали его в небрежности рук своих всадников.
Маршнер получил из дому большой деревянный ящик. Он притащил его в каптерку. Запах копченого мяса смешался с прелыми запахами солдатской одежды. Маршнер набивал большие и малые пакеты и в сумерках сновал с ними в разные стороны. Не был забыт и ротмистр фон Клеефельд. Ему достался самый большой из пакетов — на один круг колбасы и на окорок больше, чем получил вахмистр Дуфте. Так Маршнер трудился над своею судьбой.
Станислаус обо всем советовался с Фридрихом Ницше. Он хотел стать достойным последователем этого усача. А его собственную судьбу определяли без него.
Его вызвали в канцелярию к вахмистру Дуфте. Пришлось подождать. В соседней комнате ротмистр фон Клеефельд отчитывал унтер-офицеров. Этот человек, который в представлении Станислауса был собеседником богов, говорил скрипучим голосом звукоподражателя, имитирующего дрозда.
— На смотре показали себя очень плохо! Рохли! Недостаточно муштровали! Бабы, сортирные уборщицы! Имею достоверные сведения. Сообщил капитан фон Хацфельд: потери — две трети роты. Бои куда ожесточенней, чем пишут в газетах. Он уже получил железный крест первой степени. Хацфельд. А вы что же, так и хотите оставаться здесь караульными при бабах? Разойдись!
Станислаус прислушивался так внимательно, что даже принял на свой счет эту команду. Он зашагал к двери. Ефрейтор окликнул его и вернул. Дверь соседней комнаты распахнулась.
— Внимание!
Ротмистр фон Клеефельд вышагивал, как обычно. Он не замечал дрожащего брюха писаря-ефрейтора. Он не замечал окаменевшего Станислауса. Унтер-офицер распахивал перед ним двери. Так ротмистр мог, не шевельнув пальцем, едва ли не проходить сквозь стены.
Новый прилив суровой требовательности охватил унтер-офицеров и с шумом обрушился на Станислауса. Один нашел, что он недостаточно четко сгибает руку, отдавая честь. Другого возмутило состояние его подворотничка.
— Распущенность! Из-за таких вот и нам оставаться здесь караульными при бабах?
После каждой порции брани Станислаус становился все меньше и меньше. А тут в довершение ко всему появился вахмистр Дуфте. Теперь уж Станислаус превратился и вовсе в пылинку, которую того гляди вынесет за дверь. Но Дуфте увел его с собою в соседнюю комнату. Там на стенах висели карты и изображения лошадей в разрезе.
Дуфте уселся за кафедрой. Станислаусу было позволено сесть у маленького столика. Так они и сидели, словно учитель и ученик. Дуфте рассматривал свои ногти. Это были остро обрезанные и очень чистые ногти. Потом он спросил:
— Так как же вы это сделали?
Станислаус вскочил.
— Мне ничего не известно, господин вахмистр.
По складкам физиономии Дуфте всползала ухмылка.
— Какая у вас профессия?
— Пекарь.
— Садитесь! — ухмылка Дуфте иссякла. — Некая Лилиан Пешель вам знакома?
— Знакома, господин вахмистр.
— Так сказать, невеста?
— Была невестой.
— Когда в последний раз имели удовольствие?
— Не понял вас, господин вахмистр.
— Да вы же вместе с ней не цветочки собирали!
Станислаус покраснел.
— Больше года уже. Да, больше года.
— А как же ребенок?
Станислаус пожал плечами. Дуфте ковырял под ногтем указательного пальца правой руки. Потом поднял руку и стал разглядывать ногти на солнце. Обнаружил под одним из них еще песчинку.
— Д-да, так-то. Ребенок. Ну что же, бывает. Случается. И всегда случалось. Д-да, разумеется, приятней самому делать своих детей. Конечно. Хе-хе-хе. Она не знает, от кого у нее, но вас любит и бойка… — Дуфте многозначительно усмехнулся.
Станислаус вскочил.
— Господин вахмистр!
На физиономию Дуфте внезапно вернулся обычный звериный оскал.
— Вы что? Прерывать? Приказываю писать! Сообщать о себе! Понятно? Женитесь ли вы на этой девке или нет — мне безразлично, но писать приказываю.
— Так точно.
— С завтрашнего дня перехо́дите в повара. Останетесь при кухне. Кр-ругом!
Станислаус отнюдь не по-воински вышел из комнаты, увешанной картами. Он сгорбился, словно придавленный незримым тяжелым ранцем. Дуфте еще некоторое время занимался своими ногтями. Ему предстояло увольнение из армии — его тесть добился для него брони. Так не мог же он возвращаться домой с ребенком, когда предстояло стать компаньоном тестя! Тот владел фабрикой повидла в Шпреевальде. А Дуфте был опытным коммивояжером по кондитерским товарам, говорливым ловкачом, так и сыпавшим шутками-прибаутками при каждом случае; так он вышутил и выговорил себе дочку фабриканта и стал управляющим фабрикой тестя. Там было порядком скучно — каждый день все то же повидло, все тот же кухонный чад и та же болтовня. Он вступил в штурмовые отряды Гитлера, чтобы хоть немного отдохнуть от повидла. Он вступил добровольцем в армию, чтобы еще больше отдалиться от повидла. Но то было в мирное время. А теперь надо воевать. Это вовсе не входило в намерения Дуфте. К тому же опасно отправляться на фронт именно с этой частью. Время от времени он доставлял себе удовольствие пошутить над кем-нибудь. Но бывают обидчивые люди, которые к тому же и злопамятны.
8
Станислаус превращается в одну шестую часть коня, убеждается в несостоятельности человеческих понятий и встречает женщину, которая обманывала бога.
Паровоз, громыхая, катился по стальным рельсам, он тянул за собой деревянные вагоны на стальных колесах. В каждом из деревянных вагонов размещались 8 лошадей или 48 человек. Но человек чувствовал себя вольготнее, когда, вместо того чтобы находиться с сорока семью себе подобными, оказывался дневальным при восьми лошадях.
Станислаус ехал по-царски. Нет, он не стал повелителем маленьких людей. Он ехал при полевой кухне, и весь день ему приходилось работать, пока другие валялись на соломе.
И еще кое-кому жилось хорошо во время поездки — например, господам офицерам. Они ехали в пассажирском вагоне второго класса, у них в купе были мягкие диваны и столики, уставленные стройными бутылками вина. Иногда какая-нибудь бутылка падала — ее сталкивал один из офицеров. Заплетающимся языком он вызывал денщика… Рраз — и на столике оказывалась новая бутылка. И офицер мог опять веселиться, чокаться и блеять.
По воле господа
Растет даже железо…
В вагонах третьего класса, где ехали унтер-офицеры и фельдфебели, было тоже неплохо. Правда, скамьи были жесткие и отсутствовали столики с винными бутылками. Но к чему они? Унтер-офицеры держали прямо на коленях бутылки пива или водки либо набитые ранцы. На телячьей шкуре ранцев они перекидывали пестрые карты и азартно играли. Это помогало им забыть о том, куда они едут, и чувствовали они себя, как обычно. Время от времени они тянулись к бутылкам, пили за здоровье друг друга.
Там, далеко, в родной стране,
Суждено свиданье мне…
По сути, они еще не покинули своей родной страны, но почему бы и не поскулить о том, что скоро должно быть утрачено? Здесь их пение хоть слышат сестры из Красного Креста и женщины из организаций «национал-социалистской народной благотворительности». Растроганные женщины протягивают в вагоны новые наполненные бутылки. Пожалуйста, возьмите!
Все отделение из комнаты № 18 ехало в товарном вагоне. Окна в нем были зарешечены, и даже когда большая вагонная дверь была открыта, углы сохраняли темень.
Роллинг сидел в углу и писал письма. Он не хотел пользоваться лучом солнечного света у открытых дверей, чтобы никто не заглядывал ему через плечо. «Куда отправляется транспорт свиного мяса — никто не знает, но ты и сама понимаешь, что эти псы везут нас не к причастию».
Крафтчек и Вонниг затеяли спор о вопросах религии. Крафтчек уверял, что достоверность существования божьей матери была уже неоднократно доказана. Она самолично являлась в различных местах, и одним из доказательств были лавки, немедленно возникавшие на местах ее появления. Их торговля была благословенна и приносила большие доходы.
Вонниг не верил в чудеса святой богородицы. Всякий человек является чудом.
Без бога не может быть матери. Но сам бог невозможен без матери — вот в чем суть.
— А ты сам ее когда-нибудь видел?
— Она не может мне являться, потому что я грешник.
Крафтчек доказывал, что человек с его занятием не способен устоять перед грехом. То вдруг на весах в лавке возникнет зацепка и сам поможешь им, подложив под чашку небольшой груз, — вот уж и впал в грех. То кислая капуста окажется малость протухшей. А ты ее опрыскаешь раствором уксуса и пишешь на черной доске объявлений перед лавкой: «Свежая квашеная капуста, только что получена». И тем самым опять погряз в грехе, и кто знает, насколько глубоко. Теперь Крафтчек надеялся, что война вдалеке от лавочки станет его очищением.
Богдана в углу обучали игре в скат[9]Карточная игра. — Прим. ред. солдаты из другого отделения. Он при этом преследовал особые цели. К его шлагбауму в Гурове теперь подвязали стальной трос. Этот трос останется там и после войны, когда Германия малость расширится. Начальству придется найти ему место непосредственно на станции. Что если он станет начальником станции! А начальник должен уметь играть в скат, иначе он нигде не сможет постоять за себя.
Али Иогансон уже съел свой неприкосновенный запас, хотя за это полагалось трое суток ареста. Но куда его посадят здесь, в поезде, если даже обнаружат, что он ночью выбросил пустые консервные банки за дверь вагона? Может, его засунут в домишко стрелочника и заколотят двери? Али смотрел на грушевые деревья, проносившиеся мимо. Почему-то поезд ни разу не остановился вблизи садов со зрелыми плодами, а стоял только рядом с горами угля, водяными кранами и черными стенами. Али с жадностью таращился на корзину одной из «женщин-благотворительниц», но после того, как ему досталась круглая пачка кисло-сладких леденцов, унтер-офицеры отогнали его.
Станислаус позвал Роллинга с Иогансоном в вагон, где размещалась кухня, чистить картошку. Вайсблат решительно отклонил такое выдвижение. Он начал голодовку. Зачем ему есть и укреплять свое тело, если они едут навстречу уничтожению?
Серо-синий дымный султан паровоза мерцал красными искрами. Иногда искра влетала в открытый котел полевой кухни. Там она гасла с легким шипеньем. Так уголь, добытый из чрева земли, переправлялся в человеческое чрево. Станислаус ожидал, пока закипит вода. А паровоз тянул вперед деревянные вагоны с людьми, лошадьми, оружием и снаряжением. Но что значит «вперед»? Не было никакой определенности в понятии «вперед». Если бы паровоз повез Станислауса обратно домой, это тоже означало бы «вперед». Как неточны человеческие слова!
Вилли Хартшлаг, старший повар, толкнул Станислауса. «Давай поживее! Чтоб вода кипела!»
В полдень поезд остановился, но голод Али не знал остановок. Станислаус выдал ему из готовившегося обеда котел вареной картошки. Али сиял, жевал за обе щеки и с высот своего райского блаженства созерцал других солдат, копошившихся возле угольных куч. Подошел ефрейтор Маршнер.
— Что вы там тянете с харчами?
У Али во рту было две картофелины и не оставалось места для слов.
— Оф-оф, — пробормотал он.
— Что ты там жрешь? — заорал Маршнер.
— А тебе какое дело, вошь каптерочная? — сказал Вилли Хартшлаг. Он был ефрейтором и мог себе позволить так отвечать.
Маршнер получил свою обеденную порцию и поворчал над нею у кухни. У него были свои, куда более вкусные харчи. Они лежали в большом ящике, на котором значилось большими черными буквами: «Склад обмундирования». Но от этого ящика пахло отнюдь не нафталином и не потной солдатской одеждой.
Маршнер отправился с полученным супом к новому вахмистру Цаудереру.
— Как по-вашему, это суп?
Цаудерер помешал ложкой в похлебке.
— Я бы сказал, что мяса маловато.
Маршнер положил на скамью вахмистра пакетик в промасленной бумаге.
— Этот Иогансон жрет все, что есть на кухне, объедает дочиста.
Вахмистр ощупал пакетик.
Али Иогансону пришлось покинуть кухню. Маршнер был счастлив. Он даже похорошел. Это все заметили.
А поезд, как огромная гусеница, продолжал извиваться между полями картофеля: ботва уже потемнела и обвисла. Заморозки серебрили ее по утрам.
— Вот она война. Картошка вымерзает на поле, — сказал Роллинг и сплюнул за дверь вагона.
— Значит, пойдет на водку, — сказал Вонниг. — Все к лучшему.
Когда поезд уже вытряхнул из солдат тысячи таких незначительных разговоров, в вагонах стало тише. Только время от времени, словно последние горошины из пустого мешка, выкатывались короткие замечания. Солдаты ехали и размышляли про себя, но к концу уже казалось, что и мысли у них иссякают. Целыми днями поезд стоял у забытых станций, и солдаты успокаивали нетерпеливых коней. Они ехали по горной Силезии и то и дело должны были пропускать поезда из Польши, спешившие вперед. Что же все-таки значило «вперед»? Станислаус так и не уяснил себе это.
Тучи закрывали звезды. Мороз не мог добраться до земли. Воздух был теплый. Казалось, что на товарной станции сохранились частицы лета. Его здесь берегли.
В вагонах мерцали стеариновые светильники в круглых картонных баночках. Казалось, что им все безразлично и они радуются, прожигая свое существование в маленьких огоньках. Они освещали то машущий конский хвост, то мягкую морду. Конская морда ворошила серо-зеленое сено. Огонек-светильник вытянул из мрака лицо Роллинга. Он лежал, и подушкой ему служил ранец. Глаза его были широко открыты и не моргали. В зарешеченное оконце повеяло теплым воздухом. На другой стороне вагона маленький огонек плясал на жидком стеарине. Там лежал Али, спавший, как сытый младенец. Станислаус выглядывал в дверную щель. Вокруг был мрак. Ни единого огонька ни в здании, ни на перроне. Свет был запрещен. Мрак стал делом чести. Любой огонек привлекал вражеских летчиков. Любая искра могла быть погашена бомбой. Станислауса донимали вопросы, назойливые, как вши. Кто враги? Ведь не поляки напали на Германию, а немцы наступали на Польшу. Палили из пушек, уничтожали дома и людей. Газеты писали, что поляки — враги немцев. А каждый немец и каждый солдат обязаны этому верить.
Станислаус не чувствовал вражды к полякам. Его самого окрестили именем поляка — пожирателя стекла. Его отец знал этого поляка и всегда говорил о нем: «Вот это подходящий парень». И снова Станислаус заметил, как произвольно подбирают люди слова: «вперед» может значить и «назад» и, напротив, «назад» могло бы означать «вперед». Как кому нравится.
Станислаус пролез в дверную щель. Он убегал от своих мыслей. Он спрыгнул. Под ногами затрещал уголь.
— Пароль?
— Победа! — отвечал Станислаус. Казалось, что его окликнула гора угля.
Ночь была огромна, и крохотные огоньки прятались, точно вши, в ее черной шубе. За перроном Станислаус набрел на куст бузины. Он стоял там, словно единственное живое существо во всем мире. Паровозные гудки раскалывали тишину. Сноп искр вылетел из трубы паровоза. Этот стальной зверь не боялся самолетов. Он делал свое дело. А мудрый человек в страхе перед опасностью удерживал дыхание.
Станислаус услышал за собой шаги. Кто-то еще бродил по перрону. Шаги были неуверенные: так скупец отходит от своих денег. Станислаус сидел на конце одинокой шпалы. Внезапно шпала под ним дрогнула — кто-то сел на другой конец. Пусть сидит кому охота.
Ночь приподняла свой облачный покров. Из-под него выглянула звездная бахрома. Станислаусу приснилось, что он купается в пруду в своей деревне. Его тело томилось по очищающей воде. В пруду было прохладно. Станислаус вздрогнул и проснулся. Шпала под ним слегка покачивалась.
— Ты кто?
— Никто. — Голос был странный. Слишком высокий для мужчины, слишком низкий для женщины.
— Ты говоришь, как женщина.
— А я и есть женщина. Чего ж ты не придвинешься поближе?
Станислаус придвинулся. Они сидели рядом. От женщины пахло чистым бельем и плавленой смолой.
— Ты женат? — спросила женщина. На ней была острая шапочка.
— Не женат, — ответил он.
— А может, обручен, жених?
Станислаус вспомнил о Лилиан.
— Было, прошло!
— Ты ее больше не любишь?
— Да не спрашивай ты, как в книжке. Она меня больше не захотела. Да, пожалуй, она и никогда меня по-настоящему не хотела.
Их лица сблизились вплотную.
— Ты красивый? — спросила женщина.
— Я себя знаю с детства, и я всегда такой, какой есть.
— Ты красивый, я чувствую это.
Она сжала его руку. Ее дыхание пахло мятой. Он поцеловал темноту и встретил губы, в которых ощущалось биение пульса.
По всему миру расставлены мягкие ложа для любящих. Любовь и на камне стелется пухом. Вот голые доски скамьи. Вчера они были лебяжьей периной для двух людей, любивших друг друга. Что там за вмятина в снегу? Ночной приют оленя? Нет, двое любящих там провели заветный час.
Потом она спросила его:
— Как тебя зовут?
— Сестра называла меня Стани. Но зачем я говорю об этом?
Она отпустила его.
— Ничто сказанное однажды не бывает лишним. Времени очень мало.
— Нет! — возразил он резко. — Это люди кромсают время, уменьшают его. Я видел, как ворона летела над полем в изморози. Она, видно, учуяла, что в вагоне-кухне варится мясо. Но поезд катился, он спешил. Ворона села на столб. И мне показалось, что она покачала головой. Люди выражаются очень неточно. Вот ты уйдешь в город. Меня утянет поезд. Ты покинешь меня, а я покину тебя. Кто же прав?
— Этого я не понимаю. — Она снова схватила его за руку. — Мне страшно.
— Это только мысли, — сказал он.
— Ты поэт? — спросила она.
— Никто не напечатал того, что я писал.
— К нам в госпиталь привезли одного такого, которого мучили всякие вопросы, ну прямо как вши. Они ему голову изгрызли изнутри.
— Что же вы с ним сделали?
— Вылечили.
— Он писал стихи?
— Он-то уехал, но одну молодую сестру заразил. Та ухаживала за ним и вылечила его своей любовью. А теперь он не дает о себе знать, и она все бледнеет и тает, как свечка.
Голос часового:
— Кто там?
— Победа, — Станислаус приподнялся.
Зашуршал щебень. Часовой наклонился над ними. Луч света от карманного фонарика прорезал тьму.
— Свиньи! — фонарик погас. Снова зашуршал щебень.
Рука женщины дрожала.
— Ты видел меня? — спросила она и вдруг заторопилась. — Хорошо, что ты меня не видел. Я слишком уродлива для любви. Если бы ты засунул руку в карман моего пальто, ты бы нашел там очки с толстенными стеклами. Если бы ты поцеловал меня в лоб, то почувствовал бы, как он низок и придавлен. Если б ты обнял меня как следует, то заметил бы, что я горбата.
Станислаус не знал, правду ли она говорит, но ему хотелось утешить ее и на тот случай, если все сказанное ею было правдой.
Она зажала ему рот.
— Нет, я не сестра милосердия. Я сестра похоти. Я использую жажду любви моих больных. Я воюю с богом. Он сделал меня уродливой, а я обманываю его людей. Я буду и дальше его обманывать. О, я стану еще хуже. Я пойду в госпиталь для слепых. Мне нужны недавно ослепшие, которые еще не научились видеть руками. Я спрячу свои очки в шкаф и буду шататься между постелями слепых, немногим менее слепая, чем они.
Паровоз просвистел. Жестокий свист, точно режущий удар ножа.
— А теперь иди, уходи! — она толкнула его к поезду и сама прыгнула в темноту. Станислаус услышал, как она застонала. Должно быть, упала.
9
Станислаус спасает горящего человека, но за это доброе дело его наказывают, и он решает согреть сердце женитьбой.
Выпал снег. Серый городской снег. Голодные лошади раскапывали его копытами. Эскадрон расположился перед казармами в польском городке. Солдаты ждали. Станислаус и Хартшлаг сидели на корточках перед холодной полевой кухней. Станислаус смотрел, нахохлившись, из-под нахлобученного подшлемника на бывшего своего коня «Попрыгуна». В нем было живое, животное тепло. А полевая кухня покрылась наледью.
Ротмистр фон Клеефельд шагал по площади перед казармами. Его аистиная походка не изменилась от мороза, но его величие казалось несколько нарушенным. В нем бушевала злость, самая обыкновенная злость маленького человека. Солнце прорвалось на одно мгновенье сквозь облака. Снег заблестел, и блеск его отразился в монокле ротмистра, голос которого, как всегда, был деревянно скрипуч.
— Разве мы люди второго сорта?
Вахмистр Цаудерер, подскакивая, как взъерошенный зимний воробей, спешил вслед за ротмистром. И так же, как воробей клюет навоз, он подхватывал слова, которые на ходу ронял ротмистр.
— Слушаюсь, но это твердый орешек, господин ротмистр, — сказал он.
Ротмистр остановился. Солнце опять скрылось. Монокль ротмистра потускнел.
— То есть как это орешек?
Вахмистр подтянулся — воробей подобрал крылья.
— Так говорят, господин ротмистр.
— Кто говорит?
— У нас в дивизионе говорят.
— Но прошу, чтобы не у меня в эскадроне. Это словечки, подслушанные у тех, там. — И он указал пальцем в кожаной перчатке на окна казармы.
В казарме обитал батальон гитлеровских охранных отрядов СС. И эти арийцы сочли себя обиженными. Они завоевали эту страну и этот город, а теперь явились серые воробьи, прилетевшие из отечественных казарм, и хотят прогнать их, орлов, из гнезд и сами стать здесь господами и владельцами.
Теперь арийцы были заняты тем, что вышвыривали из окон на двор казармы столы, табуретки и шкафы. Тррах-ух! Стол свалился прямо перед жеребцом-попрыгуном. Тот взвился на дыбы, захрапел, сбросил всадника. На снегу темнели доски стола, испещренные жирными пятнами.
Ротмистр ускорил шаг. Вахмистру пришлось чаще подскакивать. Табуретка грохнулась у ярко начищенных сапог ротмистра, а из окна черномазый ариец заорал:
— Долой клопов!
Ротмистр резко остановился и вытер снежную пыль с лакированного козырька.
— Невероятно! — пробормотал он.
— Невероятно, — подхватил вахмистр.
Со свистом вылетел шкаф.
— Пожалуй, это уже предел?
— Дают прикурить! — сказал вахмистр.
Фон Клеефельд не обратил внимания на это словечко. У него уже не было времени бороться против одичания, сказывающегося в речи его подчиненных. Он уже почти бежал к навесу над главным входом казармы. Часовые стискивали губы так, словно жевали передними зубами маковые зерна. От подавленного смеха у них вздувались животы, когда они брали «на караул». Ротмистр, согнувшись от обиды, вошел в казарму. Его солдаты на площади топали ногами и хлопали в ладоши, чтобы согреться.
Когда ротмистр вышел обратно, он выглядел так, будто у него сломан позвоночник. Только уже в конце площади он поднял голову, и рыхлые снежинки упали на его монокль, как на маленькое стеклянное блюдо. Вахмистр, подражая ему, тоже поглядел на небо. Ротмистр вынул из глазницы монокль. Вахмистр не знал, что ему сделать в подражание.
— Располагаться лагерем! — закричал ротмистр. Он зашагал дальше, и снежинки сидели на его меховом воротнике, точно белые клопы.
Вечер шел к концу. Солдаты сидели в палатках. Они молчали. Каждый согревал мысли у более или менее жаркого огонька своего сердца. Снег уже больше не падал. Холод становился все неистовее. Солдаты жевали сухой хлеб. За палатками кони копытами копали снег. У них не было сена. Часовые пытались успокоить их кусками хлеба из своих порций.
Станислаус вспоминал все хорошие минуты своей жизни, чтобы хоть так обороняться от холода. Счастливых мгновений в его жизни нашлось очень мало, и они были коротки. Он задремал и проснулся от стука своих же собственных зубов. В прорезь палатки проникало робкое тепло. Отсвет, как бы от затененного солнечного света, мерцал на палаточной ткани. Снаружи шумели, среди бела дня: неужели в этой диковинной стране так резко менялась погода?
Станислаус услышал командные окрики. Потом топот. Внезапно стало тихо, как на цирковой арене перед трудным номером. И вдруг затрещал огонь. Возле палатки что-то упало. На пологе Станислаус увидел силуэт коленопреклоненного человека. Послышались рыдания и стоны. Станислаус выскочил наружу.
Перед палаткой стоял на коленях бородатый человек. Он был похож на первосвященника с картинки в школьной библии. Его длинное пальто горело. А он молился.
Роллинг подбежал, опрокинул старика и стал катать его по снегу. Это могло показаться грубым, по пламя на полах стариковского пальто, шипя, угасало. Лошади пугались. Они шарахались, дергая цепи. Роллинг окутал старика своим одеялом. Пахло горящим тряпьем и паленым волосом. На казарменной площади пылал, рассыпая искры, костер арийцев. Дверцы горевших шкафов коробились и трещали. Пламя шумно взлетало к ночному небу. Звезды мерцали, зеленые от мороза. У костра послышался рев и гогот, словно стая волков резвилась в полнолуние. На другой стороне площади человек в пылающей накидке убегал в темноту. Станислаус припустился за ним.
— Стой, дай потушу!
Человек побежал еще быстрее; пламя на его одежде разгоралось.
— Фьють! Фьють! — Станислаус бросился на землю, словно боевой опыт был у него в крови.
Станислаус огляделся. Перед ним был растрепанный кустарник. Горящий человек исчез. Снова просвистели две пули.
— Перестаньте! Это я! — крикнул Станислаус.
— Дурак! Иди сюда, — позвал Роллинг. Станислаус полез к нему в кусты. Они оказались на берегу реки.
— Лед еще тонкий. Чего доброго, он утонет, — сказал Роллинг.
Кустарник укрывал их. Они приободрились и встали. Они долго еще стояли в кустах и мерзли, а те, там у костра, разорялись, как черти в пекле.
Два черных арийца вцепились в Вайсблата, который неумело пытался затушить горящий долгополый сюртук на другом старике.
— Ты что за свинья? — они задрали полусожженные полы и совали зад старика в лицо Вайсблату.
— А ну целуй.
Вайсблат не подчинился. Они стали пихать его ногами. Он упал на старика, вскочил и удрал в свою палатку. Вайсблат с благодарностью осязал тонкую ткань палатки — хоть какая-то защита! Разыскивая ощупью свое одеяло, он прикоснулся к чьей-то руке. То была рука Вилли Хартшлага.
— Ну, ты брось это, — пробурчал Вилли и перевернулся на другой бок. Вайсблат уже едва не возликовал, встретив человеческую руку, но потом одумался, сообразив, что с высот своих философских созерцаний он опустился в гущу жизни. И за это был наказан.
Станислаусу в течение всей этой ночи было не легче. Его трясло от страха и возмущения. К утру он решил, что женится на Лилиан, чтобы все же иметь свой дом и свой очаг в этом мире, где люди бродят, как волки.
Два дня спустя они разместились в казарме. На площади оставалась куча золы и обуглившиеся остатки столов и шкафов. Ротмистр фон Клеефельд запретил убирать. Он подал рапорт в штаб полка. Погасший костер должен был стать безмолвным свидетелем, когда известные части будут привлечены к ответственности за произведенное ими злонамеренное разрушение казенной мебели. Рапорт все двигался и двигался по инстанциям. А остатки костра так и оставались на том же месте.
Станислаус, Вайсблат и Роллинг, обмундированные по-походному, стояли перед ротмистром фон Клеефельдом. Лицо Роллинга было до самого носа скрыто холодным стальным шлемом.
Когтистые пальцы ротмистра сновали по исписанному листу бумаги. Его лицо было мертвенно, как пустыня. На нем не вырастали ни гнев, ни улыбка.
— Итак, значит, вы помогали евреям. Здесь вот написано.
Молчание. Шлем Вайсблата тихо качнулся. Тусклый взгляд ротмистра еще раз прополз по строчкам текста. Потом он оглядел солдат одного за другим.
— Вы знали о том, что это были евреи?
Ответил Роллинг:
— Мы думали — это люди.
Ротмистр передернул плечами, словно именно в это мгновение по-настоящему надел френч. Его взгляд упал на воробья-вахмистра. Он попросил его распорядиться, чтобы из буфета принесли коньяку с перцем. Вахмистр услужливо выскользнул за дверь. Ротмистр уперся руками в стол и стал раскачиваться на стуле.
— Итак, значит, вы не знали, что это были евреи?
Роллинг отвечал двусмысленно:
— Так точно!
Станислаус потел. Ротмистр откинулся на стуле, но сохранял равновесие. В его глазах блеснули огоньки и сразу же снова угасли.
— Разве вы не читаете газет?
— Никак нет! — ответил дрожавшим Вайсблат, и он не соврал.
Вахмистр вернулся.
— Придется вас наказать! — заорал ротмистр. — Вы не читаете газет? Вот как! Ну что ж, ладно. Кррругом!
Обвиняемые повернулись. Вайсблат споткнулся о половицу. Он пошатнулся и стукнулся об стену. Вахмистр подозвал его. Ротмистр писал что-то на полях бумаги.
Наказания были не слишком суровы. Станислаус должен был в течение недели после дневной работы на кухне ночами участвовать в патрулях. Роллингу, который говорил за всех, на месяц запрещались увольнения из казармы, а по ночам он должен был убирать офицерское собрание. Вайсблату — на две недели внеочередные наряды по конюшне. Неужто у ротмистра фон Клеефельда под его корсетом все же билось настоящее сердце?
Ночь. Уже пробило одиннадцать. Снег скрипел под копытами. За каким-то окном надрывался грудной ребенок. Станислаус и Тео Крафтчек ехали верхом. На серых рукавах их шинелей мерцали белые повязки, на которых черными траурными буквами было напечатано: «Патруль». Эти холщовые нарукавные повязки излучали огромную власть. Станислаус и Крафтчек не думали о той мощи, которая, проистекая от их нарукавников, впустую выливалась в ночь. Крафтчек подъехал к витрине и достал зажигалку. Он глядел на товары в витрине кондитерской. От этих мест до деревни Крафтчека было не более семидесяти пяти километров. Там осталась его жена в опустошенной лавке: она ждала его, ждала сахару и все грядущие богатства Великой Германской империи. Крафтчек повернул коня к Станислаусу, который ехал сзади.
— Так как же мы — победим или нет?
Станислаус, объезжая вокруг старинного фонтана на рыночной площади, думал о Лилиан. В кармане его френча похрустывало письмо, в котором говорилось о предстоящей свадьбе.
— Так как же мы все-таки, победим или нет? — Крафтчек не хотел отставать.
— Дд-да, — сказал Станислаус.
— Тогда нужно бы везде пообещать торговцам, что будет больше сахара.
Из переулка послышался тяжелый топот. Кто-то топал, видимо сбивая с башмаков снег. Они прислушались. Победитель Крафтчек стал бледнеть.
— Что, если это партизан, какой-нибудь дикарь? — прошептал он.
Снова послышалось топанье.
Крафтчек тронул коня и отъехал за фонтан. Станислаус двинулся в сторону переулка.
— Не хочу я иметь дела с этими партизанами, — хныкал Крафтчек. В это мгновение его конь заржал.
— Божья матерь, помоги! — Крафтчек бил коня хлыстом между ушами. Из переулка, топоча, вышел человек. Крафтчек распластался на спине коня. Неизвестный, выйдя на свет, оказался довольно полным человеком. Он разговаривал сам с собой.
— Слышишь, он зовет остальных, — шептал Крафтчек.
Станислаус подъехал к прохожему. Это оказался монах.
Он упал на колени перед конем Станислауса. А конь обнюхивал внезапно уменьшившегося человека.
— Пощадите, господин офицер, — Скулил монах. И начал молиться маслянистым голосом — «Слава в вышних…»
Тогда и Крафтчек подъехал поближе. Коленопреклоненного монаха бояться не приходилось. Монах протянул к нему руки.
— Прошу прощения, господин капитан.
Крафтчек ничего не имел против того, чтобы его, восседающего на высоком коне, именовали капитаном. Он спросил начальственно-скрипучим голосом:
— Священник?
— Меня призвали к умирающему. Святое помазание, ваша милость.
— Потом хлебнули по маленькой, достопочтеннейший, не так ли? — спросил Крафтчек все так же строго, как подобает прусскому вояке.
— Была поднесена бутылочка, господин капитан, одна только, чтобы придать мужества на дорогу. — Монах снял с руки четки, поцеловал распятие и протянул их Крафтчеку.
И тут раскрылась католическая часть сердца Крафтчека.
— Дайте мне амулет, ваше преподобие, такой амулет, чтобы меня никакая пуля не брала.
Монах стал бормотать молитвы над четками. Над рыночной площадью разносился крик больного ребенка. Статуи на фонтане — обнаженный мальчик и девочка с букетом — казалось, покряхтывают под тяжестью снега.
— Где живете? — Крафтчек прикоснулся к плечу молившегося монаха. Тот испуганно вздрогнул.
Потом они проводили шатавшегося монаха до границы участка их патрулирования. Крафтчек нацепил четки на грудь, как орден. В конце участка он несколько раз истово поцеловал монаха, и они оба всплакнули.
Станислаус и Крафтчек ехали назад.
— А что, если другой патруль захватит твоего монаха? — спросил Станислаус.
— Его защищает господь. Иначе он не встретил бы нас.
— А что, если он расскажет, как мы его отпустили?
Крафтчек перекрестился и ощупал свой пуленепроницаемый амулет.
— Да, с отечеством шутки плохи. Оно еще может тебе за доброе дело надавать пинков в задницу.
10
Станислаус ждет своей свадьбы, умасливает писаря и узнает, что должен жениться заочно.
Станислаус подал рапорт об отпуске. Его заявление лежало в одной из папок в ротной канцелярии. Никто не удосужился прочесть его. Работники канцелярии переживали знаменательные дни: смену ротного командира. Ротмистр фон Клеефельд расхаживал по казарменным коридорам. Высокомерие ротмистра словно ветром сдуло. Теперь Клеефельд ходил, прижимаясь к стенам, как простой смертный. Чемоданы уже отправлены на вокзал; свою комнату он вынужден был уступить новому командиру роты. Последнюю ночь фон Клеефельд провел в офицерской гостинице, после чего отбыл в западном направлении. Поговаривали, будто ротмистр фон Клеефельд слишком резко требовал наказания за поломку отечественной мебели. А каптенармус Маршнер сказал: «Он потворствовал покровителям евреев».
Ротмистр фон Клеефельд хранил гордое молчание. Не станет же он в самом деле обсуждать с ефрейтором Маршнером свои личные убеждения!
Новый ротмистр появился в роте, подобно Вельзевулу. Это был баварец, владелец пивоварни, но сам он ничего, кроме водки, не пил. Лицо его, смотря по погоде, становилось то бурым, то сизым, а в припадках ярости так темнело, что казалось почти черным. Волосы были подстрижены ежиком. Проверяя на перекличках дула винтовок у кавалеристов, он нацеплял на свой сизый шишковатый нос пенсне. Оно торчало на этой шишке такое крохотное и неприметное, чем-то напоминая шутовские очки на масленичном карнавале. Ротмистр Бетц всюду совал свой нос и при этом сопел, как баварский бык. Вокруг командира суетился вахмистр, похожий на испуганного воробья, который спешит полакомиться навозной лепешкой.
— Дерьмовая война, не сравнить с четырнадцатым — восемнадцатым годом, — гундосил новый ротмистр, — одно слово, маргариновая война!
Обязательным приложением к дневной порции водки для Бетца были корейка и гусиная грудинка. «Черт подери! Мы у поляков! Подать сюда жареного гуся!»
Закупщики разъезжали по деревням. Каптенармус Маршнер проявил себя опытным специалистом по откормленным гусям, салу и янтарно-желтому деревенскому маслу. Маршнер метил на чин унтер-офицера и изо всех сил старался выслужиться. Для цейхгауза ему дали помощника. Теперь Маршнер в любое время имел возможность отлучаться и целиком взял на себя заботу о питании господ офицеров. Слава Маршнера росла, и даже офицеры штаба батальона в конце концов обратили внимание на умелого и старательного добытчика.
Маршнер разъезжал по деревням в польской бричке. Он сидел, откинувшись на спинку, заложив ногу за ногу, и со скучающим видом смотрел в небо, прищурив глаз. У себя на родине он видел, как в такой позе выезжал в поле соседский помещик. Случалось, что Маршнер, прищурившись, смотрел вовсе не в небо, а оглядывал польских деревенских девушек, попадавшихся ему навстречу влево и вправо от дороги. Эту манеру Маршнер тоже перенял у соседа помещика там, на родине.
На козлах восседал Али. И хотя он однажды вышвырнул из окна казармы своего седока, каптенармуса и закупщика Маршнера, Али не питал к нему вражды. В юношеском сердце Али не умещалась вражда. Маршнер не без умысла взял Али себе в кучера. Маршнеру доставляло особое наслаждение проявлять свою власть над Али, развалившись на мягком сиденье брички. Неизменно голодный, Али грыз подсолнухи. Его кобура была набита ими доверху. Свой пистолет Али оставлял в тумбочке в казарме. Зачем ему оружие, раз он не знает врага злее голода? Он непрерывно сплевывал лузгу на придорожный песок то в одну, то в другую сторону.
— Перестань плевать! Ты же везешь офицера, — ворчал Маршнер.
Али прятал лузгу от подсолнухов за щеками, как хомяк зерна. Маршнер еще глубже откидывался на спинку сиденья и выпускал дым от сигары прямо в небо, воображая себя богом, фабрикующим облака.
— Была ли у тебя когда-нибудь под седлом настоящая девушка или ты всегда имел дело с грязными коровницами? — спросил Маршнер своего кучера, чтобы хоть немного рассеять охватившую его скуку.
Али разом выплюнул всю шелуху.
— Любил я одну красотку, да она не знала об этом, она была хроменькая и всегда сидела на лавочке перед домом. Я носил ей цветы, но она не замечала моей любви, господин ефрейтор.
Маршнер расхохотался во всю глотку. Несколько польских кур испуганно заковыляли к придорожной канаве. Али опять запихнул подсолнухи в рот. Маршнер неопределенно хмыкнул про себя, еще раз громко крякнул и тут же уснул.
Снабженец Маршнер освобождал польских крестьян от излишков сельскохозяйственных продуктов. Он расплачивался немецкими инфляционными бумажками, их присылали ему из Германии. Маршнер не скупился, и польские крестьяне осеняли себя крестным знамением при виде такого количества денег, переходившего в их заскорузлые руки. Али стоял рядом и упрятывал в мешок сало, колбасы, откормленных гусей и желтое, как весенний одуванчик, деревенское масло. Взвалив мешок на спину, он понес его к бричке. Маршнер ни на секунду не упускал Али из виду, следил за ним, как сельский жандарм следит за бродягой. Али не мог улучить минуту и незаметно сунуть под козлы кусок масла или сала.
Иногда Маршнер, пожалуй, слишком щедро раздавал инфляционные деньги. Но когда все кредитки были розданы, а мешок все еще оставался пустым, тогда каптенармус прибегал к другим средствам оплаты: как только гуси и масло исчезали в мешке, Маршнер принимался ощупывать замок своей кобуры. Этот жест оказывал такое же действие, как и оплата крупными фальшивыми кредитками: крестьяне торопливо крестились.
Обратный путь был для Али каждый раз мукой мученической. Время от времени Маршнер запускал пятерню в мешок и вытаскивал оттуда колбасу. Передними зубами он осторожно откусывал, обсасывал лакомый кусочек со всех сторон, проверял его вкус на кончике языка; но, пожевав, сплевывал его на дорогу, а за ним и кожуру колбасного хвостика. Каптенармус Маршнер не ел колбасы, изготовленной этими грязнулями, польскими крестьянами. На родине у Маршнера было чистенькое хозяйство, которое вполне его обеспечивало. Пусть господа офицеры давятся всякой заразой — чумой и оспой, но никак не он, Маршнер. Али не раз боролся с искушением спрыгнуть с козел и подобрать с земли выброшенные Маршнером объедки.
— Ты голоден? — коротко, с сочувствием спрашивал Маршнер.
У Али так обильно текли слюнки, что в них тонуло еле слышное «да», но Маршнер так и не угощал своего кучера. И речи об этом не было! Дразнить аппетит Али входило в программу мести Маршнера.
Поначалу Маршнер ездил на заготовку продуктов раз в неделю, потом два, потом три раза и наконец стал ездить почти ежедневно. Он был теперь не единственный. Он вынужден был выезжать рано и зорко следить за тем, чтобы деревня, где он намеревался собрать урожай, не подверглась нападению до него. Так, например, армейский священник тоже подвизался на этом поприще и платил за все настоящими оккупационными деньгами: ибо и у священника возникала иной раз потребность полакомиться сливочным маслом сверх полагавшегося ему по рациону. Он был благостен и скромен. Его не соблазняли сало и гуси. Ему хотелось лишь куска масла раз в неделю, чтобы укрепить свою душу, ведь он обязан был поддерживать и укреплять души других. Он вежливо просил маслица, а получив его, благодарно кланялся польским крестьянам и, как сказано, платил настоящими оккупационными деньгами, изготовленными на одной из немецких фабрик, выпускавшей блокноты для официантов.
Теперь Маршнер отыскивал маленькие неприметные крестьянские дворы.
— Яйки есть?
Девушка с задумчивым взглядом черных глаз, указав на снег, отрицательно мотнула головой. Маршнер оглядел девушку сверху донизу.
— Немножко целовать, целовать, хоп-хоп?
Девушка не поняла. Маршнер дал пинка Али. Тот убрался со своим мешком. Маршнер сплюнул в навозную кучу и, горделиво выпятив грудь, этаким петухом прошелся по двору. Он рванул дверь сарая, поманил девушку и показал на кучу сена в темном углу.
— Яйки, яйки, покажи мне гнезда.
Девушка отпрянула в сторону. Маршнер открыл кобуру. Девушка перекрестилась; ища помощи, она оглянулась на дом.
Али стоял у брички, обнюхивая пустой мешок. Это было единственный раз, что Маршнер не следил за ним, но мешок был пуст. Али немного подождал. Маршнер не возвращался, и долговязый фрисландец пошел в соседний двор. Почему бы, подумал Али, самому не достать себе чего-нибудь пожрать? Ему дали узкую полоску сала. Али заплатил за нее оккупационными деньгами. Крестьяне взяли деньги. Али схватился за кобуру. Крестьяне с криком бросились в дом. Оттуда вышел армейский священник. Он завертывал брусок масла в «Фелькишер Беобахтер» и появился как раз в ту секунду, когда Али расстегивал кобуру.
— Стой!
Али заметил серебряный галун полкового священника и обронил на землю кусок сала. Священник приказал своему шоферу, унтеру, вывести Али из дома.
На сеновале соседнего двора что-то сухо затрещало, звук был такой, словно одну доску швырнули на другую. Армейский священник и его шофер не обратили внимания на этот звук. Во дворе появился Маршнер и позвал Али. Унтер-офицер не отпускал Али, а священник шел за ними по пятам. Они привели Али к Маршнеру. Маршнер вытирал грязным носовым платком кровь и пот с лица.
— Что произошло? — кротко осведомился священник.
— Ничего особенного, ваше преподобие, — ответил Маршнер. Он пытался слюной приостановить кровь, которая текла из царапины и заливала ему лицо. — Безалаберное польское хозяйство. Искать яйки. С чердака свалился… — бормотал Маршнер. Он что-то лопотал, как ребенок, был бледен, но уже не дрожал. Священнику польстило, что его назвали «ваше преподобие». Повернувшись к Али, слуга церкви сказал:
— Вот этот мародерствовал. Доставьте его в роту. Рапорт я пришлю.
Станислаус ждал свадебного отпуска. Каждое утро он просыпался с надеждой, что сегодня его вызовут наконец в канцелярию. Наполняя котелок полкового писаря, Станислаус спросил о своем заявлении.
— Твое заявление об отпуске? — сказал писарь. — В моей папке найти его так же трудно, как в твоем супе мясо.
Станислаус выловил все кусочки мяса из ротного котла и переправил их в суп писаря.
— Твое заявление отыщется самое позднее послезавтра, — сказал писарь.
Али находился под стражей. Он был голоден. Гауптвахта помещалась в каком-то пригородном польском доме, стены были из глины, проемы окон заколочены досками. Али поскреб ногтями холодную стенку каморки. В руку посыпалась сухая глина. Он размочил ее во рту и пожевал. На короткое время его желудок успокоился. В жизни Али, включая детство, можно было насчитать немного дней, когда он чувствовал себя по-настоящему сытым. Даже родина Али, северная Фрисландия, не кормила его так, как ему требовалось. Али ничего не стоило разбить кулаком глинобитную стенку. Но он этого не делал. Его совесть чиста. Они, конечно, установят, что у него и в помыслах не было стрелять в крестьян, просто он хотел вытряхнуть из кобуры подсолнухи, чтобы положить туда кусок сала, только и всего. Они могут проверить и убедиться, что пистолет — Али сам его побаивался — лежит на стопке белья в его казарменной тумбочке. Однако священник прислал свой рапорт и в нем говорилось: «…отобрал сало… угрожал крестьянам оружием…»
Станислаус сидел в казарме и читал решение и приказ ротного командира по вопросу о свадьбе. В напряженное военное время не всегда возможно жениться у себя дома, на родине, хотя вступление в брак военных, находящихся в армии, весьма желательно, а посему мудрое военное командование постановило ввести для солдат некоторое облегчение касательно вступления в брак рядовых и ефрейторов. Короче говоря, Станислауса обвенчают в ротной канцелярии заочно.
Чувство разочарования настолько поглотило Станислауса, что он не заметил Маршнера, который открыл тумбочку Али, вытащил оттуда пистолет и спрятал его у себя.
Али снова привели на допрос. Он подтвердил свою невиновность. Ему не поверили, пытались сбить с толку перекрестным допросом и так долго терзали и мучили, пока этот огромный детина не расплакался, как ребенок.
— Ты спятил, что ли? Ростом в два метра, а размяк, точно баба!
Гневный окрик офицера юстиции хлестнул, как удар бича. Али подтянулся, побледнел и умолк. Слезы, казалось, замерзли на его щеках.
В армейском священнике дрогнула та частица его души, которую еще не проело насквозь пруссачество. Он попросил приостановить слушание дела. Он просил, кроме того, принести кобуру Али и просил также узнать у Али, где могло находиться его оружие, когда тот набивал кобуру семечками. Разумеется, он, священник, не может поклясться, что видел в руках у Али пистолет. Может быть, Али сунул его в кобуру, когда среди польских крестьян началась паника, а может быть, у него и вовсе не было пистолета и он хотел только припугнуть их.
Просьба священника была принята во внимание. Кобуру Али доставили в суд. В ней лежал пистолет. Да, дело обстояло именно так. Маршнер, получив от армейского священника, от его преподобия, приказ следить за Али, безопасности ради прежде всего разоружил его.
Али как-то не обратил внимания на все эти разговоры. Он сидел в своем карцере и курил сигары, которые ему сунул в коридоре Роллинг. Сигары раздразнили голодный желудок Али. Он чувствовал себя таким несчастным, что готов был умереть тут же на месте. Если когда-нибудь ему станет лучше, он в жизни не притронется к куреву. Бедный, простодушный Али!
11
Станислауса венчает убийца; Станислаус празднует свою свадьбу весьма необычным образом в глинистом карьере.
Наступил день свадьбы Станислауса. Он стоял в мундире, стальной шлем был туго затянут под подбородком, поясной ремень и сапоги начищены до блеска, руки вытянуты по швам. Его знобило, но он себе в этом не признавался. Да и что могло бы его согреть? Уж не швы ли форменных брюк, сшитых в Германии разнесчастной вдовой-надомницей?
Станислаусу разъяснили, какая ему оказана честь: его будет венчать офицер юстиции батальона. Офицер прибыл в роту по делам и не погнушался самолично провести первое заочное обручение.
На стене висело красное знамя. Оно было широко развернуто, и каждый мог отчетливо видеть черную свастику, которая прогрызла белую дыру в красном полотнище. Стол в ротной канцелярии был обтянут плотной белой бумагой, на нем даже стояла ваза с ветками серебристо-голубой ели. Столько торжественности — и все для Станислауса!
Может, Станислаус навеки отказался бы от обручения, знай он, что знамя с паучьими щупальцами, белая плотная бумага и ветви серебристой ели поставлены вовсе не для него. Всю эту декорацию тщательно подготовили, чтобы вынести в торжественной обстановке приговор Али.
«Немецкому солдату, посланцу фюрера, освободителю человечества запрещается мародерствовать в чужой стране. Ему запрещается по собственному почину заниматься реквизицией в ущерб общественному достоянию…»
Если бы Станислауса не одолели мысли о кудрявой Лилиан, оставшейся в Германии, он бы почувствовал, как дрожат еще половицы, на которых стоял Али, когда ему зачитывали приговор.
Писарь-ефрейтор посмотрел на ручные часы.
— Из бюро по регистрации браков с места твоего жительства сообщили, что у них твое обручение состоится в десять часов тридцать минут. Через пять минут я приглашу господина офицера юстиции. Поправь пряжку, она съехала в сторону!
Станислаус вернул пряжку на место и снова вытянул руки по швам, словно и он ждал своего приговора.
Совесть погнала армейского священника в ту деревушку, где Али, согласно показаниям духовного лица, совершил столь тяжкое преступление. Мягко, с той долей доверия, которая, как ему казалось, подобала его сану, священник говорил с крестьянами. Он выяснил: да, Али заплатил за сало. Да, теми же деньгами, какими священник платил за свое масло. Нет, пистолета в руках у Али никто не видел, однако кто знает… Во всяком случае, Али возился с замком кобуры.
Священник отправился в обратный путь. Хоть в глубине души он и сомневался, чтобы прусский военно-полевой суд посчитался со свидетельскими показаниями польских крестьян, все же он сделает попытку. Совесть его, во всяком случае, была неспокойна.
Станислаус, пошатываясь, вышел из канцелярии. От долгого стояния навытяжку у него свело мышцы. Офицеры разглядывали его. Он не слышал речи офицера юстиции, обильно сдобренной специфическими нацистскими словечками. Вокруг толпились офицеры, их пригласили в качестве свидетелей — после осуждения Али им необходимо было отдохнуть душой, глядя на умиротворенное лицо Станислауса, и получить подтверждение тому, что жизнь, вопреки всем несчастьям, твердо и неуклонно движется вперед, соединяет людей и добивается от этого союза потомства. На смену добровольно убитым.
Станислаус своим скучным лицом, пожалуй, не улучшил настроения господ офицеров. Он не улыбнулся в ответ, когда высокие господа снизошли до того, что чокнулись за процветание молодоженов. Сам Станислаус не получил бокала и не участвовал в этой незадачливой выпивке.
Он брел, пошатываясь, по длинному коридору. Наружные откосы окон покрывал толстый слой снега. По оголенным жердочкам, когда-то обвитым диким виноградом, прыгали воробьи. Станислаус с благодарностью взглянул на сереньких птичек. Они и здесь такие же, как на его родине.
Властный голос вахмистра Цаудерера заглушил воробьиное чириканье. Станислаус обогнул угол казармы, там собрались солдаты из комнаты № 18. Они стояли с винтовкой к ноге, стальные каски затеняли их лица. Станислаус оторопел. Как ему держать себя, если товарищи и Цаудерер вздумают его чествовать? В этой женитьбе никакой его заслуги нет.
Но комната № 18 не чествовала Станислауса.
— Бюднер, взять винтовку, живо! — прикрикнул на него вахмистр.
Станислаус побежал. Это было ему куда приятнее чествования. Вместе с другими он пойдет в караул, и там у него хватит времени думать о Лилиан.
Они выехали из казармы на грузовике. Впереди гудела маленькая автомашина с зарешеченными окнами — почтовый автомобиль, выкрашенный в зеленый цвет.
Роллинг наморщил лоб и показал рукой на зеленый автомобиль.
— Это едет Али.
— Куда?
— В штаб полка. Они там снова будут тянуть из него жилы. Нам приказано стрелять, если при выгрузке он окажет сопротивление. Черт возьми!
Их привезли к глинистому карьеру где-то за городом. Там уже стояли в ожидании офицеры. Офицер юстиции, полчаса назад венчавший Станислауса, курил черную сигару. Некоторые из офицеров выглядели подвыпившими. Они вели разговор о лошадях. Может быть, своей громкой болтовней им хотелось заглушить какой-то голос внутри себя.
В глинистом карьере высился столб в рост человека, столб пыток, каким его описывают в книгах об индейцах. Роллинг схватил Станислауса за руку. Рука Роллинга была холодна, как у покойника, и этот холод передался Станислаусу.
Открыли дверцу маленького почтового автомобиля. Два человека из другой роты вытолкнули из машины связанного Али. Он улыбался и тяжело дышал. Люди повели его вниз, на дно ямы. Али узнал своих товарищей по роте и снова заулыбался. Ему развязали руки, и он усердно замахал ими, как птица крыльями после долгого пребывания взаперти; при этом он с благодарностью смотрел на солдат, освободивших его от веревок. Вахмистр Цаудерер приказал:
— Всем из комнаты восемнадцать выйти вперед!
С мрачными лицами солдаты выстроились в ряд. Каждый из них теперь уже знал, что должно произойти.
Али привязали к столбу, он поник головой. Этот парень, как ребенок, жил только настоящим моментом. Солдаты из комнаты № 18 царапали сапогами глину. По лицу Али текли крупные детские слезы. Потом послышались глубокие всхлипывания. Солдаты из комнаты № 18, словно по команде, еще глубже втянули головы в плечи. Казалось, они сами хотят зарыться в глину. Каптенармус Маршнер что-то шепнул лейтенанту Цертлингу.
Следовало бы подождать. Отсутствовал армейский священник. Он уехал в деревню. На поиски выслали гонцов. Они еще не вернулись.
И тут свершилось — раздался выстрел. Выстрелила винтовка Роллинга, и Роллинг упал плашмя, словно сраженный этим выстрелом. Станислаус бросился к нему.
— Унеси меня, живей! — прохрипел Роллинг.
Вонниг и Станислаус вынесли Роллинга из карьера.
Офицеры, жестикулируя, о чем-то заспорили между собой. Вызвали вахмистра Цаудерера. У края карьера стоял маленький зеленый автомобиль. Его дверцы были раскрыты. Роллинг, не открывая глаз, скомандовал:
— Поехали!
Шофер в самом деле поехал. Им вслед затрещали выстрелы.
— Они стреляют в нас, — сказал Станислаус.
— Пусть стреляют, — ответил Роллинг.
— Все к лучшему, — сказал Вонниг. — В конце концов нам пришлось бы стрелять в Али.
Но стреляли не по Роллингу, не по Станислаусу и Воннигу. Ротмистр Бетц, этот храбрый баварский пивовар, сам прыгнул в яму:
— Мерзавцы, прусские слюнтяи, вам надо подать пример! Добровольцы, вперед!
Каптенармус Маршнер и лейтенант Цертлинг прыгнули туда же. Цертлинг выхватил у дрожащего Вайсблата винтовку и щелкнул затвором. Ротмистр Бетц выхватил из кобуры пистолет.
— Стрелять! Испугались мародера и убийцы! Надо примерно наказать!
Раздались беспорядочные выстрелы, как на охоте. Пули вонзились в Али, и он задергался в своих путах.
— Мама, мама, я не хотел на войну! — закричал он. Вопль тигра, а потом изо рта Али хлынула кровь. Она потекла в глину.
Солдаты вылезли из ямы, как из ледника. Они не смели взглянуть друг на друга. Крафтчек прижал к груди свои амулет, бормоча молитвы. Вайсблат получил назад свою винтовку. Он плакал.
Священник опечалился. Может быть, он своими благословенными руками облегчил бы немного последние минуты Али, но теперь его помощь уже не нужна. Почему так поторопились с экзекуцией? Почему этого крестьянского парня, этого батрака казнили без духовного лица?
На все свои вопросы священник получил краткий ответ: следовало быть на месте. Разве он не прусский армейский священник? Быстрая экзекуция необходима, совершена была по форме, ибо допрос каптенармуса Маршнера показал, что расстрелянный не только грабил крестьян, угрожая им оружием, но в соседнем дворе застрелил также польскую девушку. Сперва изнасиловал на сеновале, а потом застрелил, вот оно что. Девушку нашли; все доказано. Одним негодяем меньше.
Священник успокоился. Его совесть пришла в равновесие, после того как с нее сняли такую тяжесть. Он имел наготове слова, освобождавшие его от дальнейших терзаний: «Кто прольет чужую кровь, заплатит за нее своею!» Так оно бывает, и не ему, маленькому, слабенькому слуге господню, в этом разбираться.
Вечером того же дня вернулся из лазарета Роллинг. Легкий обморок — ничего серьезного. За свою мягкотелость он получил три дня строгого ареста. «Каждый делает, что может!»
К вечеру Станислауса начала трепать лихорадка. Она крепко трясла его, у него поднялась температура, его поместили в лазарет, чтобы лечить от малярии.
Через три дня после расстрела Али солдаты комнаты № 18 снова тихо и боязливо заговорили. Они заверяли друг друга, что стреляли в воздух.
— Но Али мертв, — сказал Роллинг.
Он отошел в угол, уставился в стену, плечи его вздрагивали.
— Вокруг нас пустота! — бормотал Вайсблат.
12
Станислаус кочует с чужбины на чужбину, он вынужден радоваться ребенку своего фельдфебеля и чувствует, как перед ним раскрывается великая Пустота.
Батальон двинулся на запад. Станислауса оставили на старом месте. Лихорадка не проходила. Ему казалось, что он выпустил в Али горы боеприпасов. Исходившая из мрака таинственная сила гнала куда-то Станислауса. Он чувствовал за спиной дула винтовок. Сам стрелял. Али протягивал ему свой пустой котелок. В котелке лежали все пули, выпущенные Станислаусом в Али.
В лазарет прибыл новый доктор. Это был бледный, задумчивый человек. Он поставил в шкаф свои сапоги и в легких туфлях расхаживал по палатам. Говорили, будто сон навсегда оставил доктора, и еще говорили, будто этот доктор хочет уморить себя бессонницей. У него якобы отняли жену и маленькую дочку. Красивую темноволосую женщину со страстными, горячими глазами южанки. Говорили, что она еврейка и потому ее отняли у него. Надеялись, что доктор привыкнет к другим женщинам. Но он не привык и ночами не смыкал глаз.
Новый доктор подошел к койке Станислауса.
— На что жалуешься?
— Веревку, — ответил Станислаус.
— Я распоряжусь, чтобы тебе дали веревку.
Станислаус взглянул на доктора широко раскрытыми глазами, а тот такими же глазами посмотрел на Станислауса. Минута — и Станислаус уснул. Врач долго наблюдал за ним и на следующий день начал лечить его не от малярии и не от желтой лихорадки, как это делали его предшественники. Он лечил Станислауса от нервной горячки. Добрые слова доктора действовали на Станислауса успокаивающе. Казалось, гипнотизер Станислаус нашел своего учителя.
— Расскажи о своей жизни!
Станислаус говорил и говорил, как в свое время Софи, служанка пекаря. Какое благодеяние высказать все свои муки этим большим внимательным глазам!
Станислаус выздоровел.
— Зачем? — спросил он.
— Чтобы жить, — сказал доктор. — Разве тебе не хочется по-настоящему отпраздновать свою свадьбу?
Приближалась весна. Станислаус Бюднер, получив после болезни отпуск, шагал мягким весенним вечером по улицам маленького городка, где когда-то ученик пекаря Станислаус Бюднер написал томик лирических стихов — защитное оружие против фельдфебелей и унтер-офицеров. Однако выяснилось, что этим слишком нежным оружием их не уничтожишь.
От страха перед воздушными налетами городок затаился под покровом темноты. Любовным парочкам было легко и удобно, на них наталкивались на всех перекрестках. Бессмысленная смерть здесь, как и всюду в мире, порождала худосочную любовь, которая, подобно сорнякам в каменной стене, пробивалась из всех щелей.
— Ты меня любишь?
— Я вижу тебя впервые.
— Полюби меня, смерть не ждет!
Станислаус позвонил в квартиру Пешелей. В передней пахло вареной капустой, а фамилия Пешель золотыми буквами поблескивала на черной табличке. Вот Станислаус и дома.
— Наш Станислаус! — матушка Пешель облапила его и обдала запахом жареного лука. Папаша Пешель, шаркая стоптанными шлепанцами, шел им навстречу.
Они сидели в столовой и оглядывали друг друга. Большие столовые часы отбивали время, как всегда. Сколько часов длится война?
— Тик-так, тик-так!
— Не хочешь ли взглянуть на своего сына? Он спит, он такой миленький, такой мягонький.
Матушка Пешель открыла дверь спальни. Но папаша Пешель задержал зятя:
— Ты по-прежнему пишешь стихи?
— Нет, предпочитаю этого не делать.
— А я опять сочиняю и даже воспел, к примеру, нашего младенца. Он-то не виноват.
Станислаусу еще не хотелось видеть ребенка Лилиан. Может быть, он похож на некоего вахмистра Дуфте и Станислаусу будет трудно его полюбить.
— Где Лилиан?
— Лилиан?
Да, Лилиан теперь работает сестрой в Комитете общественного спасения. Она работает на вокзале. Надо же чем-нибудь заняться молодой женщине, если весь народ воюет.
— Привокзальная сестра?
— Да, привокзальная сестра.
Станислаус, умытый и почищенный, топал по темному городу на вокзал. Он пошел за Лилиан на место ее работы. Вот когда наконец взойдет солнце его счастья. По пути ему встретилось много парочек и ни одной одинокой женщины. У выхода из парка Станислаусу показалось, что он слышит голос Лилиан. Он прислушался. Ну конечно же! До него донесся ее смех.
— Лилиан! — Станислаус ринулся сквозь кустарник и увидел Лилиан рядом с мужчиной.
Она испугалась. Мужчина пробурчал:
— Станьте как положено!
Лилиан успокаивала своего спутника:
— Темно, он не разобрал твоего… не видит вашего чина, господин капитан. Это мой муж!
— Ну и что же? — сказал капитан, повернулся и пошел.
Станислаус и Лилиан стояли рядом, смотрели вслед ушедшему капитану и в словарном запасе всего мира не могли найти друг для друга ни единого словечка.
Дополнительно отпраздновали свадьбу. Родные и знакомые Пешелей наполнили столовую. Пили, предлагали пивца канарейке и веселились, как могли. Папаша Пешель прочел два стихотворения, посвященных младенцу Лилиан. Стихи вызвали одобрение, имели успех даже у матушки Пешель. Рассказывали о том, какой бывала настоящая свадьба, как красиво, как удачно могла бы пройти и эта, и наконец спросили Станислауса, безмолвствующего жениха, как он провел день своей свадьбы в Польше. Станислаус промолчал.
— А имеются еще в польской стороне белые бурки с отделкой из красной кожи? — спросила Лилиан.
Но и на этот вопрос Станислаус не ответил.
Празднество шло своим чередом.
— Солдаты всегда молчаливы. Они кое-что повидали, — лепетал уже под утро папаша Пешель, предлагая Станислаусу чокнуться.
Бой больших столовых часов потонул в семейном шуме. Несмотря ни на что, часы по-прежнему отбивали время. Станислаус и Лилиан не смотрели друг на друга.
— Этот капитан что-нибудь для тебя значит?
— Нет. — Лилиан ответила слишком поспешно. — Он всего лишь… Впрочем, он ухаживает за всеми нашими сестрами. Это за ним водится!..
Лилиан спала, а Станислаус бодрствовал. Он приехал с чужбины на чужбину. Здесь, в этой семейной суете, обмолвиться словом о смерти Али, разбередить воспоминания о фронте было неуместно.
Один за другим увядали дни отпуска. Лилиан проводила все время на вокзале. Ее не освободили от работы. Ее начальник, капитан, воспротивился этому. Что поделаешь! Война. От многих желаний приходится теперь отказываться.
Ночью, лежа с Лилиан в постели, Станислаус чувствовал себя иной раз как дома, желанным гостем. На мгновение он бывал спокоен, что она целиком принадлежит ему. Лилиан не скупилась на ласку в словах и любви. Но по утрам из гнездышка постели подымалась другая Лилиан: она неохотно ждала утреннего кофе, препиралась с матерью, поддевала отца, заглядывала мимоходом в коляску с младенцем и торопилась уйти, словно боялась пропустить начало большого празднества.
— Лилиан одержима чувством служебного долга, уж такова она, — защищала свою дочь матушка Пешель; и, ободряюще улыбнувшись Станислаусу, подарила ему сигару из военного пайка. Станислаус сел на семейный диван и следил за синими кольцами дыма, в которых растворялись утешительные слова матушки Пешель.
По вечерам он сидел вместе с папашей Пешелем. Они ждали. Каждый своего. Чего, собственно?
— Каковы военные перспективы? — спрашивал папаша Пешель. барабаня пальцем по спинке дивана. Не ответит ли диван на его вопрос? Станислаус молчал. Говорить о войне здесь, на диване, ему казалось глупым. Папаша Пешель сам отвечал на свой вопрос:
— Перспективы, мне кажется, неплохие. Я никогда не был за этого Гитлера, ты-то знаешь, но в военном искусстве он знаток. Когда-нибудь для вас откроется весь мир, ну а нашему брату, разумеется…
Пронзительные звуки сирены ворвались сквозь оконные щели, засверлив в ушах. Улица оживилась. Шаги перешли в топот, возгласы — в крики испуга.
Папаша Пешель вскочил с дивана, побежал в спальню и выхватил ребенка из коляски. Ребенок кричал. Матушка Пешель спешила к ним. Руками, измазанными тестом, она схватила ребенка, прижала к себе. Пешель снял со стены свою лучшую канарейку, главную певунью.
— Когда-нибудь эти летчики доберутся до нас.
Они кинулись — впереди мамаша Пешель с ребенком на руках — в убежище.
Станислаус остался сидеть на диване, сурово допрашивая себя: пошевельнулся бы ты, если бы они прилетели и тебе предстояло погибнуть под развалинами? Он не сразу ответил себе, и ответ его кончался словом «нет». Теперь он думал так же, как Вайсблат, и великая Пустота поглотила его. Станислаус вдруг затосковал по своему товарищу Вайсблату, и ему показалось, что хоть они оба привыкли к великой Пустоте, а все-таки могли бы немного согреть друг друга.
13
Станислаус мерзнет в одиночестве в большом городе Париже, призывает своего эльфа и из ненависти к фельдфебелям спасает любовную парочку.
Станислаус в Париже снова встретил Вайсблата. Это был совершенно другой человек.
— Выпьем за твою жену! — предложил Вайсблат. Он был безудержно весел.
— Ты болен, Вайсблат?
— Разве философ обязательно должен быть болен? А если он, скажем, слегка навеселе?
Станислаус окинул взглядом захмелевшего товарища.
— А Пустота?
— Пустота там, где ничего нет. Здесь Париж. Образованные люди. Как-никак, politesse, noblesse.[10]Politesse — вежливость, noblesse — благородство (франц.) . А жена у тебя хороша собой?
Станислаус оставался трезвенником в пьяной компании.
Повеселевший Вонниг отвел его в сторону.
— Все к лучшему. Мы теперь — парадный полк для обозрения. Лошадей больше нет. Что с ними делать в этом роскошном городе? Только у ротмистра еще есть лошадь. Мы носимся на автомашинах по метрополии и пугаем ту горсть людей, которые нам не симпатизируют. Большинство относится к нам хорошо. Я умею в этом разбираться. Все к лучшему, ура!
— Скажи, Вонниг, твоя секта разрешает пить?
— Моя секта разрешает веселье, все к лучшему, мы в Париже, браво!
На кухне у Вилли Хартшлага пробки так и вылетали из винных бутылок. У него не хватало времени для стряпни. Сразу же после полудня он исчезал с посылками под мышкой.
— На тебя ведь можно положиться, — говорил он Станислаусу.
Станислаус варил кофе по армейской инструкции — ячменный. Никто не пил его. Станислаус выливал кофе в раковину и на следующее утро заваривал свежий. Кто знает, не взбредет ли на ум какому-нибудь офицеру опохмелиться отечественным напитком? Следовательно, ячменный кофе всегда должен быть в наличии.
Станислаус все думал и думал: чем они в самом деле заняты здесь в чужих странах? Ведь отечество завоевывало чужие страны не только для деловых немцев; на этом жизненном пространстве необходимо поддерживать порядок. Им, солдатам, надлежит обеспечить его. Так, во всяком случае, писали в солдатских газетах. Хайль Гитлер!
Дивизион Станислауса был назначен для несения караульной службы и охраны высоких немецких военачальников, поселившихся в парижских дворцах; кроме того, дивизиону вменялось в обязанность пропитать твердым немецким духом этот легкомысленный город и его жителей — бесплодных французишек. Так гласили приказы по полку. Прочитанное не произвело на Станислауса никакого впечатления. Его мысли вертелись вокруг Пустоты.
Бледная кровь Вайсблата, казалось, покраснела под влиянием французского вина. В свободные послеобеденные часы он встречался в одном неприметном кафе с хрупкой француженкой Элен, сидел с ней за камышовой занавеской. О эти руки с тонкими пальцами! Voilà[11]Вот (франц.) . эти гибкие суставы! Ici[12]Тут (франц.) . этот взгляд из-под каемки черных ресниц! Parbleu,[13]Черт возьми! (франц.) этот ум! Вайсблат, разумеется, говорил с ней больше по-французски. Мог ли он поддерживать интимный разговор на варварском языке своего отечества?
Они попивали вино. Она пила мало. Он — стакан за стаканом. Quelle délicatesse[14]Какой утонченный (франц.) . этот напиток! Воплощенный в вине французский воздух, который растекался по языку, распространялся по телу, ширился, переливался через край. В солдате проснулся поэт. Стоя в карауле, Вайсблат писал стихи. Любовные стихи на французском языке. Он положил свое стихотворение рядом со стаканом Элен. Она прочла его, засмеялась и учтиво сказала:
— О! Я немного голодна!
Он выписал из Германии свой напечатанный роман. Элен снова вежливо сказала:
— О! Ваш язык расхаживает в сапогах: трамп, трамп!
Он выпил столько вина, что, осмелев, пытался ее поцеловать:
— Вы так мило сказали: трамп, трамп!
Она вежливо отстранилась. Откинула камышовый занавес:
— Нас видят!
— Pardon, mille fois pardon![15]Тысяча извинений! (франц.) — ответил Вайсблат.
Она продолжала разговор.
— Я никогда не слыхала, как обращаются с этим языком ваши поэты. Может быть… — Она взглянула на него сбоку. — Может быть, они обувают свой язык в черные бархатные сапожки?
— Черные бархатные сапожки, Элен?
— У вас все так мрачно.
— Quel esprit,[16]Какой ум! (франц.) как остроумно.
— Oh!
Он повел ее в кино. В темноте он пытался взять ее за руку. Этот Вайсблат! Этот философ Пустоты! Разве девичья рука пустое место, ничто? Да, ничто, потому что он поймал пустоту. Элен зачем-то вдруг понадобилось поправить обеими руками волосы и впредь заниматься только ими.
Когда они вышли из кино на улицу, он готов был заплакать, как ребенок, который не получил того, что ему хотелось. Кино оказалось оцепленным немецкими солдатами. Вайсблат выпустил руку Элен, подтянулся. Элен весело болтала. Он отвечал по-немецки.
— Ваш язык ходит в сапогах, — сказала Элен, ловя его руку.
Он заложил руки за спину, как немецкий филистер на вечерней прогулке.
Немецкие солдаты охотились за молодыми французами и многих уводили с собой.
— Что тут происходит? — спросил Вайсблат.
— Это происходит каждый день в разных местах Парижа, — ответила Элен.
Она ушла. Она покинула его. На следующий день он ее не встретил. Она как в воду канула.
Прошли недели. Станислаус сидел на корточках в подвале ротной кухни. Потускневший дневной свет просачивался сквозь окна. Квадратные тени от зарешеченных окон лежали на замасленном каменном полу. Для солдат был сварен вечерний кофе. Второму ротному повару Станислаусу Бюднеру предстояли еще длинные послеполуденные часы и весь вечер до отбоя. Как ему провести это время? Раньше он никогда не скучал и каждой минутой, свободной от работы в булочной, пользовался для учебы. А к чему сейчас учиться? Чтобы стать ученым трупом? Он взял бутылку вина из кухонных запасов Вилли Хартшлага. Вилли, как всегда после обеда, пошел шататься по веселому Парижу. Все были оживлены, у всех были какие-то дела, все казались счастливыми; только Станислаус расхаживал по кухне, приводя в порядок свои мысли. Может быть, он все еще болен? Может быть, эта странная лихорадка, которой он заболел в Польше, в глинистом карьере, расстроила его мозг?
То была уже не первая бутылка, которой Станислаус пытался слегка подштопать свои рваные надежды. Винный запах веселил его, как тот эльф, который много лет назад отыскивал его в каморке, когда Станислаус работал булочником. После третьего стакана вина второй ротный повар нашел, что все-таки можно управиться со смертельно скучающим Станислаусом Бюднером. Он ругал этого Бюднера, эту дурацкую башку, за то, что тот послушался уговоров вахмистра Дуфте. Станислаус обвинял себя даже в том, что выторговал это безопасное местечко в обмен на то, чтобы ребенок вахмистра жил в семье на полном довольствии. Наконец второй повар плюнул на собственную тень и заговорил с нею, называя ее «господин Бюднер». Этого оплеванного повара он оставил сидеть в углу на кухне, хлебнул еще вина и начал писать письма. От скуки он писал родителям. Писал племянницам, которые, судя по фотографии, уже выглядят барышнями. Он послал своей сестре Эльзбет денег. Это он делал все годы подряд, даже когда самоучитель «система Ментора» отбирал у него почти весь недельный заработок. Ему не надо больше утаивать свой денежный перевод. Солдаты посылали родным деньги и дорогие вещи, это стало обычным. Лилиан в своем письме тоже без конца жужжала: нельзя ли купить в Париже шелковые нижние юбки без талона? У нас больше нет хороших духов, но Париж — он, наверное, благоухает, как тысяча и одна ночь?
Станислаус не отвечал на эти письма. Он и теперь сунул их в засаленную папку. Он решил открыть для себя Париж. Что уготовил ему этот город, о котором все мечтают, с которым все обращаются, как с легко доступной уличной женщиной?
На берегу Сены высились деревья, напоминая огромные зонты от солнца. Станислаус топал под этими зонтами в начищенных до блеска сапогах куда-то вперед. Прогулка не из приятных: офицеры, начальники всех чинов и сортов, звеня шпорами, слонялись повсюду. Станислаус вовсе не был настроен непрерывно брать под козырек, переходить на строевой шаг и есть глазами начальство, иными словами, проделывать все то, что у них называлось «приветствовать». Высшие чины были задиристы, как петухи. Им хотелось быть центром внимания и уважения, черт подери, хотелось что-то представлять собой здесь, в Париже, хотелось производить впечатление на определенных дам, которые тоже появлялись на прогулках. Господа начальники искали любви, черт возьми, хотели показать этим бездетным французам, будь они прокляты, как надо делать детей.
Станислаус ушел в сторону от этой суматохи птичьего двора. Он осматривал лотки с книгами у парапета набережной. Букинисты походили на продавцов птиц, их товар тоже был пестрый. Пожелтевшие гравюры на меди, книжечки в цветных обложках, солидные, увесистые тома в кожаных переплетах, затвердевшие полотняные обложки, отливающая зеленью, будто подернутая плесенью свиная кожа. Тощие человечки у деревянных лотков, казалось, зябли, несмотря на майское солнце. Станислаус не заметил, чтобы эти ежившиеся торговцы что-нибудь продавали. Они выгоняли маленькое стадо своих книг на воздух, на солнце и в ожидании покупателей стояли рядом, как пастухи, рассматривали нависшее над Парижем небо и время от времени брали в руки одну из книг-овечек, чтобы погладить ее.
Станислаус пытался прочесть заглавия книг. Он вспоминал, как во сне, несколько французских слов и думал о своем незаконченном образовании. Время до знакомства с Лилиан, когда он сидел в своей каморке и учился, — то время казалось ему блаженным, как дуновение райского ветерка.
Все миновало. Теперь он стоял здесь и едва мог разобрать, что сулят ему заголовки этих книг. Он шел по чужой земле, словно полуслепой. И все во имя любви, которая того не стоила. Почему? Откуда такие мысли? Он был почти благодарен, когда какой-то фельдфебель набросился на него и закричал:
— Я из тебя выбью эту парижскую расхлябанность!
Станислаусу пришлось три раза его приветствовать, три раза пройти мимо фельдфебеля, поворачиваясь, как марионетка в ярмарочном балагане. Дамы на бульваре скромно захихикали; смеялись ли они над ним или над застывшим фельдфебелем, Станислаус не знал.
Значит, и здесь, в большом чужом городе, фельдфебели «окопались» и важничают, отравляют ему жизнь, как это было дома, в маленьком немецком городишке.
Станислаус покинул набережную и спустился по каменным ступеням к реке. Сена текла, грязная и мутная, как все реки больших городов. Одетые камнем берега, лодки на маслянистой воде, маленькие пароходики, влажные испарения от воды. Под сенью кустов стояли скамейки. На свисающих ветвях прибрежных ив, словно плоды на заколдованных деревьях, висели рваные носки, серо-грязные рубахи и дырявые штаны. Здесь ютились бедняки этого радостного города. Полураздетые, голые, они ждали, пока их лохмотья просохнут. Какой-то старик крошил сухие корки солдатского хлеба: пища со свалки, объедки с немецкого стола. Горючее на один день жизни старого человека. Худая растрепанная женщина смотрела безумными глазами на свою вставную челюсть. Челюсть лежала на краю скамейки. Женщина, видимо, вспоминала то время, когда эти искусственные зубы еще были ей нужны. Станислаус хотел незаметно пройти мимо. Немецкие солдатские сапоги выдали его. Тень от его фигуры упала на скамейку старухи, на ее бесполезную челюсть. Женщина умоляюще протянула ему протез. Она постучала высохшим указательным пальцем по блестящему металлическому зубу:
— Золото покупайть, господин офисир?
Станислаус зацепился о собственный каблук, поднял с земли клочок бумаги, скомкал его, бросил в воду, следя взглядом за плывущим шариком. Он почувствовал себя смущенным, но его отвлекли два молодых существа, которые шли впереди него, обнявшись. Девушка целовала парня. Она тыкалась мордочкой, как ласковая козочка, в ухо парню. Парочка, казалось, не обращала внимания на скрип сапогов немецкого солдата.
Когда влюбленные останавливались, чтобы приласкать друг друга, останавливался и Станислаус. Нет, он не хотел им мешать. Любите друг друга, если вам это суждено! Будьте добры друг к другу! У него было время подумать над тем, что произошло бы, крикни он влюбленным на своем языке: будьте добры друг к другу! Он понял, что в этой чужой стране он не только полуслепой, но к тому же и немой. Он проклинал свою судьбу.
Солнце зашло в дымке испарений. Деревья на берегу Сены укутались в сумерки. Наступила насыщенная теплом ночь. Люди жаждали. Каждый жаждал чего-то своего.
У Нотр-Дам Станислаус снова поднялся на набережную. Он машинально переставлял сапоги, сперва один, потом другой, шел и шел, этот Голем,[17]Персонаж чешского фольклора. тяжело ступающий по Парижу. Маленькие и большие, печальные и тихо улыбающиеся, спешащие и слоняющиеся люди проходили мимо. Среди них то и дело мелькали серые мундиры с бо́льшим или меньшим количеством серебра на рукавах, воротниках и плечах: немцы, соседи Станислауса по родине. Он забывал, что перед ними надо застыть, скосить глаза, приветствовать их. Что-то внутри его бормотало, как в говорящем автомате: «Оставьте меня, я зашел в тупик, мне все здесь чуждо».
Людское облако плыло вверх по улице. Спешащие и слоняющиеся, печальные и тихо улыбающиеся останавливались на тротуарах. Навстречу приближалось еще одно людское облако, сопровождаемое грозными окриками и скабрезной руганью: юноши, среди которых то тут, то там мелькали девушки, — все шли, эскортируемые серыми немецкими солдатами.
— Ну-ка живей! Здесь не привал для лодырей. Parti, parti![18]Пошли, пошли! (франц.)
Трамп-трамп-трамп! Молодые люди с вопрошающими лицами, с испуганными, выжидающими, возмущенными взглядами, с ищущими поддержки руками, со сжатыми кулаками. Трамп-трамп-трамп!
— Эй, собаки! Marchez, marchez!
Маленький старичок с седой бородкой клинышком, качаясь, сошел с тротуара, отделился от толпы любопытных и направился к немецкому солдату. Солдат сорвал винтовку с плеча. Обнаженный штык, как резкий, предупреждающий об опасности свисток, уперся в пуговицу на пиджаке человека. Старик размахивал руками, указывая на юношу в людском облаке. Юноша устало кивнул.
— Eda, mon fils, mon fils![19]Эда, мой сын, мой сын! (франц.)
— Прочь с дороги, старый волк, не понимайт!
Старик получил пинок, пошатнулся, присел на край тротуара и закрыл лицо руками. Солдат пошел вперед, вскинув винтовку на плечо. Старик посидел так лишь несколько секунд, затем вскочил, кинулся бежать за людским облаком, пробился через конвой к сыну, схватил его за руку и зашагал рядом, подбодряя молодых людей взглядом своих маленьких серых глаз. Впереди в людском облаке возникла песня. Конвойные заорали:
— Заткнуть глотки!
Песня нарастала.
Станислаус стоял на краю тротуара, и все же он не был только наблюдателем; ведь на нем серый мундир немецкого солдата, и он чувствовал, как его сверлят презрительные взгляды. Он спрятался за дерево. В последних рядах тех, кого гнали вперед. Станислаус снова увидел влюбленную парочку с набережной. «Будьте добры друг к другу!» Но что это? За парочкой шел с обнаженным штыком бывший железнодорожный обходчик Август Богдан из Гурова у Ветшау. Станислаус ступил на мостовую.
— Богдан!
Богдан схватил молодого француза за ворот пиджака и остановился. Влюбленная парочка тоже остановилась. Станислаус побледнел. Он заговорил тихо, настойчиво, с присущей ему тайной силой, как раньше, когда производил опыты:
— Богдан, как ты ответишь за свой поступок?
Богдан упер штык в сапог и почесал икру.
— Скажу тебе, я ни за что не отвечаю, нам было приказано забрать всех из кино. Сказали, что там собрались виновники беспорядков.
Станислаус задрожал.
— Виновники беспорядков? Только не эти двое, нет. Я видел их у реки. Они целовались.
Влюбленные прислушивались, пытались понять. Богдан поднял свою винтовку и острием штыка коснулся тонкой шелковой блузки девушки.
Вот эту и вовсе не надо было забирать. Она увязалась за парнем. Что мне было делать? Как ее оторвешь от него? Служба есть служба.
Какой-то фельдфебель вернулся, набросился на Станислауса и заорал:
— Где твоя винтовка, сукин сын?
И фельдфебель, как сторожевая собака, снова побежал вперед. В Станислаусе закипала ярость. Сукин сын?! Разве он не человек? Разве вечно должен он позволять этим фельдфебелям оскорблять себя? Колонна несчастных завернула за угол. Богдан вскинул винтовку на плечо и собрался топать дальше.
— Ну а теперь ты дашь им возможность убежать, — сказал Станислаус и схватил Богдана за плечо. Богдан вырвался. — Ты дашь им возможность бежать, слышишь? Или ты будешь проклят на всю жизнь!
Суеверный Богдан увидел одержимость в глазах Станислауса, отступил и стал как вкопанный. Станислаус подошел к влюбленным, широко развел руки:
— Fuyez! Бегите!
Влюбленные посмотрели друг на друга.
— Fuyez!
Они побежали. Под спасительным покровом деревьев они взялись за руки, а толпа на тротуаре прикрыла их. Влюбленная парочка исчезла. Из толпы раздались выкрики — вначале робко, затем все громче:
— Bravo, ech, bravo!
Станислаус подтолкнул Богдана. Богдан испугался, словно его внезапно разбудили от глубокого сна.
— Ты меня заколдовал! Ты меня заклял! — кричал он.
Станислаус потащил его вперед. Они смешались с толпой на тротуаре.
14
Станислаус ищет новую цель в жизни, сомневается в полноценности философов и нисходит до искусства эстрады.
Над Сеной поднялся утренний туман. Покачивались верхушки деревьев. Жители необыкновенного города снова принимались делать то, что они должны были делать в их положении в этой нелепой войне. Они пытались поддерживать понемногу свои частные дела, обменивались понимающими взглядами, говорили намеками, любили и страдали. Внешне все это выглядело как терпеливое ожидание, а между тем под спудом шла работа: группу молодых французов ночью погрузили в вагоны для скота и вывезли из Парижа; не так уж много, чтобы их отсутствие могло отразиться на обычной картине города, но это были люди. То там, то тут кого-нибудь недоставало на важном совещании в потайном месте.
В казарме того эскадрона, который уже не был кавалерийским, того эскадрона, о котором теперь ни кто толком не знал, какой он и на что пригоден, раздался пронзительный свисток дежурного унтер-офицера, сигнал к побудке. Этот дребезжащий звук прервал разнообразные сны: дурные, бессодержательные сны о женщинах и товарах, пьяные кошмары, сны, полные слез, сны о победах и гирляндах из дубовых листьев.
В этот час второй повар уже стоял на кухне. Утренний кофе был сварен. Единственный человек, пришедший наполнить свой котелок немецким ячменным пойлом, был Отто Роллинг из прежней комнаты № 18. Около носа у него залегли насмешливые морщинки.
— Я слышал, ты заколдовал Богдана?
Станислаус испугался.
— Он об этом говорил?
— Я запретил ему говорить. Ты его загипнотизировал, так, что ли?
Станислаус смущенно помешивал половником в черном напитке.
— Я дал ему двадцать марок, чтобы он молчал.
Роллинг схватил половник и заставил Станислауса поднять глаза.
— По-твоему, те двое французов стоят этого?
— Они любили друг друга. Они не совершили ничего дурного.
Роллинг вдруг помрачнел:
— А если бы они сделали что-то дурное?
Станислаус подбросил угля в огонь. Когда он снова поднял взгляд, Роллинг стоял на том же месте.
— А?
Станислаус захлопнул дверцу плиты.
— Один из фельдфебелей обозвал меня сукиным сыном. Ненавижу фельдфебелей. Они совратили мою девушку. Они все время мучают и мучают меня…
Роллинг поднял руку. Он поднес свой котелок ко рту, притворился, будто пьет, и сказал в алюминиевую посудину:
— Каждый делает, что может, но нужно думать, что делаешь. Твоя ненависть должна быть шире!
Он два-три раза глотнул черного кофе, отер губы, перевел дыхание и вышел.
Станислаус шагал взад и вперед по полутемной кухне. Мельница его мыслей снова заработала, она свистела, гудела и выбрасывала муку грубого помола: все его надежды, которые он вынашивал последние годы, погибли, как перелетные птицы, крылья которых замерзли на жестоком зимнем ветру. Он больше ничего не ждал для себя, но в прошедший вечер он, несмотря на боязнь предательства со стороны Богдана, убедился, что тот, кто уже ничего не ждет для себя, тоже может посеять немного счастья среди людей: он помог незнакомой влюбленной парочке в ее скромном счастье и с удовлетворением думал о той поре своей жизни, когда он чувствовал потребность ограничить своей тайной силой людские злодеяния. Разве это не может стать целью жизни для человека, которому всегда и во всем не везло?
Так, значит, обстояли дела в Париже, веселом, остроумном городе, современном городе со старинными домами, современнейшем городе, в переулках и уголках которого сохранилось так много уюта и романтики, здания и сооружения которого вобрали в себя прошлое. Там были переулки, в которых еще звучал дробный топот козочки Эсмеральды, и были стены, еще хранившие следы пуль, выпущенных по мужественным коммунарам. И вот теперь на Париж налетела стая коршунов, немецких солдат, и они утверждают, что охраняют в этом городе на Сене свое стервячье гнездо, находящееся далеко-далеко отсюда, в городе под названием Берлин.
Здесь в казармах было очень много немецких солдат, никогда не видевших Берлина, так как у них никогда не хватало ни времени, ни денег, чтобы поехать туда; но теперь они видели Париж, а великий фюрер немецкого народа оплачивал им это путешествие. Они посылали домой посылки, целые ящики, сундуки — подкорм для своего выводка в гнезде стервятника; некоторые из них завели здесь любовные связи, более крепкие, чем дома. Они забывали о войне.
Но война их не забывала. Великий фюрер немецкого народа и хранившее его провидение сочли нужным напасть на Россию, чтобы, как было сказано, разбить ее прежде, чем она станет врагом.
В канцеляриях снова затрещали громкоговорители о великом деянии, начавшемся двадцать четыре часа назад. Офицеры снова произносили перед рядовым составом речи и требовали восторга по поводу великого национального дела. «Все сдаются, когда мы начинаем наступать: Польша — восемнадцать дней, Франция — прогулка с незначительными потерями, понятно!» И те, кто уже не мог нахватать в Париже достаточно посылок и ящиков, и те, кто в старомодной чванливости считал своим призванием господствовать в Европе, — все они носились с взволнованными лицами, стараясь превзойти друг друга в восхвалении мудрого, ниспосланного провидением руководства.
Но были и другие, более слабые, более тихие голоса, шепотки под толстыми казенными одеялами, ночью, когда луна заглядывала в комнаты, освещая заплесневелый мир; бормотанье в уборных, где нельзя установить, чем вызваны проклятья.
Когда это известие дошло до обоих поваров в подвале, Вилли Хартшлаг плюхнул полуготовую свиную голову в котел, пошел в угол, где хранились припасы, порылся среди бутылок, открыл одну из них, поднес ко рту и влил в себя прозрачное вино. Станислаус резал лук и, моргая слезящимися глазами зарешеченному подвальному окну, произнес:
— Боже милостивый!
Вилли Хартшлаг пододвинул ему бутылку. Станислаус не стал пить. Хартшлаг хлебнул еще, прополоскал вином горло, отставил пустую бутылку и сказал пьяным голосом:
— Париж кончился. А теперь вперед на толстых русских баб, бр-р-р!
— Свинья, — огрызнулся Станислаус, ожидая от Хартшлага вспышки гнева. Ее не последовало. Хартшлаг был спокоен, он отодвинул бутылку и усмехнулся.
— Хоть сказал бы — поросенок; есть куда большие свиньи, ты даже и не представляешь себе.
По вечерам запретили выходить. Люди слонялись по своим комнатам или перекидывались пестрыми французскими картишками, сидя на сенниках.
Иоганнис Вайсблат лежал на своей койке и читал. Шелест книжных страниц казался еле слышным звуком рядом с грубыми голосами и шумом, наполнявшими комнату.
Станислаус читал письмо от Лилиан:
«Я так одинока с тех пор, как ты уехал, и мне хочется спросить тебя, не удалось ли тебе раздобыть немного шелка, чтобы украсить колясочку нашего второго…»
Станислаус скомкал письмо и швырнул его в угол. Бумажный комочек ударился о страницы книжки Вайсблата, отскочил и упал в сапог, стоявший у топчана. Станислаус посмотрел в сторону поэта:
— Прошу прощенья!
Поэт поднял голову.
— Я снова ее встретил. Но изменившейся, отчужденной. Какая мука! Элен! — Он произнес это девичье имя, словно название сладчайшего заморского плода. Станислаус уставился в одну точку. Он думал о влюбленной парочке с набережной Сены — о двух любящих сердцах.
Август Богдан толкнул пишущего Роллинга:
— Этот Бюднер снова не сводит с меня глаз.
Роллинг нехотя оторвался от своего писанья:
— Не болтай глупостей, вспомни о двадцати марках.
Август Богдан послушался. Эти двадцать марок он отослал своей жене в Гуров. Пусть купит на них поросенка.
— Что ты читаешь? — спросил Станислаус поэта.
— Философию Шопенгауэра, довольно интересно.
— Раньше ты восхищался Ницше. Или ты сыт по горло сверхчеловеками и превозношением войн?
— Сам не знаю как, но я покончил с этим увлечением.
В комнате зашумели. Игроки в карты на другом конце набросились на Богдана.
— Выгнать этого болельщика!
Богдан пошел в угол к Крафтчеку, вытащил жевательный табак из кармана брюк и предложил владельцу мелочной лавки отведать.
— Я этой дряни не выношу, — сказал Крафтчек.
Станислаус постучал о край топчана Вайсблата.
— Что-то мне твои философы очень подозрительны.
Вайсблат приподнялся.
— Ты ведь не читал Шопенгауэра.
— Зато читал Ницше, которого я получил от тебя.
Вайсблат с раздражением ответил:
— Не знаю! Значит, человек меняется.
— Ты католик? — спросил из своего угла Крафтчек.
Богдан затряс головой и сплюнул на пол табачную жвачку. Крафтчек срезал перочинным ножом ноготь с большого пальца ноги, торчавшего из рваного носка.
— Лучше быть католиком, тогда к твоим услугам все святые, с которыми можно посоветоваться. Я не хотел бы быть евангелистом, с кого мне тогда спрашивать, если сельдь в лавке начнет попахивать?
— Ну а железная дорога тоже имеет у католиков своего святого? — спросил Богдан.
Станислаус не мог отказать себе в удовольствии слегка подразнить философа Вайсблата.
— Кайзер призвал однажды Ницше, этого отца всех сверхчеловеков, в кавалерию. Философ должен был почистить лошадей, но не сумел с этим справиться. Он лежал под лошадиным брюхом и скулил: «Шопенгауэр, помоги!»
Вайсблат по-прежнему был серьезен:
— Небось, анекдот.
— Об этом сообщает биограф Ницше.
Вайсблат вдруг оживился:
— Сказать тебе, что я обнаружил?
Станислаус пересел на край топчана к философу; игроки в скат уже затянули песню. Они играли на большой бокал вина. Вайсблат закурил «Амариллу». Он все еще курил только эти сигареты, их аккуратно посылала ему его почтенная матушка. Легкий сизо-голубоватый дымок окутал голову поэта, и все, что он говорил, было туманно, как этот дым.
— Чем больше углубляешься в прошлое, тем мудрее философы. Новые ничего не стоят. Философия приходит в упадок.
— Беда в том, — сказал Станислаус, — что твои философы уже давно умерли. Мне бы очень хотелось знать, что сказали бы они о нашем времени.
— Будь ты католик, ты бы понимал, что человек не больше чем мушиное дерьмо, — покусывая сливочное печенье, объяснял Крафтчек в другом конце комнаты. — Господь его ставит там, где ему заблагорассудится.
— Разве бог у вас, католиков, муха? — спросил Богдан.
По всему видно было, что их дни в Париже сочтены. Господа офицеры тоже не слишком легко и охотно расстанутся с этим чудесным городом. Придется им привыкнуть к мысли, что тепло и уют великолепной столицы они должны променять на крестьянские избы и толстых баб в снежной, холодной России.
— К чертям войну, господин камрад!
— А вы бы хотели скакать только на шлюхах, а не на лошадях?
— Ваше здоровье, господин камрад. Извините, взгрустнулось!
Вскоре должен был состояться большой батальонный праздник, прощальный праздник, ибо слух о великом передвижении, о гигантском походе на Восток упорно передавался из уст в уста. Проверяли личный состав рот в поисках актеров-любителей и ведущего. Родина не прислала немецкому гарнизону в Париже фронтовую труппу актеров-профессионалов. Все самое лучшее шло теперь на Восток. В офицерском корпусе не слишком об этом грустили. Немецкие танцовщицы не были достаточно грациозны и легки, они выступали на сцене обнаженные в тех пределах, в каких это предписывалось воинским уставом, и рядом с некоторыми парижскими дамами производили впечатление закованных в броню германских валькирий из вагнеровских опер. Ротмистр Бетц все-таки побаивался парижских дам. Они разлагали воинскую дисциплину.
Еще задолго до праздника Бетц выписал с баварской пивоварни в Париж свою жену. Приехала женщина с сизым носом, в бесформенной старомодной шляпке с перышком, в манто из чернобурых лис и с пятью огромными чемоданами.
Кто-то назвал также имя Станислауса для этого вечера. Пусть он выступит как маг и гипнотизер. Если понадобится, ему дадут увольнительную, чтобы он отправился в город поискать необходимые принадлежности для репетиции своего первоклассного номера. Станислауса обуял страх. Неужели этот Богдан все-таки разболтал? Приказ по службе, ничего не поделаешь!
В кухню вошел Роллинг:
— Это я тебя назвал.
Станислаус был возмущен.
— И это, по-твоему, дружба?
— Не глупи! — успокоил его Роллинг. — Выбери себе помощников с галунами и проделывай с ними свои фокусы! Каждый делает, что может. Они глупее, чем ты думаешь, пусть твои друзья фельдфебели попрыгают. Я кое-что придумал.
Репетиции ротного гипнотизера устраивались в комнате. Кавалерист Август Богдан, бывший железнодорожный обходчик, садовод-любитель, разводивший огурцы в Гурове у Ветшау, искренне веривший в начальников станций и ведьм, был приведен в состояние оцепенения. Станислаус положил его как перекладину между двумя стульями. Вилли Хартшлаг, желавший во что бы то ни стало участвовать в качестве представителя от ротной кухни, сел на неподвижного, как доска, Богдана и, болтая ногами, выпил бутылку вина.
— Я сижу здесь, как на садовой скамейке, — уверял он.
Оцепеневшему Богдану он поднес бутылку вина под самый нос. Но Богдан витал где-то далеко-далеко и не обнаружил ни малейшего аппетита к вину. Он спал блаженным сном в стоге сена в Шпреевальде.
Вилли Хартшлаг видел однажды в каком-то ярмарочном балагане, как загипнотизированному человеку втыкали в щеки булавки, а кожу на шее протыкали вязальными спицами. Такой же номер ему хотелось показать публике. Для смелости он выпил еще одну бутылку вина и отдал себя в руки гипнотизера.
— Если только я почувствую боль от укола, я тебя так тресну… — сказал он Станислаусу. — Как-никак, я твое начальство, не забывай этого!
Спицы вонзались в одутловатые щеки старшего повара, а он хоть бы охнул разок.
И Крафтчек добровольно записался, желая участвовать в номере Станислауса.
— Ты меня так заколдуй, чтобы я почувствовал себя в Силезии и одним глазком посмотрел, все ли в порядке в лавке, как идут дела.
И этот номер прошел с успехом, даже в присутствии ротного вахмистра Цаудерера. Вахмистр слегка посерел в лице и начал прыгать вокруг Станислауса, как воробей вокруг лошадиного навоза.
— Эта сила у вас от рождения?
Роллинг ткнул Станислауса в бок.
— Да, она у меня врожденная, господин вахмистр, — ответил Станислаус.
— Я так и думал, — сказал вахмистр. — Я в этом разбираюсь, повидал кое-чего на своем веку.
Станислаус больше не боялся участвовать в празднике.
15
Станислаус оказывается магом высокого класса, угощает пятерых фельдфебелей водой и срывает аплодисменты искусству эстрады.
В канцелярии роты висели большие афиши, нарисованные от руки. Они возвещали о предстоящем дивизионном празднике. Выступят двадцать актеров-любителей. Вот и доказали этим «шляпам» в Берлине, что в их фронтовых бригадах профессиональных актеров никто не нуждается. Имеются свои собственные резервы: танцоры и акробаты, силачи и гимнасты, исполнители женских ролей и пожиратели огня. Кроме того, афиша приглашала: «Всему личному составу дивизиона разрешается привести знакомых дам-парижанок для украшения праздника!»
Солдаты чистили свои куртки, смазывали ремни и сапоги жиром, разминали их, как делали это, когда были новобранцами. В большом зале для представлений воняло, как на фабрике гуталина, и эта вонь так хорошо вязалась с представлением о прусской армейской чистоте. Майор, командир дивизиона, ротмистр и другие офицеры сидели, развалившись в мягких креслах перед сценой. Плетеные стулья предоставили солдатам, напоминавшим стадо серых зайцев на задних лапках; они сидели, вытянувшись: прямая спина, руки на коленях, как во время богослужения. Среди них — соседи Станислауса по комнате. Роллинг с неподвижным лицом и багровым шрамом на лбу. На куртке красуется большая заплата. Кое-как залепленные дыры — следы отправки офицерского багажа. Крафтчек в съехавшем набок галстуке и при выглядывающей наружу золотой цепочке от пасторского амулета. Август Богдан с обильно напомаженными грязновато-светлыми волосами и рыжеватыми усиками. Вонниг, улыбающийся, как ребенок в ожидании рождественских подарков. Хорошо! Вилли Хартшлаг с отставленными локтями — сила так и прет из него — занял почти два стула и заслонил наполовину Вайсблата. Рядом с Вайсблатом сидел Станислаус, бледный и настороженный.
Приглашенный полковой оркестр исполнял кавалерийские марши. Некоторые солдаты, сидя на плетеных стульях, раскачивались в такт музыке, мечтая снова оседлать лошадей, чтобы поскакать наконец в далекую Россию, проявить свою смелость и геройство, растоптать все, что не уступит дорогу.
Речь дивизионного командира:
— Солдаты! — Перо на шляпке жены ротмистра, фрау Бетц, единственной женщины среди этого мужского стада, непрерывно вертелось вслед за головой своей хозяйки. — Отечество, возможно, в скором времени отзовет нас с этого места, где мы охраняем и сохраняем то, что завоевали немцы…
Вайсблат нагнулся к Станислаусу:
— Она придет. Ты увидишь ее. Наверное, еще красивей, чем была.
— То, что начинает осуществляться там, на Востоке, под покровительством мудрого провидения, — это не война, а установление равновесия в… э-э-э… европейском пространстве и спасение культуры… э-э-э… Запада… — От чувства глубокого уважения к самому себе майор даже пристукнул каблуками.
— Уж фельдфебели отобьют ее у тебя. Увидишь ты тогда свою Элен. Фельдфебели — они как гусеницы на розах, — шепнул Станислаус.
— Тссс! — цыкнул кто-то, и это был каптенармус Маршнер, получивший наконец чин унтер-офицера и сидевший теперь рядом с командирами подразделения.
— …Можно предположить, что вскоре наше место будет там. Там мы приумножим славу нашего знамени дивизиона и славу немецкого солдата… э-э-э!..
— Пусть прямехонько и отправляется туда, — пробурчал Роллинг, который, видимо, забыл, где он находится. Вонниг толкнул Роллинга в бок, Роллинг взглянул на него.
— Еще далеко до этого.
— Все к лучшему, — шепнул Вонниг.
— Итак, начнем наш праздник! — воскликнул командир дивизиона. — Может быть, это последний праздник на долгие времена. Ура!
— Ура! Ура! Ур-р-ра-а-а!
Офицеры поднялись и, выпятив грудь, стали выходить из зала.
— Ур-р-ра! — жена ротмистра-пивовара, фрау Бетц, тоже вытянула вперед руку. На руке болталась туго набитая сумочка. В сумочке лежали оккупационные деньги, их выпускала фабрика, изготовлявшая блокноты для официантов. — Ур-р-ра! — В этом безнравственном городе не найдешь местечка, куда можно запрятать сумку, чтобы спокойно веселиться на празднике. — Ур-ра!
Эстрадные актеры-любители выходили из-за кулис и показывали кто что умел. Пауль Пальм, бывший редактор отдела фельетонов «Фоссише цейтунг», взял на себя роль ведущего.
У нас в талантах недостатка нет.
Взвивайся, занавес! Да будет свет!
Бывший владелец тира Карл Кнефель под барабанную дробь проглотил три горящие плошки, а затем, прикрывая рот лоскутом, выпустил в потолок целый сноп огня. Звуки труб сопровождали этот номер.
Баядерка Альберт Майер второй, в прошлом дамский и детский парикмахер, танцевал на подмостках. О эти оглушительные удары тамбурина! О эти сверкающие глаза, подмазанные оружейным маслом, звяканье старых алюминиевых пятидесятипфенниговых монет на голом животе Майера!
У входа в зал начали появляться приглашенные дамы. То там, то тут какой-нибудь солдат или унтер-офицер вскакивал со стула и приводил свою даму; он уступал ей место, а сам становился у стены. Фрау Бетц больше не смотрела на сцену. Она разглядывала входящих дам. Ее голова возмущенно тряслась: «Какой вызывающий вид!»
В перерыве обильно выпили. Господа офицеры направились в соседнюю комнату к накрытым для них столам, чокались шампанским, поздравляя друг друга с блестяще удавшимся праздником. Солдаты уничтожали выданное им угощение — на двух человек три бутылки дешевого вина. Баядерка Майер второй сидел, ко всеобщему веселью, все еще в своем костюме на коленях у капитана медицинской службы доктора Шерфа.
Вайсблат ждал у дверей зала. Его сухощавая белая рука лежала на правом кармане куртки. Там он хранил несколько увядших роз для своей Элен.
Роллинга послали обслуживать гостей офицерской комнаты. Офицер для поручений, увидев заплаты на куртке Роллинга, отправил его к Маршнеру. Тому пришлось поехать в город, чтобы привезти с вещевого склада белый китель для Роллинга. Каптенармус вернулся багровый от ярости и швырнул Роллингу его куртку:
— Тебя я при случае задушу!
— Каждый делает, что может, — ответил Роллинг.
Станислаус стоял за кулисами — его чуть-чуть знобило — и ждал своего выхода. Сильно захмелевшие офицеры снова заняли места. Теперь и солдаты больше не сидели, вытянувшись в струнку. Они начали отпускать грубые шуточки, заигрывать с дамами.
Пауль Пальм объявил номер Станислауса — на сей раз не стихами. Он не нашел рифмы к слову «гипноз». Станислаус, по словам Пальма, был опытный маг и чародей, повелевавший тайными силами. Бывалый Станислаус вышел на сцену с видом утопающего, над которым еще секунда — и сомкнутся волны. Он был в форме кавалериста, а на голове возвышалась чалма из простыни. Чалма была слишком велика, но ее поддерживали оттопыренные уши Станислауса. Опытный маг был белее булочника и мало походил на таинственного человека, украшавшего обложку книжонки о гипнозе, которой когда-то владел Станислаус. Он стоял на подмостках, выпучив глаза, заглатывая слюну, и его кадык непрерывно двигался вверх и вниз над воротником мундира. Сейчас, казалось ему, зал дрогнет от хохота. Однако никто не смеялся. Жена ротмистра-пивовара фрау Бетц, сложив рупором ладони, прошептала:
— У него глаза как у того факира, которого мы видели в Мюнхене на октябрьском празднике урожая. Помнишь, под его взглядом каменели крокодилы, а какую-то женщину он даже заставил летать по воздуху.
Ротмистр Бетц протер пенсне, впервые посмотрел на своего кавалериста Бюднера, второго повара роты, и сказал:
— Пожалуй, ты права, Резерль.
Станислаус очень тихо сказал:
— Прошу несколько человек подняться на сцену.
Поднялось семнадцать человек. Среди них Хартшлаг и Крафтчек. Богдан отсутствовал. В последнюю минуту он вспомнил о своем принципе — на военной службе нигде и никогда не выскакивать вперед.
Станислаус забыл о людях, которые сидели в зале и напряженно ждали от него действия. Он снова превратился в пытливого ученика пекаря, в Станислауса Бюднера, который, шутя и играя, собирался проникнуть в души людей. Сильно волнуясь, он сорвал с головы обременявшую его чалму из простыни и сунул ее в карман брюк.
Крафтчек в гипнотическом сне начал свое путешествие в Верхнюю Силезию, он смачно расцеловал свою Лизбет, он продавал в мелочной лавке военное мыло и бранился:
— Еще год войны, и немецким лавочникам крышка.
Станислаус разбудил Крафтчека до того, как он начал распространяться о войне и возможных последствиях.
Станислаус заставил одного кавалериста пройтись по канату, которого в действительности не было, а другого кавалериста — срывать спелые груши с вешалки. Солдаты и офицеры оживленно беседовали, прыскали, хохотали, били себя по ляжкам или старались подавить охвативший их суеверный страх. Под конец Станислаус показал свой лучший номер, для которого Роллинг придумал название «Кухня будущего». Для этой кухни Станислаусу понадобилось пять фельдфебелей. Они нехотя поднялись на сцену, и то лишь после того, как получили приказание от разошедшихся офицеров. На сцене стоял пустой стол, за ним сидел Вилли Хартшлаг, повар будущего. Станислаус усыпил пятерых фельдфебелей, и каждый из них мог заказать свое любимое блюдо. Каждый получил все, чего хотел, хотя Вилли Хартшлаг раздавал миски с водой или красной капустой. Фельдфебели руками ели селедку, а это была сырая картошка. Они снимали нитки с рулетов, и это тоже была сырая картошка; они грызли куриные ножки, обсасывали мозговую кость — и это была сырая картошка. Они смаковали супы из воловьих хвостов, заправленные яйцом, — и это была чистая вода. Роллинг стоял за кулисами и подбадривал Станислауса. Из шума и хохота, стоявшего в зале, вырвался чей-то голос:
— Со мной вы этого не проделаете. У этих фельдфебелей луженые желудки!
— У меня не луженый желудок, я голоден! — крикнул со сцены один из загипнотизированных фельдфебелей.
Новый взрыв хохота. Крикун вскочил и замахал руками. Это был командир взвода лейтенант Цертлинг из третьей роты. Станислаус поклонился и, уверенный в успехе, сказал:
— Прошу, господин лейтенант!
Молодой лейтенант испросил разрешения у ротмистра, стукнул каблуками и, гордо выпятив грудь, прошел на сцену, подобный статуе молодого всадника на какой-нибудь Зигес-аллее.[20]Аллея победы в парке Тиргартен в Берлине. Станислаус попросил лейтенанта занять место среди других чавкающих гостей.
— Стой!
Пятеро мужчин застыли, каждый в своем последнем жесте. Зал гремел от хохота и топанья ног.
Когда руки молодого лейтенанта безжизненно повисли, а голова склонилась набок, на сцене сидел уже не офицер, а юнец мальчишка, очень утомленный, очень расслабленный. Юнец этот вдруг начал смеяться. Офицеры, сидевшие в зале, надеялись, что их господин-камрад посрамит гипнотизера. Но не тут-то было. Этот одетый в мундир мальчишка смеялся и смеялся, при этом глаза у него были закрыты и он кричал:
— Перестаньте щекотать, немедленно прекратите! Слышите вы, негодяй. Я лейтенант!
Снова оглушительный смех, аплодисменты в зале. Лейтенант смеялся и смеялся, и чем громче был смех в зале, тем пронзительнее хохотал лейтенант:
— Ще-ще… перестаньте щекотать! Ох-хо-хо, кончаюсь! Хи-хи-хи!
Станислаус подошел к лейтенанту.
— Стой!
Лейтенант осекся. Люди в зале приумолкли.
— Чем угостить господина лейтенанта?
Юный лейтенант собрался с мыслями и начал горько плакать. Он утирал слезы ребром ладони, звал свою маму, как буржуйский сынок, которого отдубасил уличный мальчишка, и, не переставая канючить и всхлипывать, повторял:
— Мама, мама, я не хотел на войну!
Из-за кулис неслось лошадиное ржанье. В зале возобновился хохот. Офицеры начали волноваться.
— Прекратить! — крикнул командир дивизиона.
— Мама, они меня расстреляли в глинистой яме, я ничего дурного им не сделал. Они всегда были наглецами! — кричал лейтенант.
— Прекратить! — снова крикнул командир дивизиона.
Занавес опустился.
Фрау Бетц плакала. Она рылась в своей сумочке, ища носовой платок, но находила только деньги и в конце концов вытерла лицо руками.
Представление продолжалось. Вайсблат с момента перерыва стоял у входной двери и, тщательно оберегая цветы в кармане, ждал свою Элен. Она пришла, когда старший войсковой кузнец третьей роты голыми руками гнул на сцене подковы. Элен пришла тихая, в черном платье, торжественная, не как солдатская невеста, а как напоминание о том мире, который не исчез с лица земли, несмотря на все войны, на солдат, на жестокости и безумства. Вайсблат, бледный, согнувшись, проводил ее на свое место, а сам стал у стены, глядя на Элен, как на картину из Лувра. Офицеры непрерывно оборачивались на нее, вертя головой то влево, то вправо, так что у них трещали шейные позвонки. Адъютант подтолкнул офицера для поручений:
— Взгляните только на этого поэта, на это интеллектуальное ничтожество! Но какова женщина, а?
Офицер для поручений кивнул:
— Шикарная кобылка!
16
Станислаус с философских высот рассматривает женщин и видит, как гипсовый ангел спускается на землю.
Зал превратился в обжорку. Люди стояли в очереди перед стойкой, чтобы получить свою порцию еды. Каждый солдат имел талон. О том, что кое-кто из дам, пришедших в гости, мог быть голоден, никто не подумал. Вот когда для господ офицеров открылась блестящая возможность угостить дам, выказать себя кавалерами. Элен, скромная и внимательная, тихо сидела рядом с Вайсблатом, наблюдая происходящее. Приковылял адъютант. Одна нога у него была кривая. Не обращая внимания на Вайсблата, он склонился перед Элен. Вайсблат побледнел еще сильнее и, словно ребенок, который не понимает, чего от него хотят взрослые, положил указательный палец на губы. Элен изменилась в лице. Она бросила адъютанту многообещающий взгляд. Адъютант предложил ей руку. Элен ухватилась обеими руками за руку адъютанта. О, эта кошачья гибкость! Она по-дружески мило кивнула Вайсблату.
— Adieu!
Ее тонкая фигурка в черном поплыла рядом с кривоногим адъютантом в столовую для офицеров.
Вайсблат укусил себе палец и беспомощно взглянул на Станислауса. Тот не умел утешать.
— Таковы они, эти женщины. Она задрожала, когда он посмотрел на нее, — сказал Станислаус.
Еда тонула в солдатских желудках. Остатка положенной порции вина едва хватило, чтобы прополоскать после еды горло. Из гардероба извлекли тайные запасы. Полковая капелла играла модную песенку:
Кто верней любить умеет,
Чем солдаты в отпуску?
Солдаты подпевали. Танцевать было запрещено. Что не разрешалось на родине, того не могли требовать боевые войска. Да и как танцевать? Разве хватило бы дам? Ни в коем случае.
Был бы отпуск подлиннее…
— пел железнодорожный обходчик Август Богдан. Он не хотел гуляша. «Кто знает, чего они туда напихали…» Свою порцию еды он обменял на французский коньяк, был уже пьян и кивнул чавкающему Крафтчеку:
— Я думал, вы, католики, по пятницам поститесь.
— На войне пост отменен, иначе мы можем обессилеть и попасть на съедение врагу, — ответил Крафтчек.
Маршнер подмешал немного пепла от папиросы в красное вино, дал стакан гардеробщице и чокнулся с ней.
И любовь стряхнет тоску…
— подпевал он оркестру.
Растерянный Вайсблат стоял у двери офицерской комнаты, высматривая свою Элен. Станислаус попросил шнырявшего мимо Роллинга чуть приоткрыть дверь и по возможности не закрывать ее.
— Для Вайсблата я ни за что этого не сделаю, — сказал Роллинг и помчался с пустыми стаканами к стойке. Загадочный Роллинг! Станислаус сам стал за дверью, крепко придерживая ее. Теперь Вайсблат мог заглянуть в офицерскую комнату. Он приподнял штору, выжидая. Какой-то ординарец оттолкнул Вайсблата в сторону, но он снова стал на свое место, делая знаки головой. Дверь вырвали из рук Станислауса. Вайсблат оживился.
— Она мне кивнула, будто послала привет! — Он чокнулся со Станислаусом.
Элен сидела между адъютантом и командиром дивизиона. Командир кое-как наскреб из своего скудного запаса несколько французских слов, приправляя их бесчисленными поклонами.
— Voulez-vous un peu… un… э-э-э… peu sauver, madam?[21]Не хотите ли немного спасать, мадам? (франц.) — спросил он и помахал бутылкой шампанского.
— Oh, non, non, non, pas sauver quelqu’un ici,[22]О нет, нет, нет, я никого не хочу здесь спасать. — Немецкий офицер путает французское слово sauver — спасать и немецкое saufen — пить. — ответила Элен и весело рассмеялась.
В адъютанте взыграла ревность:
— Разрешите обратить внимание господина майора, что французское слово sauver ничего общего с питьем не имеет.
Командир дивизиона ничуть не смутился.
— Займитесь фрау Бетц, хе-хе-хе, — сказал он.
Адъютант поджал губы.
— Смешно, не правда ли? — спросил командир Элен.
Фрау Бетц подтолкнула мужа.
— Вот уж не думала, что он способен иметь дело с потаскушками, с такими, что на празднике урожая вешаются на каждого мужчину.
Ротмистр протер уголком скатерти свое пенсне, снова напялил его, взглянул на командира дивизиона и сказал:
— Придержи язык, Резерль, мы здесь не одни.
Роллинг принес еще шампанского. Он налил сперва майору, но получил замечание от адъютанта:
— Раньше даме, понятно?
Роллинг протянул руку за сумочкой Элен, она лежала на пути и мешала ему. Тонкие, узкие руки Элен взметнулись за сумкой. Она торопливо прижала ее к себе. Роллинг получил второе замечание. Офицер для поручений получил приказ освободить Роллинга.
Элен следила за спором между офицерами; она отпила немного вина и положила сумочку, лежавшую у нее на коленях, обратно на стол, потом метнула глазами в майора и, коверкая немецкие слова, сказала:
— Разрешить немного петь?
— Браво!
Адъютант постучал о стакан.
— Прошу спокойствия, нам споют.
Господа с наслаждением откинулись на спинки кресел.
— Сейчас эта потаскуха еще и запоет, — сказала пивоварша Бетц.
Ротмистр цыкнул на жену.
Элен стояла в глубине зала. Офицеры перекрутили себе шеи. Элен, вся в черном, не видела ни одного из этих сластолюбивых мужчин. Она смотрела в окно, куда-то вдаль. Казалось, она молится, очень сосредоточенно, очень тихо.
Toujour triste, toujour triste,
Quand j’y pense, quand j’y pense… [23]Всегда печальная, всегда печальная, Когда я думаю об этом… (франц.)
Офицер для поручений вышел, чтобы найти смену Роллингу. Дверь он оставил открытой. У двери стоял Вайсблат. Он кивнул Станислаусу:
— Послушай, она поет!
Вечер спустился.
Я помню об этом.
Ночь наступила.
Я помню об этом.
Двенадцать пробил Нотр-Дам…
Элен ходила вдоль офицерского стола и самозабвенно пела для кого-то далекого-далекого.
Утро настало.
Я помню об этом.
Солнце взошло.
Я помню об этом.
Двенадцать воронов на Нотр-Дам
Слетаются по утрам.
На сердце печаль.
Лишь только вспомню,
Лишь вспомню об этом.
Офицер для поручений вернулся, недовольно посмотрел на Вайсблата и Станислауса и крепко захлопнул за собой дверь.
— Ну вот, она поет для них… Я этого не переживу, — сказал Вайсблат.
Станислаус потянул его с собой к Воннигу.
— Все к лучшему.
В ту минуту, когда Вонниг чокнулся с погрустневшим Вайсблатом, у поэта выпал стакан из рук. Зазвенели осколки. Большая люстра закачалась. С потолка посыпалась известка. Маленький ангелочек оторвался от карниза, упал и разбился о стойку. Часть людей бросилась на пол, другие кинулись бежать. Кто-то завопил:
— Налет!
Дверь в офицерскую комнату раскрылась, клубы дыма поплыли в зал. На пороге валялась раскрытая сумочка, из нее торчали помятые оккупационные кредитки. Вайсблат и Станислаус лежали рядом на паркете, оба задыхались. Вайсблат вскочил, закричал:
— Элен! Эле-е-ен!
Станислаус прикрыл ему рукой рот.
Кто-то крикнул:
— Бомба! Адская машина!
Какой-то обер-лейтенант выскочил из офицерской комнаты, неся перед собой в правой руке оторванную левую.
17
Станислаус призывает смерть, его отвергают двуногие, и он возвращается к жизни благодаря странной влюбленной парочке.
Если бы возможно было подняться ввысь, оторваться от земли и посмотреть на нее, как на яблоко, повисшее на ветке, человеческое горе стало бы меньше, оно съежилось бы, как больное, насквозь прогнившее яблоко, и оспины на яблоке были бы горами, а гнилые пятна — лесами. Станислаус лежал в вереске и мечтал, а ветер со своим извечным шумом проносился над ним, шевеля листву деревьев. Станислаус лежал не в лесу своего детства. Могучий ураган, пронесшийся по миру, поднял его, как пылинку; сперва его трепало во все стороны на родине, а потом Станислауса, эту пылинку, занесло на минутку во Францию и опустило на пятачок под названием Париж. Наконец пылинка попала в жестокую бурю, и ее перебросило в густые дремучие леса у самого полюса.
После праздника, который провалился с треском в прямом и переносном смысле, дивизион еще не сразу отправился для геройских подвигов на Восток. Кое-что надо было расследовать: бомба выпала из сумочки той самой французской девушки Элен. Бомба разорвала эту девушку, растерзала командира дивизиона, разнесла в куски адъютанта, ранила многих офицеров, вселила в участников вечера ужас и страх перед противником.
Началось большое судебное следствие: кто привел эту женщину? Ее пригласил кавалерист и поэт Иоганнис Вайсблат. Ни слова о том, что эту красивую француженку адъютант тут же увел от Вайсблата. Следовательно, можно предположить, что этот интеллигент и поэт, вероятно даже полуеврей, Вайсблат знал о бомбе, которую эта парижская шлюха принесла с собой в общество офицеров.
Тогда на сцене появился каптенармус Маршнер, который якобы совершенно точно видел, как Вайсблат плакал по этой галльской девушке. Но нашлись люди, утверждавшие, что Маршнер этого видеть не мог, так как, воспользовавшись паникой, охватившей всех при взрыве бомбы, он изнасиловал гардеробщицу француженку, работавшую в ресторане. Вайсблата арестовали; между тем Маршнера послали закупать сувениры для раненых и нераненых офицеров. Сувениры были упакованы в большие ящики и отосланы родным и близким этих офицеров как последний привет из Парижа.
Когда приехал новый командир дивизиона, когда назначили нового адъютанта, а раненых офицеров сменили другие, снова воцарился порядок. Дивизион послали в горы в Германию, где солдаты должны были карабкаться по крутым склонам и вести бои с невидимым противником на уединенных альпийских пастбищах. Эскадрон снова снабдили лошадьми. Это были маленькие косматые лошадки, вьючные животные. Верховых лошадей имели только офицеры. Станислаус добровольно вызвался работать с вьючными лошадьми. Теплоту, которой он не нашел у людей, он искал у животных. Поспешность, с какой в канцелярии удовлетворили его желание, убедила Станислауса в том, что его выступление на празднике произвело впечатление на вахмистра Цаудерера.
Весной они отправились на грохочущих грузовиках по длинной с выбоинами дороге к полюсу. Леса, леса, леса. Сосновые чащи, как на родине, распластанные старые сосны, их сучья словно раскиданы ветром, мерцающие березовые рощи с мелкой ольховой зарослью; осока и розмарин; синяя поверхность озер, отражающих небо; илистое, как в аду, дно. Нигде ни деревушки, ни жилья.
— И это после Парижа!
Бутылки с вином в карманах и ранцах превратились в бутылки с обжигающей желтовато-белой жидкостью.
— Да здравствуют невидимые женщины Карелии! Ваше здоровье!
Сальности летели с одной машины на другую.
— Сделай себе дырку во мху, если скучаешь по бабе!
Некоторые не понимали, для чего они здесь. Вокруг — леса, мир и покой. Неужели теперь поведут войну с глухоманью, с лесными шумами?
Кто мы — сыпучий песок или саранча? Кто мы — стая воронов или стая ощерившихся волков? Все возможно, они кто угодно, только не люди.
Некоторые шептали имя, означавшее для них все и ничего: «Петсамо». Что это? Имя города или одиночества? Петсамо! В этом слове не звучала война.
В один из суматошных дней они обогнули камень сто семьдесят пятого километра на ухабистой дороге и, подпрыгивая на корневищах, по волнистой лесной местности въехали в дремучий лес. Здесь третья рота стала разгружаться, а вместе с ней санчасть дивизиона. Доктор Шерф не хотел забираться со своими будущими ранеными и мертвецами слишком далеко от шоссе — этой последней артерии цивилизации, зато штаб дивизиона с первой и второй ротами углубились в дремучую чащу.
Так стояли они, солдаты третьей роты, словно первозданные люди, в лесу, отданные во власть ветру. Ротмистр Бетц, этот пивовар из Баварии, своим пропитым командирским голосом первый нарушил великий шум вечности. Ротмистр носил теперь железный крест второго класса и серебряный знак отличия за ранение. Разве он, черт возьми, не рисковал во имя отечества своей шкурой на большом праздничном обеде в Париже?
— Спешиться! Стать бивуаком! Нарубить дров! Да чтобы щелки летели, живо! — Пропитой голос врезался в тишину леса, в уши солдат. Не так уж глубоко в лес; гораздо глубже в уши солдат; многих солдат качало от усталости, от ощущения заброшенности, от тоски по крыше над головой.
Дни проходили в корчевании пней, в горячей работе. Казалось, что у этого дремучего леса где-то забилось сердце, лихорадочно пульсирующее сердце. Люди рыли блиндажи, строили амбары для запасов продовольствия, обшивали офицерские бараки березовой корой, сколачивали ротную столовую и ждали войны.
Из штаба дивизиона прибыли связные. Они передали приказы по дивизиону. Из приказов следовало, что люди находятся во фронтовой полосе, они всегда должны быть начеку, обязаны четко нести свою службу. О дислокации противника в приказе были высказаны лишь смутные предположения. Вокруг лагеря цепочкой расставили постовых. Постовые должны зорко следить за войной, а войны не видно.
Станислаус приподнялся. В вереске гудели шмели, вокруг летали голубые мотыльки. Лесному мечтателю показалось, что он слышит чьи-то шаги. Странно, здесь шаги? Ведь он ушел далеко от лагеря. Свои воскресные утренние часы он провел у озера, где, вероятно, ни один человек с тех пор, как существует земля, не пролежал и трех часов. Потом он пошел дальше, утомился, немного поспал, снова поднялся и начал раздумывать. И вдруг шаги? Нет. Шмелиное жужжанье, тонкий комариный звон, тихий шепот ветра в листве — бог играет на своем большом органе. Здесь, у полюса, небо кажется жилищем бога. Всевышний, возможно, постарел и удалился на покой. Он отказался от общения с людьми и предоставил эти хитроумные существа самим себе. Пусть они в своей сверхмудрости уничтожают друг друга!
Нет, невысокого мнения теперь Станислаус о себе и себе подобных. Париж не научил его смеяться. Он убил в нем последнюю радость, еще таившуюся где-то в глубине души. Это было в те послеполуденные часы, когда он увидел на набережной Сены влюбленную парочку. Потом настал тот вечер, когда он их спас. Пустяковое дело, но все-таки дело, сопряженное с риском. Это было его желанием — сократить человеческое горе на земле, на этом яблоке, изъеденном оспой и плесенью. Мог ли он это сделать один, в то время как тысячи ему подобных множили зло и страданья? Не равно ли это намерению вычерпать походной кружкой карельские болота?
Смерть французской девушки Элен повергла его в лихорадочное состояние, как год назад в Польше смерть его товарища Али Иогансона. По дороге в эти дремучие леса Станислаус пытался сочинить что-нибудь об этой девушке, которая чем дальше, тем все больше становилась для него святой — возродившейся Орлеанской девой. В короткие промежутки он писал и писал, зачеркивал, снова писал, снова зачеркивал и рвал в клочья исписанные листки. Вначале он только печалился о себе, о своей необразованности, но потом разозлился и в конце концов начал презирать себя: он слишком мало учился. Он ничего не знает о тех вещах, которые заставляют людей жертвовать жизнью. Хотели эти люди быть угодными богу? Быть угодными людям? Может быть, они дали торжественную клятву любимому? Много вопросов — и никакого ответа. В лихорадочных сновидениях ему чудились слова Густава Гернгута: «Ты не читал настоящих книг».
Но все-таки слышны чьи-то шаги. Он прижался ухом к земле, точно мальчишка, который хочет определить, откуда приближаются ребята, с которыми он играет в разбойники. Кто-то шел сквозь эту тишину, сквозь безмолвие божьего органа. Враг? Имелось твердое приказание: «Солдатам дивизиона разрешается выходить за пределы лагеря только с оружием и группами». Станислаус никогда не вникал в этот приказ и всегда оставлял свою винтовку в лагере. Зачем ему винтовка здесь, среди лесной тишины? Не стрелять же лесных мышей, вставших на задние лапки и с любопытством смотревших на него? Конечно, были камрады, которые согласно приказу выходили группами и, напуганные долгими часами тишины, стреляли в воздух, чтобы услышать хоть от самих себя какие-то звуки. Они стреляли по заброшенности, которая грозила подавить их, вели войну с тишиной, которая собиралась поглотить их.
Бом, бом, бом, бом, бом!
Человеческие ли это шаги или это бог встал от органа, направляясь на покой? Кто знает, каков он, этот бог — четвероногий или восьминогий?
Покачнулась сосновая ветка. Что-то зашуршало. Станислаус услышал шепоток. Его сердце усиленно забилось. Может быть, на него уже наведено дуло чьей-то винтовки? Неужели наступили последние минуты его жизни? Что делать? Кричать? Умолять? Молиться? Он еще глубже зарылся в вереск, на него пахнуло горьковато-медвяным запахом, ладони ощутили тепло прогретого солнцем песка. Так ли уж дорога ему жизнь? Разве не бывало, что ему хотелось попросту расстаться с нею, как с износившейся одеждой? Можно ли найти на земле лучшее место для смерти и тления, чем это цветущее заброшенное место у полюса? Если в стволе для него уготована пуля, то пусть это случится теперь, именно теперь. В это мгновение Станислаус согласен на все, а через секунду все может измениться. Жажда жизни настолько не поддается воздействию рассудка, что в любую минуту, прежде чем успеешь заметить, она может снова властно овладеть твоим сердцем, подчинить себе тело.
Выстрела не последовало. Смерть была в хорошем настроении. И она, видимо, слушала игру бога на органе, улыбалась и пренебрегла возможностью такой легкой добычи.
Бом, бом! Шаги как будто удаляются. Почудилось, что кто-то сказал «нет». Ясно, по-немецки сказанное «нет». Станислаус высунул голову из зарослей, он хотел по крайней мере взглянуть, кто угрожал ему на краю его жизни, кто оторвал его от мысли о смерти.
Если его не обманывали глаза, то это вышагивал доктор Шерф. Он нес свой карабин, как охотник за перепелами, вытянув левую руку по стволу винтовки. Рядом с ним плелся молодой лейтенант Цертлинг. Он тоже небрежно нес свою винтовку. Лейтенант щекотал нос врача желтым цветком вереска. Доктор Шерф поглаживал свою бородку, а потом вдруг бросился на молодого лейтенанта и обхватил его бедра. Врач и лейтенант посмотрели друг другу в глаза. Так, обнявшись, они прошли несколько шагов вперед. У березовой рощицы они остановились и поцеловались — у каждого была винтовка за плечами. Всякий раз, когда вояки сливались в поцелуе, дула их винтовок соприкасались. Станислаус кинулся бежать со всех ног. Ему казалось, он тащит тяжелый груз, груз отвращения.
18
Станислаус сомневается в своем призвании поэта и вступает в корпорацию неудачников.
Ротмистр Бетц, натягивая сапоги, уже с утра раскричался:
— Сидел ли мир что-нибудь подобное? Не война, а дерьмо!
Шум леса поглотил взрывы ярости сумасшедшего пивовара, и эхо возвратило лишь последнее слово — дерьмо.
Бетц запустил сапогом в своего денщика. Ночью полевые мыши, эти бесхвостые, похожие на хомяков желтые лемминги, пищали и возились под спальным мешком ротмистра. Ночью? Даже ночи здесь нет! В этом проклятом краю, неподалеку от полюса, не было и намека на настоящую баварскую ночь.
Бетц пошел в кузницу, прикрикнул там на людей:
— Давайте, давайте, начинайте работу! Мне нужна кровать, железная, с пружинами, чтобы на ней можно было спать!
Из кузницы Бетц отправился в сарай с вьючными лошадьми. Там перед входом сидел Роллинг и варил на костре щуку.
— Эй вы, лодыри! — закричал Бетц еще издалека.
Роллинг медленно приподнялся, дважды сплюнул в песок и, ничуть не испугавшись, принял позу мало-мальски приличную.
— Ополоумел, собачин сын! Развел огонь у самой конюшни!
Роллинг стоял молча и смотрел на щуку, которая по вине пивовара теперь разварится.
— Откуда ты родом, задира?
Роллинг подтянул правую ногу, но не так лихо, чтобы стукнуть каблуками, и устало сказал:
— С Рейна.
— Так я и думал, ленивая шкура, что ты родом из этой французской местности, где говорят «карнавал», потому что «фашинг»[24]Масленица (нем.) . звучит для них слишком по-немецки. Шапку долой, ты, мазурик!
Роллинг снял шапку. Его голый череп заблестел на утреннем солнце.
Унтер-офицер Ледер, начальник отряда вьючных лошадей, высунул голову из конюшни. Бетц поманил его своими увесистыми кулаками пивовара.
— А ну-ка, живо, заставь этого рейнского лентяя работать!
Унтер-офицер Ледер тотчас же принялся за дело. Он погнал Роллинга к ручью. Ловец щук должен был набрать там воды в спою шапку и принести ее к костру. Роллинг неторопливо бегал взад-вперед, выливал в огонь остаток воды, задержавшийся в шапке, и снова бежал к ручью. Вода из шапки Роллинга шипела на огне, но не погасила его.
Ротмистр зашел в конюшню, опрокинул снарядный ящик, полный лошадиного навоза, и закричал: «Прусские свиньи!» Потом Бетц остановился у стойла своей верховой лошади, которую из Германии через Париж приволокли сюда. Он снял с крюка хлыст, постучал им по голенищу своих кавалерийских сапог и крикнул:
— Когда попадем на войну, я вам покажу, где раки зимуют!
Он протер пенсне и узнал Станислауса, чистившего скребницей свою маленькую рыжую лошадку.
— Уж не тот ли это бродяга, предсказатель?
— Кавалерист Бюднер чистит лошадей!
— Что ты говоришь, оракул, вшивый ублюдок? Продолжаешь бездельничать, черт! Здесь, у эскимосов?
Станислаус усмехнулся, промолчал. Пивовар Бетц наклонился вперед, чтобы получше разглядеть эту лошадиную вошь, Станислауса, в темном проходе конюшни.
— Значит, оракул молчит? В таком случае он годен для службы в штабе полка.
Верховую лошадь вывели из конюшни. Уходя, ротмистр взял из кормушки пригоршню овса и начал рассматривать его, как дома рассматривал ячмень для пива.
Кобыла фыркала. Дым от раздутого Роллингом огня проник ей в ноздри. Когда ротмистр-пивовар сидел уже в седле, прибежал со своей промокшей шапкой Роллинг. Тлеющие угли зашипели, кобыла испугалась и понесла седока вниз по лагерной дороге, прежде чем Бетц успел схватить поводья. Унтер-офицер Ледер раскрыл было рот, но тут же помчался вдогонку, потому что лошадь и пивовар доскакали до поворота.
— Каждый делает, что может, — сказал Роллинг и пробурчал:
— Я не останусь тут! — Затем он помочился в огонь и окончательно затушил его.
Кобыла сбросила ротмистра. Через полчаса он орал в канцелярии эскадрона:
— Необходимо устроить учебный плац. Люди отбились от рук.
Ротный вахмистр Цаудерер съежился, как воробей перед кружащей совой. Пивовару Бетцу требовался учебный плац такой величины, как аэродром там, на родине в Фюрстенфельдбруке.
Вот он край, где солнце не заходит. До обеда оно всходило, а после обеда спускалось поближе к земле, но едва достигнув кромки леса, сотканной из макушек деревьев, оно останавливалось и скатывалось в сторону по зубчатой линии леса до того места, где завтра оно снова начнет карабкаться в высокое бледно-голубое небо.
В такие ночи Станислаус снова и снова пытался описать историю девушки Элен. Но ведь он не был поэтом. Ему не хватало сил проникнуть в душу другого человека. Эх, ты, тоскливое отчаяние!
Ленивцу Станислаусу на руку поднявшиеся в лагере шум и тревога. У него нет времени для сочинительства, что поделаешь! Ему мешают.
— Все на работу!
И люди валили деревья, корчевали пни, утрамбовывали землю, лезли из кожи вон. Они рассчитывали, промеряли, рубили и сыпали проклятиями. Они боролись с комаром, этим шестиногим кровожадным насекомым. Миллиарды комаров облепляли их, гудели над ухом. Солдаты надевали зеленые защитные сетки, но там, где эти сетки слегка прилипали к потной коже человека, вырастала гроздь в тысячу кровососов. Белыми ночами над окопами стоял непрерывный комариный звон. Солдаты смазывали руки, плечи и лицо смолой. Острый смолистый запах заполнял и без того душный воздух блиндажей. Люди почти задыхались. И хоть комары держались подальше от натертых смолой рук, плеч и лиц солдат, но зато находили их ноздри, ушные раковины, вволю насасывались крови и улетали как ни в чем не бывало. Над стальными касками караульных, сидевших в яме, вился рой, высились башни, целые колонны из комаров тянулись до самых макушек деревьев.
Когда лесосеку начисто вырубили, выкорчевали все пни и расчистили поляну среди лесов, превратив ее в Ютеборгскую пустошь, жизнь пивовара Бетца снова обрела смысл, стала содержательнее. Теперь он каждое утро мог скакать верхом и наслаждаться своим испитым голосом, изрыгавшим баварскую брань. На новеньком, как с иголочки, учебном плацу стреляли холостыми снарядами, строили окопы, раздавались свист и окрики муштры, в ближнем бою уничтожались целые армии «предполагаемого противника». Так проходило время в дремучих лесах у полюса.
19
Станислаус совершил путешествие в душу фельдфебеля, понюхал пороху и встретился с сумасшедшим.
Когда ночи снова стали приносить с собой два-три часа темноты, усиленная учеба на живодерне пивовара Бетца постепенно превратилась в тупую привычку. Стоило командиру эскадрона повернуться спиной, как унтер-офицеры, а особенно солдаты, старались не слишком переутомлять себя. Лейтенант Цертлинг, начальник первого взвода, не любил хлопот. — Мы не новобранцы, мы, черт возьми, фронтовые солдаты! — говорил он.
К сожалению, никто толком не знал, где находится фронт. Он был отмечен на картах офицеров красивыми цветными закорючками, но там, где проходил этот пестрый карандашный фронт, в действительности стоял дремучий карельский лес, всюду было полно озер и болот, и вовсе не пахло ни человеком, ни противником.
Солдаты умели по-своему справляться с этим карандашным фронтом и с этой ни на что не похожей войной-выродком. Роллинг, например, удил рыбу, ставил верши. После обеда он, повесив, согласно приказу, винтовку на плечо, уходил из лагеря и предавался своим занятиям в лесной чащобе. Он расставлял верши в озере, находившемся очень далеко от лагеря, вынимал из них рыбу, выбирал двух особенно крупных щук, а остальной улов бросал обратно в воду. Щук он клал на землю под одну из берез. К этой березе он внимательно присматривался, ощупывал ее со всех сторон, снимал перочинным ножиком немного коры со ствола и шел глубже в лес. Роллинг держался тропинки, вынимал компас, закуривал, следил за стрелками компаса, что-то шептал про себя, вытаскивал из кармана тужурки какую-то записочку, что-то отмечал, шел дальше и вел себя так, словно ему необходимо было промерить весь этот дремучий карельский лес.
В тот вечер Станислаус получил приказ: явиться на короткую аудиенцию в чулан за канцелярией к ротной матери — вахмистру Цаудереру. Короче говоря, Цаудерер с интересом и удивлением наблюдал за опытами Станислауса в Париже. Теперь вахмистр должен их объяснить себе — вернее, вникнуть в них. Он человек основательный, как говорится — истый пруссак. Война здесь, в этих карельских лесах, скучновата, неопределенна, а уж в смысле отпуска унтер-офицерам и солдатам вовсе полна неясности. Вахмистр Цаудерер хотел бы одним глазком увидеть, что происходит у него дома. На мгновенье, понятно?
Станислаус понял. О эти фельдфебели, право же, они не услаждали ему жизнь. Вот когда представлялась возможность заглянуть в душу одного из похитителей девичьей чести. Он усыпил Цаудерера.
— Рассказывай, понятно? — приказал Станислаус.
Цаудерер не почувствовал насмешки и начал рассказывать.
Жизнь, в которую заглянул любопытный Станислаус, была обыденной и скучно-однообразной. Цаудерер работал подручным на фабрике ящиков в одном немецком гарнизонном городке. Шестьдесят пять пфеннигов почасовой оплаты. Однако, несмотря ни на что, он рано женился: вдвоем жизнь дешевле. Уже после первого ребенка жена постарела, подурнела от скупости, лишений и домашней работы. Семьдесят пять пфеннигов — Цаудереру на мелкие расходы. Грубейший табак по тридцать пфеннигов пачка — для изгрызенной трубки Цаудерера. Он видел ежедневно солдат, весело топающих с песнями по городу. Он спросил у солдат: «Сколько вы получаете в час и сколько часов в неделю работаете?» — «Мало работаем и хорошо получаем», — ответили ему. Тогда и он пошел на эту солдатскую фабрику и работал там не менее усердно. Став ефрейтором, он показался себе начальником смены на фабрике ящиков: тепло, хорошо. Теперь он ротный вахмистр, а солдатскую фабрику, где он уже стал мастером, перевели в дремучие карельские леса.
— У кого господин вахмистр отбил жену?
— Ни у кого.
— Сколько невинных девушек соблазнил? — спросил Станислаус в своем стремлении прочесать душу фельдфебеля.
Нет, вахмистр Цаудерер ни у кого не сманивал девушки, никогда не вожделел к жене ближнего; ему хватало своей, понятно?
Станислаус был разочарован. Под конец выходило, что Цаудерер не настоящий фельдфебель. И Станислаус разбудил его. Цаудерер протер глаза и сказал:
— Хорошо, солдат. Замечательно!
В своей прогулке домой к семье, над которой Станислаус, разумеется, не имел никакой власти, Цаудерер установил, что его жена еще не купила кроватки для младшего ребенка, его любимца. «Завтра отправить письмо Марте относительно детской кроватки», — пометил он в своей записной книжке. Таким манером Цаудерер иногда сам себе давал приказания. Во всяком случае, он не знал, что на его немецкой родине детские кроватки стали редким товаром.
Роллинг должен был закончить свое ночное путешествие. Часы его стали. Но когда он приблизился к линии охраны лагеря, то взял направление к той караульной дыре, в которой, по его расчетам, в это время дежурил Вонниг. Вторая щука в сетке Роллинга предназначалась Воннигу. «Все к лучшему!» Вонниг стоял на карауле и в то же время оберегал безопасность возвращения Роллинга, за что получал от него щуку. Роллинг тряхнул сосновую ветку. Это был условный знак. Если все в порядке, Вонниг издаст несколько тихих звуков на своей маленькой губной гармонике. Но гармоника молчала. Роллинг сильнее тряхнул ветку. Раздался выстрел. Ничего себе гармоника! Роллинг упал на землю, медленно пополз назад. Снова затрещало. В караульной яме Воннига сидел его сменный, верный долгу пограничный часовой Август Богдан. Ежели так сильно раскачивается одна-единственная ветка, то, может быть, ведьма в своем ночном полете сделала на ней привал? Богдан выстрелил один раз, другой раз, и тогда из всех караульных точек восточной части лагеря начали стрелять. Вскоре стрельба уже велась вокруг всего лагеря, причем никто из стрелявших не знал, зачем и в кого он стреляет. Роллинг почесал затылок. «Каждый делает, что может».
В чулане за канцелярией вахмистр Цаудерер вытащил колоду карт. Пусть Станислаус скажет ему что-нибудь о будущем в смысле отпуска, понятно?
Станислаус уклонился.
— Мне не дано заглядывать в будущее. Если человек ведет себя хорошо, то и будущее у него должно быть хорошее! Так оно бывает и иначе быть не может. — У вахмистра Цаудерера не было больше времени разочаровываться или возмущаться вожатым вьючных лошадей и предсказателем Бюднером. Разрывы ручных гранат сотрясали лагерь. Пулемет, эта пишущая машинка смерти, безостановочно трещал. Цаудерер побледнел. Будущее уже наступило.
Шофер затормозил огромный грузовик и ткнул в бок спящего Вайсблата.
— Сто семьдесят пятый километр. Вылезай, дуралей!
Вайсблат проснулся и сразу пришел в себя.
— Я рядовой, не награждай меня офицерским чином.
Он дал шоферу пачку французских сигарет. Шофер стал любезнее и, так и быть, показал Вайсблату приблизительное направление, где находится лагерь. В том, что этот хлюпик, с которым он трясся по ухабистой дороге, — фантазер, шофер ни секунды не сомневался.
— С каких пор «дуралей» — военный чин?
Вайсблат боязливо шел по лесу, пока не наткнулся на дорогу в лагерь. Он кряхтел под тяжестью ранца и через каждые двадцать шагов останавливался. Потом он лег на мшистую землю и начал разглядывать тусклые скупые звезды летней полярной ночи. Боже мой, боже мой! Этот путь похож на дорогу в ад. Он, человек, который не мог дышать вне условий цивилизации, попал в непроходимые леса! Сколько понадобится времени, пока сюда дойдут сигареты «Амарилла», посылаемые его почтенной матушкой? Война! На мгновение она показала себя с наиприятнейшей стороны, занесла его в Париж, в этот центр мировой культуры и цивилизации, чтобы потом отнять у него все, все до конца. Нет сомнения, что его хрупкие, сверхчувствительные нервы, как любил выражаться домашний доктор Вайсблатов, здесь окончательно развинтятся, а мозг его неизлечимо заболеет. Вайсблат немного поскулил над собой и тут же вскочил, так как его штаны промокли на сыром мху. Пожалуй, в этих непроходимых лесах ползают змеи и другие пресмыкающиеся.
В лагере начали стрелять. Вайсблат сразу попал в перестрелку. Тяжелый ранец налез на самый затылок. «Вот и конец тебе», — подумал Вайсблат. Когда прошли первые полчаса и еще какое-то время, а стрельба все не прекращалась, Вайсблат попытался освободить от тяжести ранца хотя бы голову, но над ним что-то засвистело; именно так — он знал это по книгам — свистят пули. До рассвета он ждал, что и его не минет пуля. И в тот момент, когда запели птицы, Вайсблат понял, что теперь его нервы окончательно сдали.
Выяснилось, что война, которой они дожидались изо дня в день, слегка, кончиком мизинца оцарапала лагерь.
Когда наутро пивовар-ротмистр поднял люк главного бункера, чтобы краешком глаза взглянуть на войну, ее и след простыл. Вместо нее пришлепал Роллинг с двумя крупными щуками в сетке, переброшенной через плечо, и винтовкой, которую он нес дулом вниз. Ротмистр Бетц швырнул Роллингу из люка три дня ареста:
— Как носят винтовку, вы, задира, карнавальный скоморох, рейнский лодырь, вы…
В канцелярии у Роллинга отобрали щук. К обеду они появились на столе в офицерском бараке.
Начались поиски виновных в ночной передряге. Поиски прошли безрезультатно. Никто ничего не видел. Все караульные посты поддержали огонь соседнего поста. Август Богдан боялся насмешек товарищей и не сознался, что выстрелил первым. Ему было ясно, что он прикончил самое меньшее двух или трех ведьм.
— Все к лучшему! — сказал Вонниг, когда Роллинг огрызнулся на него. — Теперь я по крайней мере знаю, как звучит война.
Станислаус навестил Вайсблата. Поэта снова сунули в его прежнее отделение к Крафтчеку и Богдану. Вайсблат лежал бледный и изнуренный на мху и курил одну из последних «Амарилл». Лицо его не оживилось, когда друг Бюднер протянул ему руку.
— Ты болен, Вайсблат?
Вайсблат взял сигарету, как берут кусок мела — большим и указательным пальцами — и сделал несколько движений в воздухе, будто писал ею.
— Знаком вам этот знак, господин палач?
— Тебе нехорошо, Вайсблат?
— Очень хорошо. В ближайшем времени я получу из армейской кухни крылья. Крылья пропеллера.
Станислаус испытующе посмотрел на своего друга. У Вайсблата был бессмысленный взгляд. Но когда он почувствовал, что его как бы оценивают, поэт захлопал веками и засопел, как рыщущая собака.
— От вас, сударь, чем-то несет. Вы пахнете, как парижский палач.
Вайсблат отвернулся к стене. Крафтчек дернул Станислауса за рукав:
— Не слишком его расспрашивай, не то он снова захочет взлететь, как в прошлую ночь. Он вообразил, что у него утиные крылья, но их зажарили, и он все время падает, стоит ему только подняться ввысь.
— Он заколдован, — сказал Богдан.
Станислаус доложил по начальству о болезни своего дружка Вайсблата.
— Он поэт и фантазер, — сказал унтер-офицер санитарной службы. — Понаблюдаю за ним на работе.
20
Станислаус проникается почтением к еще не написанной книге; его посвящают в тайну и ввергают в сомнения.
В воскресенье Станислаус и Вайсблат сидели под толстенной сосной где-то вне лагеря. Тишина. Время птичьего пения и гомона прошло. Крупные лесные муравьи ползали по своим стратегическим дорогам, таща веточки, сосновые иглы, гусениц; муравьи ощупывали друг друга, когда в слепом рвении натыкались один на другого. Вайсблат рисовал березовой веткой фигурки на песке.
— Я вроде действительно спятил. Нервы расстроены.
— Ты ведешь плохую игру. Это заметно.
— Это заметил только ты.
— Они тебя обследуют и поставят к стенке.
— Постараюсь играть лучше. Это достижимо. В Париже я читал кое-какие книги по психологии. Интересно!
Что-то затрещало в листве. Они пригнулись друг к другу. Взлетел дятел. Оба выпрямились и засмеялись.
— Вот видишь, — сказал Станислаус. — На таких мелочах они тебя и поймают.
Вайсблат нацарапал на песке дом, крышу под ним. Затем нарисовал дым, валивший из трубы.
— Но здесь, в этом дремучем лесу, я сойду с ума.
— В таком случае я ничем не могу тебе помочь.
Станислаус встал. Стая черных ворон пронеслась в наступивших сумерках.
Двенадцать воронов на Нотр-Дам… —
тихонько напевал Вайсблат. — Думал ли ты когда-нибудь об Элен?
— Мне кажется, я думал о ней больше, чем ты.
Вайсблат нарисовал большое облако вокруг своего опрокинутого дома.
— Никогда и никого я так не любил, как Элен.
— А ты уверен, что и она тебя любила?
— Она кивнула мне перед смертью, ты это видел. — Вайсблат поднял указательный палец. — Скажи, ты тоже слышишь звук, будто кто-то гложет кость, или только у меня он сверлит в мозгу?
— Это крольчиха.
Вайсблат перечеркнул свою мазню, стал на это место ногой и все стер сапогом.
— Она имела перед собой цель и с самого начала знала, что делает. Так я считаю, — сказал Станислаус.
— Крольчиха?
— Нет, твоя девушка, Элен.
— Теперь ты видишь, что я сумасшедший. Ты уверен, что у Элен была определенная цель?
— Безусловно.
— В таком случае она меня не любила. Она убила людей.
— И себя.
Они пошли к лагерю. Вайсблат потянул Станислауса за рукав.
— И у тебя есть цель, как у Элен?
— Да, есть.
— Какая? — Вайсблат заволновался. — Ну вот, начинается гуденье! Я бы сказал — самолет, но, к сожалению, все это происходит в моем мозгу. Скажи, какая у тебя цель?
— Надо пресечь злодеяния, считаю я.
Вайсблат рассмеялся. Его смех прозвучал, как блеяние козы.
— Злодеяния? Кто мне скажет, что такое злодеяние?
— Я скажу, — ответил Станислаус и, схватив Вайсблата, потряс его. Блеяние прекратилось. Вайсблат боязливо оглянулся, как ребенок, ожидающий наказания. Неужели этот человек с дикими глазами — Бюднер? Неужели Бюднер тут, на месте его задушит?
— Перестань разыгрывать сумасшедшего! — Станислаус оттолкнул своего товарища.
Вайсблат не мог перевести дыхание, лицо его побледнело.
— Надо проникнуть в психологию людей. Я напишу книгу. Книгу об Элен и войне; но не здесь, не в этом глухомани. — Он побежал, споткнулся о корневище сосны, упал, снова поднялся. — Не в этой чащобе, понимаешь?
Станислаус решил — пусть бежит. Разумеется, написать книгу не просто. Он вновь почувствовал уважение к Вайсблату. Как мог он, Станислаус, забыть, что его друг Вайсблат поэт, знаток человеческой души? А он этого поэта недооценил, вел себя с ним, как профан. Как мог он так вести себя, он, который не в состоянии написать даже рассказа об этой девушке Элен? Кто он, собственно? Никто. Ничто. Горсточка звездной пыли, не излучающая света.
Недалеко от сарая для вьючных животных текла речка, жизненная артерия лагеря. Солдаты черпали из нее воду для питья, для приготовления пищи, для мытья и выпаривания вшей. У кого хватало времени, тот выуживал из этой речушки мелкую рыбешку к завтраку или, уставившись на воду, воображал себя дома; в Дуйсбурге или Мюнхене, Гамбурге или Котбусе или в одной из немецких деревушек, затерянных среди лугов и лесов. Ночь уже благоухала ароматами ранней осени, а в прибрежном тростнике гулял легкий ветерок. На некотором расстоянии от сарая с вьючными животными вода текла по крупным камням и, спадая с них, пела: клинг-кланг, клинг-кланг!..
Роллинг рывком вытянул свою удочку. Около Станислауса упала на траву маленькая рыбка. Роллинг снял ее с крючка и тихонько присвистнул сквозь зубы.
— Ты хочешь сказать мне что-то важное? — спросил Станислаус.
— Насаживай червей на крючок. — Роллинг протянул Станислаусу коробку с червями.
У Станислауса были другие дела, он вовсе не собирался сидеть здесь с Роллингом и насаживать дождевых червей на крючок. Что будет с Вайсблатом, который все еще разыгрывает сумасшедшего, чтобы как-нибудь дорваться до писанья? Как ему помочь? Станислаус отшвырнул от себя коробку с червями. Она упала на камень. Тр-р-ах! Коробка раскрылась. Черные черви закопошились в ней. Роллинг закрыл коробку и прислушался. Клинг-кланг, клинг-кланг — звенела вода. Роллинг насадил свежего червяка на крючок, присвистнул и сразу же спросил:
— Бежим вместе?
— Куда?
— В Германию, к любимому фюреру.
Станислаус вскочил:
— Поищи себе другого дурака.
Роллинг отбросил удочку и схватил Станислауса за руку. Станислаус почувствовал: теплая, отеческая рука.
— Я разведал дорогу для нас с тобой, — сказал Роллинг.
Между ними лежала уже добрая дюжина мелких рыбок, но они все еще не договорились окончательно. Дело было в следующем: Станислаус согласен бежать лишь в том случае, если Роллинг возьмет с собой Вайсблата.
— Вайсблата? Каждый делает, что может, я этого сделать не могу.
— Почему ты против Вайсблата?
— Я его знаю. — И Роллинг рассказывал, рассказывал долго и откровенно, Станислаус не мог даже ожидать такого от человека склада Густава Гернгута.
Ночь была на исходе.
Они стряхнули с рукавов росу. Рассветало. Сидеть у реки больше нельзя, не то их обнаружат часовые.
— Ты никогда не говорил с Вайсблатом, хоть и работал у его отца.
— И все-таки я его знаю. Для этого у меня есть глаза, а главное — нюх. — Роллинг прищелкнул пальцами. Его шов на лбу заалел.
Станислаус философски заметил:
— Люди меняются в зависимости от окружения.
Роллинг недоверчиво посмотрел на него:
— Кто это сказал?
Станислаус хорошо помнил, что слышал эти слова от Густава, когда они стояли на часах под караульным грибом, но хватит ли у него времени рассказать Роллингу историю Густава Гернгута?
— Я это говорю.
— Нет, ты это вычитал в книгах, но жизнь не читает книг. Такой, как Вайсблат, не меняется. Он слишком насосался благородного материнского молока.
Где-то заржала лошадь. Роллинг повернул к бункерам. Станислаус удержал его за край куртки.
— Он писатель. Он хочет написать книгу против войны. Ему надо обеспечить покой и возможность писать.
Роллинг вырвался и исчез в бункере.
Лагерь начал оживать. Дневной караул ушел на посты, ночной караул вернулся. В канцелярии бесновался ротмистр Бетц, распекая вахмистра. Речь шла о крупной посылке — целом ящике. Ящик был адресован фрау Бетц на ее баварскую пивоварню. Цаудерер должен был переслать этот ящик с каким-нибудь отпускником в Германию. Но до сего времени ни один солдат не получил отпуска. Ротмистр по-прежнему бушевал. С каждым днем приближалась осень, а ящик с финскими шубами из чернобурых лис для жены и дочерей все еще стоял в блиндаже вахмистра.
— Вы тут пригрелись и вшей раскармливаете! Я вас отправлю на передовую! — свирепствовал пивовар Бетц и, схватив линейку Цаудерера, трахнул по дверному косяку. Косяк остался на месте, зато линейка превратилась в щепки.
Цаудерер еще подбирал с полу куски линейки, когда появился заведующий вещевым складом унтер-офицер Маршнер.
— С чем пришел, Маршнер?
Маршнер принес донесение: бывший кавалерист Вайсблат лежит в своем блиндаже, разыгрывает сумасшедшего и отказывается выполнять служебные обязанности.
— К черту медицину!
Ротный вахмистр Цаудерер был благодарен за такое сообщение. Он его подаст ротмистру к обеду. Пусть ротмистр убедится, что он не зря сидит здесь и вовсе не раскармливает вшей.
Одновременно каптенармус Маршнер пришел и за разрешением на служебную командировку в Германию. Вещевой склад пуст, осталась только грязная рвань, а замены не присылают.
Каптенармуса Маршнера отправили в служебную командировку в Германию. Он прихватил с собой в Бамберг большой ящик пивовара Бетца.
21
Станислаус помогает Августу Богдану связать ведьму, разочаровывает своего старшего друга Роллинга и делает из него болотного утопленника.
Вожатые занимались чисткой лошадей. Роллинг и Станислаус отвели своих животных чуть подальше. Они выбивали о камень серую лошадиную пыль из скребниц.
— Подумай, его потащили в медчасть и там будут обследовать. Ты должен взять его с собой.
— По мне, пожалуйста, — проворчал Роллинг, — можешь ему сказать, но ручаюсь, с ним мы не переправимся. Он по дороге еще обмарается.
Станислаус сдул с камня лошадиную пыль и громко застучал пустыми скребницами.
— А ты уверен, что после того, как там нас допросят, они не поставят нас к стенке?
— В нашей фронтовой газете напишут именно так. — Роллинг сплюнул и принялся скрести свою маленькую бурую лошадку. — Только бы очутиться там. Только бы мы… — Он засмеялся, словно в предвкушении счастья.
После обеда Станислаус зашел в санитарный барак. Было тихо. В соснах над крышей барака чуть слышно стрекотали синицы. Пахло по-осеннему. Унтер-офицер медицинской службы клевал носом, сидя на полуденном солнце у входа в барак.
— Войди к нему, к этому фантазеру, и скажи ему — мы ему приготовим крылья на виселицу!
Станислаус испугался. Вайсблат, как обычно, лежал, повернувшись лицом к стене. У другой стены санитарного барака разметался в жару какой-то кавалерист и громко бредил. Станислаус растолкал Вайсблата и сунул ему в руку записку. При этом Станислаус наблюдал за кавалеристом у противоположной стены, которого, может быть, положили сюда для слежки. Кавалерист лежал с закрытыми глазами, но веки у него подергивались. Станислаус подошел к койке лихорадящего.
— Хочешь пить, камрад?
Да, кавалерист хотел бы хлебнуть воды, но без лягушек. Вайсблат повернулся на другой бок и погрозил кулаком бредившему кавалеристу.
— Я ни в коем случае не сбегу в Россию. Я хочу в Германию! — у Вайсблата во рту действительно клокотало что-то вроде пены.
Станислаус выхватил записку, которой размахивал Вайсблат. Короче говоря, Вайсблат вырвет себе в Германии перо из крыльев и напишет этим пером книгу о бомбе в Париже.
Станислаус ушел. Его сердце по-прежнему было полно уважения к поэту, который, несмотря на угрозу смерти, так упорно добивался своей цели.
Роллинг готовился, он много раз выходил за пределы лагеря со своим мешочком для рыбы и выносил понемногу продукты. Станислаус беседовал на кухне с Вилли Хартшлагом и фуражиром о добрых старых временах в Париже. Тем временем Роллинг воровал хлеб и мясные консервы. Два дня таинственных приготовлений. Два дня разговоров под стук пустых скребниц. На Воннига нельзя было положиться. Это уже подтвердилось. На сей раз Роллинг хотел выскользнуть из лагеря, пройдя через участок, где на часах стоял Богдан.
— От страха перед ведьмами он всадит тебе пулю в спину.
— А ты сделай его при помощи своей черной магии небоеспособным, наколдуй что-нибудь подходящее.
Станислаус имел теперь дело не с ворчливым и брюзгливым Роллингом, а с мечтателем.
— Может быть, они там не поверят, но я им все объясню.
Скребница как бы подкрепляла своим стуком мечты Роллинга о будущем. Станислаус молчал. Он глядел исподлобья, словно перекатывал тяжелые камни. Роллинг и без того достигнет своей цели, но Вайсблат… С Вайсблатом все было неясно. Он нуждался в помощи… Или, быть может, трусость нашептывала Станислаусу, что он должен остаться, должен спасти Вайсблата?
Наступила ночь побега. Они лежали в вереске, пока в лагере не стало тихо, пока дежурный офицер не обошел караульные посты, после чего залезли в яму к Богдану. Роллинг был разговорчив, как пьяница.
— Теперь мы уйдем! Через два часа у тебя к завтраку будет такая щука — не пожалеешь!
Богдан не хотел, ну просто не хотел соучаствовать.
— У меня и так забот полон рот, — говорил он. Он получил письмо из дому. Корова больна. Письмо долго пробыло в пути, она, наверное, уже издохла.
— Заколдовали, — сказал Роллинг.
— Наверное! — Богдан обрадовался, что подтвердили его подозрение. — У нас на деревне есть такая, которая все колдует и колдует. Попадись она мне…
Роллинг толкнул Станислауса.
— Не плошай, Богдан! Ты только позволь, и Бюднер перенесет тебя на мгновение на родину, а там ты эту мерзавку отколотишь!
Богдан посмотрел на Станислауса:
— А это возможно?
Станислаус замялся. Зато Роллинг говорил безостановочно, как барышник.
— Ты сможешь ее связать на расстоянии. И она даже не шевельнет своей ведьмацкой рукой. И, пожалуйста, не шуми, если мы не вернемся до смены караула. Озеро далеко, а щука велика.
Роллинг вылез из караульной ямы и исчез в кустах. Станислаус дрожал всем телом. У него зуб на зуб не попадал. Он прикусил себе мякоть щеки. В кустарнике что-то тихо потрескивало.
— Ну, тогда усыпи меня, как в тот раз Крафтчека, — попросил Богдан.
Станислаус сосредоточился и усыпил его.
— Видишь ведьму, видишь, как она выходит из твоего коровника?
— Я ее вижу. Паулина, неси скорее веник или веревку! — шептал Богдан.
Из кустов слышалось тихое пощелкивание. Условный знак. Богдан спал. Станислаус опорожнил его патронную сумку. Щелканье в кустах усилилось.
— Счастливо, — тихо сказал Станислаус и вздохнул. Он подождал еще секунду. Условный знак не повторился: — Будь здоров, старина Роллинг, будь здоров! — и Станислаус стал возле Богдана: «Через десять минут ты проснешься. Забудь обо всем, забудь обо всем!»
Станислаус вылез из ямы, пополз через вереск. Он мог бы идти нормально, так как он направлялся в лагерь, к своему блиндажу. Кавалерист Бюднер выходил по нужде! Но он предпочел ползти. В его состоянии это казалось ему более подходящим.
Исчезновение Роллинга заметили лишь на другой день, во время переклички. Гнев баварского пивовара лавиной обрушился на офицеров и солдат. Начались допросы. Кто видел Роллинга последним? Станислауса прошиб пот, когда на допрос вызвали Богдана. Но Богдан ни о чем понятия не имел.
Пивовар-ротмистр снова набросился на унтер-офицеров:
— Эх, вы, разини, шуты ярмарочные, бездельники! — Он с яростью налетел на вахмистра Цаудерера. Бетц не мог забыть, как Цаудерер обошелся с его ящиком.
Сформировали группу преследования. Возглавить ее было приказано вахмистру Цаудереру.
— Доставить сюда дезертира живым или мертвым, или я в порошок вас сотру!
Станислаус сидел в углу сарая для вьючных животных и размышлял. Как далеко мог уйти Роллинг? Догонят ли они его? Путь Роллинга в общих чертах известен Станислаусу, надо что-нибудь предпринять в помощь товарищу; но мог ли он оставить Вайсблата? Допустить, чтобы тот шел навстречу смерти? Роллинг — Вайсблат, Вайсблат — Роллинг.
Станислаус пошел в канцелярию. Он заставил себя идти медленно. Он осведомился на почтовом пункте о письмах, хоть и не ждал письма. Лилиан больше не писала. Он не отвечал на ее письма.
В канцелярии творилось черт-те что. Вахмистр Цаудерер готовился в поход. С побледневшим лицом он заворачивал котелок в одеяло. Снаряжение для атаки! Крышка походного котелка тарахтела в дрожащих руках вахмистра.
— Прошу зачислить меня добровольцем в группу преследования, — сказал Станислаус.
— Что? — вахмистр сорвал со стены фотографию своих детей и спрятал ее у себя.
— Прошу зачислить меня добровольцем…
— Хорошо, солдат, будешь моим связным, понятно?
Группа Цаудерера три дня находилась в пути. Полдня они шли в восточном направлении.
— Куда его понесло? Перебежчик на Восток! Здоровый человеческий инстинкт понес его на Восток, понятно? — Вахмистр Цаудерер был доволен своей великолепной догадкой.
К полудню связной егерь-кавалерист испросил разрешения поразведать немного местность во время привала.
— Хорошо, солдат!
Через два часа кавалерист Бюднер принес сведения об одном болоте, непроходимом болоте. Его надо обойти с севера.
— Хорошо, солдат, двинемся на север, а дойдя до конца болота, повернем снова на восток, понятно?
Они обошли болото в северном направлении, наткнулись на твердую землю и, повернув на восток, снова вышли на болото, которое им пришлось обогнуть севернее.
На второй день к полудню они набрели на лагерь второй роты их эскадрона. Горячая встреча. Никаких следов Роллинга. Водка ходила по кругу.
— Да здравствует война в Карелии!
На утро третьего дня они зашагали по направлению к собственному лагерю. Цаудерера угнетало плохое настроение. Его маленькая головка была и вовсе пуста от похмелья.
— Как бы это мне не стоило моего поста, — сказал он своему связному и съежился, точно воробей перед скворешней. — Но не лезть же в болото, не лезть же на смерть?
К обеду связной Бюднер принес хорошие вести для своего вахмистра. Бюднер обнаружил посреди болота стальную каску. Это была стопроцентная немецкая стальная каска.
— Засосало нашего дезертира, понятно? — Цаудерера охватило необыкновенное усердие. Спилили деревья, построили нечто вроде плота, добрались на нем до середины болота и извлекли оттуда стальную каску. Теперь каждый мог видеть, что это каска Роллинга, так как на кожаной прокладке химическим карандашом была написана его фамилия. Ускоренным маршем они вернулись в лагерь, чтобы сообщить об успехе группы преследования.
22
Станислаус получает письмо с неба, ловит себя на злобных мыслях и видит, что опекаемый им поэт стремительно идет к гибели.
Пивовар Бетц с удовлетворением принял рапорт ротного командира.
— Засосало, и правильно. Нечего сказать, хорошенький пример!
Да и почта принесла приятные вести из Баварии. Ящик с шубами доставлен каким-то отпускником. Этому человеку выдали три кружки крепкого пива и закуску. Большое спасибо, ну а как обстоят дела с финскими меховыми ботинками, — у нас поговаривают, что нынешней зимой снабжение углем еще больше урежут.
Капитан медицинской службы доктор Шерф отпустил Вайсблата, который, лежа в санбате, по-прежнему настойчиво требовал, чтобы ему дали крылья. Пусть с этим помешавшимся на крыльях поэтом возится кто хочет. У Шерфа к данному случаю нет интереса. Он не психиатр, он прибыл сюда, чтобы освобождать солдатские тела от раздробленных рук и ног.
В сумерки над лагерем кружил один-единственный русский самолет. Пулеметы были поставлены на позицию и плевались светящимися пулями — этой азбукой Морзе, которую применяет смерть, посылая свои сигналы в пряный лесной воздух. Пивовар Бетц стоял на откосе окопа и смотрел в полевой бинокль. Рядом находился вахмистр Цаудерер. И он старался стоять прямо, чтобы походить на ротмистра, однако тщательно скрываемое чувство страха так и гнуло его к земле. Хотел этого Цаудерер или не хотел, ноги его непроизвольно подгибались. Ротмистр Бетц опустил бинокль и прыгнул в окоп:
— Однако этот забияка Иван здорово швыряется!
Слова ротмистра как бы разрешали Цаудереру испытывать страх. Вахмистр скатился в окоп. Вот когда началось будущее, началась война. Бетц и Цаудерер прислушивались, полузакрыв глаза. Ни выстрелов, ни взрывов. Самолет улетел. Что-то тихо шелестело и потрескивало в листве. На лагерь сбросили листовки.
Едва началась тревога, как вожатые поспешно отвели животных вглубь, под защиту леса. Станислаус лежал рядом со своей лошадью и прислушивался к рокоту самолета. Оно то приближалось, то отдалялось. Совсем как жужжание шершня. Мыслями Станислаус перенесся во времена своего детства. Вот он дома, в кухне своей матери Лены. Где-то у окошка зажужжал шершень, вот он сел на плиту, а вот он уж на шкафу, что стоит в углу. Станислаус видит своего отца, который пытается матерчатой туфлей убить шершня. Отец Густав чудодей. Станислауса вдруг осенило, он понял все: нужда толкнула отца на чудотворство. Он, Станислаус, по тем же причинам заставил Богдана связать ведьму. Неужели вся жизнь — это замкнутый круг? Коловращение вокруг себя? Не потому ли молодые люди повторяют то, что делали старики, ибо злодеяний и нужды на земле не становится меньше.
Кусок бумаги величиной с почтовый листок упал перед пасущейся лошадью. Лошадь фыркнула, мотнула головой, но продолжала пастись. В самом деле, с неба упало письмо с фотографией улыбающегося Роллинга. У Роллинга слегка усталый взгляд, но улыбка — настоящая. Никто на свете не смог бы заставить Роллинга засмеяться, если он этого не хотел. Станислаус искал на лице Роллинга упрека, легкого упрека своему бывшему товарищу Станислаусу Бюднеру. Не залегла ли здесь в углу его рта едва приметная ироническая складка? Станислаус прочел, что сообщал ему Роллинг: «Кончайте! Переходите к нам! Думайте о Германии! Не повинуйтесь банде разбойников!»
Станислаус до тех пор мял бумажку, пока она не стала величиной с ноготь большого пальца. Он спрятал ее под крышку своих карманных часов. Эти часы он купил, когда был еще учеником пекаря и cand. poet., чтобы хорошо использовать свободное время для учебы. Часы висели на цепочке, подаренной ему толстой лесничихой в день конфирмации.
Воздушная тревога кончилась. Смерть унесла свои бомбы. Сбросили только одну бомбу, да и ту с листовками. Их прислал рабочий-цементщик Отто Роллинг. Егери третьего эскадрона сновали взад-вперед и, пользуясь темнотой, собирали между деревьями письма Роллинга.
На пивовара Бетца напал припадок буйного помешательства. Он выгнал ротного вахмистра Цаудерера из канцелярии и приказал явиться лейтенанту Цертлингу. Надо разведать путь Роллинга через болота. Ротмистр Бетц хотел на собственный страх и риск напасть на советский лагерь. Не для того он проник в чужеземные леса, чтобы собирать сосновые шишки. Пусть это делает командир полка, пожалуйста! Бетц пошел на войну, чтобы видеть кровь, собирать добычу. Теперь на службе ввели строгости. Составили большой учебный план по подготовке предварительной атаки на советский лагерь. «Такое им устрою, что эти прусские задиры обмараются!»
Бывший садовник Вонниг хотел по меньшей мере выжить. Он безропотно принимал все дела и обстоятельства в том виде, в каком их ему подсовывала грязная рука судьбы. Все к лучшему! Ночью он сидел в караульной яме на восточной стороне лагеря. Расстегнув поясной ремень, прислонив винтовку к песчаной стенке ямы, а стальную каску к брустверу, он напевал:
Все хорошо, и люди подобреют,
Все хорошо, мы все стремимся к свету.
Он вспомнил на минутку о губной гармошке, которую носил с собой в кармане брюк. И, пригнувшись в яме, держа обеими руками этот маленький инструмент, он тихо заиграл на нем.
Когда звезды усеяли небо, ночь на часок превратилась в настоящую немецкую ночь. Вонниг тихо играл на губной гармошке: «Месяц взошел…» Все к лучшему! Не попади он на военную службу, никогда бы ему не выкроить времени, чтобы стать мастером по игре на губной гармошке. Дома, у себя в садоводстве, всегда ему что-нибудь мешало. Люди умирали, и он должен был в свободное время плести венки для погребения покойников, на маленьком печатном станке печатать к венкам ленты: «Незабвенному» или «О горе, она ушла…» Для музыки и возвышенных искусств, которые почитала их секта, у него не оставалось времени. Все к лучшему — и война к лучшему, потому что в караульной дыре в дремучих лесах недалеко от полюса можно научиться искусству игры на губной гармонике. Вонниг подбирал мелодию на этом губном строгальном станочке, был счастлив, если сразу находил правильный тон, долго держал его, радовался чистоте звучания, прислушивался к нему. В звуках гармоники тонули и жесткий треск ветвей, и шуршание катящегося камушка, и взлет потревоженной тетерки. Вонниг только тогда встрепенулся, когда в яме за его спиной посыпался песок. Он хотел оглянуться, но не успел. Ему сжали горло. Рот гармонисту заткнули кляпом из мха. Вонниг издал только один звук, как это бывает с удушенным: «Гррр!» Он не задохнулся, ибо дыхание, необходимое для жизни, поступало через нос. Он еще раз прохрипел «Гррр!», но не потому, что боялся задохнуться; он надеялся этим криком о помощи привлечь внимание караульного из соседней ямы. На минутку для Воннига не все было к лучшему, советские разведчики извлекли его из караульной ямы и потащили в ту самую чащу, которую Вонниг должен был охранять, чтобы сюда не забрался враг и не выкрал из кровати ротмистра Бетца. Минутой позже, когда изо рта Воннига вытащили мох, мир снова стал для него хорош. Теперь, подумал Вонниг, меня, наверное, повезут в другие страны, и я увижу белый свет. Все к лучшему!
Но исчезновение Воннига без стальной каски, без поясного ремня и губной гармоники не так уж хорошо отразилось на жизни других солдат. Ротмистр Бетц носился по канцелярии, тыча маленькую гармонику под нос унтер-офицерам.
— Вот до чего доводит это прусское безделье. Музыкой занимался сукин сын, а под конец еще и уснул.
Бетц бросил гармонику, эту крохотную ночную арфу, на письменный стол ротного вахмистра. Офицеры смотрели на нее, выпучив глаза, и не смели к ней прикоснуться. Она была как маленький взрыватель, который привел в действие бомбу — ротмистра Бетца.
Станислаус привел себя в состояние боевой готовности, взнуздал и оседлал коня, принес ящики с боеприпасами с оружейного склада, вскрыл их. Потом пошел взглянуть на Вайсблата, подбодрить его. Крафтчек и Богдан тоже заботились о нем. Вайсблат не хотел встать с постели. Он требовал свои крылья из каптерки. Станислаус слегка толкнул его. Вайсблат испугался. Открыл глаза. Взгляд его был ясен.
— Начинай работать, Вайсблат, не доводи дело до крайности!
— Мои лебединые крылья, прошу вас, господин палач!
Крафтчек напялил каску. Из почитателя божией матери Марии он превратился в бронированного окопного стрелка. Вайсблат снова повернулся к стене. Крафтчек ткнул в него карабином.
— Вставай-ка, дружочек, не то они пришьют тебе нарушение воинской дисциплины и поставят к стенке. И придется нам в таком случае стрелять в твое тощее тело, как в свое время мы стреляли в долговязого Али, помнишь, в этого прожорливого.
Вайсблат действительно вскочил, отрыл, как собака, свою винтовку из мха, надел стальную каску, которой пользовался как пепельницей. Тонкий пепел сигарет «Амарилла» высыпался ему на лицо. Вайсблат поднял руки и, воздев с мольбой глаза к потолку барака, воскликнул:
— Дай мне крылья, боже милостивый!
Крафтчек расстроился и сдул с лица Вайсблата пепел.
— Успокойся, успокойся, сыночек. Крылья тебе прицепят, когда ты выйдешь отсюда, они, пожалуй, не поместились бы в бараке, ты бы только на все натыкался.
Вайсблат обнял Крафтчека и прижал его к себе. Крафтчек возгордился.
— Я правда, точно не знаю, как обращаются с такими, как этот, но был у меня на родине один человек, который ужасно хотел стать Христом и все требовал воды, чтобы пройти по ней. Мы, человек десять, привели его к затопленной шахте, раз уж ему не терпелось пройтись по воде. Когда его начало засасывать, он так напугался, что больше не захотел быть Иисусом. Тогда он снова взялся за шахтерское дело и уплатил мне все, что задолжал.
Битва за предполагаемые окопы противника была в разгаре. Ротмистр Бетц надумал какую-то дьявольскую штуку: враг добрался до их лагеря. Он украл караульного. «Мои люди, — считал Бетц, — должны закалиться и стать такими же недоступными, как скалы в Верхне-Баварских горах». Раздали боевые патроны. «Хватит забавляться холостыми. Мы теперь ведем настоящую немецкую войну!»
Станислаус испугался. Ящик, который он снял с вьючного животного, был набит не камнями, как обычно, а матово-желтыми винтовочными патронами. Боже милосердный!
Солдатам в «немецких» окопах был отдан приказ атаковать предполагаемые окопы «русских». Прошло несколько минут. Никто не шевельнулся. Из «русских» окопов начали безостановочно стрелять. Засвистели пули, зажужжали шальные пули. Был дан приказ стрелять мимо, но поближе к цели, однако егерский кавалерийский эскадрон не изобиловал хорошими стрелками.
На краю окопа «немцев» показалась одна-единственная стальная каска и снова скрылась. Это была каска одного из начальников отделений. Ротмистр Бетц спрыгнул с вышки командного пункта и на своих длинных ногах пивовара зашагал среди пролетавших со свистом пуль. На командном пункте затаили дыхание, но Бетц упорно шел к цели в середине окопа, словно гудевшие вокруг него пули были всего лишь маленькие безобидные мушки.
— Таких собак и пуля не берет, — шепнул Станислаус.
Дойдя до середины окопа, Бетц встал во весь рост и крикнул «русским»:
— Стрелять, рубить, эй, вы, русские забияки!
Он пригнулся, спустился в «немецкий» окоп и потребовал к себе лейтенанта Цертлинга.
— Я вас предам военно-полевому суду, если вы немедленно не пойдете в атаку, молниеносную, как чума!
В «немецком» окопе зашевелились. Из него выскочил лейтенант Цертлинг и пополз по земле, как угорь. За ним кинулись начальники отделений. Вскоре между окопами закишели солдаты. Впереди, немного поодаль от лейтенанта Цертлинга, стоял ревностный служака Август Богдан. Пули свистели. Они летали высоко, потому что никто из солдат «русского» окопа не хотел стать убийцей своих товарищей.
Бетц выскочил из окопа, остановился, осыпал бранью солдат, унтер-офицеров и крикнул «русским»:
— Целься ниже, довольно баловаться! — и, не сгибаясь, отправился под градом пуль обратно на командный пункт.
Почему его никто не пристрелит? — подумал Станислаус и тут же заорал на свою лошадь, чтобы заглушить одолевавшие его слишком звонкие мысли.
Лейтенант Цертлинг приполз назад в окопы. Он чувствовал за своей спиною военно-полевой суд. В окопе сидел только один человек. Это был Вайсблат. Угрожая револьвером, Цертлинг выгнал его наружу.
Август Богдан залег на передней линии. Он хотел первым добраться до «русского» окопа, вскочил, сделал несколько шагов и рухнул.
— Ранение в ногу, — констатировал адъютант на командном пункте и протянул ротмистру полевой бинокль.
Вайсблат побежал. Он распластал руки, словно крылья.
— Уууууу, ууууу! — крикнул он и бросился под настил в яму, рядом с которой лежал выкорчеванный пень сосны. Пень выглядел, как старый зуб. — Ууууу, ууууу! — кричал Вайсблат.
— Этот помешался! — сказал один из вожатых, который пользовался своей лошадью как укрытием.
— Такой-сякой! — ворчал Станислаус. Он показал на командный пункт, где стоял ротмистр. Руки Станислауса дрожали. Он опустил повод, и тот упал рядом с мордой щиплющего траву коня. Лошадь подняла голову. Станислаус положил руку на теплую лошадиную шею.
Ротмистр опустил полевой бинокль:
— Санитаров!
— Ууууу, ууууу! — кричал Вайсблат.
Ротмистр снова поднял полевой бинокль. Он обнаружил Вайсблата.
— Ууууу, ууууу!
Бетц снова опустил бинокль и крикнул через плечо:
— Этого дурака под арест, немедленно!
Санитары с носилками кинулись через поле боя к Богдану. В «русском» окопе разыгрался рукопашный бой. «Урра! Урраа! Уррааа!»
Пивовар Бетц дрожал от боевого восторга: «русские» разбиты.
23
Станислаус отправляет в хлебе записку смертнику, показывает одно из своих обыкновенных чудес и развязывает малую войну между двумя высокими начальниками.
После боя Станислаус немедленно пошел к Вайсблату. В бараке Вайсблата не оказалось. У ящика с боеприпасами сидел Крафтчек, ел фасоль и плакал. Он плакал о Богдане. Богдан был мертв. Полез на смерть в порыве служебного рвения. Ему не нужно больше ломать себе голову, почему в Гурове шлагбаум поднимают теперь стальным тросом непосредственно со станции.
— Будь то настоящая война, ее можно вытерпеть, — жаловался Крафтчек, — потому что колонии важны и необходимы для мелкой торговли, которую и так уже втоптали в землю. — Белая фасолина выкатилась из его плачущего рта, перепрыгнула через колено и упала на пол барака. Крафтчек посмотрел ей вслед, словно потерял зуб.
Станислаус забеспокоился: где Вайсблат?
Крафтчек продолжал жаловаться:
— Упрятали Вайсблата с его крылышками, которых он так добивался, он полетел на них в карцер под арест. Право же, начинаешь сомневаться в милосердии человеческом. — Крафтчек поднял ложку, продолжая причитать: — Пресвятая матерь божия, сделай так, чтобы он действительно сошел с ума. Я никогда не забуду, как он обнял меня, словно ребенок свою мать! Бюднер, ты бы спросил свои тайные силы. В конце-то концов, и для него, может быть, еще найдется спасение, а мне бог простит, что я принимаю так близко к сердцу судьбу евангелиста.
На следующее утро, когда Вайсблат ломал на кусочки корки хлеба своего однодневного рациона, в руках у него оказался клочок бумаги. Хотя Вайсблат чувствовал голод, ибо страх стянул ему кишки, он все-таки отложил хлеб и прежде всего ощупал со всех сторон записку. В блиндаже было темно. Хоть глаз выколи. Жизнь, возможно, посылает ему весточку, а он не в состоянии ее прочесть. Еще никогда в своей жизни Вайсблат не был так нормален, не действовал так уверенно и точно, как сейчас, в этом блиндаже, под наваленными горой балками и землей. Его пронизывала жажда жизни, она вытряхнула из него все его заумные хитросплетения, все худосочные желания. Он ощупывал стены блиндажа, делал это толково и планомерно и увидел, что между грубыми неотесанными бревнами проложен мох, преграждавший доступ воздуху и свету. Практическая сметка его отца, которую Вайсблат, будучи студентом и поэтом, никогда не признавал, над которой он неизменно издевался, пробудилась в нем. Он выбрал наиболее широкий паз в срубе и слой за слоем принялся выдергивать втиснутый между бревнами мох.
К обеду Вайсблат выщипал столько мха, что образовался просвет и арестованный мог прочитать мелкие буквы записки, которая пришла к нему в темноте. Записку, должно быть, написал его товарищ Бюднер. Указание, как спастись. Чтобы Вайсблат спасался? Разве он не приготовился к великой Пустоте? Разве он не убежден в бесполезности жизни? Разве он не философ, достаточно хладнокровный, даже если придется встретить смерть и принять ее как должное? Видимо, нет, потому что Вайсблат был очень благодарен Станислаусу, отвесил поклон в темноте и прошептал: «Бюднер, разреши мне назвать тебя своим другом».
К вечеру часовой у карцера попросил лейтенанта Цертлинга прийти в арестное помещение. Уже несколько часов Вайсблат пел высокой фистулой: «Я хочу видеть лейтенанта Цертлинга, хочу видеть невесту. Аллилуйя, крылья растут, я хочу видеть господина Цертлинга, невесту в кавалерийских сапогах!» При этом Вайсблат колотил руками в стены бункера. Лейтенант Цертлинг велел отпереть карцер. Вайсблат заслонил руками глаза. Его руки были в крови, он разбил их, когда колотил ими по балкам в такт своему пению. Лицо Вайсблата тоже было залито кровью.
— Дайте свет, госпожа докторша! — крикнул он.
— Вы с ума сошли?
— Да, да, сошел с ума, сообщите об этом вашему мужу, господину капитану медицинской службы: сошел с ума!
Вайсблат хотел обнять Цертлинга. Караульный встал между ними. Вайсблат говорил как бы сквозь часового:
— Я должен передать вашему супругу, капитану медицинской службы, важную новость относительно вашей свадебной поездки. Аллилуйя, мои крылья растут! — Вайсблат снова запел. Он пел о лейтенанте, а тот не находил слов и беспомощно смотрел то на караульного, то на выход из карцера. К офицерскому бараку Цертлинг шел уже не так бодро, как сюда.
Вайсблат пел все громче и все более осипшим голосом. Он долго требовал к себе врача, пока какой-то сердобольный караульный, не вытерпев, привел Шерфа. Врач вошел в карцер один, закрыл за собой дверь бункера и щелкнул электрическим фонариком.
— Ну, как дела?
Вайсблат упал на колени:
— Гасите свечу, жених идет!
— Что?
Все в порядке. Вайсблат требовал, чтобы его выпустили из блиндажа. Он хотел лететь в штаб полка и там распорядиться о приготовлениях к свадьбе.
— О чем вы просите, господин Вайсблат?
Доктор Шерф говорил любезно. Вайсблат, нисколько не стесняясь, заговорил откровеннее. Он имел возможность видеть на тетеревиной охоте, при свидетелях, господина врача и его невесту. Он проникся их большой любовью и теперь должен лететь в штаб полка…
Шерф был умнее лейтенанта Цертлинга. Он смотрел на своего пациента Вайсблата не без доброжелательности, посвистывал сквозь зубы, слегка согнулся в поклоне и был вежлив, как говорится, по всем правилам. Он ласково попросил Вайсблата пройти с ним в санчасть, немножко отдохнуть и даже, может быть, в счет отпуска предпринять небольшой полет в Германию. Для того чтобы явиться в штаб полка свежим и уверенным, Шерф избавил часового от сопровождения арестованного и сам доставил Вайсблата в санчасть. На другой день началась война между пивоваром-предпринимателем Бетцем и бывшим врачом больничной кассы Шерфом. Война шла за Вайсблата. Бетц приказал немедленно посадить Вайсблата в карцер. «Он притворщик; голову даю на отсечение!»
Доктор Шерф определил болезнь Вайсблата как тяжелый случай бешенства в результате навязчивой идеи. Пивовар угрожал, что напишет рапорт в дивизион: потворство разложению воинских сил! Врач сообщил в полк о личных планах похода пивовара Бетца на русских.
Скрытой причиной этой войны между врачом и командиром эскадрона был Станислаус, чудодей. Он спас Вайсблата с помощью одного из своих самых простых чудес. С тех пор как он так разочаровал Роллинга, Станислаус плохо относился к себе; но вот он предотвратил злодеяние, спас поэта и еще не родившуюся книгу. Он даже на секунду возгордился, когда получил из санчасти записку от Вайсблата: «Сим объявляю тебя своим другом и спасителем жизни».
Походу пивовара и начальника роты Бетца штаб полка воспротивился. Бетца призвали к порядку. Войне нет дела до бесполезного гнева пивовара. Солдаты егерского кавалерийского полка так и не дрались на Карельском фронте. Для чего же в таком случае они залегли здесь в лесах?
Распространился слух: предстоит операция «Серебристая лиса». Говорили, что теперь их перебросят в Швецию. Но в Швецию так и не отправились. Может быть, для немецких лисиц шведский виноград был слишком кислым? Войска проводили учения, ждали, вновь проводили учения, но их «боевой дух» ослабевал.
Отпускники, возвратившиеся из Германии, шепотом сообщали близким товарищам, что военное счастье перешло к русским. Торопливо сказанные слова помогали обосновать ходившие слухи: «Невообразимо холодная зима… Обмораживание третьей степени… Снег по грудь… Сталинград… В котле… Генерал Паулюс… Капитуляция… Целая армия… Назад, назад!»
Вайсблат был не одинок со своим безумием. И ротмистр Бетц готовился к тому, что проиграет в карельских лесах битву с доктором Шерфом.
24
Станислаус невольно устраивает явление божьей матери камраду Крафтчеку и узнает от своего друга Вайсблата о намерении написать книгу.
Снова пришла весна, и они снова двинулись в путь. Всем полком. Может быть, война вспомнила о своих поредевших резервах?
Ночи были еще холодными. Солдаты лежали в просторном корабельном трюме и согревались слухами: «Едем в Германию… Будем караульным полком в Берлине… Нас повезут на юг Восточного фронта… Париж хочет видеть нас еще раз… Одному богу известно…» Все было возможно, каждая надежда могла сбыться.
Потемки боролись в трюме со светом маленькой зарешеченной лампочки. Совсем как в хлеву, не лучше. Люди лежали, вытянувшись на соломе, и кутались в одеяла. Море походило на глубоко вспаханное поле, и солдатам казалось, будто их тащат ногами вперед по грубым комьям земли. По железному трапу не прекращалось хождение. Люди, шатаясь, проходили друг мимо друга, тихо кивали головой. Их лица отражали до известной степени состояние их желудков.
Крафтчек сидел на корточках в ворохе соломы. Верхняя часть его тела раскачивалась в такт толчкам корабельной машины.
— Пусть бы мы ехали в Германию, было бы вдвое легче, но наш брат, как червь в сыре, не знает, не приготовлен ли уже для него нож.
Станислаус уставился на сидевшего рядом Крафтчека, думая о Роллинге. Снова человек, годившийся ему в отцы, шел один своим путем. Виновны были не Густавы Гернгуты, не Отто Роллинги — виноват был он. Он слабый, как говорится, слабый человек, швыряемый из стороны в сторону. Ощущение, подымавшееся у него изнутри, ослабляло его. Почему ему не удалось самому написать что-нибудь об этой Элен из Парижа? Почему он должен ждать, пока это сделает Вайсблат? Вайсблат проводил дни на больничной койке, копался в своих беспорядочных мыслях и еще не написал ни строчки. Он ждал хороших условий, чтобы взяться за перо.
Крафтчек почувствовал на себе пристальный взгляд Станислауса и вообразил, что должен уснуть. Он гипнотизировал самого себя, так как жаждал хоть одним глазком взглянуть на родину. Станислаус заметил состояние Крафтчека только тогда, когда тот начал тихо причитать: «Пресвятая богоматерь! Благослови польского патера, который освятил мой амулет и сделал меня неуязвимым для пуль!» Крафтчек прижал сложенные руки к груди и обратил лицо к лампочке, висевшей на обитом железом потолке трюма. Слабый свет лампочки, который просачивался сквозь закрытые веки, представился Крафтчеку спустившейся с неба божьей матерью. «Если бы только сатана не держал в своих руках важных господ и всех тех, кто делает политику! Присмотри-ка маленько за этим, пресвятая дева! Нам нужны колонии, ибо откуда нам взять рисовую молочную кашу! Со своей автаркией, которая не более как иностранное слово для обозначения нужды, они далеко не уйдут. Скажи сама, пресвятая матерь божия, как же нам раздобыть рисовую кашу и кофейные бобы, а это всегда было выгодным делом, особенно если их получать из Гамбурга не жареными, а поджаривать самим. Но как нам этого добиться, если мы болтаемся в лесах у северного полюса и плаваем по холодному морю? Пресвятая дева, не можешь ли ты все-таки присмотреть за власть имущими, уж не попутал ли их сатана и не подменил ли направление войны? И если при всей твоей занятости это можно бы уладить, то позаботься немного и о том, чтобы нам не проехать мимо Германии, нашей родины, не увидев торжества справедливости. Если же на войне и дальше нечего делать, как только валяться и ждать неизвестно чего, простри свои добрые материнские длани между нами и врагами нашими и покончи с ней!» Кто-то швырнул пустой хлебный мешок в Крафтчека. «Прекрати скулеж!» Крафтчек проснулся, протер глаза и благодарно посмотрел на Станислауса. «Может случиться, что в Германии мы маленько передохнем, переведем дух. Матерь божия на мое предложение кивнула одобрительно».
Корабль катился по волнам. Вода была ядовито-зеленая и холодная. Небо — безнадежно серое. Снова ожила борьба между врачом и ротмистром за поэта Вайсблата. Каптенармус Маршнер после возвращения из пивоваренных угодий Бетца стал, как говорится, правой рукой ротного командира. Грязная рука! Она доставила поклоны и пожелания от жены и дочерей Бетца. Ротмистр выказал благодарность. Он извлек Маршнера из заплесневелой каптерки, произвел в фельдфебели и дал ему под начало отделение. Новое назначение не было для Маршнера желанным. Он явился к своему воинственному благодетелю.
— Господин ротмистр, прошу разрешения искоренить эту заразу.
— Какую?
— Прошу разрешения помочь выяснить случай с Вайсблатом.
Понимающая улыбка. Подлое хихиканье. И вот этот Маршнер — на больничной койке. Он занят тем, что разматывает клубок бечевки, обматывает ножки кровати, дверные ручки, корабельную лампу и всевозможные предметы. Ничего другого, кроме как тянуть колючую проволоку, он делать не умел.
Они ехали по Германии. В товарных вагонах было не светлее, чем в корабельном трюме, зато настроение — превосходное. Можно отодвинуть в сторону дверь вагона и смотреть, как родина, где весна уже в полном разгаре, проносится мимо них. Щебечущие зяблики в робко зеленеющих деревьях; приветливо кивающие женщины в весенних платьях. Нехватка тканей укорачивала юбки. Война создала свою моду! Аллилуйя, любовь цветет и во время войны!
По вагонам перекатывались разные слухи. После долгого перерыва снова запели: «Птицы в Ваагальде, те пели чудесно, чудесно на родине, на родине…»
Один из слухов был наиболее упорным, так как он соответствовал желанию многих. Слух этот был так настойчив, что мог претендовать на правду: обратно в гарнизон! Полк формируется заново! Перестройка для особых целей! Отпуск на родину!
Некоторые даже знали, какой продолжительности будет отпуск: семнадцать дней. Это звучит правдоподобнее, чем круглый срок — три недели. О, фантазия находит пути, чтобы прикинуться правдой! Они продвигались медленно, а на некоторых товарных станциях простаивали целые дни. В последнее время противник позволял себе чаще, чем ожидали, сбрасывать бомбы на Германию.
— Кто сказал, что генерал-фельдмаршал Геринг зовется теперь Майером?[25]В начале войны Геринг, командующий военно-воздушными силами Германии, хвастливо заявил: «Пусть я буду не Геринг, а Майер, если хоть одна вражеская бомба упадет на Германию». — Прим. ред.
— Он сам сказал.
— К этому следует заметить: противник ведет себя подло и преступно, бросает бомбы ночью и с большой высоты. Это значит, что он не может нам смотреть в глаза.
— Еще бы, глаза-то у нас подбитые.
Нелегкая задача для офицеров и унтер-офицеров держать солдат в руках во время долгих стоянок. Однажды утром Вайсблат появился в солдатском вагоне.
— Матерь божия, ты здоров?
— Середка на половинку. Кое-как обошлось.
— Потерял аппетит к крыльям?
Вайсблат, недовольный, отвернулся от Крафтчека, который обращался с ним когда-то по-матерински.
— Итак? — спросил Станислаус.
— Оставь меня в покое!
Вайсблат искал в вагоне свободное место. Станислаус напомнил ему о письменно заверенной дружбе, и Вайсблат стал доступнее. Где он мог писать об Элен? Уж не здесь ли, в этом вагоне для скота? Станислаус во что бы то ни стало хотел держать любопытных подальше от Вайсблата. Какое представление имеет этот Бюднер о писанье! Для писанья должны быть определенные предпосылки. Вайсблат не репортер, который, так сказать, в любом положении, чуть ли не лежа, стряпает свою писанину. Вайсблат уже просил у матери хорошей бумаги и сигарет «Амарилла». Ни бумага, ни сигареты до сих пор не прибыли.
Они ехали по Баварии. Проклятия в вагоне множились, как вши, хотя и не все виды на отпуск были потеряны. Разве Австрия не Германия, разве фюрер, наш вождь и освободитель, не вернул ее домой, чтобы полностью использовать ее именно так, как ему заблагорассудится? Конечно, Германия велика и не кончается Баварией.
Когда их поезд остановился на товарной станции в Бамберге, жена пивовара-ротмистра перелезла через груду угля. Пивовар приветствовал свою супругу, стоя на ступеньках вагона второго класса. Жена пивовара-ротмистра Бетца носила крест «За военные заслуги» второго класса. Она заслужила его в Париже на пиру во время взрыва! Бетц дал жене указания по изготовлению разжиженного пива. Его баварский народ, несмотря на войну, не должен полностью отказываться от своей привычки к пиву. «Теперь, конечно, растянем немного запасы ячменя, Резерль!» Нашлись люди, которым хотелось верить, что они слышали, как ротмистр сказал жене: «Успокойся, я скоро вернусь, Резерль!» Разве это не означало отпуска на возвращенную родину Австрию?
— Всякое бывало, на войне все возможно, — предсказывал Крафтчек. — На войне уже бывало, что через Вену едут в Глейвиц, Гинденбург и Бойтен, только пыль столбом стоит. Я не был бы так уверен, если бы на корабле мадонна мне не кивнула.
Спустя три дня их поезд покинул товарную станцию в Вене без приказа о выгрузке. Крафтчек тяжело это переживал. Он оправдывал свою мадонну. «У нее многовато дела на войне. Она каждому нужна». Кроме того, у Крафтчека появился повод для новых надежд. Их путь лежал на юг и, в конце концов, все-таки к колониям. Рисовая молочная каша и кофейные бобы — мадонна знала лучше, чем иное начальство, чего не хватает немецкому народу.
Все-таки в Вене кое-кого высадили, однако сделали это незаметно. Высадили доктора Шерфа и лейтенанта Цертлинга. Их увел караул военного эшелона и передал вокзальной комендатуре. Доктор Шерф проник в психику Вайсблата, но психика Маршнера осталась для него тайной. Маршнеру доставали старые чулки, позволяли распускать их и ждали ослабления психоза от перемены мест. Но болезнь Маршнера не проходила. Маршнер был доволен бечевкой, заменявшей ему колючую проволоку, и продолжал мотать, завертывать, обматывать. Но санитарный вагон был тесен, а любовь и симпатия Шерфа и Цертлинга, увидевших родину, — велики.
Лейтенант Цертлинг и доктор Шерф не были достаточно осторожны. Маршнер накрыл их и отправил за решетку.
Во время стоянки в Нейштадт-Вене ротмистр Бетц расхаживал взад и вперед перед поездом, как настоящий победитель. «Какое безобразие!» Он вытащил свой красный носовой платок, протер пенсне и увидел, что караул с двумя арестованными исчез в задней части вокзального здания. Из окна санитарного отделения второго класса смотрел Маршнер, по-идиотски скалил зубы и мотал шерсть в клубок.
Когда поезд проезжал Штейермарк, многие уже не знали в точности, принадлежит ли он к великой Германии. Все больше углублялись они в горы и все чаще чувствовали себя словно заживо погребенными в длинных туннелях. В вагонах стало тихо, так как проклятия взрывались безмолвно в душе у солдат.
25
Станислаус знакомится с войной: слышит плач, ползет к плачущему и обнаруживает, что военачальники воюют сами с собой.
Была ночь, и они ехали через горы Югославии. Свои желания, свои планы на отпуск они похоронили под маской равнодушия и проспали, вернее, просумерничали часы своей испорченной жизни. Свисток локомотива перед въездом в туннель заставлял кого-нибудь то тут, то там вскочить в испуге, но увидев, что все в порядке, человек снова засыпал. Станислаус бодрствовал. Он, вероятно единственный, ничего не ждал. Между ним и Лилиан простирались морозные дали. Возможно, что его мать Лена, его сестра Эльзбет или его отец Густав обрадуются на несколько часов, если он их разыщет, но затем все опять станет будничным. Радость жизни надо черпать в себе самом. Но как пронести ее сквозь путаницу и войну? Цепь мыслей, часто приходивших ему на ум, гремела сквозь ночи Станислауса, и звенья ее поистерлись от постоянного употребления. Теперь тут оказались еще доктор Шерф и лейтенант Цертлинг. Он не терпел обоих, но почему эти двое не имели права любить друг друга? Кто запретил им отказаться от женщин и довольствоваться друг другом? Государство? Чем опасны они этой могучей машине? Тяжелые мысли Станислауса прервались на этом месте. Локомотив резко затормозил. Вагоны стучали и наскакивали друг на друга. Раздался треск. Все покатилось вперемешку — люди, ранцы, котелки. Тесаки звенели, карабины хлопали. Грохот наполнил темноту. Что-то трещало на крыше вагона. Пучки огня брызгали вокруг. Станислаус прыгнул к люку. Второй огненный шквал загнал его под вагон.
— Тревога!
— К оружию!
— Выходи из вагонов!
— На нас напали!
— Пресвятая богоматерь, не забудь про мой амулет!
— Карабин украли!
Все снова затрещало; шипел и брызгал бледный огонь.
— Третий взвод, ко мне! — раздался хриплый голос вахмистра Цаудерера.
После того как в Вене с поезда сняли лейтенанта Цертлинга, взвод Станислауса остался бел начальника. Двери вагонов откатывались со скрипом. Застрочил пулемет. Посыпались ружейные выстрелы.
— Низость! — рычал кто-то, — Разве здесь фронт?
Нет, фронта здесь не было, но вокруг все трещало, летели осколки. Толевая крыша одного из вагонов горела.
Они находились в ущелье с крутыми откосами. Сверху на них обрушивался огонь и грохот. Солдаты поползли под вагоны, разбивая головы о вагонные оси. У паровоза хрипло каркал офицер: «Бандитская сволочь!» «Трахтах-тах!» — трещал пулемет. «Пуфф, пуфф, пуфф!» — сыпались разрозненные ружейные выстрелы. Ржание лошадей. Пронзительный крик. Может быть, предсмертный? Блеющие унтер-офицеры. Суматоха увеличивалась.
— Прочь от горящих вагонов! Вас видит враг! В укрытие! На высоты!
Покатились камни. Большие камни. Осколки камней.
— Сюда, наверх, ко мне! Наверх! — раздался голос пивовара с отвесной скалы. — Прекратить стрельбу!
Треск и вспышки в ущелье уменьшились. На высотах справа и слева от железнодорожного пути начался бой. Вялые выстрелы минометов.
Станислаус лежал за обломком скалы над путями. Из ущелья бил ключом пар от паровоза. Искры летели в нашпигованное звездами южное небо, выстрелы и пули пронзали его.
Куда стрелять Станислаусу? Он не видел врага. Ведь наверху на отвесной скале лежали люди из его батальона. Должен ли он обстреливать их? Вот, значит, как выглядит война! В учебные часы, на строевом плацу, всегда были ясно видны границы: здесь мы — там враг. Все маневры в обход врага удавались, каждое учебное сражение заканчивалось победой.
Три пули, одна за другой, отскочили от обломка скалы, за которым притаился Станислаус. Они со свистом прожужжали над ним и улетели прочь! Станислаус лежал на своем карабине. В ущелье ржали лошади, в смертельном страхе бились о стены вагонов.
Вайсблат попал в руки унтер-офицера второго взвода. Унтер-офицер погнал его вверх на скалистую стену слева от железнодорожной насыпи. Вайсблат удивлялся самому себе. Откуда у него взялась такая ловкость? Правы ли те философы, которые утверждают, что война пробуждает инстинкт самосохранения и человечка делает человеком? Прав ли Ницше? Вайсблат упал в дыру, которую, казалось, приготовили именно для него. Как только унтер-офицер вскарабкался на откос, Вайсблат исчез, поглощенный скалами. Он дал унтер-офицеру протопать мимо и установил, что в этой дыре можно жить. Пусть кричат и стреляют все те, кто хочет кричать и стрелять. Вайсблат дрожал, но не чувствовал себя в опасности.
— Вперед, вперед!
Чего ради ему идти вперед? А что ждет его впереди? Вайсблат увидел огромное небо над собой. Ночное небо, словно вырезанное из картины, изображающей юг. Звезды сверкали и мерцали, месяц катился мимо туч, продирался сквозь них. Он скользил высоко над заячьей душой Вайсблата. Он выполнял свою ночную программу. Он был здесь и действовал, возвышался над слабыми человеческими криками и ружейной трескотней. И война, казалось, пронеслась над Вайсблатом, так как теперь она громыхала, трещала и кричала где-то далеко на плато.
Станислаус полз, привлеченный чьим-то плачем. Кто-то кричал:
— Помогите, помогите же мне!
Станислаус толкал перед собой обломок скалы, пользуясь им как щитом. Пулеметные очереди свистели совсем близко. Станислаус прикрывал этим обломком голову. Временами ему казалось, что нет на свете ничего дороже своей головы, но громкий плач товарища заставлял его забыть о голове. С другой стороны ущелья приказали открыть огонь; слова приказа на немецком языке долетели до Станислауса. Сомневаться не приходится: они обстреливают друг друга.
Вайсблат поднялся. Тишина показалась ему подозрительной. Он почувствовал себя оставленным всеми товарищами, с которыми и прежде у него не было ничего общего. Ему вспомнились истории о том, как люди попадали в руки врага, как их замучивали до смерти. Так умирать он не хотел. Он действительно влачил жалкое существование, это верно, но смерть он желал себе особенную. Должны быть соблюдены определенные условия. Теперь он лежал в этой дыре, а в нем лежала ненаписанная книга; книга, вместившая все знания, которые Вайсблат собрал в этой путаной жизни. Мысли о книге подогрели немного остатки его мужества. Он подтянулся повыше и попробовал выглянуть через край дыры в скале. Кроме беспорядочно разбросанных обломков, он ничего на плато не увидел. Вдруг рядом что-то звякнуло. Он подтянул к себе карабин и на залитом лунным светом плато ясно увидел, что какой-то человек переползает от одного обломка скалы к другому. Теперь Вайсблат пристально смотрел на обломок скалы, который находился от его дыры не дальше чем в двадцати метрах. Но что это? Фигура, скорчившаяся за обломком скалы, подняла руку кверху. Рукав скатился, обнаженная рука забелела в сиянии месяца. Не подаст ли кто-то знак? «Это я, Вайсблат, поэт!»
В ответ раздался взрыв поблизости от дыры. Кто-то, притаившись за обломком скалы, бросил сюда камень. Камень катился недолго и с грохотом взорвался. Огонь и гром. Засвистели осколки. Вайсблат не поднимал головы. «Ручная граната», — бормотал он. Гордился вновь пробудившимся инстинктом жизни. Ницше!
Тот, другой, снаружи, подползал к дыре Вайсблата. Вайсблат дрожал. Итак, враг рядом, Вайсблат, кто же ты? Надо как-то действовать. Конечно!
«Во мне запрятана книга. Да, книга!» — кричал он. Враг не дал сбить себя с толку, полз и полз. Вайсблат выстрелил три раза по врагу и почувствовал, что нервы ему изменяют. Он скатился обратно в дыру, сдался, ожидая своей смерти. Смерть не спешила. Она позволила Вайсблату успокоиться и попытаться закончить свою жизнь возвышенными мыслями. Обреченный на смерть видел мерцание звезд и бормотал, как молящийся: «Что есть душа перед тобой, высокое небо! Что есть душа перед тобой, высокое небо! Что есть душа?»
Когда Станислаус нашел плакавшего товарища, тот был уже мертв. Оказалось — вожатый, который спас своего мула из горящего вагона. Животное пощипывало траву. Поводья висели на мертвой руке. Впереди снова закипел бой. Станислаус и мертвец лежали позади. Впереди? Позади? Какое это имело значение в этом обезумевшем мире.
Чей-то голос надрывался до хрипоты:
— Санитара! Санитара!
Слабый голос звал:
— У меня мозг вытекает!
Врача в дивизионе не было. Его арестовали за разложение воинских сил.
26
Станислаус превращается в змеиную траву и начинает сомневаться в миссии своего подопечного поэта.
Утро было голубое, солнечное и невинное. Великая тишина лежала над ущельем. Постепенно стали собираться люди из дивизиона. Рельсовый путь был взорван. Паровоз и первые вагоны врезались в щебень. Паровоз повис над пропастью. Пропасть зияла, как разинутая пасть горного массива. Паровоз уставился выпученными глазами своих фонарей в эту пасть.
Боевая группа, посланная на ближайшую станцию, достигла ее беспрепятственно. Солдаты отряда имели время и возможность с любопытством разглядывать скалы и горы.
«Если не покружишь по белу свету, то и не увидишь, как иной раз земля вздымается в самое небо, и у тебя так и не будет возможности узнать, как неравномерно распределяются божьи дары. Я мог бы петь, так легко мне здесь наверху, так близко к небу!»
Станислаус не отвечал. Все внутри у него дрожало. Что это, страх или снова та лихорадка, которая впервые напала на него в глинистом карьере в Польше?
Окончания его нервов, казалось, вылезли из кожи. Он вздрагивал от каждого дуновения ветерка, как змеиная трава на обочине дороги. Значит так вот люди убивают друг друга, словно им больше нечего делать на этом свете. А может быть, им действительно нечего больше делать? В это светлое солнечное утро мир представлялся Станислаусу еще более непонятным, чем когда-либо.
В помощь дивизиону из глубины страны прибыла железнодорожная ремонтная команда с подъемным краном и пустым составом. Солдаты погрузили животных и багаж. Им пришлось побегать взад-вперед, так как, не считая мертвых, было много раненых, превратившихся в багаж!
— Паршивцы, пруссаки, не изображайте таких страданий! — кричал ротмистр. Его проклятия не исцеляли раненых и не воскрешали мертвых.
Больше двух вагонов потребовалось для подобранных мертвецов. «8 лошадей или 48 человек» — было написано на товарных вагонах. Относительно количества трупов, которое разрешалось грузить, на стенах вагонов указаний не было.
Офицеры не осмеливались смотреть друг другу в глаза. Они суетились и делали вид, что очень заняты. До тех пор, пока снова не двинулись в путь. Поданный состав не имел вагона-столовой второго класса с мягкими сиденьями. Для того чтобы не сидеть на голых половицах товарного вагона и не подбирать своими офицерскими задами вшей с пола, они приказали принести из вагона оружейного техника ящики с патронами. Труп обер-лейтенанта ехал с офицерами. Нельзя же было положить его вместе с трупами рядовых! Труп офицера покрыли скатертью, взятой из вагона того поезда, который сошел с рельс. Станислаус сидел позади своей раненой лошади. Он охлаждал ожоги животного, забившись в самый темный угол вагона. Ему хотелось побыть наедине с самим собой. Когда он мотался по пекарням на своей родине, он был более одинок, чем хотел. Никто о нем не спрашивал. С тех пор как он добровольно пошел в солдаты, его действия и бездействие связаны со всеми людьми вокруг него. За каждым собственным решением стояла смерть.
В стороне храпел Вайсблат. Конечно, после напряженной ночи поэт храпел, как любой другой солдат. Он спал с полуоткрытым ртом и щелкал языком, когда вагон дергался. Лицо его не было ни глупее, ни умнее, ни беспечнее, ни милосерднее, чем лица других спящих. Но судьбу Вайсблата Станислаус связал со своей судьбой. Он сам себя назначил опекуном и щитом этой поэтической души. Не обманулся ли он?
В вагоне дивизионных офицеров ссорились по всем правилам. Уж не потому ли, что офицеры сидели на ящиках с патронами? Во всяком случае, в этих спорах уже больше не было сдержанности и чопорности штабных совещании. Почти все господа офицеры были настроены против баварского пивовара-ротмистра Бетца. Бетц настаивал на том, что в последнюю ночь у врага было не больше десяти человек. Несколько пивных бутылок, наполненных карбидом и бензином, бросили в поезд с откоса. Это и есть те бомбы и адские машины, о которых говорили остальные господа. Проклятие! Бетц утверждал, что видел серую карбидную золу. Остальные проглядели ее. Кроме того, Бетц уверял, что рельсовый путь взорвали не взрывчаткой, а разрушили топорами и лопатами. Обычная мужицкая работа. Десять нищих вшивых сербских мужиков привели дивизион в беспорядок и растерянность.
Где же была ясная голова ротмистра в минувшую ночь? — задал вопрос командир дивизиона. Бетц не остался в долгу. Его ясная голова была занята всю ночь тем, чтобы прекратить стрельбу, которой дивизион истреблял сам себя. Рота против роты, так сказать. После того как командир дивизиона дал приказ расположиться по обе стороны железнодорожного пути, он, Бетц, видел свою важнейшую задачу в том, чтобы предотвратить наихудшее. Это высказывание равнялось прямому оскорблению командира дивизиона.
— Я с трудом могу себе представить, чтобы ваш героический поступок был достаточным поводом для награждения вас Железным крестом первого класса, — съязвил командир.
Ротмистр Бетц начал ругаться, совсем как у себя дома, когда находил, что ячмень для пива плохо переработан в солод.
— Это был карбид! Голову дам на отсечение! Началась суматоха, и пусть меня черт возьмет, если мы не сами себя обстреляли и обмарали!
Офицеры отстранились от грубого господина камрада. Нет, так забываться нельзя. Дело шло о чести всего штаба дивизиона. Доклад в штаб полка был изготовлен без участия ротмистра Бетца, а его мнение о ночных происшествиях не было принято во внимание:
«Нападение бандитского соединения численностью от ста до двухсот человек, вооруженных пехотными орудиями всех видов, вплоть до минометов, самодельных гранат и взрывчатки».
Когда донесение было оглашено, ротмистр Бетц, поблескивая стеклами пенсне, сидел на снарядном ящике в углу вагона, дымил короткой баварской трубкой с фарфоровой чашечкой, как маленький паровоз, бормоча себе под нос: «Десять бандитов, не более десяти бандитов, голову даю на отсечение!» Он был, пожалуй, прав, если его высказывание относилось к господам офицерам.
Между трупами солдат во втором вагоне лежал также труп бывшего каптенармуса фельдфебеля Маршнера, который в момент гибели находился в болезненном состоянии, а последние свои дни провел за мотанием шерсти, чтобы проникнуть в маленькие тайны дивизионного врача. Возможно, что когда-нибудь Маршнер вернулся бы в чине офицера в свою деревню и заставил бы своего соперника, богатея Дина, пожелтеть от зависти, но кто может разгадать замыслы судьбы? Маршнера застрелили из той самой дыры, в которой он хотел укрыться и куда он с перепугу и предосторожности ради бросил ручную гранату.
Его представления о мире и последовательности событий показали себя в последнюю минуту жизни несостоятельными. Когда он услышал свой собственный предсмертный крик, ему почудилось, что это крик молодой девушки. Сдавленный крик, так как рот девушки был забит сеном.
А война изменила свои цели. Она выползла из Германии для того, чтобы досыта нажраться жизненным пространством и взорвать тесные немецкие границы. Теперь шаг за шагом она возвращалась обратно и выплевывала наполовину переваренное жизненное пространство. А дальше что? Дело обстояло так: войну позвали назад, чтобы стянуть силы для нового скачка вперед. Скачок должен был привести к Уралу. Пожалуйста, это уже было нечто, от чего не откажешься. План был составлен. Фюрер-освободитель, а также провидение его подписали, однако провидение, казалось, закапризничало.
27
Станислаус прощается со своей лошадью, и его угоняют на счастливые острова Одиссея.
Остатки дивизиона расположились в маленьком греческом городке. Ждали резервов, пили греческое смолистое вино, играли в карты на драхмы и давали запаивать железные канистры. Канистры были набиты маслинами. Маслины отсылались в Германию. Неужели немецкие дети отказались от кубиков шпига и едят только маслины? Кубиков шпига больше не было. Детям пришлось привыкать к чужеземным маслинам.
Резервы прибыли. Это были загорелые робкие люди. Никто их не понимал! Разве они прибыли не из Германии? Они прибыли из Великой Германии. Это были «фольксдейче» из Боснии. Их называли «добровольной помощью». Но выглядели они скорее как «принудительная помощь».
Эскадрон пополнился и снова превратился в настоящий полночисленный эскадрон. Подневольные добровольцы приняли лошадей и вьючных животных. Ни одного немецкого солдата в должности конюха! Для чего же существуют вспомогательные народы? Немецкий солдат шествует с оружием.
Станислаус сдал свою лошадь. Это не то, что сдать в каптерку поношенные штаны. С первых дней в Карелии он ежедневно чистил животное, холил, а во время учений навьючивал. Он поил рыжую лошадку, приносил ей весной первые тонкие былинки, а напоследок вылечил от ожогов. Он ощущал шелковистый храп животного в своих ладонях и чувствовал себя сродни этому существу, которое вынуждено служить властолюбивому человеку. Теперь он стал одним из тех, кто не владел ничем, кому больше не о чем заботиться.
Под греческим небом Вайсблат снова пробудился и предался мечтам.
— Школьный восторг перед классикой! Слыхал ли ты когда-нибудь про Афину-Палладу? Наверное, нет.
— Я читал об этом, — сказал Станислаус.
— Когда?
— Когда занимался самообразованием.
Вайсблат посмотрел на Станислауса так, как люди, подобные ему, смотрят на того, кто никогда не пил шампанского, никогда не ел устриц.
— О мой учитель истории! Гимназия. Он пылал, когда описывал греческое небо, божественные рощи. Он говорил с пеной у рта. К концу вся кафедра заплевана.
— А он бывал в Греции?
— Нет. Вот это и есть восторг перед классикой!
Станислаус остановился у кухни, в которой жарилась рыба.
— Посмотри-ка!
— Да, да, рыба, жареная рыба, piscis, ага? — сказал Вайсблат, посмотрел на голые горы, поднял заклинающе руки и предался мечтам.
Изголодавшиеся по рыбе жители острова стояли в очереди и ждали маленьких тощих рыбок. Рыбья молодь с морского побережья, рыбьи дети, их ловили прямо с набережной. Широкий морской простор, где обитают крупные рыбы, был закрыт, заперт немецким замком. Тощая желтокожая гречанка кусала с голоду спинку сырой рыбки.
— Афина-Паллада, — сказал Станислаус.
Вайсблат говорил о синеве эллинского неба.
Летней ночью дивизион погрузился на два маленьких судна. То были греческие суда. Их имена «Посейдон» и «Нептун» закрасили. Теперь они назывались «Адольф» и «Герман». Эгейское море светилось, как в хороших туристских проспектах. Небо было усеяно звездами, как во времена Гомера, а величие островного мира было велико, как в немецких учебниках истории для гимназий.
Станислаус плыл на судне «Герман». Он стоял у борта, смотрел в светящуюся воду, вцепившись в спасательный пояс. Плавать он не умел и не доверял этому поясу, набитому пробкой. Втайне он смеялся над своим страхом смерти. Какой отвратительный контраст! Жизнь показывает себя в южной красе, а они плывут сквозь эту ночь для того, чтобы сеять смерть среди других или добыть смерть самим себе. Какой в этом смысл? Каков будет конец? Откуда взялась война? Зачем это убийство?
Вайсблат и Крафтчек стояли на носу судна. Два мечтателя, которые говорили, не слушая друг друга.
— В такую ночь Одиссей наслаждался, вероятно, пением сирен.
— Ну да, на море слышно далеко, — отвечал Крафтчек. — Это могли быть в конце концов сирены греческой фабрики изюма.
Вайсблат перегнулся через поручни судна.
— Посмотри на блеск и свечение у носа судна! Морское золото древних!
— Может быть, это действительно золото, — подтвердил Крафтчек. — А примитивные народы не имели никакого представления о горнорудной промышленности. Мы в Верхней Силезии живо бы это исследовали.
Шедший впереди них оснащенный орудиями сторожевой корабль сделал резкий поворот вправо. Судно «Герман» держалось в кильватере. Уклонялись от плавучей английской мины.
— Теперь я почти уверен, — сказал Крафтчек, — что мы двинем на колонии, так как Африка лежит справа, и мне кажется, что уже как будто немного пахнет какао.
Вайсблат больше не отвечал. Он чувствовал себя непонятым. Большинство поэтов остаются непонятыми при жизни. Когда-нибудь, решил он, он напишет об этой ночи, об этом сиянии, об эллинской ясности, которая теперь пронизывает его.
К концу ночи «Герман» бросил якорь.
— Все на палубу!
Перед ними на воде лежала черневшая колода.
— Мы прибыли, — сказал заспанный Крафтчек. — Дева Мария, помоги, чтобы мы попали на тот берег прежде, чем чернокожие проснутся, иначе нам придется плохо.
На воду спустили шлюпки. Люди выгружали багаж. Сперва выгрузили лошадей, а затем высадились сами. Все перетащили на берег в беспорядке. Солдаты достигли острова, шагая вброд по мелкой воде. Вода была прохладная, их босые ноги побелели, покрылись гусиной кожей.
Запели первые птицы. Наступило утро. Солдаты устроились в самом тихом месте морского берега. Красный утренний туман, предвестник солнца, поднимался над скалами.
— Эос! — Котелок Вайсблата звякнул о карабин. Жестяной поцелуй.
— Полная тишина! — приказал новый лейтенант Крель. Птичьего гомона он не мог запретить.
Крафтчек вытер фуражкой пот со лба.
— Иисус-Мария, я слышу крики чернокожих!
То были крики приморских ласточек. Позади солдат хлюпала морская вода и шепталась сама с собой, как в мирном деревенском пруду.
— Вперед, марш!
Они штурмовали ущелье среди скал.
— Идти цепью! — голос лейтенанта Креля, саксонца из Халле, перекликался с криком ласточек.
Станислаус видел, как следы его ног наполняются водой. Он оставлял за собой зеркальные следы. В маленьких лужицах отражалась утренняя заря. «Роллинг, прости меня! Может быть, мне придется убивать!»
Сквозь шум, поднятый ласточками, прозвучал отчетливый свист. Солдаты отряда Креля бросились на мокрый прибрежный песок. Их обстреливали.
«Помоги, Мария, чернокожие уже проснулись!»
Несколько минут они пролежали на песке.
— Встать, марш, марш!
Теперь не только свистели ружейные пули, но и рвались мины. Одна из лошадей встала на дыбы, рухнула, заржала, захрапела. Какой-то босниец крикнул: «Мама!»
«Пресвятая матерь, сжалься надо мной, ведь я отдал свой амулет за десять ока маслин. Это, может быть, и слишком дешево, но я не рассчитывал, что у чернокожих есть ружья!»
Они долго лежали, отыскивая глазами то горное гнездо, из которого их обстреливали. Итальянцы, которые до сих пор занимали эти острова в Эгейском море, участвуя в Великой германской войне, защищались. Не желают они больше воевать вместе с Германией. Но не желают они и уходить с островов, на которых война была для них терпимой.
Двое связных бросились в море. Пули летали вокруг них, как камешки играющих детей. Связные плыли к канонерской лодке.
— Быть наготове! Примкнуть штыки!
Станислаус содрогнулся. Примкнуть! Что за насмешка! Одно орудие убийства примыкают к другому. Он изо всех сил тянул заржавленный тесак, морской песок хрустел между ножнами и клинком. В одного из связных попала пуля. Он беззвучно исчез в розово-красном отблеске моря. Второй связной доплыл до канонерской лодки. Треск, сноп огня, осколки камней, удар молота с неба. Утренняя тишина была разорвана, крики приморских ласточек подавлены и предутренняя заря раздроблена на куски. Немецкий удар молота. Стреляла корабельная артиллерия. Из горного гнезда итальянцев сыпался поток щебня, и серые тучи смерти тянулись в море. Два, три, четыре… двадцать таких ударов молота, высоко, низко, снова глубже и на ту сторону, через остров, туда, где должен был находиться город… Затем тишина. Смерть перевела дыхание.
Уши Станислауса оглохли от пушечного грохота. Казалось, что ласточки беззвучно реют в воздухе. В горном гнезде подняли белый флаг. Солдаты роты Бетца кричали ура, ура и еще раз ура! Мощь их пушек победила.
Они заняли остров. Итальянцев взяли в плен. Их было немного. Их привели на корабли и спросили, что они предпочитают: «Дальнейшую службу в немецкой армии или плен?»
Большинство предпочло плен. Capitano, руководившего безнадежным сопротивлением итальянских солдат, не нашли, хотя остров был невелик. Прусским походным шагом можно было пересечь его в два-три дня.
Маленький город, белый, светящийся издали, построенный как гнездо ласточки на скалах, несколько деревень, несколько разбросанных хижин в фруктовых садах и на склонах гор, хижины пастухов с хлевами для скота, сложенными из скалистого бута, как и тысячу лет назад. В скалах острова имелись, однако, ущелья, тайники. Вход в них был не шире, чем лаз в лисью нору.
Корабли ушли. Эскадрон Бетца остался на острове. Командир дивизиона охотно оставил здесь этого ощетинившегося ротмистра, капитана и всезнайку. Пусть баварский пивовар использует свой опыт четырнадцатого — восемнадцатого годов здесь, на этом острове, и защищает его, как умеет, от выжидающих англичан. Сердце командира обратилось к острову, который носил звучное имя Санторин.
Эскадрон Бетца разместился. Пивовар — комендант острова вселился в белое здание магистрата маленького города.
Уже в первый день Бетц приказал стянуть все рыбачьи лодки острова и поставить их на прикол в гавани, почти что у своих ног.
Теперь не стало даже тощих маленьких рыбешек, и обитателя острова поняли, что пришли немцы.
28
Станислаус считает себя трупом, который несут окольными путями к могиле. Дух поэзии неожиданно овладел им, и его жизнь озарилась.
Время шло. В синем море белел остров. Небо было высокое. Солнце вставало утром из воды, объезжало лазурь небесного поля и вечером снова погружалось в воду. Война осталась где-то далеко. Станислаус и его товарищи не знали бы, что она еще существует, не будь капитана Бетца из Бамберга, лейтенанта Креля из Халле и серого ящика радистов. Они вновь и вновь напоминали людям о войне и о том, что стоят здесь на страже Германии.
Когда Станислаус был свободен от караульной службы в гавани, он брал рыбачью лодку и уходил на веслах в море. Он ловил рыбу, грелся на солнце или задумывался и размышлял о своей жизни. Времени у него хватало с избытком. Когда-то его жизнь переполняли желания. Нередко и любовь, эта таинственная сила, овладевала им, будоражила его и трепала нить его жизни. Все это отошло в прошлое. Теперь он всего-навсего пустой ящик, который посылают то туда, то сюда, труп, который окольными путями несут к могиле.
Из Пирея пришло судно. Оно привезло провиант и почту. Писем для Станислауса не было. Ни с кем в Германии он больше не связан. Кого ради стоял он здесь на карауле? Пожалуй, ради великого германского рейха. Судно снова ушло.
Вайсблат получил большую коробку «Амариллы». Мать Вайсблата «левым путем» добыла эту коробку. «Амарилла», шоколад и все хорошие вещи в Германии имелись еще только для летчиков. Летчики — это герои! Они сражались и сражались, и все же вражеские бомбы сыпались на Германию, как из мешка. С каждым днем некий господин генерал-фельдмаршал Геринг все больше превращался в Майера.
Мать Вайсблата была весьма озабочена тем, чтобы Иоганнис вернулся домой и написал книгу о переживаниях во Франции, которые сделали его больным. Он не приехал. Он проехал мимо родины. Плохие времена для поэта!
Вайсблат вытер лоб, который даже здесь, на юге, не загорал, а только становился красным, как рак. Пожилая почтенная дама! Как она представляла себе войну? У нее почти столько же излишних забот по поводу ненаписанной книги сына, как у его товарища Бюднера. Однажды, несколько лет назад, Вайсблат вычитал у Гете, что не годится слишком много говорить о своем будущем произведении. Вайсблат считал, что Гете прав. Каждая классическая страна обволакивала Вайсблата своим очарованием. Одной из таких стран была Франция, но придет время — и все, что с нею связано, вспомнится. Здесь Греция, ее тоже предстоит пережить и прочувствовать.
Когда Вайсблату не надо было стоять на страже Великой Германии, он бывал вечерним гостем в доме одного священника, с которым жила его племянница, дочь брата. Правительство Метаксаса посадило брата священника в тюрьму. Говорили, что он коммунист. Когда итальянцы прогнали Метаксаса, брат священника остался в тюрьме, а когда пришли немцы, то и они его не выпустили. Разве у Муссолини и Гитлера такие же взгляды на коммунистов, как у их врага Метаксаса, которого они осилили и победили? На это Вайсблат не знал, что ответить. Дело в том, что Вайсблат был поэтом и никогда в жизни не ступал на подлую арену политики.
— Поэт, — сказал Вайсблат. Он сочно произносил это слово. Они со священником беседовали по-французски, и Вайсблат был в доме священника возвышенным, другим человеком; человеком, который в сфере духовного чувствовал себя как дома.
Поэт Иоганнис Вайсблат был на верном пути к тому, чтобы забыть некоего Станислауса Бюднера, который когда-то спас ему жизнь в темных лесах у полюса. Что давала ему дружба с этим ворчливым одиночкой? Бюднер был почти что нигилистом. Таким можно быть в немецкой казарме или в карельском девственном лесу, но не в классической Греции. Все хорошо в свое время!
И все-таки однажды Вайсблату снова понадобился нигилист Бюднер. Поэту приглянулась племянница священника. Вайсблат и Зосо подружились. Вайсблату, человеку светскому, не мешало, что Зосо была дочерью того, кого называли коммунистом. Зосо была девушкой своеобразной, сладким сырым материалом, который можно было формировать в соответствии с представлениями Вайсблата. В присутствии дяди они так мило болтали по-французски.
Они вместе раздували огонь на кухне, чтобы сварить кофе из земляных орехов. Их руки соприкасались, когда они подбрасывали в огонь лишайник. А когда раздували огонь, их губы разделяло расстояние не более чем в два сантиметра.
Однажды вечером в кухню зашел пастух. Он хотел поговорить с дядей-священником. Священник вскочил с поспешностью, не подобавшей его сану, и кинулся в кухню. Он долго пробыл с пастухом, слишком долго пробыл с необразованным человеком. Казалось, что пастух на новогреческом языке, который Вайсблат плохо понимал, убеждал священника в чем-то необходимом. Вайсблат остался с Зосо и попросил ее пойти с ним гулять.
— Ого! — сказала Зосо, и это звучало так же, как робкое удивление некой Элен из Парижа. Эту девушку Вайсблат, видимо, не очень-то вспоминал, так как продолжал невозмутимо говорить: «Гулять, берег, заход солнца. Величие! Афина-Паллада».
— Афина-Паллада, — повторила Зосо и улыбнулась. Она пошла бы погулять, но это не принято одной, с мужчиной… Коротко и ясно: она хотела бы привести подругу, он должен привести приятеля.
Станислаус проводил послеобеденное время в горах у одного пастуха. Они безмолвно сидели вдвоем: Станислаус на камне и пастух на камне. Время от времени пастух посматривал на Станислауса, а Станислаус — на пастуха; затем они смотрели снова на стадо, на морды ягнят, щипавших лишайник, или на рога барана, стоявшего на страже. У Станислауса возникло одно слово. Слово это было «Авраам». Овцы ли носили его в своей шерсти? Или это слово засело во взъерошенной бороде старого пастуха?
Авраам, овцы, пастух. Слово вело к слову. Радостный испуг Станислауса: разве не все еще погибло? Разве война не убила того, что было в нем когда-то? Он вздрогнул. Пастух наблюдал за ним.
Они оставили стадо и объяснялись знаками. Немного нужно, чтобы понять друг друга, если налицо старые надежные вещи: горы, небо, родник, огонь, животные и плоды; если путаное многообразие мира не терзает человека.
— Наступает вечер, — показал пастух.
Станислаус показал на заходившее солнце.
— У меня есть хижина, — показал пастух.
— Хижина, — повторил Станислаус.
— Ночи прохладны. — Огонь — есть — пить — смотреть на небо.
Все было ясно. Все было просто. Все было понятно. Они сидели перед пастушеской хижиной. Огонь мерцал. Звезды отступили. Молчаливая женщина ходила взад-вперед, она принесла баранину, принесла вино. Черный платок скрывал ее лицо. В хижине на меховом ложе лепетал во сне ребенок. Он наполовину пел, наполовину говорил: «Отец здесь. Здесь отец. Отец здесь».
Они ели. Они пили. Они были сыты. Они были друг другом довольны, прислушивались к хору цикад на высотах. Месяц отправился в свое путешествие через море. Огонь потух. Звезды снова приблизились. Они объяснялись жестами о южном солнце и о южной ночи. Они прислушивались к пронзительному крику совы в скалах. Пастух ответил на крик и медленно поднялся. Он не говорил больше о ночи. Он говорил о завтра: «Завтра будет хороший день».
— Завтра будет хороший день, — повторил Станислаус из вежливости. Хороший ли день для него?
Пастух собрался в путь. Пусть Станислаус останется. Станислаус не мог остаться. И он ушел. Он низко склонился перед пастухом. Он склонился так, как никогда не склонялся ни перед графом в родной деревне, ни перед учителем, ни перед мастером и ни перед одним офицером. Он был глубоко благодарен и не знал, за что. Они разошлись: один пошел вверх в гору, другой — вниз с горы.
У Авраама стадо пасется:
Дикие кони и кроткие овцы.
У Авраама за бородою
Прячется кроткое, прячется злое.
Он искры и жар собирает ночами,
Чтобы к утру разгорелося пламя.
Его лицо, бородою обросшее,
Прячет злое, прячет хорошее.
Старик Авраам за своей бородой…
У постоя своего отделения Станислауса нетерпеливо поджидал Вайсблат. Ему не пришлось долго упрашивать своего друга Бюднера. Почему бы Станислаусу не пойти с ним и не посмотреть на греческую девушку? Они будут объясняться знаками. Он этому научился. Только бы их не послали на дела похуже! Станислаус был доволен. Может быть, жизнь на земле лучше, чем он думал в свои самые мрачные дни. Он снова писал стихи. Он был словно в опьянении. Стихотворение странствовало долго и отмерило многие часы страданий. Теперь оно здесь, и его появление нужно отпраздновать. Вайсблату он об этом ничего не сказал. Он сочинил стихотворение для себя, и, возможно, оно не так совершенно по форме, чтобы предстать перед глазами такого образованного поэта.
29
Станислаус беседует с чужеземным священником, охвачен любовью к чужеземке и предотвращает издевательство над двумя чужеземными пастухами.
Станислаус и Вайсблат сидели на кожаных подушках в креслах черного дерева. Девушки расположились на украшенной орнаментом скамейке под большим окном. За ними блестели на склоне белые дома и далеко внизу кудрявилось море. Голубизна воды сверкала сквозь листья растений. Племянница священника держала себя строго. Ее глаза походили на мокрый каменный уголь. Другая девушка, ее подруга, маленькая и гибкая, была смуглой, все в ней было по-турецки изящно. Священник сидел на лавочке. Он не был толст и благостен. Худой и жилистый, он походил на альпиниста, привыкшего карабкаться по высоким горам, штурмовать небо.
— Милость божия — это еще только сырье, — сказал он.
Вайсблат склонил голову. Он чувствовал себя как дома, как в салоне своей матери, и перекинул тощую ногу через ручку кресла.
— Сырье? — спросил он деловито, считая себя знатоком всех философских систем на этой земле.
Голос священника звучал сурово, как колокол маленькой горной церкви.
— Бог есть жизнь. Он ниспослал нам ее как милость, как сырье. Пользуйтесь им, сотворите что-нибудь из него.
Вайсблат давно не думал о боге, этом устаревшем ныне товаре. Бог не фигурировал в новых философских системах; но почему бы Вайсблату не вернуться немного в мир понятий своих детских и юношеских лет?
Завязалась беседа.
— Интересно, — бормотал он, производя впечатление напряженно размышляющего человека.
Девушка Зосо, покачивая ногой, рассматривала его горный башмак. Неуклюжий башмак с толстыми гвоздями, ну точно лошадиное копыто.
«Сделайте что-нибудь достойное из вашей жизни!» Когда-то давно так думал и Станислаус. Позднее его смутило многообразие жизни. Жизнь дурачила его и делала с ним что хотела — сделала из него подмастерье, потом солдата, вечно подчиненного.
— Значит, человек отвечает за все? — спросил Вайсблат.
Священник кивнул и руками изобразил округлость земли.
— За бурный прилив? — спросил Вайсблат.
— Стройте лучшие плотины, надежные суда, — сказал священник.
— За землетрясение? — спросил Вайсблат.
— Проводите точнее исследования, — сказал священник.
— За эпидемии? — спросил Вайсблат.
— Больше человеколюбия — лучшая медицина, — сказал священник.
Они походили на двух игроков в карты: один выкладывал карту, другой покрывал ее. Девушки у окна слушали, глядя с любопытством в темную комнатку. Вайсблат улыбнулся и, казалось, пустил в ход свой последний козырь:
— А война?
Станислаус вздрогнул. Вот вопрос, который мучил его!
— Приведите общество в порядок, — сказал священник. Он сказал это спокойно, с мудрой сдержанностью, как и все предыдущее.
— Социалисты? Маркс? Коммунисты? Материализм? — спросил, торжествуя, Вайсблат.
— Все вместе, — сказал священник.
В дверь постучали. Девушка Зосо насторожилась.
Вайсблат смеялся смехом чахоточного:
— Эге, коммунисты — Россия. Бог на свалке. Безработные священники.
Священник угрюмо молчал.
Слова постучали в кухонную дверь. Девушка, похожая на турчанку, заслонила лицо руками, маленькими руками кофейного цвета.
Девушка Зосо встала, однако открывать не торопилась.
— Если бы бог был на свалке, он не был бы жизнью. Жизнь есть бог. Бог есть жизнь. — Священник поднялся. Он не ждал больше ответов Вайсблата.
Половицы заскрипели. Только теперь увидел Станислаус, как высок и худ был священник. Он не шел. Он прорезал пространство. Словно коса в разросшихся плевелах. Дверь для него слишком низка. Он согнулся. В кухне он выпрямился снова, и то, что он сказал по-гречески, могло означать: «Я иду!»
Крафтчек примирился с тем, что их не высадили в колониях. Его произвели в ефрейторы. Крафтчек ефрейтор? Как это произошло? Изюм произвел его в ефрейторы. Маршнер, заведующий снабжением роты, бравый фельдфебель Маршнер был застрелен «бандитами» в Югославии.
Но что поделаешь — жена ротмистра Бетца из окрестностей Бамберга требовала изюма. Кто знает, где можно достать изюм?
Крафтчек знал это. Крафтчек выменивал на изюм маленькие желтые таблетки, которые уберегали его от малярии. Одна желтая таблетка за два ока изюма.
Крафтчек получал время от времени из дому, из своей лавки, сигареты. Сигареты, предназначавшиеся для продажи населению. Госпожа Крафтчек смотрела на изображение мадонны в лавке и клялась жаждущим курильщикам, что поступления сигарет до сих пор не было. Зато постоянные, платежеспособные клиенты получали изюм. Крафтчек обменивал три папиросы на одну таблетку. Одну таблетку на два ока изюма. Местные малярики-виноградари давали только один ока изюма за одну таблетку. С Крафтчеком им это не удавалось. «Вам, грекам, хотелось бы за качественный немецкий товар давать ослиное дерьмо. Изюм здесь растет дико, а наш брат должен ломать себе голову, как заполучить таблетки!»
Таким образом Крафтчек стал снабженцем капитана Бетца и поэтому ефрейтором. Потребление капитаном Бетцем таблеток «Антифибрин» возрастало с каждой неделей. Этот человек не знал страха перед снарядами и вражескими пулями, но малярии явно боялся. Унтер-офицеру медицинской службы Шульцу приходилось посылать с каждым судном, доставлявшим провиант, большой пакет желтых таблеток «Антифибрин».
Невзирая на все маслины, на все благодарственные письма из Бамберга и новые просьбы относительно свежих фруктов и изюма, воинское честолюбие капитана Захариуса Бетца не угасло. Его тайная злоба обратилась против командира дивизиона, который сидел на апельсиновом острове Санторин и общался с Бетцем только при помощи приказов.
Приказы по дивизиону отправлялись на судне в Пирей и достигали кружным путем пивовара.
В соответствии с надежными донесениями итальянский capitano находится еще в районе эскадрона Бетца и даже поддерживает связь с греческой группой Сопротивления, которая в свою очередь связана с англичанами. Приказываю капитану Бетцу возможно более тщательно прочесать свой остров!
Бетц скомкал приказ, обругал всех богов дивизиона, называя их «прусскими задирами», «любителями минеральной водички», выдал Крафтчеку двадцать таблеток «Антифибрин» и приказал ему позаботиться о таких лимонах, которые могли бы дозреть в пути. Он позвал ротного фельдфебеля Цаудерера и велел ему вытрясти из корзины для бумаг приказ по батальону.
Станислаус и Вайсблат уже второй вечер гуляли с греческими девушками. Пары шли порознь, но всегда на виду друг у друга. Так хотели девушки.
Вайсблат и Зосо болтали по-французски. Никакие воспоминания об Элен, с которой он болтал на этом же языке и о смерти которой он хотел написать книгу, не одолевали Вайсблата.
Станислаус и Мельпо любовались морем, потом небом. Им потребовалось не так уж много времени для того, чтобы жестами объяснить друг другу, как малы они по сравнению с небом и морем.
Выйдя за пределы города, Станислаус осторожно обнял дрожащие плечи Мельпо. Она посмотрела на него и кивнула. Ей не хотелось идти дальше, и она уселась в нише в скале. Так они потеряли из виду Вайсблата и Зосо.
Коричневыми, как кофе, пальцами Мельпо гладила его волосатую руку. Он дрожал. Она заметила это и щекой прижалась к его руке. Он сидел, как в детские годы, когда боялся спугнуть вестника королевы бабочек. Возможно ли это, чтобы здесь, в чужой стране, его ожидала любовь?
— Ты умеешь грести? — спросила она.
— Умею, — отвечал он.
— Покатаемся?
— Когда?
— Завтра.
— Ты поедешь со мной без Зосо?
— Поеду.
Она закрыла лицо руками, словно застыдилась.
Трель дудки прорвалась сквозь монотонный стрекот цикад. Мельпо подняла голову. Она плакала.
— Почему? — спросил он.
Она снова улыбнулась. Трели дудки стали назойливее. Они раздавались теперь совсем близко. Часовые перекликались. Может быть, на горизонте появилось судно? Транспорту с продовольствием уже давно пора прийти. В гавани дребезжал судовой колокол. Одновременно раздавались многочисленные свистки. Кто-то примчался, запыхавшись.
— Тревога! — засопел Вайсблат.
Солдаты прочесывали остров. Они разорвали ночную тишину криками и непристойностями. Они обшарили дома и пещеры, рылись в хижинах пастухов. С прусской основательностью они обыскивали даже стада овец. Они пристрелили несколько овец для своей кухни и ухлопали барана. Крафтчек взял себе рога, чтобы повесить их на стенку в комнате позади лавки. «Те, кто не был здесь, пусть думают, что это козерог, а застрелили его в Африке».
В пастушеских хижинах они исследовали каждую овчину, и некоторые забывали положить ее обратно. На родине приближалась зима. Они находили все: масло из овечьего молока, пастушеский сыр, кислое молоко и оливковое масло, но пещер с лазами для лисиц они не нашли. Всю ночь раздавались крики, мелькали огни в горах, а утром солдаты привели в гавань двух подозрительных пастухов. Их неожиданно окликали по-итальянски, но пастухи не реагировали.
— Это ни черта не доказывает, — сказал капитан с видом опытного человека. — Раздеть их, осмотреть тряпье, у кого штаны обмараны, значит, тот итальянец.
Все засмеялись, однако пастухов раздели. Солдаты ничего не нашли в нижнем белье и снова рассмеялись.
— А, — сказал капитан Бетц. Он вел себя великодушно и игриво, так как увидел Крафтчека, который поставил рядом с собой большую кадку с маслинами и бараньи рога. Бетц кивнул на маслины и отправился к себе на квартиру. Лейтенант Крель и унтер-офицеры последовали за ним.
Голые пастухи уставились на вооруженных людей. Как решит капитан их судьбу? Один из пастухов встал на колени, сложил руки и горьким жестом протянул их к солдатам. Крафтчек водрузил бараньи рога на кадку с маслинами. Он показал на небо, сложил руки и спросил:
— Мария?
Пастух кивнул. Крафтчек отдал ему штаны.
— Оденься! Хорошенькое представление о тебе получит матерь божия!
Но тут один из солдат выскочил из толпы с коробкой гуталина. Сапожный крем марки «Эрдаль» — великолепного качества немецкий товар. Пастухам приказали повернуться. Уже поднялся крик, но тут вскочил Станислаус и вырвал коробку у солдата.
— Горе тебе, если ты посмеешь!
Станислаус и жилистый камрад из Бохума стояли, как волки, друг против друга. Стало тихо. Крафтчек снова водрузил бараньи рога на кадку с маслинами, показал на свою ефрейторскую нашивку и закричал:
— Слушать всем! Прекратить! С вами говорит старший по званию.
Крики умолкли. Чары были разрушены. Грубияны-солдаты угомонились, они больше не занимали Станислауса. Он сделал знак пастухам. Пастухи сгребли одежду в узлы и, как были, голые, помчались в горы.
30
Станислаус видит, что возлюбленная от него ускользнула, его надежды рухнули, и слова его становятся горькими, как алоэ.
День начался голубой и золотой, как все дни на этом острове. Ни одного облачка на небе. Ни одного судна на горизонте. С продовольствием стало туго. Что такое маслины без хлеба? Что такое баранина без бобов?
Рано утром три английских штурмовика перемахнули через горную гряду. Ни один часовой не заметил, как они появились. Они летели под защитой сверкающего солнца и обрушились на гавань беззвучно, как большие греческие коршуны. Они обстреляли лежавших на берегу солдат, сбросили бомбу на мол и разнесли в щепы каики, стоявшие на приколе в гавани. Последняя бомба взорвалась вблизи помещения, где находился капитан-пивовар Бетц. Летчики сделали еще один заход и обстреляли трех солдат, которые на веслах возвращались в гавань с рыбной ловли, прострелили бак полевой кухни, правую руку Вилли Хартшлага и убили двух греческих детей, клянчивших у Хартшлага суп из маслин.
Сигнал воздушной тревоги подали слишком поздно. Запоздали также крик и рев ротмистра. Итак, война настигла их и здесь! В отряде шесть убитых. Шесть солдат застрелены в тот час, когда они принимали солнечные ванны! Ротмистр запретил купанье и в ярости запретил сбрасывать бомбы. Лейтенант Крель с трудом подавил смех. Теперь все запрещено. Убитых греческих детей в донесении не упомянули. Вилли Хартшлаг был ранен. Бывший второй повар Станислаус получил от лейтенанта Креля приказ принять кухню. Станислаус вяло щелкнул каблуками и принял приказ к исполнению.
Когда солнце опустилось в море, Станислаус стоял в гавани с одним из часовых.
— Лодку?
— Да. Чтобы половить рыбу.
— Ты что, не знаешь, что все запрещено?
— Но на завтра надо иметь что-нибудь свежее в котле!
— Поезжай, только, пожалуйста, не привози каракатиц.
Станислаус греб вдоль берега и слышал, как перекликались часовые. Выход в море был ему разрешен.
Он поручил Вайсблату передать Мельпо, где она должна его ждать. Станислаус только и думал о той минуте, когда он снова почувствует ее коричневые пальцы на своей руке. О большем он не мечтал. Он рад убедиться в том, что он не пустой футляр. Еще живет в нем любовь ко всему окружающему, и он вспомнил стихотворение о пастухе Аврааме. «Видимо, во мне еще сохранилось что-то человеческое», — подумал Станислаус.
Мельпо стояла на скале. Казалось, она вышла из камня, как ожившая статуя. Без околичностей она села к нему в лодку, нагнула свою детскую головку, прислушалась, схватила его руку и сделала вид, что помогает ему грести. Он был благодарен. «Чего только здесь со мной не происходит! Неужели я еще живу!» — звучало в нем.
Звезды появились на небе и на море. Удары весел рассекали кусок отражавшегося неба пополам, но небо было велико и море было велико. Они гребли у самого берега. Это был тот плоский берег, с которого Станислаус со своим отрядом начал наступление на остров.
Над ними было горное гнездо, оттуда били ружья итальянцев. А немцы ответили пушками…
Мельпо подняла руку. На берегу рос цветок, цветок в песке. Это выглядело, как чудо. Мельпо хотела пройти по мелкой спокойной воде к этому цветку.
Станислаус удержал ее, сам выскочил из лодки и пошел вброд по мелкой воде. Цветок оказался жестким. Станислаус ощупал его лепестки. Они были из бумаги. Станислаус огорчился. Он хотел принести Мельпо что-нибудь другое — может быть, красивую раковину улитки. Он нашел сверкающую раковину. Когда Станислаус хотел вернуться в лодку, то увидел, что лодка ушла в море.
— Мельпо!
Мельпо кивнула ему. А когда Станислаус поднял руку для того, чтобы помахать в ответ, то заметил, что в лодке сидит еще кто-то. Мужчина.
— Grazia![26]Спасибо! (итал.) — донеслось из лодки.
Станислаус опустил руку. Там плыл итальянский capitano. Он плыл с Мельпо.
Станислаус не поднял тревоги. Он вошел в чем был в воду. Растоптал отражение звездного неба, нырнул, швырнул фуражку в море, снова нырнул и стал спокойнее. На берег он вернулся вброд. Горечь разливалась в нем, колючая горечь, как от листьев алоэ.
Он дошел до часового в гавани и сказал:
— Лодка перевернулась.
— Знал бы ты хотя, где находится лодка, — сказал часовой испуганно.
— Знаю.
— Значит, на завтра опять эта вонючая баранина, а?
Станислаус не ответил. Он пошел к себе на квартиру. Перед низким белым домом он вспомнил, что его перевели на кухню, и повернул обратно. Ему было холодно. Его знобило при мысли о Мельпо и capitano. Большего он не стоил.
На новом месте его ждал ротный фельдфебель Цаудерер. Он сидел у кровати Хартшлага. Несмотря на ранение, Хартшлаг не пошел на медпункт. Нужно было кое-что обсудить в связи с передачей кухни. Он ждал Станислауса и заснул.
Ротный фельдфебель вскочил:
— Когда вы приходите!
— Лодка перевернулась.
Станислауса лихорадило. Он выпил глоток из бутылки, которая стояла на ящике около кровати спавшего Хартшлага. Вино было густое и сладкое. Он хлебнул еще раз. Горечь не проходила. Вахмистр Цаудерер подвинул Станислаусу лист бумаги.
— Подпишите. Мы проверили, понятно? Итоги скудные, но они верны.
Станислаус подписал. Над морем жужжал самолет. Цаудерер испуганно выключил свет. Он подошел к окну. Станислаус пил сладкое вино. Горечь оставалась. Она подымалась из сердца.
— Снова самолет, — сказал вахмистр, стоявший у окна.
Станислаус не отвечал. Он чувствовал действие вина, но горечь не исчезала. Гуденье снаружи стало слабее.
— Улетает, — сказал Цаудерер и облегченно вздохнул. — Выберемся ли мы отсюда благополучно?
Станислаус не отвечал. Он снова включил электричество. Цаудерер приготовился уходить. У самых дверей ему что-то пришло в голову.
— Продовольственного судна в виду не имеется, понятно? — Он дергал пуговицу своей прусской куртки. — Кухня должна хозяйничать с расчетом на будущее.
Горечь перешла на язык Станислауса:
— У нас нет будущего.
Вахмистр возвратился. Будущее его интересовало.
— Как?
— Убийцы не имеют будущего.
— Вы! — Вахмистр снова стал у окна. — Я не убийца, понятно?
— Никому не интересно, что вы сами о себе утверждаете. Вы тут. И этого достаточно. Вы не без убийства пришли сюда.
Вахмистр распахнул окно. С моря дуло.
— Обдумайте свои слова!
— Вы убили по меньшей мере одного человека.
Цаудерер потупил глаза. Выглядело так, будто он считает щели в полу.
— Признаю, вы имеете доступ к тайным силам, понятно. У вас дар… Но я никого не убивал.
— Вы убили человека в Цаудерере, иначе вы не были бы здесь.
Фельдфебель вспылил:
— А вы?
— Я убил Бюднера!
Цаудерер так и сел на продуктовый ящик Вилли Хартшлага. Карельская фанера затрещала. Птичий голос Цаудерера задрожал:
— Прошу вас, Бюднер, мы солдаты…
— Мы убийцы, — крикнул Станислаус. — Нам не на что надеяться!
— Философия! — пищал Цаудерер. — Я это знаю, понятно?
Вилли Хартшлаг проснулся от треска своего продуктового ящика.
— Придержи язык, Бюднер, я доложу о тебе.
Вахмистр выбежал вон. Вилли Хартшлаг снова повернулся к стене. Станислаус слышал, как Цаудерер топал по темным сеням.
— Если меня отправят в лазарет, пусть ящик пошлют со мной, — сказал Хартшлаг.
Станислаус стал язвительным.
— Кто о нем позаботится, если меня засадят?
Хартшлаг наполовину обернулся.
— Охота тебе так разговаривать в присутствии вахмистра?
Топот ног в сенях приблизился. Цаудерер вернулся.
— Я больше не стану молчать, — сказал Станислаус.
Хартшлаг быстро повернулся:
— Теперь замолчи, у меня руки чешутся.
В двери повернули ключ. Так вот для чего возвратился Цаудерер.
С моря подуло сильнее. Или это шумело в голове у Станислауса? Он подошел к окну.
— Ветер, — сказал он, пряча за этим словом свои мысли.
Хартшлаг не шевелился. Станислаус взял лежавший на ящике карабин Хартшлага и прислушался.
Хартшлаг глубоко дышал. Он спал. Станислаус переложил к себе патроны Хартшлага, еще раз прислушался к ветру и выпрыгнул из окна.
Когда он добрался до первой горной вершины, внизу в гавани раздался сигнал тревоги. Станислаус был горд тем, что сигнал тревоги дан из-за него, и всей душой желал, чтобы Роллинг мог это услышать.
31
Станислаус узнает, что человеколюбие не остается без вознаграждения, он преображается в монаха и идет навстречу новым странствиям.
Пещера была просторная и сухая. В ней было ложе из лишайников. Станислаус отсиживался в пещере третий день. Угнетала темнота. Станислауса привел сюда пастух, которого он прозвал Авраамом. Пастух приходил к нему каждую ночь и три раза кричал совой, прежде чем спуститься к нему. Авраам приносил еду, приносил питье. Он зажигал лучину, так как они не могли объясняться, не видя друг друга.
В эскадроне прекратили дальнейшие поиски Станислауса. Считали, что он убежал с острова. Часовой из гавани донес, что не хватает одной лодки, той лодки, которая унесла Мельпо и capitano.
— Что будет со мной? — спросил Станислаус.
— Подождать, немного подождать! — Авраам показал отрезок времени руками. Он был длиною в десять сантиметров.
Станислаус размышлял и спал. Он мало ел, мало пил, много думал и снова спал. Он утратил чувство времени. Его часы остановились в тот вечер на море. Он все снова и снова продумывал свою жизнь до самой последней минуты. Он ни в чем не раскаивался и все еще был готов покончить с жизнью. Слишком мало мог он, одиночка, сделать для того, чтобы изгнать злодеяние из мира. Его усилия были напрасны.
Он услыхал царапанье у входа в пещеру. Покатился маленький камень. Авраам пришел? Неужели опять миновал день? Крика совы не слышно, но кто-то сюда топает. Неужели они его все-таки нашли? Снаружи, вероятно, солнце, ясный день? Не заметили ли они следов, которые вели к пещере? Он схватил карабин. Будешь стрелять? Нет, ты не будешь стрелять. Это, может быть, Крафтчек, или этот жалкий Цаудерер. Нет, ты не будешь стрелять. Станислаус отложил карабин в сторону. Теперь то, что должно произойти, вот-вот произойдет. Он снова схватил карабин. Ты гораздо больше цепляешься за жизнь, чем тебе кажется. В общем ты хвастун. А если это Вайсблат — ты и его застрелишь? Он снова отложил карабин в сторону. Он даже отбросил его. Он не хотел иметь возможности схватить его одним движением руки. Впереди кто-то зашептал. Он что-то схватил. Это были волосы девушки. Легкий вскрик.
— Станлаус! Станлаус!
Он отпустил ее. Ему стало стыдно. Это была Зосо.
Она стащила с него подбитые гвоздями сапоги и надела ему на ноги какую-то обувь. Она очень старалась.
— Fuyez! Fuyez![27]Бегите! (франц.) — бормотала она. Станислаус подумал о другой парочке влюбленных — во Франции. Расплачивались ли теперь с ним за его помощь? Может быть, все-таки стоит быть человеком и поступать по-человечески?
До берега моря было теперь недалеко, он увидел там часового и остановил Зосо. Зосо вырвалась от него. Неужели она так плохо видит? Он снова схватил ее. Часовой обернулся. Станислаус подумал о своем оружии. Оно осталось в пещере. Итак — конец!
Часовым был Вайсблат. Он тихо бранился:
— Где же вы были так долго?
Зосо увлекла их обоих за собой.
Они пришли к лодке. Там кто-то сидел. Они вошли в лодку.
В лодке сидела Мельпо. Она молча кивнула и оттолкнулась от берега. Девушки не пустили мужчин на весла. Двое мужчин, две девушки, звездное небо и море. Ни слова — только удары весел. Никто не видел лица другого. Каждый видел лишь очертания.
Звезды исчезли. Море посерело. Наступило утро. Море стало голубым, по волнам запрыгали блестки. Лодка приближалась к острову, который полночи лежал перед ними темным, тяжелым и угрожающим.
Девушки устали, но продолжали грести. Маленькая темно-коричневая рука Мельпо указала на берег. Зосо растолкала уснувшего Вайсблата.
Мужчины вышли. Девушки остались на веслах. Зосо достала из кармана письмо. Ее платье имело много узких карманов. Она дала Станислаусу письмо и показала на белый дом высоко в скалах. Мужчины посмотрели вверх.
— Что-нибудь поэтическое, — сказал Вайсблат и нервно провел по волосам.
Когда они обернулись, лодка с девушками уходила в море.
— Au revoir![28]До свиданья! (франц.) — закричал Вайсблат. Станислаус кивал и плакал.
Девушки приподнялись на скамейках, склонились и снова сели. Ни взгляда, ни улыбки.
— Мельпо, Мельпо! — закричал Станислаус. Мельпо опустила голову еще ниже. Казалось, она хотела толкнуть лодку в море одним рывком своих маленьких загорелых ручек.
Тремя днями позже два монаха прошли через ворота православного монастыря, расположенного на острове, названия которого они не знали. Монастырь был белым зданием в скалах. Своего рода произведение искусства — не здание, но и не скала. Монахи оглядели себя и улыбнулись. Казалось, они смеются друг над другом. Еще некоторое время они поднимались в гору, как вдруг один из них остановился, толкнул другого и показал на что-то, видневшееся далеко в море.
— Там!
Они долго молча смотрели на остров, который лежал далеко и был голубым, таким голубым и далеким, каким бывает иногда ранним утром немецкий лес.
А когда один из монахов взглянул на другого, он увидел, что тот плачет.
— Почему ты плачешь?
— Не от радости. У меня для этого нет оснований.
Они прошли еще часть пути.
— Теперь ты должен написать об Элен, — сказал тот, который плакал. Другой не слышал, он протянул руку. Одинокая лодка плыла в широком голубом море. Они пристально смотрели на нее и надеялись, что лодка подойдет к острову. Но она не подошла. Она лежала, все такая же маленькая и одинокая, на поверхности голубого моря.
— Все-таки хотелось бы мне знать, — сказал один из монахов, — любили ли они нас?
Второй монах ответил не сразу. Убедившись, что лодка уходит далеко в море и становится все меньше и меньше, он сказал:
— Таких, как мы, любить нельзя!
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления