Онлайн чтение книги
Детство Лермонтова
Часть пятая. ОТРОЧЕСТВО
Глава I
Рассказы Юрия Петровича. Маруся Макарьева
Весной приехал отец, и радость Миши вылилась бурным порывом: мальчик повис у него на шее, повторяя, что лучше его никого нет на свете! Однако Юрий Петрович на этот раз казался сумрачным и угрюмым, хотя радовался очень, что Михаил стал ходить, как все люди, бегал с ним взапуски на дворе, валил его в снег и забрасывал снежками. Юрий Петрович был еще молод, очень здоров и силен, к тому же ласков и весел, и Миша почти боготворил его.
Отец всегда рассказывал что-нибудь интересное, новое; он постоянно читал газеты, следил за тем, что происходило не только в России, но и во всем мире. На этот раз отец рассказал о восстании Семеновского полка.
После окончания Отечественной войны 1812 года семеновцам разрешили в часы досуга работать на себя. Солдаты стали сапожничать и делать султаны из конского волоса; их изделия раскупались нарасхват, и у каждого завелась своя копейка. Михаил Павлович, великий князь, назначенный командиром бригады, был этим недоволен и назначил командиром Семеновского полка жестокого немца-педанта Шварца, который не только изводил солдат муштрой, но дергал их за усы и плевал им в лицо. Он требовал от людей не просто выправки, но эквилибристики: ставил им на кивер стакан с водой и заставлял маршировать, требуя, чтобы вода не расплескивалась. Наконец Шварц стал переводить заслуженных ветеранов в другие роты, а это означало лишение двойного жалованья! Новая несправедливость озлобила семеновцев, и они подали жалобу великому князю.
Михаил Павлович явился в казармы и учинил разнос. Солдаты молчали. Когда великий князь уехал, семеновцы сговорились и отрядили сто тридцать человек, чтобы убить Шварца, но тот, испугавшись, спрятался в навозе. Его не нашли. На один полк семеновцев двинули несколько гвардейских полков. Обезоружив восставших, повели их в Петропавловскую крепость и там заперли тысячу человек в грязи, в сырости…
Вскоре, в тесноте и в духоте, многие умерли.
В Петербурге царило смятение. Ждали восстания. Днем и ночью по городу непрерывно ходили солдаты, возили пушки, готовили снаряды. Царь Александр I в это время находился в Силезии, в городе Троппау, где собрался конгресс «Священного союза»; представители пяти держав совещались, как бы «задавить неумирающую гидру революции».
Революционные вспышки в Европе участились: французский рабочий-седельщик Лувель убил герцога Беррийского, племянника Людовика XVIII, в Португалии вспыхнуло восстание против владычества Англии, в Неаполе тоже началась революция, и король Фердинанд вынужден был принять конституцию…
Узнав о восстании семеновцев, император пришел в бешенство и отдал жестокий приказ — офицеров гвардейского Семеновского перевести в армейские полки, нижних чинов раскассировать, а первый батальон предать военному суду.
В казармах нашли прокламации с призывом арестовывать начальников и избирать новых из среды своего брата — солдата!
Говорили, будто эти прокламации составляли братья Муравьевы-Апостолы и Пестель.
Когда Юрий Петрович назвал фамилию Пестеля, Арсеньева заволновалась, представив себе, как брат Дмитрий Алексеевич опечален этим. И в самом деле, вскоре пришло письмо от Екатерины Аркадьевны, что брат Дмитрий полон беспокойства за судьбу Пестеля и братьев Муравьевых, которых он тоже знал.
Арсеньева повторяла:
— Зачем Дмитрию понадобилась дружба с вольнолюбцами? Опостылело крепостное право? А что помещик без крестьян?
В эту ночь Арсеньева плохо спала. Утром ее еле разбудила Даша. Она что-то зашептала на ухо еще дремавшей помещице, и та, быстро открыв глаза, с изумлением молвила:
— Отец Федор? Да ведь я с ним вчера только вечером беседовала!.. Он уезжал на чьи-то похороны.
Арсеньева стала поспешно одеваться, а Миша проснулся и спросил, что случилось. Он говорил сердито, и бабушка, чтобы не волновать его, сказала правду:
— Говорят, отец Федор помирает, просит меня приехать для важного разговора.
Дарья рассказала, что вчера батюшка ездил отпевать племянницу Горсткиных, а потом хозяева и гости усердно поминали покойницу за обедом и все порядочно подвыпили. В темноте собрались домой, и, когда переезжали реку, пьяный кучер свалил седоков в прорубь. Дьякон, молодой и здоровущий, тотчас же выплыл, а отец Федор расшибся и очень замерз. Сейчас он лежит, ожидая смерти, и очень просит барыню приехать по важному делу.
Арсеньева велела поскорей запрягать, быстро оделась, и когда она в сопровождении Абрама Филипповича подъехала к домику священника, то на улице увидела много любопытных. Она вошла в двухкомнатную избушку и прошла в спальную. Отец Федор полулежал на подушках, подложенных под голову и спину. Он тяжело дышал, в изнеможении откидывая голову, и длинные черные волосы его рассыпались по подушке. Левой рукой он обнимал сидящую на кровати девочку лет одиннадцати, которая рыдала в испуге.
Отец Федор был вдовцом. Жена его умерла от чахотки, и он один воспитывал своих трех дочерей. Две старшие, миловидные и хозяйственные, рано вышли замуж и уехали с мужьями, а с ним осталась одна, Маруся, о судьбе которой беспокоился отец в предсмертный час. Увидев Арсеньеву, отец Федор приободрился, попросил всех выйти. Дыхание его было частым, а голос сиплым, когда он медленно, с одышкой заговорил:
— Помираю, дочь моя! Иду на суд всевышнего дать отчет о земных делах моих. И за тебя я в загробной жизни замолвлю словечко, ежели ты исполнишь мое желание.
— Не запугивай, батюшка, — бледнея, ответила Арсеньева и почувствовала, как застучало ее сердце.
Задыхаясь и отирая рот, умирающий напомнил, что на том свете он будет молиться за Елизавету Алексеевну, ежели она исполнит его желание.
Она торопила священника:
— Прошу, батюшка, выскажи свою волю! Я не отказываюсь выполнить то, что могу.
Волнуясь и уже начиная хрипеть, отец Федор стал умолять:
— Воспитай мою дочку Марусеньку, как свое дитя. Не в девичьей держи, не с дворовыми, а как свою дочь полюби. Ты же знаешь, что имя-то ей дано в честь Марии Михайловны…
Он уже не мог говорить связно.
— Обещаю! — торжественно и с облегчением произнесла Арсеньева, обнимая девочку. — Это я вполне могу сделать.
Отец Федор судорожной рукой крестил и благословлял свое дитя.
Сидя у постели больного, Арсеньева распорядилась, чтобы вызвали доктора Ансельма Левиса, который вскоре и принял последний вздох умирающего. Тогда Арсеньева велела одеть рыдающую девочку и в своем экипаже повезла ее в барский дом. Обласкав Марусю, Арсеньева успокоила ее как могла и после завтрака сказала Мише, что у него отныне будет сестра.
— Как хорошо! — весело воскликнул мальчик. — Пойдем ко мне играть!
Арсеньева ушла в спальную, а дети остались вдвоем.
Христина Осиповна уселась около печки и сосредоточенно стала считать петли на своем вязанье.
Дети сидели молча. Миша первый начал разговор, спросив, что случилось. Девочка зарыдала и сказала Мише, что умер ее отец.
— Он велел твоей бабушке взять меня в дочки… — захлебываясь слезами, прошептала она.
Миша молча глядел, как Христина Осиповна отпаивала Марусю водой и успокаивала ее.
Тем временем пришла Дарья и сообщила, что Юрий Петрович встали, кушают у себя в комнате и просят лошадей, чтобы съездить к Афанасию Алексеевичу по делу.
Миша огорчился, что отец уезжает. Юрий Петрович обещал скоро вернуться. Провожая отца, Миша хотел с ним поговорить наедине, но случая не представилось.
Весь день Миша вздыхал и жаловался, что у него болит голова. Ночью мальчик проснулся в холодном поту, сел на кроватке в своей длинной детской ночной сорочке и равнодушно выпил холодной воды с гофманскими каплями, которую поднесла к его стучащим зубам встревоженная бабушка. Она ворчала, что приезды отца волнуют ребенка, но Мишенька рассердился на нее, и она умолкла.
Утром Маруся Макарьева, одетая в черное шелковое платьице, пришла к нему и долго говорила о панихидах и похоронах; Миша с сочувствием выслушал ее. После погребения отца девочка долго плакала, но все утешали ее и заботились о ней. Марусю устроили в одной комнате с Пашенькой, которая стала ей шить нарядные платья, и Марусю это заняло — она никогда еще не носила таких.
Маруся довольно скоро оправилась от своего горя. Здоровая и жизнерадостная девочка не любила и не умела долго печалиться — ей хотелось бегать, прыгать, играть в мячик, плясать. Она любила разные игры, расставляла Мишины игрушки и выдумывала разные сцены. Мише это нравилось, и он с нетерпением стал ожидать прихода своей подруги. Арсеньева была довольна, что Миша перестал ее одолевать вопросами, и его смех веселил ее сердце.
Но ее беспокоило, что Миша не только больной, но и здоровый постоянно, даже днем, любил лежать, задумчиво глядя перед собой. В отсутствие своей подруги, которая убегала попрыгать в зале через веревочку, он или лежал, или быстро и упорно рисовал все, что казалось ему примечательным.
Не зная еще техники рисования, он чертил карандашом разные фигуры и сцены и раздражался, что ему трудно правильно передать то, что он хочет. Однако он все-таки сам прибирал и берег рисунки, желая через некоторое время их опять рассмотреть и тогда решить — хороши ли они или плохи. Хорошие он сохранял, а плохие истреблял.
Маруся рисовать не умела, но позировала охотно. Миша изображал ее во многих видах, но выражения лица ее не мог уловить. Тогда он попросил Илью Сергеева нарисовать портрет Маруси и с интересом смотрел, как на сером холсте по грубым контурам угля ложились краски и постепенно создавался портрет нежной румяной девочки с продолговатым лицом, с прозрачно-голубыми глазами.
Миша пытался подражать Илье Сергееву, рисуя акварелью, но скоро утомлялся и сердился, что успехи его не так блистательны, как он того хотел. Однако мальчик удивлял всех своим прилежанием: он рисовал неутомимо, стараясь достичь успехов.
Глава II
Траншеи. Кулачные бои на льду. Войско из крестьянских ребят
Через несколько дней возвратился Юрий Петрович, нагруженный множеством подарков. Бабушка с интересом спросила, по какому делу его вызывал Афанасий Алексеевич. Юрий Петрович, пожав плечами, сказал, что по делу, для него весьма неожиданному. Оказывается, у Афанасия Алексеевича в семье гостила молодая девушка, родственница его жены, владелица большого имения и крупного состояния. Ее родители умерли, а опекуны были людьми ей по духу чужими. Она мечтала выйти замуж по любви, не связывая мысли о замужестве с состоянием жениха. Афанасий Алексеевич нашел, что она была бы подходящей невестой Юрию Петровичу и если бы он женился и имел детей, то, может быть, отказался бы от претензий на Мишу. Девушка понравилась Юрию Петровичу, но жениться он отказался наотрез. Он предупредил об этом Афанасия Алексеевича заранее, чтобы не поставить в неловкое положение девицу.
Арсеньева с величайшим вниманием выслушала этот рассказ. Не дожидаясь ее замечаний, Юрий Петрович сообщил, что Афанасий Алексеевич подарил ему несколько бутылей яблочной настойки и снабдил его семенами яблок, которые он выращивал в своем саду и очень редко кому дарил.
На этот раз Юрий Петрович уделил очень много внимания сыну. Новая дружба с Марусей Макарьевой ему не понравилась. Он нашел, что Мише надо найти сверстников для игр — мальчиков, а не держать его постоянно в женском обществе.
Бабушка возразила, поджимая губы:
— С кем же ему прикажете играть? С крестьянскими детьми, что ли?
Юрий Петрович стал доказывать, что нет ничего в этом зазорного и что даже Петр I — уж какой мудрый государь был, — а в детстве с кем играл? Из кого состояло потешное войско? Из слободских ребят! Значит, игры такого рода идут на пользу, а не во вред.
Поспорив с зятем, Арсеньева, кажется, впервые, согласилась с ним. Юрий Петрович увлекся этой идеей и обещал помочь Мишеньке собрать потешное войско. Прежде всего для пробных боев надо будет устроить траншеи. Миша пришел в восторг и стал просить бабушку вырыть их в саду. Она объявила, что для внука не жалеет ни трудов, ни денег; пусть только ей дадут «план фортификационных работ», как она выразилась, и все будет сделано как надо.
Но где рыть траншеи, где устраивать игровые бои? Где должны происходить военные занятия? Возле беседки? Нет, ни за что, потому что пруд рядом — вдруг Мишенька упадет в воду! Известно, что мальчики любят толкаться и драться, и неожиданно может произойти несчастье. В овраге, около теплицы? Ой, нет! Как можно? Там вокруг валяется много разбитых стекол, ими можно порезаться. В поле? Нет, нет! Поле так далеко, что наблюдать придется в подзорную трубу и можно не поспеть, ежели понадобится помощь сражающимся или придется разнимать их.
Решили после обеда идти в сад выбирать место. Юрий Петрович стал объяснять сыну некоторые вопросы тактики и сел делать чертеж траншей.
Канавы эти не должны быть прямыми. Нет. Нужно вырыть два больших круга на известном расстоянии один против другого, но круг должен быть не простой, а вроде кольца вокруг планеты Сатурн.
Первый круг называется «бруствер», глубиной он должен быть с Мишин рост, а вторая, параллельная ему канава так и называется «параллель». В центре второго кольца должен быть вырыт ров. Зачем? Это Юрий Петрович расскажет потом.
Бабушка опять вставила свое словечко:
— Что ж, можно вырыть и такие траншеи, мне все равно. Как только наметят, где рыть, я велю освободить людей от барщины и согнать хоть полдеревни: одни мужики будут копать до обеда, а другие — с обеда до вечера, пока не окончат работу. Можно поставить человек пятьдесят на каждом круге. А какой величины должны быть круги?
После долгих споров и разъяснений за обедом пошли выбирать место для траншей.
Бабушка долго одевалась, надела валенки с кожаными калошами, потом все пошли в сад — впереди бабушка с Мишей за руку, тут же Юрий Петрович; сзади шли Христина Осиповна, Пашенька, Маруся, за ними няня Лукерья, дядька Андрей Соколов, Дарья и управляющий Абрам Филиппович — он должен был хорошенько уразуметь, какие распоряжения сделать работникам, расчертить величину кругов и отметить место, где рыть.
Сад в Тарханах расположен на холмах. Спускаясь с одного холма, видишь перед собой другой. Остановились на открытом месте в конце сада. По мнению Арсеньевой, далековато от нового дома, отсюда близко деревня, с другой стороны — недалеко маленький птичий пруд, но место удобное.
Юрий Петрович и все остальные решили, что траншеи надо вырыть именно здесь. Отличные выйдут траншеи на двух холмах, издали похожих на спину верблюда с двумя срезанными наверху горбами. Взбираться сюда трудно, но по правилам военного искусства это даже хорошо.
На вершине холма стояли довольно долго. Арсеньева первая запросилась домой, говоря, что замерзла, но Миша недовольно воскликнул:
— Ну бабушка!
Арсеньева рассердилась и стала выговаривать — нечего, дескать, подавать свой голос! Надо говорить почтительно и тихо, а не ворчать и не понукать бабушку, как кучер Никанорка понукает лошадей: «Ну!»
Миша тотчас же попросил прощения, поцеловал руку бабушки, и она смягчилась.
Все пошли домой мимо домовой церкви; тут бабушка остановилась и долго крестилась. Все взрослые тоже остановились и стали креститься, желая выказать свое уважение к памяти Марии Михайловны. Миша взглянул на отца, и ему показалось, что у него глаза стали влажными. Мальчик тоже почувствовал, что слезы набегают на глаза, но ему не хотелось, чтобы это заметили. Он вырвал свою руку из бабушкиной и побежал к дому. Там он стал бегать вокруг огромной клумбы перед домом, а отец начал гоняться за сыном, делая вид, что поймать его не может.
Бабушка, закутавшись, села на скамейку в ротонду, и все почтительно стали за ней. Но она продолжала мерзнуть и, зябко кутаясь, громко вздыхала, что в шестьдесят лет жизнь становится уже в тягость.
На другой день начались работы по устройству траншей. К вечеру все было готово. Бабушка взобралась на холм, опираясь на палку, дружно поддерживаемая со всех сторон. Она все осмотрела, приглядываясь, кого бы пожурить за неисправность, но все было сделано хорошо. Юрий Петрович одобрил новое сооружение и объяснил сыну, как надо развивать бои на холмах.
Домой опять пошли мимо домовой церкви, и Арсеньева предложила зятю ее осмотреть. Абрам Филиппович поспешил пройти вперед, чтобы распорядиться осветить церковь. Когда все подошли, в церкви зажжено было много огней, даже люстра сияла. Юрий Петрович очень одобрил новую постройку, Арсеньева же указала зятю на образ Марии Египетской. Юрию Петровичу показалось, что лицо святой похоже на лицо покойной жены, и глаза его затуманились. Миша нервно поцеловал его руку; отец поднял ребенка, и они стали смотреть вместе. Мальчик обнял отца за шею и прильнул к его голове своей головкой.
Отец шепнул сокрушенно:
— Она могла бы жить!
Мальчик спросил надрывным голосом:
— Разве она не хотела жить?
Арсеньева заметила, что они шепчутся, и стала ворчать, что в церкви надо себя вести благоговейно и нельзя разговаривать. Юрий Петрович вспылил и, сердито взглянув на тещу, быстро вынес сына из церкви. Арсеньева заспешила за ними, и опять все вышли в сад, но Юрий Петрович обиделся и вечером объявил, что завтра уезжает.
После его отъезда Миша опять погрузился в задумчивость. Арсеньева, стараясь его рассеять, стала с ним обсуждать, кого из мальчиков взять в потешное войско. Она взяла карандаш, надела очки и записала всех, кого выбрали, вызвала Абрама Филипповича, велела принести из кладовой разные материи. Призвали Пашеньку, сказочницу Ненилу из ткацкой, Лукерью и объяснили им, какую надо сшить мальчикам форму. Был дан приказ собрать ребят, снять с них мерку и всем сшить костюмы: как только потеплеет, начнется игра.
Пока же Миша постоянно оставался в одиночестве. Он стал редко играть с Марусей, и она сидела с Пашенькой, которая шила платья и себе и ей. Маруся ей помогала.
Миша полюбил ходить в сени и беседовать там с ливрейным лакеем Алексеем Максимовичем Кузьминым. Старик жаловался, что Прохоров стал мало бывать в барском доме, а, затопив печки и заправив свечи, торопился уйти на деревню, к молодой жене. Зато чаще стал заходить в сени к Алексею Максимовичу доезжачий Потапов, который после охоты приносил шкурки зайцев и белок в барский дом. Миша любил слушать его рассказы об охоте.
Когда мальчик был еще очень мал, Потапов набрал селезневых шеек, из которых и сшили Мишеньке теплую шубку; в ней он долго ходил, даже в Москву в ней ездил. Шубка была отличная. Не только Миша, но и бабушка не могла нарадоваться. Всем знакомым она хвалилась: «Вот моему Мише какую шубу сшили, и не угадаешь, из чего! Вот как его любят!»
С Потаповым Миша дружил. Как-то, увидав новорожденных щенят, мальчик стал расспрашивать, как собаки на свет родятся и как деревья растут. От объяснений насчет собак Потапов уклонился, но о деревьях рассказал, что они вырастают из семечек. Тогда Миша нашел желудь и посадил, заметил место, обложив его камешками, и стал ждать. Как он радовался появлению первого ростка! Потом от яблок, которые его заставляли есть каждый день, он набрал семян и посадил весной несколько штук в землю. К его большой радости, и эти семена взошли, только мальчик сердился, что побеги поднимались тоненькие, что плодов на них нет и надо было долго ждать, пока они вырастут. Ему обещали, что через несколько лет на них будут большие, румяные яблоки, а когда он станет взрослым, то не только он сам, но и дети и внуки его будут срывать плоды с этих деревьев.
От Потапова Миша узнал, что на первый день масленицы ожидается кулачный бой на пруду, и попросил у бабушки разрешения посмотреть. Она обещала его отпустить.
В воскресенье, к полудню, его укутали и повезли на пруд вместе с Христиной Осиповной, Пашенькой, Марусей, дядькой Андреем, няней Лукерьей, Дарьей Куртиной и управляющим Абрамом Филипповичем. Миша взял с собой подарки, чтобы раздавать победителям: шапки, кушаки, рукавицы.
Большой кулачный бой устроили на пруду, который разделял деревню на две половины. Ребята стали стеной с каждой стороны; одна половина стояла со стороны строящейся церкви, другая — от усадьбы. Шли ватагой, играли песни, как перед боем. Парни сняли свои шапки-гречневики и поддевки и остались одни в белых праздничных рубахах, а иные — в синих или холстинных, с вышитым пояском.
Как только началось, зрители поняли, что никому несдобровать. Так и норовили парни друг другу глаз подбить или челюсть свернуть. Истопник Прохоров стал против Ильи Сергеева да так ткнул его кулаком в скулу, что тот чуть не ослеп. Разъярился истопник, набросился не по правилам. Бойцов растащили. Хорошо, что розняли их вовремя, а то пропал бы Илья. Ему говорили:
— Зачем выходишь на лед? Каждый год тебя бьют. Ты ослаб, кисточки-то не тяжело в руках держать! А истопник могуч: какие охапки дров носит!
Миша испугался, что Илью Сергеева чуть не изувечили, и стал кричать; мальчика едва уняли. Марфуша перепугалась и стала умолять ничего не говорить барыне.
После боя Миша брал с подноса подарки и вручал их лучшим бойцам, потом раздавал пряники, конфеты и бросал монеты горстями на лед. Он долго не возвращался домой, а потом весь вечер рассказывал бабушке о своих впечатлениях.
Глава III
Военные игры. Прогулки в Долгую рощу с дворовыми. В Чембаре. Мосолов и Белинский
Каждое утро Миша ходил смотреть, как живут привезенные из Москвы олень и лось. Звери сдружились и, стоя за загородкой, тревожно прижимались друг к другу. Им построили особый сарай, и все дворовые ходили смотреть новое чудо на барском дворе. Ухаживать за животными поручили доезжачему Потапову; звери стали такие ручные, что он выпускал их из загородки и они свободно расхаживали по двору.
С пасхи погода установилась, и Миша просил начать игры с потешными. Собрали более десяти ребят: два сына Абрама Филипповича — Ваня и Петя, Ваня Вертюков, сынишка дворовых, сын доезжачего — Кузя Потапов, внук ливрейного лакея Кузьмина — Данюшка, сыновья птичницы — Андрюша и Петруша, Степа и Вася Шубенины, сыновья кормилицы Лукерьи и еще несколько мальчиков.
Теперь каждое утро Миша торопился завтракать и все поглядывал в окошко чайной комнаты: здесь ли ребята. Они собирались точно к назначенному часу во дворе, все одетые в военные, специально для них сшитые костюмы, очень гордые своим парадным нарядом. Ребята были вооружены: у каждого из них за спиной висело деревянное ружье, на поясе были привязаны сабля и большой пистолет. Шапки у всех были сшиты треугольные, с султанами.
У Васи Шубенина на груди висел рожок. Вася охотно и долго дудел, как только получал приказ. Ване Вертюкову дали барабан; он научился очень ровно выбивать дробь.
Когда Миша кончал завтракать, он подходил к раскрытому окну и кричал ребятам, чтобы они строились. Маленький командир выходил во двор, и все войско приветствовало его. Арсеньева любовалась, как Мишенька командовал и все маршировали, а потом уходили в траншеи. За воинами бежали Христина Осиповна, Лукерья, Андрей Соколов, доезжачий Потапов и Абрам Филиппович. Перед траншеями отряд делился на два лагеря, и каждая партия пряталась в свои укрытия. После нескольких вылазок начинался отчаянный бой. Дядька Андрей, доезжачий Потапов и Абрам Филиппович следили, чтобы не было увечий. Но вот победа близка, Михаил Юрьевич взбегает на вершину холма и водружает флаг. Игра окончена, победители ведут пленных, потом мирятся и собираются все вместе, веселые и потные.
Летом ребята бегали купаться на большой пруд, и Миша с ними, несмотря на запрещение бабушки. Стоящие на берегу бонна, нянька и дядька зорко наблюдали, чтобы Мишенька далеко не заплывал и недолго купался.
После таких наслаждений шли вразброд домой, и Миша до обеда рассказывал бабушке, как он играл, но насчет купания умалчивал. Мальчик шел с бабушкой гулять в сад, катался на качелях, привязанных к старому вязу, сидел с ней вместе в беседке над прудом, собирал полевые цветы, которые росли в большом количестве на склоне холмов, находил спелые ягоды земляники и все эти дары нес Арсеньевой, которая, умиляясь, говорила:
— О, если бы мать твоя была жива!
Услыхав такие слова, Миша обычно старался уйти гулять один; он любил подниматься по темной аллее акаций, сросшихся наверху зеленым сводом.
Летом никуда из Тархан не поехали.
На троицу пошли в лес со всей дворней, Миша впереди всех. В эти дни поварам было много работы, потому что готовили угощение на всех. Бабушка сидела у окна и, шепча молитву, глядела на дорогу в лес, на длинную просеку, по которой шел ее баловень, окруженный девушками. Тут же шли Христина Осиповна, Лукерья, Пашенька с Марусей, Андрей Соколов, Абрам Филиппович и доезжачий Потапов.
Из лесу все возвращались усталые, но довольные. Няня вела мальчика домой и напевала старинные песни про Иосифа Прекрасного и Прасковею Пятницу, и все сопровождавшие следовали за ними не отставая.
Когда подошли к барскому дому, был вечер, но на деревенской улице еще слышались смех и ребячьи голоса. В небе показались маленькие облачка, поднялся ветер, деревья зашумели, вдруг сверкнула молния, и раскаты грома раздались в разных сторонах. Из маленького облачка образовалось несколько туч, хлынул дождь. Ребята все убежали в комнаты. Миша сидел у окна и зорко следил за оторванной тучкой: ветер гнал ее все вперед и вперед и потом разбил на клочки…
— Рассеялась тучка… Погибла, — говорил он бабушке, укладываясь спать.
— Ничего, спи; другая будет, — отвечала ему бабушка.
— Другая? Нет, та не такая будет.
В Тарханы приехал новый священник, назначенный вместо умершего Федора Макарьева, — Алексей Полузаков. Он стал ходить к бабушке, рассказывать ей о своих делах и советоваться, как ему поступать в том или ином случае.
Он рассказал, что в это лето перемерло много младенцев. В год обычно рождается около ста человек, а умирают тридцать пять — сорок, а это лето такое жаркое было, понос одолел грудных, и умерло шестьдесят пять детей. Едва поспевал хоронить. Бабы жалуются… Арсеньева отнеслась к этому равнодушно и сердито оборвала его:
— Ну, как же: я должна баб охранять? От работы, что ли, их освобождать, чтобы за детьми своими смотрели? Пусть обходятся, как и до сих пор, — на старух оставляют либо на старших детей, соску из жеваного хлеба им дают.
Новый пастырь надоедал помещице своими жалобами и претензиями, но она решила с ним до времени не ссориться — не разглашать одну из его проделок, а придержать чужой секрет до поры до времени, чтобы, если понадобится, обезоружить нового священника.
Дело в том, что настоящая фамилия его была Полузадов, но он, находя ее неприличной для своего сана, переиначил одну букву: вместо Полузадова стал Полузаковым. Перед приездом в Тарханы он выправил паспорт с новой фамилией, которую не только сам сохранил, но даже передал потомству.
Миша вслушивался в разговоры взрослых, а иногда даже и вмешивался. Он поправился за этот год, стал здоровым, подвижным мальчиком; сыпь перестала его одолевать. Арсеньева часто напоминала, что в этом году он станет отроком — ему исполнится семь лет; пора думать о начале учения. Однако совершенно неожиданно Миша обучился грамоте раньше, чем это предполагала бабушка. Случилось это в середине лета.
Арсеньева взяла внука с собой в гости к своим родственникам, которые жили возле Чембар. По дороге заехали в Тархово, к родственнику Мосолову.
Ехать из Тархан в Чембар летом — одно удовольствие. По ровному полю колышутся желтеющие колосья, в огромном небе плывут и расплываются облака, белея и серебрясь на солнце. Путь недолгий, не больше двух часов. Незаметно доехали до места — перед глазами появился уездный городок.
К Мосолову завернули, чтобы взять кое-какие лекарства от болезни ног: у помещика был большой запас медикаментов.
Генерал Аркадий Федорович Мосолов участвовал в военных походах 1812 года. После ранения в Бородинском сражении он вынужден был взять отставку и поселиться в своем имении. Он постоянно болел и, верно, потому неизменно злобствовал. Соседи-помещики боялись проезжать мимо его усадьбы, называли его Соловьем-Разбойником, крестьяне же просто звали Мосолова живодером — так круто он расправлялся с ними.
Мосолов жил в богатом барском доме, и, когда в летний день Арсеньева с внуком подъехали к усадьбе, слуги почтительно провели гостей к хозяину, одинокому стареющему барину.
Мосолов сидел в креслах в халате, подвязанном шелковым шнурком. В кабинете шторы были спущены от солнца; на накрытом столе стояла батарея разных бутылок. Напротив хозяина, на стуле, сидел худощавый, бледный человек с небольшой бородкой, в русской вышитой сорочке.
Мосолов, поздоровавшись с Арсеньевой, тотчас же рекомендовал его:
— Это мой друг Григорий Никифорович Белинский, уездный лекарь.
Мосолов дружил с Белинским, человеком образованным. Белинский умел поговорить о прочитанном, любил литературу, а о медицинской своей практике говорил с горечью, жалуясь, что лечить людей нечем, что он вынужден от всех болезней давать александрийский лист, который завозили в Чембар купцы. И хотя Мосолов по указанию лекаря выписывал для него разные снадобья из Москвы, однако пользовался ими больше сам ввиду их дороговизны.
Мосолов, страстный любитель чтения, не скупился на покупку книг и собрал библиотеку. Все стены его кабинета были уставлены книжными полками; на них стояли тома в кожаных переплетах. Мосолов знал только одну радость в жизни — чтение.
Неудачник в личной жизни, он был хмур и озлоблен и все свои печали вымещал на дворовых, истязая их нещадно, за что впоследствии и был ими зарезан. В углу его комнаты стояли палки, которыми на его глазах, по его приказанию, одна девушка била другую. Такие избиения повторялись ежедневно по нескольку раз.
Появление родственников спасало его от хандры, как он выражался, и тогда он становился гостеприимным хозяином.
Арсеньева с Мишей вошла в кабинет Аркадия Федоровича. Мальчик сразу же обратил внимание на множество книг, которыми так богат был этот дом. Разгоревшимися глазами он обозревал книжные шкафы, любуясь золотым тиснением заголовков на переплетах.
Заметив восхищенный взгляд ребенка, устремленный на книги, Мосолов снизошел до разговора с ним:
— Я вижу, ты любишь книги. Разве ты умеешь читать?
Миша покраснел и стыдливо сказал:
— Нет, мне читают, а я картинки смотрю.
— Неграмотный, значит, — сказал Мосолов со смехом. — А сколько лет?
Арсеньева тотчас же вступилась за своего любимца:
— Ему шесть, и я считаю, что его еще рано учить. Он у меня все болеет.
Мосолов обратился к своему приятелю Белинскому:
— А твоему сынишке сколько?
Белинский отвечал, что Виссариону уже девять лет, что он много читает и в огромные кипы тетрадей неутомимо днем, а иногда и по ночам без всякого разбору списывает стихотворения Карамзина, Дмитриева, Сумарокова, Державина… Мало того, он сам пишет стихи.
— Он так любит словесность, — продолжал Григорий Никифорович, — что недавно я застал его плачущим за книгой, оказывается, он читал «Бедную Лизу» Карамзина. Стихи Жуковского он знает досконально, а оды Державина постоянно декламирует наизусть.
Миша внимательно слушал про неизвестного мальчика. Виссарион Белинский читает книги для взрослых и мало того, что списывает стихи, но даже их сам сочиняет. Больше всего ему нравятся стихи Державина и Жуковского. Миша про себя повторил эти фамилии. Раз списывает, значит, уже хорошо умеет писать в девять лет. А Миша еще неграмотный, хотя ему скоро семь лет…
Бабушка заметила, что Миша расстроился.
Прощаясь, Мосолов говорил Арсеньевой:
— Прошу заезжать почаще, а то от скуки пропадаю. Ежели бы не Белинский, то я бы удавиться готов! Григорий — душа-человек, хоть мучается постоянно от своей бедности, уж очень он обременен семьей… Слабый он и унылый человек, но я очень его люблю… Приезжай, Лизонька. А внучонка твоего пора уже учить.
Всю дорогу до деревни соседей Миша молчал и хмурился. Арсеньева радостно предвкушала встречу со своей родственницей, у которой недавно родилась дочка: они были приглашены на крестины. Елизавета Алексеевна напоминала Мише, что он будет играть со своим приятелем Павликом, но Миша не отзывался.
Приехали на торжество вовремя. Вскоре приступили к обряду. Миша с интересом смотрел, как священник ловко вынул из вороха пеленок крохотную, с красноватой кожицей девочку, заткнул ей ушки и нос пальцами и опустил в воду, после чего ребенка опять положили в пышные пеленки, которые держала восприемница новорожденной Леокадии.
После обряда пировали: пили шампанское, угощались вкусными жаркими, пирогами и ягодами, а вечером смотрели фейерверк в саду.
Миша с Павлом пошли погулять в дубовой роще, и Андрей Соколов вместе с дворовыми пошел сопровождать их. Мальчики жаловались друг другу, что им очень надоели дядьки, мамушки и бонны. Как хорошо будет, когда они вырастут и смогут ходить и ездить одни, без провожатых!
На следующий день уехали только к вечеру, потому что мужчины опохмелялись, а бабушка никак не могла наговориться с родственниками.
После шумного веселья на крестинах приятно было возвратиться домой, предвкушая обычную тишину. Приближаясь к Тарханам, бабушка и внук издали увидели знакомый барский дом с мезонином, бледно-желтый, с белыми колоннами, под зеленой крышей, а против дома, со стороны двора, знакомые деревья в виде круга — липы и высокая сирень. Но еще лучше было в саду, где разрослись розы и полукруг из жасмина. Глядя на цветущую куртину и на чудесный сад, Арсеньева перемолвилась с Мишей, что ни у кого из соседей, ни в чьем имении они не видели в саду такой красоты.
Глава IV
Сам научился читать. День рождения. «Предок Лерма». «Крепость потешного боя». Корь
Глядится тусклый день в стекло
Прозрачных льдин — и занесло
Овраги снегом. На заре
Лишь заяц кра́дется к норе
И, прыгая назад, вперед,
Свой след запутанный кладет;
Да иногда, во тьме ночной,
Раздастся псов протяжный вой…
Возвратившись в Тарханы, Миша стал беседовать с бабушкой о крестинах новорожденной Леокадии и сказал, что он тоже хочет быть крестным отцом, Арсеньева разрешила ему крестить у крестьян, и с тех пор, начиная с шестилетнего возраста, юный Лермантов несколько раз был записан как взрослый в церковной книге. Так, 2 июля 1821 года он крестил вместе с бабушкой у Николая Вертюкова сына его, Петра, и дьяк записал, что «восприемник — Михаил Юрьев, оной госпожи внук».
Но самым сильным впечатлением Миши от поездки в Чембар была насмешка Мосолова, что шестилетний мальчик еще неграмотен. Самолюбие его было уязвлено. Сын уездного лекаря, бедняк Виссарион Белинский отлично читает разные книги для взрослых, а его, Михаила Лермантова, бабушка даже не научила читать, хотя и утверждала, что взяла его от отца лишь затем, чтобы дать ему блестящее образование! Как же быть? Самому Прикажете научиться? А можно ли научиться самому?
Миша долго обдумывал этот вопрос, но не мог его разрешить и обратился к бабушке. Арсеньева вздохнула. Внук задавал такие вопросы, что надо было подумать, прежде чем ему ответить.
— Полагаю, что самому выучиться нельзя. Как ты можешь сам отгадать значение буквы? Вот, скажем, буква «аз» — ее произносят как «а». Ежели ты сам определишь название этой буквы и назовешь ее, скажем, «буки», которая произносится как «б», то это будет неправильно. Учиться нужно от кого-то.
Миша продолжал допрашивать:
— А ты все буквы знаешь? Ты все умеешь назвать? А ты объясни, как буквы соединяются в слово!
Бабушка начала объяснять и хотела показать буквы в книге, но, увы, все ее книги были на славянском языке! Был русский сонник, но Миша так рассердился, когда бабушка предложила ему эту книгу, что она сконфузилась. Пошли к Христине Осиповне, у которой была своя полочка с книгами, но опять беда: у нее были немецкие романы, а нужна русская книга, с русскими буквами. Букваря тоже ни у кого не было.
Арсеньева вздыхала. Ах, книги, книги! То муж ее огорчал своим пристрастием к книгам, то дочь. Только что, слава богу, она освободилась от всех книг, а теперь внук допекает! Но Миша упорно требовал русскую книгу с русскими буквами и опять укорял бабушку, что она не исполняет своего обещания — покупает ему все, что он просит, и даже делает ему разные сюрпризы, но о покупке книг никогда не думает.
Чтобы окончить этот неприятный разговор, Арсеньева велела кучеру Никанорке скакать в Чембар к Мосолову и отвезти записку с просьбой прислать несколько русских книг.
— Проси стихи! — требовал внук. — Я хочу стихи. Державина хочу и Жуковского.
Бабушка в испуге перекрестилась.
— Откуда ж ты, Мишенька, знаешь про них?
— Я все знаю! — снисходительно улыбаясь, ответил мальчик. — Дорогая моя бабушка! Попроси, пожалуйста, для меня!
Хотя Мосолов был скупым и грубым, но на этот раз оказался любезным родственником и прислал две книжки.
Миша уже ложился спать, когда приехал Никанорка. Миша забрал обе книги себе под подушку и на следующее же утро стал пристально разглядывать буквы. Мальчик с нетерпением подошел к бабушке и, раскрыв страницу, спросил, как называется первая буква. Бабушка сказала, что это стихи Державина, объяснила, кто такой был Державин. Миша выслушал и снова спросил: «Как же читать первую букву?» Он сидел до завтрака и разыскивал на всех страницах только одну букву — ту, которую ему указала бабушка. Миша не расставался с книгой, подходил к бабушке, если она не была занята, к Пашеньке или даже к Марусе — они ведь тоже знали грамоту — и спрашивал у них. К вечеру мальчик стал бледен, но глаза его горели. На следующий день он опять ходил у всех спрашивать про разные буквы, и все ему охотно отвечали, желая показать свои знания, а потом он сидел, упорно разглядывая каждую страницу. Так длилось несколько дней. Бабушка, заметив возбуждение внука, хотела было отобрать у него книгу, но он убегал в сад, уверяя, что хочет гулять, и опять-таки заучивал там буквы. Потом он попросил Пашеньку прочесть ему — только медленно прочесть — первую страницу каждой книги, потому что хотел знать, какая книга интереснее. Пашенька исполнила его желание. Он выбрал стихи Жуковского и сел за стол, открыв первую страницу.
Над этой книгой Миша трудился долго, больше месяца. Бабушка волновалась: не вредно ли ему сидеть так долго и неподвижно на одном месте? Но, с другой стороны, она была довольна, что Миша нашел увлекательное занятие и не жалуется, что ему скучно.
Как-то он пришел к бабушке с листом бумаги и попросил:
— Читай.
На листе было написано крупными печатными буквами: «Михаил Лермантов», фамилия бабушки, отца и почему-то «Стенька Разин, атаман». Миша сказал, что он теперь знает буквы и может писать все, что хочет, но бабушка рассердилась, увидев имя Стеньки Разина. Кто ему рассказывал про этого разбойника?
Мальчик сказал, что нечего бабушке допрашивать про Стеньку, а она должна послушать, как он научился читать. Он раскрыл первую страницу стихотворений Жуковского и так быстро и с таким выражением прочел ее, что бабушка не поверила, что он читает, — верно, выучил наизусть? Мальчик сказал, что действительно эти стихи он уже знает наизусть, потому что много раз их читал и теперь выучил. Тогда бабушка раскрыла книгу Державина на середине. Миша тоже прочел, правда, с легкими запинками, но прочел все. Тогда бабушка вспомнила, что у доктора Ансельма Левиса есть повесть Карамзина «Бедная Лиза». Даша сбегала к доктору, принесла книгу, и Миша тоже прочел несколько страниц. После обеда раскрывали «Бедную Лизу» и в середине и в конце, но сколько раз ни раскрывали книгу, Миша все прочитывал и попросил доктора дать ему эту книгу на несколько дней почитать.
Когда бабушка убедилась в том, что Миша одолел грамоту, она пришла в восторг и объявила, что согласна ехать в Москву за покупкой книг. Но Миша возразил, что они должны завтра же ехать к Мосолову — пусть он убедится, что Миша стал грамотным. С утра заложили лошадей и поехали в Чембар. В дороге мальчик напевал стихи Жуковского.
Мосолова, конечно, застали дома, но на этот раз он сидел один, Белинского с ним не было. Арсеньева напомнила старому брюзге, как он упрекнул Мишеньку, что тот еще неграмотный. Но Миша теперь научился читать — просим проверить!
Мосолов, с интересом поглядев на ребенка, ядовито усмехнулся и спросил:
— Неужто за месяц с небольшим он одолел букварь, да еще самостоятельно?
Узнав, что не букварь он изучил, а стихи Жуковского, Мосолов еще больше удивился.
Оглядев книжную полку, Мосолов достал «Историю» Карамзина, наудачу раскрыл том и сурово протянул развернутую книгу Мише, и тот, разгоряченный и смелый, тотчас же прочел то, что ему предложили, причем некоторые фразы читал не по складам, а с выражением. Прочитав страницу, Миша заинтересовался текстом книги и стал задавать Мосолову вопросы. Генерал расцеловал своего юного родственника, подарил ему несколько книг и даже дал почитать на несколько дней первые песни «Руслана и Людмилы» Пушкина.
Арсеньева была довольна, что у Мишеньки появилось постоянное занятие. Она выписала ему разные книги из Пензы, и мальчик упорно читал их.
Наступила осень. На базар увозили продавать зерно, коноплю, овечью шерсть, битую птицу, свиное сало и мед.
При муже много запасов и денег уходило на устройство приемов и балов — теперь жили замкнуто и скромно. Арсеньева копила деньги, говорила, что они нужны будут Мишеньке, когда он вырастет, и много продавала провизии. Кончены теперь приемы. Ох, каких денег они стоили! Домашние пиршества опустошали кладовые, скотный двор и птичник.
А все-таки как хорошо ей жилось с мужем!
Утирая слезы, Арсеньева повторяла:
— Много ли надо старухе с ребенком?
Пока она хлопотала по хозяйству, Миша наблюдал с балкона жизнь во дворе, видел, как увозили на телегах полные мешки и кадки. Миша часто стоял на балконе. Выходить во двор и в сад надо было с нянями, с дядькой, а тут он стоял один.
На нижнем балконе со стороны зала видно было село. Из раскрытых окон изб вырывался темный плотный дым и густо шел из распахнутых дверей. Миша знал, как бабушка боится пожаров, которые перекидываются от одной избы к другой, потому что солома везде: крыши крыты соломой, солома на плетнях дворов, везде соломенные риги и ометы, солома на гумнах, — он показал ей на клубы дыма над деревней. Арсеньева стала внушать Мише, что от такой топки ничего плохого не случается, потому что хозяйки понимают, что надо с печкой обращаться аккуратно, а пожары случаются от другого — от курения. Поэтому она преследовала крестьян, курящих табак-самосейку, и запугивала их жесточайшими наказаниями на том и на этом свете, но, увы, ничто не помогало, курили-таки окаянные, тешили беса! О крестьянах Арсеньева не любила много разговаривать и напомнила Мишеньке, что не за горами день его рождения и пора начать к нему готовиться. В этом году она желала отпраздновать этот день особенно торжественно — ведь мальчику исполняется семь лет, он становится отроком, вступает в возраст, когда пора приступать к учению.
Начали готовиться к празднованию.
Для того чтобы Мишеньке быть прилично одетым в этот торжественный день, в девичьей под руководством Пашеньки долго шили бархатный костюм с шелковым воротником и золотыми шнурками, под темно-красную куртку поддевалась синяя вставка в виде жилета, и на нее полосками был нашит от того же куска золотой позумент. Очень часто мерили этот костюм, извели! Наконец сшили, нарядили Мишу, повели в зал и поставили перед трюмо, чтобы он себя увидел во весь рост. Его окружили дворовые девушки. Они искренне восхищались своей собственной работой. Бабушка нашла, что Мишеньке так идет новый костюм, что надо сделать портрет.
Позвали богомаза, работавшего в церкви, и объяснили ему, что надо нарисовать Мишеньку в новом костюме так, чтобы все видели не только красную куртку, но и синий жилет. Богомаз посадил мальчика на стул, а под локоть подставил столик, но он оказался высоковат. Тогда Мишу поставили на пол, и локоть его лег на столик. Художник усердно принялся за работу, и через несколько дней Мишенька появился на полотне как живой. Он очень был похож. Но в этот раз челку на лбу подстригли выше обычного — не рассчитал домашний парикмахер! Впрочем, Мише не нравилась челка, как у маленького, и он попросил разрешения причесываться на пробор.
Еще никогда не было особых торжеств по случаю дня рождения Миши, поэтому мальчик с интересом дожидался: что же будет на этот раз? Бабушка заранее объявила, что в этот день освобождает крестьян от работы и разрешает устроить на дворе кулачный бой.
Ко дню рождения Миши, ко 2 октября, съехались гости. За несколько дней до торжества приехали Арсеньевы — сестры Михаила Васильевича: бабушки Дарья, Марья и Варвара и брат деда — Григорий Васильевич Арсеньев с супругой. Обилие румяных, похожих друг на друга старушек, лобызавших мальчика, не радовало его, но старушки сообщили, что скоро приедет Юрий Петрович с сестрой Еленой Петровной и с Пожогиными-Отрашкевичами, чтобы праздновать день рождения Миши, и он так обрадовался, что даже расцеловал всем бабушкам ручки, чем привел их в восторг. Не зная, разделит ли с ним его родная бабушка такую радость, он пошел сообщить приятную новость своим любимым собакам — рыжим сеттерам, подаренным ему отцом, — Бронзе и Мальчику. Взяв их за мягкие покрытые волнистой длинной шерстью уши, он потихоньку сообщил им, что едет их хозяин, и собаки, радуясь ласке, весело виляли хвостами, повизгивали и облизывали Мишу.
Из Пензы приехала Раевская с сыном Святославом и с дочерью, которая не отходила от нее. Мальчик был намного старше Миши, ему уже минуло одиннадцать лет; скромный и тихий, он всем очень нравился. Единственный сын, Святослав привык сам себя занимать и то сидел с книгой, то играл в шахматы с доктором Ансельмом. Миша попросил бабушку тоже подарить ему шахматы. Тотчас же бабушка вызвала Абрама Филипповича; он привел лучшего на деревне токаря Андрея Хорькова, показал ему образцы, и вскоре Андрей принес отличный ящик с шахматами, где сложены были искусно выточенные белые и черные фигуры.
Мише понравились шахматы, и он быстро разобрался в игре. Святослав предложил ему поиграть. Мальчики стали не торопясь играть партию за партией. Но вот Миша остался победителем и в восторге побежал к бабушке сообщить ей о своем успехе. Святослав подумал, что он «зевнул», но и в дальнейшем Миша стал его постоянно обыгрывать, что всех очень удивляло. Миша захотел сыграть с доктором Ансельмом, очень долго обдумывал каждый ход, и получилась ничья. Мальчик был очень польщен, а доктор выругал себя за невнимательность. Однако следующую партию Миша проиграл и очень огорчился, но сказал, что подучится и опять вызовет доктора на бой. Миша продолжал практиковаться со Святославом, которого неизменно обыгрывал.
Святослав в те дни усердно читал Плутарха.[15] Плута́рх (около 46 — около 126) — древнегреческий писатель. До наших дней сохранились его произведения на самые разнообразные темы — философские и политические. Миша сначала с интересом рассматривал картинки, а потом попросил подробно рассказать ему содержание книги. Святослав, или, как его называли сокращенно, Слава, отвечал нехотя, думая, что Миша не поймет. Но, заметив, что мальчик стал его постоянным, внимательным слушателем, Слава увлекся и с интересом стал читать ему некоторые страницы, вздыхая по временам: ведь ему надо было проштудировать эту книгу и ответить на все вопросы учителю, который отпускал его в Тарханы с условием, что он по возвращении получит по истории высший балл.
Но вот приехали отец с тетушкой Еленой Петровной. Миша сразу ожил, похорошел и не отходил от отца, желая слушать его рассказы. Юрий Петрович на этот раз сообщил, что, по просьбе сына, он разобрал семейный архив и выяснил, что Лермантовы происходят от испанца Лерма. Герцог Франсиско Лерма с конца XVI века был крупным испанским политическим деятелем и первым министром короля Филиппа III. Жестокий и властный, он сумел подчинить своему влиянию короля и десятки лет деспотически управлял Испанией.
— Вот это я понимаю! — одобрительно сказала Арсеньева.
Юрий Петрович растерянно поглядел на тещу.
Григорий Васильевич Арсеньев проявил живейший интерес к тому, что сказал Юрий Петрович, и выложил все, что знал об испанцах, а бабушки Марья, Дарья и Варвара почтительно слушали и восхищались ученым братом, но, не теряя времени, вязали так усердно, словно боялись не поспеть сдать свою работу в срок, хотя никто ни к чему их не обязывал. Христина Осиповна превозносила их мастерство в искусстве вязанья и оживленно беседовала с ними о петлях «с накидом» и «без накида». Арсеньева огорчалась, что все сестры надели очки, — она помнила их молодые добрые глаза!
Гости прибывали.
Приехал Афанасий Алексеевич, съехались разные соседи с детьми и родственниками — Юрьевы с мальчиками, помещица Давыдова из Пачелмы с сыном Колей, Максутовы из Нижнего Ломова, тоже с мальчиками, Елизавета Ивановна Горсткина.
Когда все съехались, бабушка велела Мише играть с детьми, а не сидеть с отцом, что очень его огорчило.
В доме сразу стало тесно, шумно, весело. Гости заполнили все комнаты и внизу и на антресолях, собирались в гостиной, оживленно переговариваясь, а в зале фортепьяно не умолкало.
Утром в день рождения парадные комнаты оказались убранными гирляндами живых цветов, сплетенных в виде буквы «М». После церковной службы в домовой церкви Миша получил много подарков и от бабушки и от всех гостей, потом вышел на балкон со своими гостями-сверстниками и смотрел, как угощают дворовых. Во дворе начались пляски, пение и хороводы. Собралось «войско» приветствовать своего командира. Миша надел военный костюм, и все пошли показывать гостям траншеи.
Тем временем в зале накрыли стол и поставили на него букеты, фрукты и кушанья, которые являлись чудом поварского искусства. Арсеньева села во главе стола с Мишей, окруженная своими родственниками — Столыпиными, Евреиновыми и Раевскими. Лермантовы же сидели рядом с Арсеньевыми, подальше от хозяйки. Вскоре все развеселились. За обедом пили шампанское. Каждое новое блюдо имело форму буквы «М». На пирогах и на пирожных было выведено наслойками теста: «Мише 7 лет». Глаза Миши самолюбиво вспыхивали, когда он это замечал.
Не хватало оркестра, но Арсеньева не терпела музыки в доме после всего пережитого.
После обеда в саду зажгли свечи в цветных фонарях. Гостям показывали привезенных из Москвы оленя и лося, которые ходили по двору на свободе.
Во двор выкатили бочку с водкой, и крестьяне подходили угощаться. Дворовые были одеты по-праздничному, а волосы смочили квасом, чтобы гладко лежали. Принесли бочку пьяных вишен. Девушки поели перебродившие ягоды, быстро развеселились, стали хохотать. На большом столе под липами повара поставили противни с горячими капустными и картофельными пирогами из ржаного теста.
Когда все наелись, разгоряченные парни, балуясь, начали кулачный бой. Гости вышли на балкон второго этажа и с интересом смотрели на эту забаву. Столыпины вспоминали, как отец их, Алексей Емельянович, знаток кулачного боя, называл приемы кулачных бойцов: «ударить к месту» значило бить по «артерной жиле» на шее, «под микитки» — в левый бок, близ сердца, «земляных послушать часов» — удар по виску, «рождество накрасить» — разбить скулы, подбить глаз.
Гости сидели на балконе. Столы были уставлены подносами с угощением; горками лежали пряники, орехи, леденцы в цветных бумажках. Миша горстями бросал их победителям, гости ему помогали. Затем Мише подали поднос с серебряными деньгами, он опрокинул его в толпу, и тут началась почти драка.
Но вот стемнело. Зажгли фейерверк. Разноцветные ракеты взлетали в воздух, и бенгальские огни освещали сказочную красоту тарханского сада то зелеными, то розовыми вспышками.
Спать ушли поздно, но разгоряченный мальчик долго не мог заснуть, взвинченный впечатлениями дня, и плакал, когда на следующий день гости стали разъезжаться. Вместе с бабушкой Миша выходил всех провожать; за ним шли олень и лось.
Однако с оленем надо было держаться осторожно: у него выросли большие ветвистые рога, и он стал баловать.
Вскоре после празднования Мишенькиного дня рождения коровница Степанида понесла ведро с молоком на кухню, а олень разбежался, ткнул ее рогами в грудь и стал пить из ведра молоко. Коровница упала без чувств и после этого долго болела.
Доезжачий Потапов сам ухаживал за зверями. Однажды он понес им корм. С ним пошел сторож, который сидел у ворот и объяснял Потапову, какую ему надо сшить к зиме шапку. Олень, увидав незнакомого человека, боднул его и повалил. Наконец досталось и самому Потапову: олень стал бодать и его.
Об этих случаях Потапов доложил Абраму Филипповичу, а тот сообщил Арсеньевой; она распорядилась тотчас же запереть оленя в сарае вместе с лосем — не дай бог, они Мишеньку могут забодать.
Через несколько дней доезжачий сообщил, что олень захирел, перестал принимать корм, а лось, прижавшись к нему, лежит рядом. Через неделю олень издох; Арсеньева стала бояться, что и лось заразится от него, и приказала зарезать здорового лося, а мясо его употребить в пищу, что и было исполнено. Кстати сказать, мясо оказалось жирным и вкусным.
Доезжачий и дворовые скрыли от барыни, что они схитрили: несколько дней не давали оленю еды, отчего он и пал.
Осень вступила в свои права. Дни стали короче, и все больше времени приходилось проводить дома. Миша опять пристрастился к рисованию и чтению и все жаловался, что нет книг, но бабушка говорила:
— Доктор находит, что много читать вредно.
Священник тарханской церкви Алексей Полузаков стал заниматься с мальчиком чтением и письмом. Для занятий отвели маленькую комнатку.
Отец Алексей требовал, чтобы его ученик аккуратно выводил палочки и закруглял буквы, однако, как человек педантичный, он объяснял сухо и рассеянно, и Мише не понравились его уроки. Как только Христина Осиповна объявляла, что пришел учитель, Миша делал вид, что не слышит. Христина Осиповна хватала мальчика за руку и вела заниматься, а он сердился и отбивался, пока наконец не вступалась бабушка. Она начинала уговаривать Мишеньку выйти к учителю и обещала, что, если он будет хорошо учиться, для него будет выстроена на пруду ледяная крепость.
Эта затея очень понравилась Мише, и он стал ходить на уроки без отговорок. Чтобы приохотить мальчика к занятиям, Христина Осиповна вспомнила про любимую книгу Мишеньки «Зрелище Вселенныя». Миша очень обрадовался, увидев книгу. Он читал ее свободно сам. Однако, перечитав несколько раз, он стал критиковать книгу.
— Почему тут написано: «курячьи цыплята»? — спрашивал он. — Почему?
Но ему велели молчать и читать, что написано.
Когда урок кончился, Миша задержался в классной комнате. Просматривая книгу, он вспоминал Кавказ и написал на обложке книги стихотворение:
Великий Киракос
И маленький Мартирос.
Честь имею вас поздравить!
Кирик и Улита
Утюжная пли́та,
Марш!
За обедом Миша стал просить бабушку опять поехать на Кавказ, и бабушка обещала, но обиженно спросила — разве ему плохо в Тарханах? Здесь для него тоже устраивали разные развлечения. Ведь она сдержала свое слово: начали строить ледяную крепость. Теперь мальчик каждый день ходил наблюдать, как на большом пруду дворовые строили из ледяных кирпичей башню со стеной, прорезанной узкими бойницами, откуда можно было высовывать деревянные ружья и кричать: «Пли!» Целые дни крестьяне сновали с ведрами, обливая великолепную прозрачную постройку, чтобы она покрепче замерзла и не развалилась.
Наконец все было готово. Ребята надели военную форму, а поверх нее шубы и вместе с Мишей побежали к крепости. Спустившись на пруд, они увидели постройку на льду. Она переливалась на солнце, как хрустальный замок на маленькой ледяной горе. Миша крикнул:
— Ребята, мы должны взять эту крепость штурмом!
— Ура! — радостно и нестройно откликнулись мальчики. — Кого же мы будем брать в плен?
Миша попросил дядьку Андрея сесть в крепость.
Воины пошли на приступ, однако горка, на которой стояла крепость, была крутая и скользкая, взобраться на нее было не так-то легко. Через стену полетели снежки, Андрей их подхватывал и бросал в ребят. Начался штурм. Ребята падали, скользили, спотыкались и, с большим трудом добравшись до ледяного здания, окружили его и вытащили дядьку Андрея, который отбивался от насевших на него ребят, осторожно стряхивая их. Мальчики, развеселившись, стали спускаться с горы и подниматься вверх, но вот раздался властный голос Арсеньевой:
— Довольно драться! Ах, Мишенька, сердце мое, на кого ты похож! Надень сейчас же шапочку, а то простудишься!
Точно ледяной водой облили ребят, и они присмирели.
— Бабушка, не мешай! — умоляющим голосом попросил Миша. — Я сам поведу войско домой, а ты отойди в сторонку, пожалуйста!
Тотчас же был дан приказ, и юный Вася Шубенин затрубил в рожок. Командир стал во главе отряда, и войско замаршировало во двор, да так бойко, что один дядька Андрей поспевал вовремя, а Христина Осиповна с Лукерьей бежали, задыхаясь, бабушка же и вовсе отстала. Пашенька с Марусей подхватили ее под руки и повели к дому, но аллея поднималась по холму вверх, и Арсеньева еле взошла.
После каждой игры Миша чувствовал себя превосходно. Ледяная крепость выдерживала самые яростные атаки. Но однажды, возвратившись домой, он сказал, что озяб и никак не может согреться. Его уложили в постель, заставили пить малину и липовый цвет, кормили фруктами, киселями и компотами, не давали мяса, которое, по мнению доктора, усиливало жар, но ничто не помогало. Все предписания доктора были выполнены, но болезнь не проходила, жар увеличивался. Маленький пациент стал необычно говорлив. Он спросил, ясно глядя в глаза бабушки:
— Как начинается жизнь? От дыхания? Почему люди умирают?
Потом он стал бредить. Ему мерещились узкие ящики, в которых неподвижно лежали люди, заваленные цветами; он их окликал, но они спали непробудным сном и ничего не слыхали. Мальчик стал звать: «Мама!»
Так он томился от жара и говорил в бреду о том, о чем молчал здоровый.
Оказывается, он знал все. Знал, как умерла его мать, знал, как отец воевал с бабушкой, когда она пожелала оставить его в Тарханах. Мальчик быстро говорил и напевал, радуясь, что наконец вспомнил ту песню, которую он так давно желал вспомнить…
Арсеньева, доктор Ансельм и Христина Осиповна не отходили от него. Няня Лукерья сбилась с ног. Сенным девушкам велели молиться о выздоровлении Михаила Юрьевича. Доктор осунулся и стал походить на больного; он уже перестал надеяться на выздоровление своего юного пациента и не мог угадать причины его страданий.
Однажды утром, при дневном свете, болезнь открылась: в появившейся сыпи узнали корь — болезнь, опасную для этого возраста. Заботливым, неусыпным уходом Мишеньку спасли от смерти, но тяжелый недуг оставил его в совершенном расслаблении, и он опять перестал ходить.
Долго оставался мальчик в самом жалком положении. Болезнь эта имела важные последствия и оказала влияние на ум и характер ребенка: он выучился думать. Лишенный возможности развлекаться обыкновенными забавами, он начал их искать в самом себе. Воображение стало для него новой игрушкой. Недаром учат детей, что с огнем играть не должно. Но, увы, никто не подозревал в мальчике этого скрытого огня, а между тем он охватил все существо ребенка. В продолжение мучительных бессонниц, задыхаясь среди горячих подушек, он уже привыкал побеждать страдания тела, увлекаясь грезами души. Он воображал себя волжским разбойником среди синих студеных волн, в шуме битв, в ночных наездах, при звуке песен, под свист волжской бури…
Глава V
Медленное выздоровление. Доктор Ансельм Левис и бонна Христина Осиповна. Рассказы про Пугачева
Блажен, кто может спать! Я был рожден
С бессонницей. В теченье долгой ночи,
Бывало, беспокойно бродят очи
И жжет подушка влажное чело.
Душа грустит о том, что уж прошло,
Блуждая в мире вымысла без пищи,
Как лазарони или русский нищий.
Последствия болезни оказались тяжелыми. Мальчик лежал, задумчиво глядя перед собой темными печальными глазами.
Дали знать отцу о его болезни, и Юрий Петрович приехал; он теперь стал наезжать с сестрой Еленой Петровной. Кто знает? Может быть, он надеялся поручить ей со временем воспитание сына. Ведь Арсеньева постоянно причитала, что она стара, что ей уже шестьдесят два года, хотя ей было всего пятьдесят, что она не надеется долго прожить, что разные болезни ее одолевают… Юрий Петрович смотрел на тещу ясными, красивыми глазами и ничего не возражал ей на это. Он побыл недолго — торопился в Москву. Миша просил его прислать книг.
Бабушка решила отправить в Москву вместе с Юрием Петровичем кучера Никанорку, которому дала длинный список разных поручений. Для Мишеньки поручалось купить бумагу, карандаши, игрушки, книги, краски.
Почти месяц ждали Никанорку обратно, и наконец он вернулся и привез желанное.
Доктор Ансельм разрешил мальчику читать не более двух часов в день и запретил всякое движение. Целые дни, отвернувшись к стене, Миша лежал, принимая пилюли, скучая и изнемогая от тоски и одиноких дум. С ним приходила сидеть Пашенька, здоровая, нарядная, в локонах. Крахмальные юбки ее раздувались, как колокол. Жеманничая, она усаживалась в кресло рядом с Мишиной постелью и пыталась с ним завести разговор, но мальчик отворачивался.




Он был избалованный, своевольный ребенок. Он умел прикрикнуть на непослушного лакея; приняв гордый вид, умел с презрением улыбнуться на низкую лесть толстой ключницы. Пашеньку он не любил.
Эта молодая девица не походила на его мать, но ее наряды и запах духов, который шел от ее платьев, будили в душе ребенка смутные воспоминания. Пашенька же всячески старалась ему угодить, и чем больше старалась, тем это было ему неприятней. Но она предложила читать вслух и стала каждый день понемногу читать переводной роман, имевший успех у читателей. Это было произведение английской писательницы Анны Радклиф в русском переводе. Роман волновал воображение разными чудесами и страшными происшествиями; там описывались развалины, подземелья, могилы, жизнь теней, привидений и призраков. Писательница увлекательно описывала пылкие страсти своих героев и страдала за них. Пашенька трепетала от волнения, желая благополучной развязки романа, и даже подглядывала последнюю страницу, желая узнать судьбу героев романа.
Маленький слушатель был доволен, что нашел себе чтеца. Но доктор не позволял мальчику долго слушать чтение, поэтому на смену Пашеньке приходила Маруся Макарьева. Ее пристрастием были цветы. Летом она собирала их великое множество, сушила и вклеивала в альбомы; кроме того, она умела вышивать цветочные узоры. С Марусей Миша играл в домино, и присутствие ее не было в тягость; ему приятно было смотреть на ее нежный профиль и любоваться ее смущением. Маруся была очень самолюбива и боялась насмешек, а Миша уверял, что у нее чернильное пятно на шее; но это была родинка.
Присылали для игр Ваню, сына управляющего. С ним было лучше всего. Ваня, в вышитой рубашке, с волосами, смоченными квасом, сидел на табуретке, с восторгом рассматривал привезенные из Москвы игрушки и удивлялся, как Миша хорошо знает буквы, как ясно выводит их на аспидной доске.
Ваня рассказывал всякие деревенские новости и сидел сначала тихо, но через час благоразумие гостя кончалось. Ваня не умел играть в тишине, начинал прыгать, потому что бегать было негде, и с восторгом вспоминал военные игры. Как ему ни внушали, что он должен быть умным мальчиком, но Ваня не мог сидеть спокойно, и его уводили.
Лукерья с величайшим удовольствием приводила своего сына Васеньку, которого называли молочным братом Миши. Но Вася был еще мал и очень боялся Арсеньевой. Как только она входила в комнату, он взвизгивал и начинал плакать, и ничем нельзя было его успокоить, поэтому Васю приводили редко.
Приходили дворовые мальчики по вызову, но все они боялись барыни и все время оглядывались, не идет ли она, а успокоившись, мечтали, как они будут все вместе играть на воле.
Скучая, Миша часто обращался к Христине Осиповне с просьбой рассказать ему что-либо, но она не умела увлечь рассказом своего юного слушателя.
— Что ты хочешь знать, Михель? — напряженно спрашивала Христина Осиповна, опуская свое вязанье на колени и поднимая очки на лоб. — Я сегодня тебе читала вслух ровно полчаса, как разрешил доктор.
— Ну, расскажи, как ты была маленькая.
Немка задумывалась:
— Да… Когда я была маленькая, у меня были маленькие ручки и маленькие ножки, маленькие башмачки и перчатки, всегда заштопанное белье, платье с клетчатым бантом и детская соломенная шляпа фасона «кибитка». Я была очень счастливая. Папенька брал меня с собой на прогулку, а маменька учила вязать. Вот какая я была маленькая.
Веселее бывали приходы доктора Ансельма. Обычно доктор был приветлив, весел и, по-видимому, полон надежд на хорошее будущее для своего пациента.
— Как ты думаешь, друг мой, что я тебе сегодня принес? — спросил он однажды с таинственным видом.
Миша долго старался угадать, и доктор по этой заинтересованности понял, что мальчику стало лучше.
— Так вот, дорогой мой… Ты знаешь, что я люблю собирать разные коллекции. Сегодня с утра я стал перекладывать свою коллекцию птичьих яичек, и что же я заметил? Оказывается, некоторых яичек у меня по нескольку штук.
— Почему?
— Потому что я даю по одной копейке мальчикам за то, что они мне их приносят. Они мне принесли так много, что я подарю тебе часть моей коллекции. Смотри!
Доктор поднял с пола аптекарскую коробку, разделенную стоячими картонками на квадраты и устланную корпией.
— Смотри: вот яички голубя, ласточки, воробья, кукушки, жаворонка…
Миша с интересом рассматривал подарок, потом зашептал:
— Только вы бабушке не говорите про мальчиков, а то им достанется!
Доктор виновато улыбнулся и подивился своей неосмотрительности. Решили так: он скажет бабушке, что покупал эту коллекцию в Чембаре.
По счастью, Христина Осиповна не вслушивалась в беседу Миши с доктором. Обуреваемая воспоминаниями о своем счастливом детстве, она роняла крупные слезы на свое вязанье, тщетно пытаясь накинуть спущенные петли на спицы, и не могла успокоиться весь день.
Наговорившись, доктор выслушал своего маленького пациента, отменил какую-то сильнодействующую микстуру и хотел уходить, но Миша его неожиданно спросил:
— Скажите, пожалуйста, мосье Ансельм, вы раньше жили во Франции?
— Да, мой друг.
— А вы не замечали, там тоже крепостные крестьяне, ну, такие, как у нас?
— Нет-нет, мой друг, во Франции их нет. Там есть крестьяне и есть помещики, которые для разных работ нанимают крестьян за деньги. Скажем, они уславливаются так. Помещик говорит крестьянину: «Ты сделай мне такую-то работу, а я тебе заплачу столько-то. Хочешь — исполняй эту работу, а не хочешь — не берись»… — Доктор вздохнул. — Вот и приходится крестьянину соглашаться, потому что работу он может получить только у помещика. Ведь у помещика есть деньги, чтобы платить, а у крестьянина денег нет. Вот крестьянин и должен ему покоряться.
— А помещики бьют своих крестьян, как у нас?
— О нет!
— А вы, мосье Ансельм, какой француз: помещик или крестьянин?
Доктор опять вздохнул и задумался.
— Как тебе сказать?.. Я не помещик и не крестьянин, даже не настоящий француз, а французский еврей… О Мишель, зачем это все тебе знать?
Но от Миши не так-то легко было отделаться. Он потребовал от доктора объяснений, кто такие евреи, почему они живут в разных странах, почему они не могут быть помещиками и не имеют усадеб, а занимаются свободными профессиями.
Увлекшись, доктор стал рассказывать о талантливости своих соплеменников, о красоте их девушек, но Миша вовремя подал знак о том, что бабушка на пороге, и тот умолк.
— Что же ты плачешь, Христина? — с недоумением спросила Арсеньева. — Мишенька тебя обидел, что ли?
Но бонна с запинкой объяснила, что, пока Мишенька был занят разговором с доктором и ее услуги не требовались, она стала вспоминать свое детство и так погрузилась в воспоминания, что немножко поплакала.
— Все мы были маленькие! — сурово обрезала ее Арсеньева. — Поди-ка лучше умойся и попей гофманских капель, а то раскисла совсем. Видно, бессонные ночи сказываются.
Христина покорно вышла, Арсеньева же начала расспрашивать доктора, как здоровье Мишеньки, одобрила подаренную коллекцию, спросила, откуда она, сколько заплатил за нее доктор, и попросила его не уходить из комнаты, пока она не вернется. Миша и доктор молча ожидали возвращения бабушки, и та в самом деле вскоре вернулась с куском холста. Передав его доктору, она велела снести его в ткацкую, чтобы там сшили ему белье.
Доктор очень долго кланялся, благодарил, а бабушка, в свою очередь, очень одобрительно отозвалась о его лечении.
Довольно часто приезжал навещать Мишу Афанасий Алексеевич, рослый, плечистый, в сборчатом удобном казакине, с корзиной земляники из своих парников или с другими гостинцами для болящего. Он всегда был мил и любезен с Мишей, но мальчик упорно не хотел налаживать с ним добрые отношения, хотя знал, что его очень любили и бабушка и Мария Михайловна, да и он сам никогда ничего дурного от Афанасия Алексеевича не видел. Но Миша чувствовал, что бабушка хочет, чтобы он считал своим истинным отцом именно его, а не Юрия Петровича, знал, что бабушка в случае своей смерти желает назначить опекуном не настоящего отца, а своего обожаемого Фанюшку. Об этом как-то крикнул Юрий Петрович Арсеньевой, и мальчик запомнил его слова, хотя разобрался в них не сразу.
Как-то Миша услышал от Афанасия Алексеевича, что в версте от его саратовского имения Нееловка в лесу находятся так называемые «печерные норы». Рассказывали, что в норах этих во время пугачевщины спасался местный помещик.
Миша заинтересовался, и бабушка подтвердила, что возле Пачелмы есть тоже пещеры, где помещики спасались от Пугачева. Что и мудреного, раз он был в Пензенской губернии!
Рассказ о печерных норах и о восстании Пугачева произвел сильное впечатление на мальчика. Теперь Арсеньева должна была рассказать все, что она знала о Пугачеве.
— Бог помиловал, наша семья спаслась, но близкие родные пострадали. В Краснослободске был убит родственник отца моего, капитан Данила Столыпин, а также родственники матери моей — Мещериновы, Мосоловы, Мансыревы. Кроме того, были убиты многие наши родные и знакомые. Судьба «упрямых господ», как их называли, была кровавой и страшной — по большей части их вешали. С пугачевцами долго не могли сладить царские войска.
Большой Мокшанский лес обратился в место кочевья помещичьих таборов. В телегах, в каретах, в кибитках странствовали целые семьи беглецов с немногими верными им слугами. Отец мой, Алексей Емельянович, с семьей часто жил в своем имении, которое находилось в восьми верстах от села Красного. Пугачевцы взяли Красное и стали там наводить свои порядки. Родители мои спаслись случайно — незадолго до прихода Пугачева они уехали в Питер. Почему туда выехал отец, я не знаю — случайно или же он имел сведения о неизбежных грядущих событиях, — но он знал, что пугачевцами помилован не будет, и уехал сам, взяв с собой жену и меня.
— Сколько же лет вам было в то время, бабушка?
Арсеньева задумалась. В то время ей было немногим более одного года, а надо было сказать двенадцать лет. Боясь, что внучек высчитает ее истинные годы, она перевела разговор:
— …Пенза была занята приверженцами Пугачева, и вся провинция верст на пятьсот в окружности была охвачена полымем. Отец мой возвратился, когда Пугачев был уже схвачен, и оплакал судьбу погибших родных и друзей с немногими, которые остались в живых. Любимый друг его Михайло Киреев был убит пугачевцами. Убили не только его, но и сына, и верного шута. От всей семьи осталась в живых лишь годовалая дочь. Нянька выдала Варюшу за своего ребенка и тем только спасла ее. Отец мой взял ее к себе в дом на воспитание, и Варюша росла со мной как сестра, она и сейчас жива, замужем за Раевским. Ты же знаешь ее сына Святослава.
— А в Тарханах Пугачев был?
— Тарханы в то время принадлежали не мне, а Нарышкиным. Управляющий их, Злынин, был прехитрый человек. Когда пугачевцы приблизились к Калдусам — это всего девять верст отсюда, — Злынин понял, что ему несдобровать, ведь он был всегда заодно со своими господами, поэтому он роздал барский хлеб и сумел ублаготворить всех недовольных. Вот почему он и сам остался жив и пугачевцы не заходили сюда…
Глава VI
Няня Лукерья. «Почему крестьяне топят по-черному? Почему они живут в старых избах?» Поездка к Афанасию Алексеевичу Столыпину
Рассказы о Пугачеве бабушка вела охотно, ей было приятно иметь такого внимательного слушателя, к тому же в беседах этих проходило много времени и они очень занимали маленького больного.
Сидя у постели внука, Арсеньева, однако, не оставляла своих хозяйственных дел. Любовь к стяжанию увеличивалась у нее год от года.
Кирпичный завод, или, как его называли, «кирпишна», давал доход, и полные телеги, нагруженные кирпичами, переваливаясь на выбоинах дороги, увозили груз не только в имения соседей, но и дальше — в Калдусы, в Чембар, в Кевду и даже на Каменку.
Миша равнодушно выслушивал оживленные распоряжения Арсеньевой. Он был еще очень слаб, однако жар перестал его донимать, и доктор велел выносить ребенка на воздух. Дядька Андрей пристроил для него сидейку, в которой Ефим Яковлев возил Арсеньеву, когда у нее болели ноги, выносил мальчика в сад и усаживал в этот своеобразный экипаж.
Начиналась весна, и с каждым днем на воле делалось все лучше и лучше. Сирень зацветала разными колерами: белая, сиреневая, лиловая. Нежнейший запах жасмина разливался по саду. Скатывали сидейку вниз, к пруду, по аллее, заросшей ароматной цветущей акацией, и мальчик возле скамейки, живописно заросшей зеленью, смотрел в тишине на гладь большого пруда. Миша глядел, как лучезарные блики весеннего солнца переливаются на глади воды. Потом поднимались в аллею — смотреть, как подрастает посаженный Мишей дубок, — и поворачивали направо. С холма виднелся дубовый лес — Долгая роща.
В Тарханах было три фруктовых сада.
Весной зацветал вишняк, ветви деревьев покрывались белой узорчатой вязью. Не хотелось весной отрывать взгляд от фруктовых садов. Яблони цвели розоватыми узорами; легкие лепестки держались недолго и слетали на землю от малейшего дуновения ветра.
Когда приближались к теплице, мальчик глядел на голубеющее небо над ближними холмами, на поля, уходившие вдаль. Они только что освободились от снега и слабо зеленели первыми ростками.
По течению ручья среди огородов, в разрыхленной весенней земле, стояли парники; в них выращивали ягоды и овощи.
Вблизи верхнего пруда стоял каменный амбар, приспособленный под мельницу и закрома. От хозяйственных строений сад отделялся забором.
Налюбовавшись небом и благодатной тарханской землей, медленно поворачивали к дому; тут Христина Осиповна объявляла, что время, назначенное для прогулки, истекло.
После того как мальчик стал бывать на воздухе, он окреп, хотя ходить все еще не мог, и Арсеньева брала его кататься в экипаже. Как-то они выехали в поле проверить всходы. Навстречу им шел пожилой крестьянин. Увидев Арсеньеву, он быстро сдернул шапку и поклонился ей в пояс.
— Ты чей? — спросила Арсеньева, кивая ему.
— К вашей милости, сударыня! — сказал крестьянин, продолжая кланяться. — Сысоевы мы, помещицы Савеловой.
— Что надо?
— Записочку вашей милости приказали отдать.
Арсеньева велела Никанору остановиться и быстро прочла записку.
— Ежели она доктора просит, что ж тебя пешком посылает?
— Перво-наперво недалеко тут, барыня-милостивица, а второе: ежели согласие будет, так она и лошадку пришлет.
— Ладно, ступай! Запрягай лошадку и скажи, что я позволила.
— Покорнейше благодарим, ваша милость!.. Дозвольте спросить: не к нам ли едете?
— Нет, всходы смотрю.
— Всходы хороши. Ох, хороши твои всходы! Часты да ровненьки, так и щетинятся, так и зеленеют…
— А я смотрю, не очень ровны. Кустятся они после дождей.
— И, барыня, не греши! Как пошли дожди, так и зазеленели поля. Теперь благодать: в рост пошли всходы, в рост. Вот, кабы бог своей милостью не оставил, урожай-то и собирать! Только бы вовремя убрать в нынешний год, то и горевать не станем!
Урожая ожидали хорошего, хлеб всем вышел: и колосом, и наливом, и соломой, но летом дожди не шли, молочко поприсохло у озимых, — и вдруг град побил зерно!
Крестьяне в селе печально вздыхали, считая: ежели в урожайные годы помещица по два пуда зерна в год на человека дает, то сколько же даст этой осенью? Теперь вся надежда осталась на яровые да на просо — выносливо оно в засуху…
…Уже довольно давно случилась беда у Лукерьи Шубениной: умерла свекровь, и семье стало худо без хозяйки. С той поры Лукерья стала лукавить: когда Мишеньку вывозили на прогулку, она просила дядьку Андрея везти мальчика в деревню, желая поглядеть на своих. Уж как ни робка была Лукерьюшка, а тут пошла напролом. Хозяйничала теперь старшая дочка Параскева, но она была еще подростком и не справлялась. Миша любил поездки в деревню: там он встречался с ребятами, разговаривал с крестьянами.
Христина Осиповна занемогла и лежала, и они только втроем — Миша, Андрей Соколов и Лукерья — добрались до избы Шубениных. Андрей вкатил сидейку на пригорок возле пруда. В коровнике лежал муж Лукерьи, Иван Васильевич, вдрызг пьяный, а старик отец пинал его в спину ногой, обутой в лапоть, и уговаривал сына:
— Валяется человек весь в навозе! Нашел место, где лежать! Срам! Детей бы постыдился и меня, старика!
Лукерья побледнела и побежала в сарай, а оттуда вышел дед Шубенин и с поклонами обратился к гостю:
— Прощенья просим, Михаил Юрьевич! Запил мужик, едва его из кабака привели.
— А где Степа и Вася? — спросил Миша.
— Ребята на пруд пошли купаться.
— Ну, я с тобой посижу, дед. Ты мне про Пугачева опять расскажи.
Андрей вкатил сидейку на низкие ступеньки крылечка, и лицо деда стало сосредоточенным и суровым. Он помолчал, вспоминая, и стал рассказывать:
— В нашей губернии, откуда я куплен, побывал Пугач и с помещиками обращался круто: кого повесит, которого забором придавит — приподымет забор, голову помещичью сунет под него, да и опустит колья на шею. Была помещица Петрова, до крестьян добрая, весь доход с имения с ними делила, — так когда Пугач появился, крестьяне пожалели ее, одели барыню в крестьянское платье и таскали с собой на работы, чтобы загорела и узнать ее нельзя было. А то бы ей казни не миновать от Пугача…
Очень интересовался Миша: каков же был собою Пугачев?
Рассказывал старик, что слышал от людей, которые его видели: борода у него богатая, кафтан парчовый, сапожки серебряные…
Миша терпеливо сидел с дедом, но ему захотелось пить, и он попросил воды.
— Кваску лучше, кваску! Сейчас, голубчик мой, с погреба принесу… Пойдем, Андрей, помоги!
Дед ушел вместе с Андреем Соколовым, а Миша в тишине деревенского зноя услыхал разговор, который его взволновал.
Надрывно и жалобно звучал со двора пьяный голос мужа Лукерьи, Ивана Васильевича, старавшегося почетче выговаривать слова:
— И где ж ты его оставила?
— А с дедом. Он ему про Пугачева сказывает. Ох, померла наша мамка не вовремя! Хозяйки-то дома нет, поди, уже восемь годов. — Дрожащий голос Лукерьи зазвучал заботливо и успокоительно. — Может, нанять кого?
Но муж заявил, что не желает чужой женщины в доме, раз есть своя жена.
— Ох, доколь же тебе цуцкать чужого, когда своих четверо?
Лукерья жалобно оправдывалась:
— Да я ж не своей волей ушла!.. А теперя он мне вроде своего стал. Очень ласковый, да вот беда — жидкий здоровьем, золотушный, горячки его одолели…
Подвыпивший Иван Васильевич разошелся:
— Ох, и тошно мне! Одно остается в жизни: нового Пугача ожидать, чтоб стать в ряды его войска!
Тем временем вернулся дед с кружкой кваса. Миша рассеянно выпил и велел позвать Андрея Соколова. Андрей тотчас же явился, а за ним и Лукерья с мужем, который с трудом стоял на ногах. Поглядев на мальчика, Иван Васильевич язвительно спросил:
— Здоров, Михаил Юрьич! По-прежнему с бабушкой воюешь?
— А ты, — хладнокровно сказал мальчик, — тоже воевать задумал? В ряды пугачевских войск стать желаешь? А почему не мечтаешь стать Пугачевым?
Хмель соскочил с могучего крестьянина, и он ответил быстро:
— Не всякому, ваша милость, положено быть Пугачевым. Талан определен от бога на то, ваша милость…
Разговаривая с мальчиком, муж Лукерьи спохватился, что отвечает ему не как мальчику, а как взрослому.
— А я бы мог стать Пугачевым, если бы захотел, — сурово обрезал его Миша и приказал: — Андрей, вези меня домой!
Повернувшись к Ивану, мальчик сказал четко и убедительно:
— Трех дней не пройдет, как Лукерьюшка вернется в твою избу и с семьей доживать свой век будет. Жаль мне ее тебе отдавать, но отдам, потому что дети твои растут как сироты. Прощай!
Андрей с помощью побледневшей Лукерьи осторожно скатил с крыльца сидейку, застегнул дорожный фартук от пыли. Лукерья засеменила рядом с катящимися колесами, а Иван, перебирая шапку в руках, долго смотрел им вслед и смущенно бормотал:
— Прощенья просим, ваша милость…
Когда Миша вернулся домой, бабушка забеспокоилась, почему он озабочен. Он ответил, что ему надоела женская прислуга, что он уже достаточно вырос и не хочет иметь нянь. Пусть останется по-прежнему Христина, а всех нянек — вон! Есть у него дядька Андрей — и хватит, а то четыре няни за ним одним ухаживают!
Арсеньева перекрестилась:
— Что ж, Мишенька, ты ополчился? Кто тебя прогневил? Лукерья?
— Нет.
— По-моему, тоже не она. Лукерья женщина хорошая. Если не хочешь ее в нянях оставить, я ее горничной определю или поварихой.
Но Миша сердился и волновался. Он не хочет больше видеть Лукерью, пусть ее отпустят домой! Няни его стесняют. Миша сдвинул брови и бросал грозные взгляды на бабушку; Арсеньева забеспокоилась: Мишенька разошелся и может опять заболеть!
В долгих спорах прошел вечер, а Лукерья, с трепетом слушавшая разговор бабушки с внуком, потихоньку молила бога, чтобы ей разрешили вернуться к семье.
Наутро Миша пришел к бабушке, приласкался и спросил, можно ли отпустить няню Лукерью домой. Арсеньева нахмурилась, и Миша почувствовал, что она откажет. Тогда он попросил бабушку выслать всех девушек из комнаты, потому что хочет ей открыть секрет. Арсеньева, испуганная настойчивостью мальчика, исполнила его желание, а он зашептал таинственно и горячо, что надо отправить Лукерью в деревню, а то будет плохо. Испуганным голосом, начиная верить в то, что говорит, мальчик рассказал, что вчера видел во сне старую и злую цыганку. Цыганка сказала, что если при Мише будет находиться Лукерья, то он будет болеть и скоро умрет, а как только она уйдет к мужу и начнет жить в своей избе, он поправится и останется жив.
Арсеньева побледнела, позвала Дарью и велела ей подать капли. Посмотрев на бабушку, Миша понял, что его дело выиграно. Перекрестившись, суеверная Арсеньева вызвала Лукерью. Та в смятении повалилась на колени, боясь взглянуть в лицо помещицы, от которой зависела ее судьба. Но Арсеньева сухо сказала, что благодарит Лукерьюшку за верную службу, отпускает домой, и сейчас же велела ей собирать свои вещи.
Послали за мужем Лукерьи, чтобы он помог жене снести узел на деревню. Миша просил разрешения у бабушки подарить Лукерье кое-что для детей. Арсеньева машинально согласилась и беспокойно поглядывала: не пришел ли Иван?
Наконец тот появился, совершенно растерянный, долго кланялся Арсеньевой и искоса поглядывал на Мишу, который вызывающе смотрел на него.
Иван взвалил себе на плечо большой узел Лукерьи с разными подарками и ее вещами, и они удалились, веселые и счастливые. Бабушка долго жалела, что лишилась такой хорошей няни, но Миша сказал, что ради спокойствия бабушки он готов теперь выносить всех остальных нянюшек, потому что цыганка про них ничего не говорила.
Миша принес листок бумаги и нарисовал, какая цыганка ему приснилась. Бабушка забеспокоилась — а вдруг он видел ее не во сне, а наяву? — и велела ночному сторожу следить, не появляются ли цыгане возле барского дома. Услыхав этот приказ, Миша закусил губу. Хотелось рассмеяться, но нельзя было. Он лег спать, возбужденный и утомленный переживаниями сегодняшнего дня. Ему так не хотелось расставаться с Лукерьей…
Спать Миша ложился неохотно и перед сном любил смотреть в окно на небо, ища луну и облака. Лежа в постели, он думал о многом и не мог сразу успокоиться и погрузиться в дремоту. Сны его бывали тревожны; он вздрагивал и стонал.
Просыпаясь поутру с напухшими, красноватыми веками, он жаловался, что не спал всю ночь, что у него болит голова. Вялый и раздраженный, он с трудом поднимался.
Привезли ему для игр Мишу Пожогина, но он не очень обрадовался.
К осени мальчик начал вставать, но ходил очень плохо, с палкой. Сначала он выходил на небольшие прогулки по саду, но постепенно делался все более и более подвижным. Доктор разрешил ему собирать потешное войско, и Миша объявил, что он, как раненный в сражении, сам бегать не станет, а будет только командовать.
Пошли в сад, на холм. Траншеи оказались в полном порядке. Военные игры возобновились. Миша оживился; он неизменно объявлял себя атаманом и руководил играми. Необыкновенные приключения возникали на каждом шагу. Миша делился выдумками со своими сверстниками и увлекал их за собой. Мальчикам нравились его затеи, и они ему верили и охотно подчинялись.
После военных игр Миша возвращался домой с проясненным взглядом, с улыбкой на нежных губах, которая открывала недавно выросшие крупные зубы с мелкими, еще не стершимися зубчиками на концах. Он только что сменил молочные зубы на постоянные.
Однажды в игре ребята нечаянно поранили ногу Ване Вертюкову; пришлось сделать носилки и нести его домой, в деревню. Миша пошел провожать больного товарища. Когда подошли к избе, он испугался: из хаты валил черный дым клубами. От едкого дыма глаза слезились, в горле делалось горько, невозможно стало дышать. Ребята доложили атаману, что Ванина мать топит печку.
Хорошо, если дрова сухие, а сырые горят еще хуже. Поэтому у всех крестьян избы внутри закопченные, а вся утварь и одежда пропитаны дымом и сажей. Не мудрено, что и в избе грязно, тем более что все избы старые.
Миша стал допытываться, почему же крестьянам никто не ставит новых изб. Дядька Андрей объяснил, что в Пензенской губернии очень мало леса и он дорог, так из чего же строить?
Вот был бы лес, так и построили бы новые избы, а ежели были бы кирпичи, то в избах поставили бы печки с трубой, как в барском доме, и не было бы дыма.
Миша не мог забыть, как он вошел в сени и наглотался дыма, а глаза стали слезиться; он, как в тумане, видел в сенях развешанные на гвоздях хомуты, прислоненные к черным бревенчатым стенам лопаты, грабли, мотыги и вилы; тут же стояли бочонки с кислой капустой и огурцами.
Потом ему довелось быть в гостях у Вертюковых, когда дыма не было, и Миша удивлялся, как это Ваня живет в такой голой избе. Там стоял в углу стол, а у стен — деревянные лавки; на них сидели, когда трапезовали, ночью на них спали, покрываясь летом белой холстиной, а зимой — зипунами или тулупами, потому что одеяла были не у всех. Спали не раздеваясь, и потому в избе стоял крепкий запах овчины и пота от долго не мытого тела. Зимой под спальные лавки хозяйка ставила клетки с курами, а в отгороженном углу стояла корова, чтобы ее не держать на морозе.
Возле русской печи — полка с посудой: глиняное блюдо, а на нем несколько ложек, вырезанных из дерева. Подавали на стол горячие щи, налитые из чугунка, и все хлебали вместе, из одной миски. Тут же ухват, ведро и корыто. Прялка в углу, а у кого кросна — и больше ничего.
Одежду крестьяне держали в небольших самодельных корзинах, которые стояли под лавками. Возле печи к потолку почти везде прикреплена была соломенная зыбка, и в ней пищал младенец; мать оставляла его одного на долгие часы, когда уходила на работу.
Отец Вани, крестьянин небольшого роста, с окладистой бородой, одетый в заношенную рубаху и заплатанные порты, в лаптях, охотно вступил в беседу с барчонком:
— Что смотришь, милок? Не видал еще нашей бедности? — Он вздохнул и продолжал говорить, обращаясь не то к самому себе, не то к мальчику: — Смотреть-то у нас нечего! Как деды живали, так и мы живем. Спокон века изба наша стоит. Еще при Пугачеве стояла, а теперь вовсе разваливаться стала. А новую из чего строить? Леса-то нет! Как старый барский дом ломали, сколько бревен ослобонилось, уж как мы надеялись, думали, что крестьянам хоть пяток новых изб возведут. Ан нет! Все увезли к чужим людям, нам ничего не осталось… А какие бревна были огромадные, крепкие, дубовые — еще простояли бы лет сто!
Миша расстроился. Он чувствовал себя так, будто попал в дремучий лес и не может найти оттуда не только дороги, но и тропинки. Что делать?
Тем временем Вертюков высказывал свои заветные мечты:
— Конечно, ежели бы Дубовую рощу порубить, так можно было бы всем на деревне новые дома сделать…
Мальчик спросил с интересом:
— А всем бы хватило?
— Еще бы не хватило!
— Так почему же крестьяне не ходят в рощу и не берут себе на постройку, сколько им надо?
— Да кто же, милок, им разрешит? Ежели без документа кто пойдет, тому взыскание будет. Сначала должен быть документ, а потом лес!
— Какой документ?
— От помещицы должен быть документ, что, дескать, дарю своим крестьянам Долгую рощу.[16]Дубовую рощу называли еще Долгой. (Примеч. автора.)
Но тут раздался встревоженный голос Христины Осиповны, которая разыскивала своего питомца, чтобы увезти его домой.
Дома начались расспросы:
— Бабушка, почему крестьяне так плохо живут? У них душно в избе, как в хлеву, и ничего нет — ни одежды, ни посуды, ни мебели. Кроватей даже нет! Они спят на досках, только с подушками.
Арсеньева досадливо отговаривалась:
— Мишенька, да ведь это же крепостные! Им от века так положено жить, понимаешь? Это рабы помещика.
— А эти крепостные — твои?
— Мои. А когда я умру, то все твои будут.
— Твои? Почему же ты не ходишь смотреть, как они живут, если они твои? Почему ты им не помогаешь? Мне небось сколько даришь лишнего, хоть и говоришь, что у тебя дом маленький и бедный. А ведь он хороший, чистый, и всего у нас много, а у крестьян ничего нет. Как же это так, бабушка?
— О господи! Ты подумай, Мишенька, если я каждому крепостному построю хороший дом, сколько на это денег уйдет? Весь свой капитал я им отдам, а сама должна буду жить в такой же избе, как они.
Но Миша утверждал, что надо построить крестьянам хорошие дома. Бабушка рассердилась, даже топнула ногой и приказала прекратить такие разговоры, а потом стала сурово отчитывать Христину Осиповну, что та плохо воспитывает ребенка.
Но вот приехал дядя Афанасий Алексеевич, и Миша высказал ему свои недоумения по поводу плохого житья крестьян.
За обедом, в присутствии бабушки, Афанасий Алексеевич начал свои разъяснения:
— Миша прав. Если крестьяне станут жить в хороших домах, они станут здоровее и крепче, значит, они будут дольше жить и лучше работать. А теперь, несмотря на то что в крестьянских семьях по шесть-семь детей, выживают очень немногие: двое, трое. Умирают в деревне больше, чем родятся. Вот, к примеру, в Тарханах… Когда ты, Лизонька, покупала имение, сколько душ у тебя было?
— Пятьсот.
— А теперь?
— По последней ревизской сказке — четыреста семьдесят восемь.
— Ну вот видишь! Крепостное население вымирает!
— Да что такое ты говоришь, Фанюшка! Пензенский мужичок, что пензенская скотинка, вынослив на диво. Не от плохих изб вымирает народ, а от войн. Сколько народу проклятый Бонапарт загубил, сколько крестьян пришлось отдать в рекруты, сколько солдаток плакало на селе, проводив мужей. Они ведь не родили, пока их мужей не было, а теперь сто младенцев в год родится, поп говорит, а ты доказываешь, что дело в жилище! Нет, в плохих избах мужики по сто лет живут, а на войне за один час жизнь теряют…
Афанасий Алексеевич настаивал:
— Хороший хозяин любит хороших работников. Ежели очень злоупотреблять своей властью и держать крестьян в черном теле, это невыгодно. Настоящий работник любит и чистоту, и веселье, и умную хозяйку в доме…
Миша перебил его:
— А сколько бы лесу надо было, чтобы построить тарханским крестьянам избы? Если срубить Долгую рощу, хватит?
Афанасий Алексеевич ответил, что, пожалуй, хватит, бабушка же рассердилась, что Миша слишком рано начал думать о делах взрослых. Совсем ему не следует мешаться в эти дела, а надо хорошенько учиться писать, считать и рисовать.
Миша и без напоминаний бабушки рисовал много и к ее именинам сделал большой рисунок карандашом, изображающий святую Елизавету.
Для дяди Афанасия Алексеевича Миша нарисовал на большом листе бумаги «Усекновение главы Иоанна Крестителя». Он выбрал эту картину в домовой церкви, заметив икону, где была изображена отрубленная голова, лежавшая на блюде. Мальчик заинтересовался сюжетом, и бабушка рассказала ему историю Иоанна Крестителя и полюбившей его царевны, которая, когда убедилась в том, что Иоанн ее не любит, велела отрубить ему голову. Елизавета Алексеевна вспомнила, что в имении у Афанасия Алексеевича есть высокая церковь в память Иоанна Крестителя, — Миша и сделал для дяди этот рисунок.
К брату Афанасию Алексеевичу бабушка с внуком постоянно ездили в дни семейных праздников. Из всех своих сестер и братьев Арсеньева больше всего любила брата Афанасия.
Миша любил гулять по усадьбе дяди. Дом Афанасия Алексеевича, расположенный на горе, над озером, окружен был с трех сторон густым сосновым лесом. Запах хвои смешивался с ароматом цветов, искусно и обильно рассаженных на клумбах, и в парке было так хорошо, что никуда оттуда не хотелось уходить, разве что из одной аллеи в другую!
Огромные сосны роняли благовонные длинные иглы на корни свои, похожие на ползущих змей, коричневые шишки сочились прозрачной, липучей, душистой смолой, и ходить в лесу было скользко, как по паркету.
За парком на несколько верст тянулись фруктовые сады. В доме Афанасия Алексеевича яблоки потреблялись в неимоверном количестве, но всех их съесть не могли и много еще продавали. От продажи яблок хозяин имел немалый доход. Он умел выращивать самые редкие сорта, скрещивал разные породы деревьев и добился того, что таких крупных плодов не было ни у кого в округе. «Фигурные» яблоки Афанасия Алексеевича известны были в столице, и их подавали на придворных балах. На некоторые особо ценные сорта яблок Афанасий Алексеевич надевал специальные сетки с рисунками; под жарким летним солнцем румяные яблоки вызревали с отпечатанными на кожице разными контурами, фигурами зверей, птиц, сердцами, пронзенными стрелой, разными буквами и вензелями. Эти яблоки, как искусный фокус, продавали за хорошую цену.
За помещичьими угодьями виднелось село, где было домов полтораста. Семьсот крестьян работали на одного помещика.
За версту от дома, в лесу, в нескольких потаенных местах, вырыты были теперь заросшие травой и кустарником большие ямы. На дне одной ямы был вырыт подземный ход, по которому можно было ползком добраться до пещеры, незаметной на лесных поворотах. Об этих норах говорили, что, судя по местности, там в старину обитали и таились разбойники, а потом, во время пугачевщины, спасался помещик с семьей.
Афанасий Алексеевич родился позднее и не знал наверное, кто из помещиков спасался в этих норах, но на всякий случай не велел эти норы засыпать, дипломатично говоря, что со временем они и сами осыплются. Таинственные подземелья волновали воображение Миши; он представлял себе разные сцены, дополняя их рассказами, слышанными в усадьбе.
Глава VII
Миша дарит Долгую рощу крестьянам
Когда возвратились в Тарханы, бабушка напомнила, что приближается Мишенькин день рождения, и спросила его:
— Чего тебе хочется, драгоценный мой? Что тебе подарить?
Миша задумался и наконец ответил:
— Ты, может быть, не захочешь мне сделать такой подарок… Бабушка, разреши мне один день поуправлять имением!
Бабушка рассмеялась и разрешила. Ей даже понравилось, что Мишенька захотел похозяйничать. Он настойчиво спросил:
— Мне можно будет сделать так, как я хочу?
— Ну разумеется! — согласилась бабушка.
Миша заволновался и сел писать; сосредоточенно и долго писал он что-то и прятал свои записи, а некоторые даже сжег на свечке.
На этот раз день рождения, восьмой год рождения Миши, праздновали не так торжественно, как в прошлом году, но опять так же съехались гости — родственники и соседи, — и весь тарханский дом был наполнен веселыми голосами приезжих.
Утро торжественного дня началось выходом в домовую церковь, куда собрались не только гости, но и крестьяне, в этот день освобожденные от работы.
Когда служба кончилась и бабушка занялась разговорами с поздравителями и со священником, мальчик быстро вышел на паперть, вынул из кармана большой сложенный лист бумаги, развернул его и громко воскликнул:
— Дорогие крестьяне!
Вокруг мальчика тотчас же образовалась толпа, и все притихли, желая услышать, что им хочет сообщить Михаил Юрьевич. А он, волнуясь, твердо объявил:
— Сегодня день моего рождения. Бабушка разрешила мне один день управлять имением, как я хочу. Поэтому объявляю свою волю…
И он сказал, что намерен подарить крестьянам Долгую рощу, для того чтобы они ее срубили и выстроили себе новые дома.
Выслушав речь Михаила Юрьевича, крестьяне удивились и замерли. Переглядываясь между собой, они стояли молча и переминались с ноги на ногу. Дядька Андрей Соколов и Христина Осиповна, ошеломленные неожиданной речью Мишеньки, тоже молча стояли за ним, не зная, как им поступить: ведь Христина Осиповна знала, что Арсеньева действительно дала внуку такое разрешение.
Но вот Миша передал крестьянам развернутый лист, на котором было написано детской рукой: «Дарю рощу Долгую тарханским крестьянам, чтобы они построили новые дома. Михаил Лермантов». Миша достал карандаш и предложил крестьянам расписаться. В полном недоумении и в тишине крестьяне нерешительно подходили к листу бумаги, положенному на ступень лестницы, и ставили на ней кресты. Увидев множество поставленных крестов, Миша очень удивился и спросил, почему они не пишут буквами, а ставят кресты. Но его успокоили, что каждый свой крест знает, а грамоте никто в деревне не обучен.
Тем временем вышел старик с длинной седой бородой, поклонился мальчику в пояс и сказал:
— Который год я на свету живу — скоро сто лет мне стукнет, ежели не помру, — а такой речи от бар еще не слыхивал. Вот тебе мое стариковское слово: не знаю, кто тебя надоумил и выполнит ли бабушка твою волю, а за то, что ты о своих мужичках подумал, большое тебе спасибо, низкий поклон!
Миша радостно и сердечно расцеловался с дедом. Но тут Христина Осиповна спохватилась, взяла его за руку и стала тащить домой.
— Я не хочу! — сурово ответил Миша и старался высвободить руку, но она сердилась и настаивала.
Мише стало неудобно, что Христина Осиповна кричит на него, как на маленького. Ведь крестьяне потеряют к нему уважение, ежели увидят, что гувернантка с ним так обращается! Он хотел уйти без скандала, но Христина Осиповна разошлась и стала кричать по-немецки, что Елизавета Алексеевна ничего не говорила насчет того, чтобы дарить Долгую рощу крестьянам.
Все молчали, прислушиваясь, с надеждой и лаской поглядывая на Мишу и переводя глаза на раскричавшуюся Христину Осиповну. На паперть вышла сама Арсеньева. Миша поднял лист, бросился к бабушке и с торжеством показал ей «документ». Бабушка с недоумением прочитала написанную крупными буквами дарственную и от возбуждения побагровела.
Не сказав ни слова, она раскланялась направо и налево и, сопровождаемая гостями, поспешила домой. Усадив Мишу играть в домино с Марусей Макарьевой, она стала подробно расспрашивать Христину Осиповну и Андрея Соколова о том, что произошло.
Выслушав их, Арсеньева ужаснулась, тотчас же призвала к себе брата Афанасия Алексеевича и заперлась с ним у себя в спальной, а внука к себе не велела допускать.
Миша, смущенный гневом бабушки, убежал от гостей, которые ему задавали разные вопросы, и в слезах пожаловался Юрию Петровичу, приехавшему на день рождения сына, что бабушка своего слова не держит. Отец, сочувствуя Мише, со вздохом поцеловал его.
К торжественной трапезе вышла наконец заплаканная бабушка под руку с Афанасием Алексеевичем. Когда обед был окончен и гости встали из-за стола, все пошли на верхний балкон смотреть, как гуляют дворовые, а бабушка опять вместе с братом удалилась в спальную и велела Христине Осиповне привести Мишу, который и предстал перед ней, суровый и хмурый.
Афанасий Алексеевич строго, как никогда, сказал, что Михаил, очевидно, своим поведением хочет сократить дни своей бабушки, начав бунтовать крестьян. Арсеньева тут же залилась слезами.
Миша возразил, что бабушка дала ему разрешение управлять имением один день так, как он захочет, но Афанасий Алексеевич перебил мальчика, сказав, что он не имел никакого права так действовать, не предупредив бабушку о своем намерении. Ведь бабушка не раз говорила, что после ее смерти он может распоряжаться ее имением как хочет, но ведь к тому времени Миша станет взрослым и поймет, что надо и чего не надо делать. А теперь какое безумство он затеял: вырубить всю Долгую рощу, которая стоит несколько тысяч, и для чего? Чтобы поставить крестьянам новые избы!
Арсеньева неумолчно рыдала. Афанасий Алексеевич просил ее успокоиться и сказал, что бабушка должна теперь расплачиваться за ошибку внука и что теперь ему самому придется выступить с речью перед крестьянами, а Миша должен при этом присутствовать, слушать, что будет сказано, и молчать.
— Иначе я выпорю тебя при всех, ежели ты скажешь хоть слово! — добавил Афанасий Алексеевич таким зловещим голосом, что мальчик побледнел и осекся, только недобрый огонь сверкнул в его глазах.
Втроем они вышли на балкон, за ними побледневшая Христина Осиповна и Андрей Соколов, который нежно и сочувственно держал в своей руке маленькую ручку мальчика.
Крестьяне же с утра волновались и ни о чем другом не говорили, как только о подарке Михаила Юрьевича. Они толпились во дворе невесело, и песни и пляски сегодня не клеились.
Афанасий Алексеевич подошел к перилам балкона и поднял руку. Это было знаком того, что он намеревается говорить, и все крестьяне тотчас же затихли и подошли к дому поближе.
Афанасий Алексеевич громко и четко сказал, что сегодня, в день своего рождения, Михаил Юрьевич пожелал позаботиться о своих крестьянах, но по малолетству своему, не зная законов, не зная, что он является не владельцем, а только наследником имения, распорядился самовластно. Владелец же и хозяин Тархан не он, а помещица Арсеньева Елизавета Алексеевна, которая любит своих крестьян, как мать родная, и имеет о них материнскую заботу и попечение.
Крестьяне, выслушав это сообщение, стали переглядываться и переговариваться. Афанасий Алексеевич, заметив это, повысил голос и продолжал:
— Внук госпожи Арсеньевой говорил о постройке крестьянам новых домов. Действительно, новые избы будут выстроены крестьянам, которые принадлежали сначала мужу помещицы Михаилу Васильевичу Арсеньеву, затем перешли по наследству к его дочери, Марии Михайловне, а ныне принадлежат самому Михаилу Юрьевичу.
Услыхав такие слова, переведенные из имения Арсеньевых крестьяне, которые жили по чужим углам и сараям, пришли в восторг и начали радостными криками выражать свое удовольствие.
— Крестьянам этим будет отведено место и выстроены новые избы, — продолжал Афанасий Алексеевич. — Это будет новый поселок. Тарханские же крестьяне… — тут насторожились все тарханцы и стали шикать на крестьян, принадлежащих Михаилу Васильевичу, чтобы те утихли, — тарханские же крестьяне, о нуждах которых болеет помещица Арсеньева, получат из кирпишной несколько тысяч кирпичей, чтобы сложить у себя в домах печи. Госпожа жалеет бедный люд и желает, чтобы они не топили по-черному и не страдали от дыма.
Тарханские крестьяне тоже очень обрадовались, хотя тотчас же начали между собой перешептываться, что в «кирпишной» кирпичей-то немного и на всех не хватит, что придется собраться миром и как следует поработать, чтобы изготовить нужное количество кирпичей, но управитель Абрам Филиппович прекратил эти разговоры, крикнув громко:
— Помещице нашей, матушке-барыне Елизавете Алексеевне, многая лета! Ура!
— Ура! — жиденьким хором отозвались крестьяне.
Абрам Филиппович помедлил, ожидая, чтобы стали кричать громче, а когда этого не последовало и голоса стали затихать, крикнул:
— А также наследнику имения Тарханы, малолетнему Михаилу Юрьевичу, многая лета! Ура!
Тут раздался такой неистовый взрыв восторженных криков, что в чайной комнате задрожали стекла. Приветственные возгласы не умолкали долго, и Абрам Филиппович, желая разрядить общее волнение, пошел плясать трепака, а за ним и другие.
Мальчик же стоял молча, крупные слезы помимо его воли катились из его темных глаз, но он старался сделать спокойное лицо. Бабушка притянула его к себе, поцеловала и подняла руку, шевеля пальцами, как знак приветствия крестьянам.
Глава VIII
Учение. Уроки музыки
После того как гости разъехались, Арсеньева попросила на семейный совет своего брата Афанасия Алексеевича и Юрия Петровича и заявила им, что Миша еще мал, чтобы вмешиваться в дела управления имением, а ей уже шестьдесят три года, здоровье такое слабое. Арсеньева, заливаясь слезами, сказала, что она, очевидно, скоро умрет. Но ее желание, чтобы Миша, еще несовершеннолетний, не занимался крестьянским вопросом. Пусть он лучше займется изучением наук, к чему, по всему видно, имеет способности, потому что целый день задает вопросы, на которые иногда довольно трудно бывает отвечать.
Бабушка вздохнула.
Это первое. Во-вторых, желательно было бы, чтобы он рос в обществе детей дворянского происхождения, а не среди крестьянских детей, как это было до сих пор.
Арсеньева просила посоветовать, как и чему обучать Мишеньку, и составить план, какие науки он должен изучать; а на расходы, сопряженные с приглашением учителей, она не пожалеет никаких средств и готова тратить до десяти тысяч рублей в год.
Юрий Петрович вспомнил, как он некогда требовал, чтобы ему давали возможность следить за воспитанием сына, и настаивал, чтобы по всем вопросам воспитания обращались к нему, поэтому приосанился и стал вспоминать, каким наукам обучали кадет. Ведь он был сначала кадетом, а потом воспитателем в кадетском корпусе, где его оставили как одного из лучших учеников.
Начался оживленный разговор, и в конце концов сошлись на следующем. Письмо, чтение и арифметику Миша сможет изучать по-прежнему у священника. Читает он превосходно и постоянно занимается чтением — правда, лежа, чем портит себе глаза. Ввиду слабости здоровья пусть он не занимается в этом году ничем, кроме рисования, к которому имеет большую склонность, музыки и французского языка.
Арсеньева стала жаловаться на Христину Осиповну, что та плохо справляется с Мишенькой, хотя часами читает ему правила морали и поведения на немецком языке, а он топает ногами от нетерпения и досады.
«Ich will nicht!» — «Я не хочу!» — кричит Миша и старается от нее убежать. Стоит мальчику вырваться от немки, как он уже бегает по саду или затевает новую игру с дворовыми детьми.
Арсеньева продолжала: бонна уже сыграла свою роль, она не может оставаться единственной воспитательницей такого своевольного и развитого мальчика, но она сделала все, что могла, обучила Мишу всему, что сама знала. Он владеет в совершенстве разговорным немецким языком, научился читать и писать по-немецки; немка заботится о чистоте его белья и платья, о порядке в комнате; кроме того, она оказалась прекрасной, терпеливой сиделкой. Слезлива очень и сентиментальна, но это уж не такой грех.
Зато за время своего пребывания в доме Христина Осиповна не разводила никаких сплетен и интриг, а всегда честно защищала интересы своей хозяйки, что, конечно, говорит в ее пользу.
Но сейчас она сильно постарела. Куда же ее девать? Ей трудно будет устроиться на другое место, поэтому придется ее оставить в доме: Миша к ней привязан.
Юрий Петрович предложил выписать из Москвы образованного француза-гувернера. Что же касается мальчиков дворянского происхождения, то у его сестры Дунечки Пожогиной-Отрашкевич два мальчика, которых она тоже собирается подготовить к поступлению в кадетский корпус. Миша Пожогин уже прижился в Тарханах, и, если только Арсеньева не возражает, Юрий Петрович может привезти и Колю, чтобы и он тоже жил здесь зимой.
На это Арсеньева охотно согласилась, потому что Миша, как единственный ребенок в доме, скучает, а обучать кого-либо из дворовых ему для компании она не намерена. Результаты игр с дворовыми уже налицо.
Намек был на Долгую рощу, и обращен он был к Юрию Петровичу, но тот сделал вид, что это его не касается. Он был доволен, что его предложения насчет обучения Миши приняты без колкостей и что ему удалось бесплатно пристроить племянников.
— Клянусь, маменька, что я всегда думаю о благе Миши и с вами готов поддерживать самые лучшие отношения! Ведь я же признаю, что у вас большое терпение и желание возиться с ребенком. Наконец, я должен считаться с тем, что у вас гораздо больше средств, нежели у меня…
Наметив план обучения Миши, все разошлись.
Юрий Петрович думал иногда о том, что сын с шестнадцати лет будет жить у него, поэтому и приезжал его навещать, чтобы не стать для него совершенно чужим человеком: он чувствовал — сын любит его преданно и нежно и прощает ему все недостатки, так же как и жена, Мария Михайловна.
Юрий Петрович любил разговаривать с сыном и делился с ним своими знаниями. Он всегда рассказывал то, чего Миша не знал, и мальчику это было интересно, но никогда не говорил о своей главной заботе — о деньгах, которые не держались у него в руках. Юрий Петрович с грустью вынужден был признать, что Арсеньева приберегла свой капитал и все время его увеличивала, чем обеспечила себе спокойную старость, а у него только долги, долги…
Арсеньева язвила, что зять так непрактичен потому, что он, по его рассказам, происходит от герцога Лерма, от какого-то принца. Юрий Петрович с гордостью повторял, что он действительно происходит от испанского герцога Лерма и что у русских Лермантовых изменено окончание этой фамилии. Миша интересовался, каков собой был этот «прапра» и не сохранилось ли портрета. Но портрета не было, и отец с сыном представляли себе картины из жизни романтического предка-испанца, чем очень возмущали Арсеньеву; она находила, что чрезмерно развитая фантазия — это нечто вроде болезни, ибо человек, который привык строить фантастические замки, обычно в жизни ничего не добивается.
Поскольку разговор зашел о предках, Миша заинтересовался, есть ли у него еще родственники Лермантовы. Оказалось, что есть, даже близкие: троюродные братья Юрия Петровича, моряки. Один из них, Михаил Николаевич, не только хорошо зарекомендовал себя по службе, но имеет большую склонность писать стихи, другой брат, морской офицер Дмитрий Николаевич Лермантов, недавно ушел в заграничное плавание вместе со своими друзьями, тоже моряками, Михаилом Бестужевым и Александром Беляевым.
— Когда ты вырастешь, может быть, тоже поедешь в кругосветное путешествие? — ласково спросил Юрий Петрович, и Миша вспыхнул от восторга.
Из всех своих родственников Миша больше всего заинтересовался своим тезкой — Михаилом Николаевичем Лермантовым, который писал стихи. Оказалось, что этот человек очень передовой и начитанный, большой любитель не только стихов, но и музыки; недавно был напечатан в журнале «Северная лира» его романс «La tourterelle».[17]«Го́рлинка» (франц.)
В таких интересных разговорах проходило время, но Юрий Петрович, по своему обыкновению, быстро уехал, услыхав очередную колкость от своей тещи. Он просил ее снять переломленный якорь с памятника Марии Михайловны, доказывая, что этот символ оскорбителен для него. Хорош, дескать, муж, который не сумел дать счастья своей жене! Арсеньева возразила, что памятник поставлен не на его деньги, поэтому он может и помолчать. У Юрия Петровича от обиды даже слезы блеснули на глазах.
Прощание было, как всегда, болезненным. Мальчик плакал, но Юрий Петрович утешал, что подыщет ему в столице гувернера, который научит его говорить по-французски так же хорошо, как Христина Осиповна научила говорить по-немецки.
Миша очень жалел, что отец уезжает, потому что после ссоры из-за Долгой рощи отношения его с бабушкой стали заметно холоднее. Миша держался с ней очень почтительно, но стал называть ее на «вы», говоря, что этого давно требует Христина Осиповна. Он целовал бабушке руки, отвечая на все ее вопросы, но не приходил ласкаться и тормошить ее. Однако Елизавета Алексеевна решила не сдаваться и продолжала всячески баловать и ласкать Мишу, делая вид, что ничего не случилось.
Вскоре после отъезда Юрия Петровича Арсеньева сообщила Мише, что он скоро начнет заниматься музыкой.
Учить Мишу музыке взялась соседка по имению, коллежская асессорша Полина Аркадьевна Савелова.
Полина Аркадьевна прожила всю жизнь безвыездно в своей деревне Опалихе. Муж ее любил; супруги жили счастливо и весело. Он рано оставил службу, желая посвятить свои дни семейной жизни, и Полина, смолоду слывшая миловидной, не уставала заниматься собой. Волосы на лбу и на висках на ночь она смачивала сахарной водой и закручивала на папильотки. Румяна покрывали ее щеки даже в будние дни. Платья ее, сшитые по последней моде, грешили всегда против правил хорошего вкуса, но обилие бантов и золотых украшений на руках и на груди ей нравилось.
В делах имения Савелова не разбиралась.
Однажды Арсеньева поехала навестить соседку и услышала такой разговор помещицы с управляющим:
— Ну как, Мирон, индюшек на яйца посадили?
Управитель охотно ответил:
— Давно посадили, сударыня, уже индюшата вывелись.
— А индюков тоже сажали?
Управитель смущенно заморгал, но подобострастно поддакнул, не глядя на Арсеньеву:
— Сажали, сударыня, как вы приказали, сажали…
— А они тоже цыплят вывели?
— Вывели, сударыня, вывели…
— Вот и хорошо! — похвалила управляющего Савелова и, желая заслужить одобрение Арсеньевой, поглядела на нее, но осеклась — такое изумленное было у нее лицо.
Хозяйством Савелова не интересовалась, а занималась вышиванием, изготовлением пирожных и музыкой. У нее не было детей, и поэтому она имела слишком много свободного времени. Она вышивала шелком, шерстью и бисером разные подушки, бювары, коврики и даже ковры. Печение пирожных обратилось у нее в страсть: любительница покушать сладенького, она варьировала рецепты таких вкусных печений, что муж ее объелся горячего теста и скончался от заворота кишок.
Но самой возвышенной страстью Полины Аркадьевны была музыка; с детства она недурно играла на фортепьяно и, одолев в молодости технические трудности, играла бурные пьесы с фиоритурами, «пуская бриллиантики» — ей нравились трели и арпеджии. Играла она неплохо, но в исполнении ее не было глубины; однако ей всегда аплодировали и приглашали участвовать в любительских домашних концертах и спектаклях. За отсутствием тапера ее усаживали за рояль и просили поиграть вальсы и польки для танцующей молодежи.
После смерти мужа она затосковала. К ней стала часто приезжать ее сестра с детьми; но сестра жила в Тульской губернии, ей трудно было так далеко ездить. Сестра все уговаривала Полину Аркадьевну продать имение и купить себе усадьбу поблизости от нее, однако Полина Аркадьевна никак не решалась на такую сложную финансовую операцию и все ездила к Арсеньевой советоваться, за какую цену продать Опалиху и как быть с крестьянами: переводить ли их на новое место или оставить здесь? Арсеньева давала ей разные практические советы, однако присматривала это именьице для себя — уж очень оно близко и недорого хотела за него взять Савелова.
Когда Полина Аркадьевна приезжала в Тарханы, она прежде всего советовалась о делах, а затем вспоминала новый сорт пирожного, которое ела на именинах у соседей. Тотчас же вызывали старика кондитера Федотыча и Дарью, которая присаживалась вписывать в толстую замасленную книгу новый рецепт, добавляя его к сотням записей особо вкусных кушаний. Савелова же, помогая себе жестами, объясняла, что надо сделать, чтобы получился торт «Анго» или «Петишу-экстра» с заварным кремом и мягкой глазурной обливкой.
На первый урок Миша пришел несколько взволнованный. Савелова заметила, что он бледен, и спросила, употребляют ли для его лечения оподельдок.[18] Оподельдо́к — легкая желатиновая масса с примесью ароматических масел, с приятным запахом, в свое время распространенное средство для наружного употребления. Применялась многими от всех болезней, а не только от ревматизма. Это растирание, по мнению Полины Аркадьевны, помогало от всех болезней.
После этого вступления Савелова усадила мальчика за фортепьяно и попросила показать руки. Миша тщательно вымыл их перед уроком и потому храбро показал. Савелова пришла в восторг:
— Какая красота! Какие музыкальные пальцы! Такие руки бывают только у лучших пианистов. Посмотрите, пожалуйста, Елизавета Алексеевна, какая у Мишеньки рука! Крепкая ладонь, а пальцы узкие, античной формы…
Миша, довольный тем, что его руки понравились, искоса поглядывал на восторженную вдову и ждал дальнейшего. Но вот она стала объяснять ему названия клавишей и звуков, и он с интересом услышал, что каждый звук песни, которая имела для него таинственное очарование, может быть раздроблен на ноты: до, ре, ми, фа… Он долго обдумывал эту новость.
Затем Полина Аркадьевна показала ученику своему, как записывают звуки, и он быстро запомнил, что ноты, похожие на крошечные черные яички, устанавливаясь на пяти линейках, объясняли, какую клавишу надо тронуть, чтобы извлечь нужный звук. Мальчик быстро все понял и сыграл гамму, старательно подворачивая большой палец, чтобы дойти до «си», однако октаву взял с трудом: хваленые руки его были еще малы.
Урок прошел быстро, и Миша продолжал думать о музыке за обедом. Савелова твердила, что Мишу нужно растирать оподельдоком, и очень интересовалась, как удалось пирожное, сделанное по ее рецепту. Мальчик не любил приторный крем на жирном тесте и равнодушно ел, думая о том, что звук, казавшийся ему ранее неуловимым, оказывается, может быть записан и повторен.
После обеда Миша подошел к бабушке и зашептал ей на ухо:
— Попроси, пусть сыграет!
— Нельзя шептать на ухо при всех, сколько раз я тебе говорила!
Однако бабушка передала его просьбу, и Савелова села за фортепьяно и сыграла польку «с бриллиантиками». Но Мише не понравилось, и он опять шепнул бабушке:
— Копытами скачет!
Бабушка зашипела:
— Ш-ш-ш-ш!
Тогда Миша пошел в детскую рисовать.
Он начертил нотные линейки и по ним, напевая, разбросал четвертные ноты, но, еще нетвердо их зная, несколько раз поправлял себя. Вспомнив свою новую учительницу, он улыбнулся, взял другой листок, нарисовал Полину Аркадьевну, с браслетками и бантиками, с кремовым тортом на кудряшках вместо шляпки и подписал: «Мадам Оподельдок».
Вечером, когда Савелова уехала, Миша показал этот рисунок бабушке, и она так смеялась, что слезы выступили у нее на глазах, но, спохватившись, сказала, что нельзя рисовать карикатуры на своих знакомых, а то они обидятся; надо с людьми ладить и добиваться с ними хороших отношений. Однако она показала эту карикатуру брату Афанасию, и оба хохотали-грохотали, глядя на изображение мадам Оподельдок.
Савелова не подозревала о Мишином рисунке и добросовестно передавала ученику свои знания. Через несколько уроков она объявила, что у мальчика редкостный слух, который музыканты называют «абсолютным». К ее удивлению, Миша с первого же раза запоминал мелодии, которые она проигрывала, и мог спеть их. Тут Савелова торжественно сказала, что такой слух и музыкальной формы руки обязывают Мишеньку заниматься музыкой усердно, потому что он может стать настоящим музыкантом. Обняв его за плечи, Савелова предложила обратить внимание на слабое здоровье мальчика, лечить его, чтобы он не болел и по-настоящему учился, и добавила, что в тот день, когда он станет играть лучше своей учительницы, бабушка должна отвезти его в Москву, чтобы заниматься с профессорами.
Глава IX
Приезд гувернера мосье Капе. Детские спектакли. Рассказы о Бородине
Вскоре в Тарханы приехал новый гувернер — мосье Капе. Это был очень говорливый, вежливый и веселый молодой человек с длинным бледным лицом и горбатым носом. Ему отвели проходную комнату направо на антресолях, а Мишу поселили с ним рядом наверху, вместе с дядькой Андреем Соколовым.
Миша давно добивался этого переселения — ведь он становился почти самостоятельным и уходил от бабушкиной денной и нощной опеки!
Но, увы, кратковременным оказалось Мишино торжество! Бабушка созналась, что ноги у нее теперь не так сильно болят, велела перенести все вещи из своей спальной на антресоли налево и там в одной комнате поселилась сама с Дарьей, а в другой устроила Пашеньку и Марусю, потому что не любила оставаться одна и должна была все время с кем-то разговаривать.
Переселение на антресоли удаляло Мишу от девичьей, куда он так часто забегал и беседовал с девушками, расспрашивая про их жизнь. Кроме того, комната на антресолях выходила окнами в сад, а не во двор, где Миша постоянно наблюдал дворовых. Ведь там и ткацкая, и жилой дом дворовых, и квартира управляющего, и кухня.
Пусть лучше Мишенька наблюдает из окна роскошную гладь пруда, обрамленного ветлами, и пышные кроны деревьев, шелестящих над деревянными перилами его балкона и возле домовой церкви, — часть церковной стены виднелась направо…
Если смотреть из окна новой комнаты вниз, деревянные в виде буквы «X» перила веранды и доски ее пола закрывали огромную куртину в саду, а совсем близко, сквозь стволы и кудри деревьев, зеркальным блеском переливался большой пруд. Если же выйти на веранду, видны ступеньки, по которым поднимаются в дом, а на уровне глаз — верхушки старых деревьев, шелестящие березы, дубы и клены…
Комната с палевыми обоями, отведенная Михаилу Юрьевичу, так уютна, что уходить из нее не хочется. Потолок не очень высок; в середине внутренней стены выступает изразцовая печь с лежанкой для дядьки Андрея, но лежанки не видно, она сбоку, а на лицевой части печи — камин.
Пол застлан серым сукном, мебель желтого атласа. Здесь Мише поставили мебель, как для взрослого, а вместо кровати привезли из Москвы софу с откидной спинкой, и она стояла у стены, за выступом печи. Купили ему бюро со множеством ящиков, необходимых для занятий, фарфоровый стакан с видом какого-то города — из стакана торчал пучок гусиных перьев, — новую чернильницу, а главное, он получил собственный книжный шкаф, куда можно было ставить книги, класть портфель с рисунками, краски, кисточки — словом, все, что надо. У окон расставили столики и стулья для гостей и для того, чтобы читать или рисовать у окна или же играть в шахматы.
Мосье Капе устроили тоже неплохо: в соседней проходной комнате ему поставили комод с зеркалом, шкаф и кровать с периной.
Миша очень волновался по случаю переезда и хотел раздать все свои игрушки — ведь он теперь стал взрослым! Но бабушка тотчас же стала доказывать, что рано еще считать себя взрослым, а надо учиться и слушаться старших.
Миша с нетерпением дожидался, когда его познакомят с французом, но мосье Капе после длинного путешествия вымылся в бане, поел, улегся на новую перину и мирно прохрапел всю ночь. Наконец утром Миша пошел с ним и с бабушкой в сад.
— Bon Dieu du ciel, quelle beauté![19]Боже мой, какая красота! (франц.)
После восторженных возгласов Капе сказал, что если бы это «шале» вместе с парком перенести под Москву, ему бы цены не было!
Мосье Капе был предупредителен и внимателен к своему будущему воспитаннику. Он весело заговорил по-французски. Миша, не понимая его, выжидательно молчал. Бабушка ушла домой, а учитель с Мишей пошли вдвоем по саду. Француз не умолкал. Указывая на небо, на деревья, на землю, на траву, на листья, он останавливался, медленно произносил по нескольку раз какое-нибудь слово и тотчас же просил своего ученика повторить его.
Француз обращал внимание на произношение и поощрял ученика, удовлетворенно кивая головой. Потом они шли дальше и опять повторяли отдельные слова.
Погуляв после завтрака часа два, оба вернулись домой в очень хорошем настроении, и Миша, которого мосье Капе назвал Мишелем, переодеваясь к обеду, вполголоса повторял французские слова. Он попросил бабушку, чтобы Капе сказал хоть несколько слов по-русски, но Арсеньева ответила, что тот не знает ни одного русского слова.
— Но я же не понимаю, что он говорит!
Бабушка утешала:
— Ничего, скоро поймешь!
До сих пор Миша знал одно французское выражение: «Devant les enfants».[20]Буквально: «При детях», но подразумевается: «Нельзя говорить этого при детях», Так говорила бабушка, когда хотела сообщить своим родственникам или знакомым что-либо по секрету от Миши. Когда же Капе научит его французскому языку и Миша начнет понимать все, что говорят взрослые?
За обедом мосье Капе сел около Миши и разговаривал по-французски с бабушкой и доктором Ансельмом, а Миша раздражался, что понимает только несколько отдельных слов.
Однако, вслушиваясь, он заметил, что некоторые слова в разговоре повторяются, и после обеда потихоньку спросил бабушку, что они означают. Арсеньева перевела, и он запомнил.
На следующий день Миша повел француза смотреть траншеи и по-русски стал объяснять ему, что это такое. Француз все понял и перевел на французский язык, а Миша заметил, что в речи мосье Капе все чаще и чаще встречаются знакомые для слуха сочетания звуков. Тогда мальчик решил, отбросив стеснительность, повторить их молодому жизнерадостному гувернеру, который так дружески отнесся к нему.
После напряженных упражнений месяца через два Миша не только стал говорить по-французски, но ловил себя на том, что, оставаясь в одиночестве, он мысленно переводил русские обиходные слова на французский язык и сплетал из них разговорные фразы. Правда, это был еще примитивный разговор, но и то хорошо.
Мосье Капе приходил в восторг от понятливости своего ученика и клялся Арсеньевой, что он в первый раз наблюдает такие быстрые успехи. Впрочем, — тут он делал любезное лицо — русские очень способны к языкам.
Приехав в Тарханы, Капе очаровал весь дом. Природа наделила его счастливым характером — он умел замечать вокруг себя все хорошее и тотчас же говорил об этом. Осмотрев барский дом, он очень одобрил мебель и обилие цветов во всех комнатах. Усевшись за стол, он ел и хвалил каждое блюдо, так что всем подаваемые кушанья казались вкуснее. Мишелем он восхищался как способным учеником и каждый день рассказывал про его успехи, что весьма льстило самолюбивому мальчику. Поговорив с доктором Ансельмом, мосье Капе очень обрадовался, что нашел в нем соотечественника. Христине Осиповне он ничего не говорил только потому, что она его не понимала, но вовремя пододвигал ей стул, поднимал уроненный ею клубок, долго рассматривал связанные ею чулки и жестами выражал свое одобрение, так что она тотчас же отдала ему связанную пару и сразу расположилась к своему сопернику. Пашеньке он сказал, что она очень мило говорит по-французски, Марусе Макарьевой с уверенностью пророчил, что она со временем станет первой русской красавицей. Словом, мосье Капе внес в дом оживление и молодое веселье, так что после обеда даже не хотелось расходиться.
В зале мосье Капе пригласил Пашеньку вальсировать, мурлыча модный мотив, и заставил Мишеля танцевать с Марусей, но, заметив, что мальчик танцевать не умеет, стал показывать ему разные па.
Когда приехал Афанасий Алексеевич, мосье Капе заговорил с ним о Наполеоне, и Миша очень расстроился, что его отослали спать.
Миша водил француза по усадьбе и все показывал, даже повел в ткацкую. Все девушки поднялись и низко поклонились вошедшим, а одна из них так быстро встала, что задела ножницы и уронила на пол. Мосье Капе, с живостью подскочив, поднял их с пола и подал девушке, которая просияла и смутилась от такой неожиданной любезности. Этот поступок сразу же расположил к нему всех дворовых женщин, и рассказ о том, как «хранцуз подал девке Фене ножни», обошел Тарханы и повторялся со всевозможными вариациями.
Мише понравился Капе. Это не то, что старуха Христина, которая раздражала Мишу неизменным вязаньем чулок, — это была мания, от которой она не могла избавиться.
Мосье Капе был еще молод.
Очень подвижной и ловкий, он любил стихи, танцы, гимнастику, прогулки и охоту и всюду брал своего воспитанника с собой.
Мишелю давали небольшое ружье, седлали лошадку мягким черкесским седлом, сделанным вроде кресла, и так они отправлялись на охоту. Доезжачий Потапов неизменно сопровождал их.
У Капе была странность: он любил стрелять молодых галчат, ему нравилось жаркое из этих птиц. К этому необычному лакомству он старался приучить своего воспитанника.
— Это превкусно! — восклицал он, прищелкивая языком.
— Это не дичь, а падаль! — брезгливо возражал Мишель и решительно отказывался есть это блюдо.
Никакие уговоры и восклицания его любимого воспитателя не могли изменить его решения.
Мосье Капе заметил, что Мишель хорошо рисует, и предложил ему слепить из воска кукол и сделать представление кукольного театра.
Для начала решили поставить несколько басен французского поэта Лафонтена. С увлечением и учитель и ученик стали готовиться к спектаклю. Арсеньева вызвала столяра, и ему заказали в углу зала сцену; пошли просить у бабушки занавес. Рисовали декорации к каждой басне, и, чтобы Миша понял, бабушка переводила ему каждое слово. Мальчик заучил несколько французских басен наизусть.
Миша стал неразлучен со своим гувернером.
Через некоторое время Капе устроил вечером в зале представление кукольного театра. На новой сцене поставили небольшой картонный театр. После звонка Капе, обращаясь к зрителям, воскликнул:
— Attention![21]Внимание! (франц.)
Красное парчовое покрывало с кровати Арсеньевой, обращенное в занавес, медленно отодвинулось, и зрители восхитились декорацией: на фоне голубого неба зеленела роща, большое, развесистое дерево выделялось слева, на одном из его суков сидела огромная черная, вылепленная из воска ворона с куском желтоватого сыра в клюве, а в траве притаилась, подняв острую мордочку кверху, рыжая лиса. Не успели зрители насладиться этим зрелищем, как голосок Мишеля, спрятанного за декорациями, произнес: «Le corbeau et le renard…»[22]«Ворона и лисица» (франц.)
Это был новый сюрприз. Миша прекрасно сказал французскую басню. Все зрители, сидевшие в креслах в первых рядах — бабушка, доктор Ансельм, Христина Осиповна, Пашенька, Маруся, Евреиновы, Афанасий Алексеевич, — и дворовые, стоявшие в дверях, очень одобрили представление и просили повторить, аплодируя от души. Мосье Капе был доволен успехом и обещал часто устраивать такие вечера.
Капе завоевывал авторитет. Он понемногу экипировался, стал франтом, и все любовались осанкой мосье Капе. В сущности, он был некрасив: зализы редких черных волос над огромным лбом, глазки черненькие, маленькие, не больше смородины, а нос — как горб верблюда, усы редкие, жесткие, с завитками на концах.
Утро начиналось уроком гимнастики.
После того как звонил колокольчик, Мишенька вместе с Пожогиным выходили в зал, мосье Капе спускался с лестницы, напевая свою любимую песенку:
A moi, a moi, ma vie,
A moi, ma liberté![23]«Ко мне, моя жизнь, ко мне, моя свобода!» (франц.) —
и учил детей разным гимнастическим упражнениям.
Вечером, после ужина, он вел своих воспитанников в зал, и они играли в разные игры: в фанты, в «море волнуется», водил с ними хороводы, и они пели французскую песню:
Sur le pont
D'Avignon…[24]Известная французская песня «На Авиньонском мосту».
Дети танцевали, кружились, и это им нравилось.
Пашенька и Маруся принимали участие в вечерних развлечениях и охотно танцевали. Когда Миша научился разговаривать с мосье Капе по-французски, беседы их стали весьма оживленными. Капе, бывший французский солдат, участвовал почти во всех походах Наполеона и хоть по его вине и расстроил себе здоровье, однако оставался страстным приверженцем гениального корсиканца. Капе охотно рассказывал свои боевые приключения, восторженно отзываясь о Бонапарте.
Христина Осиповна знакомила мальчика со стихотворениями Уланда, а Афанасий Алексеевич любил вспоминать, как он участвовал в Бородинском сражении. Миша стал просить его рассказать все подробно, и тот охотно согласился.
Однажды после обеда все уселись в гостиной, и Афанасий Алексеевич начал свой рассказ:
— Хоть несколько лет прошло с того дня, но как ясно я помню, что происходило! Когда нам объявили, что завтра сражение, все призадумались. Солдаты и офицеры стали переодеваться в чистые рубахи. Все мы решили биться не на жизнь, а на смерть, отстаивая свою родину, и, если понадобится, умереть.
Старики ветераны оживились и подбадривали молодых. Всем надоело отступать, все жадно ожидали генерального сражения. Два дня шла перестрелка. Ночью, облокотившись на одну из своих пушек, я стоял и не мог заснуть. Грустно мне было слышать, что невдалеке от нас ликовали французы. Особенно тоскливо стало, когда мы услыхали, что Багратион ранен. После ранения Багратиона Дохтуров получил приказ принять на себя командование левым флангом. Обращаясь к войскам, он воскликнул:
«За нами Москва! Умрем все, но ни шагу назад!»
Мы встретили французов картечью, давая по сто выстрелов в минуту. Раненые и убитые падали на землю, через них перескакивали идущие в бой. На моих глазах упал мой командир. Он был контужен, но нам показалось, что он убит. Батарея осталась без командира…
Волнение Афанасия Алексеевича передалось его слушателям, когда он перешел к рассказу о совершенном им подвиге.
— Тогда, — продолжал Афанасий Алексеевич, — я взял командование. Я заметил движение кирасир, выехал вперед, ближе к передовой линии, и мы стали ждать приближения неприятеля. Французы тем временем стреляли не умолкая, и подо мной была убита моя горская лошадь…
Арсеньева в этом месте не выдержала и, заливаясь слезами, пробормотала:
— Как же ты сам-то, Фанюшка, остался жив!..
Быстро поцеловав руку сестры, Афанасий Алексеевич продолжал свой рассказ:
— Я тотчас же пересел на другого коня, но со своей позиции не уходил. По счастью, к нам скоро подоспела помощь. Ударили в штыки. Неприятель был опрокинут, центральная батарея перешла в наши руки, французский генерал взят нами в плен… Да, дорого заплатили французы за овладение этой батареей! Полегли их лучшие генералы, целая дивизия была истреблена…
Арсеньева вспомнила, как один из артиллеристов — друг Афанасия Алексеевича — говорил, что его доблестное бесстрашие, истинное хладнокровие и распорядительность в самый разгар боя навсегда останутся памятными его сослуживцам.



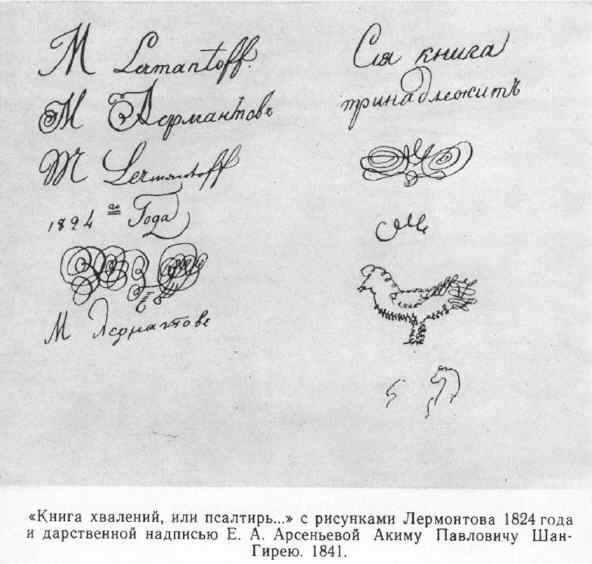
Глава X
«Товарищами Миши должны быть не крестьянские, но дворянские дети». Максутовы, Юрьевы, Коля Давыдов, Пожогины-Отрашкевичи. Уроки французской литературы, гимнастики и танцев
Миша постоянно жаловался на одиночество, поэтому в Тарханах годами жили братья Пожогины-Отрашкевичи. Младшего, Колю, иногда увозили домой, а старший, Миша, жил почти безвыездно. Коля Давыдов гостил месяцами. Теперь решено было взять двух братьев Максутовых и двух Юрьевых. Все мальчики были сверстниками Мишеньки, и всем надо было давать образование.
Для классных занятий отвели небольшую отдельную комнату внизу: как войдешь в коридор из передней, первая комната направо. Комната была невелика. Казалось даже, что в ней не усядутся все ученики, если их наберется много. Но даже когда приехали братья Максутовы, то все разместились.
Маленькие князья Максутовы, Сережа и Саша, жили со своими родителями неподалеку от города Нижнего Ломова.
Семья была большая и не очень богатая. Домашнее образование стоило дорого, поэтому, когда Максутовы узнали, что Арсеньева для своего внука собирается выписывать учителей, они просили принять и их мальчиков в Тарханы.
Максутовы приехали со своим дядькой, обрусевшим татарином, который воспитывал их с детства. По субботам, после уроков, за Максутовыми приезжал рыдван, и они уезжали до понедельника, а всю неделю добросовестно занимались. Мальчики были очень дружны между собой.
Сережа и Саша учили уроки с неграмотным дядькой: он требовал, чтобы дети показывали, сделали ли они письменные уроки. Затем дядька проверял уроки устные. Неграмотный старик держал перед глазами наудачу открытую страницу; когда ученик говорил гладко, значит, он знал урок, а если запинался, то требовалось повторять его до тех пор, пока мальчик не выучит. Дядьку своего мальчики не только любили, но и слушались.
Родители их постоянно приглашали Арсеньеву съездить к ним погостить. От них верстах в пятидесяти был известный в Пензенской губернии Нижне-Ломовский мужской монастырь, куда по праздникам съезжалось много народу, и поездка туда была развлечением.
Поселок вокруг монастыря разрастался в город, но крестьяне так и остались жить в убогих хижинах.
Каждый год там собиралась ярмарка. Сюда съезжались купцы из Москвы, Тамбова, Пензы, Шуи, Арзамаса и других городов. Товаров продавали множество: сукно, ситец, шелк, пушнина, разные глиняные изделия и французский фарфор, лимоны и лучший мед, шампанское и дрожжи — все можно было купить здесь. Многие посещали монастырь, а «чудотворную» икону носили по селам. Икона эта побывала и в Чембаре, и в Тарханах, где духовенство останавливалось у Арсеньевой, а икона ставилась в домовую церковь.
В Нижнем Ломове бабушка с внуком были несколько раз, но особенно запомнилась одна поездка.
День угасал. Лиловые облака едва пропускали красные лучи, которые отражались на черепицах башен и ярких главах монастыря. Звонили к вечерне. Монахи и служки ходили взад и вперед по каменным плитам, ведущим от кельи архимандрита в храм; длинные черные шелковые мантии с шорохом подметали пыль вслед за ними. За дымом кадила трепещущий огонь свечей казался тусклым и красным. Богомольцы теснились. Служба еще не началась.
Арсеньева с внуком вошли в храм и прошли вперед. Мальчик обернулся: между столбами и против царских врат пестрела толпа. Миша разглядывал богомольцев, но толпа прибывала, и скоро все слилось перед его глазами.
Направо, между царскими и боковыми дверьми, стоял образ, искусно выделанный: позолоченный оклад сиял как жар, и множество свечей, поставленных на висячем паникадиле, бросало красноватые лучи на мелкую резьбу. Перед образом стояла кружка. Многие, приложившись к образу, кидали в кружку медные деньги, которые, падая, издавали глухой звук.
Госпожа и крестьянка с грудным младенцем на руках подошли к образу, но барыня с надменным видом оттолкнула молодую мать, и ушибленный ребенок громко закричал. Миша вздрогнул и сделал движение помочь ей, но властная рука бабушки схватила его за плечо и удержала.
В Нижнем Ломове обычно гостили недолго. На ярмарке, куда Арсеньева посылала несколько возов разных товаров, накупили множество вещей. Миша купил себе стихи Державина, Милонова, Жуковского.
С той поры нередко можно было видеть в тарханском саду мальчика в белой рубашечке с книгой в руках, который часами просиживал на скамье перед домом, под купами сиреневых и жасминных кустов, или в беседке, на берегу пруда, у ветел, и, глядя вдаль, медленно повторял напевные строки, в которые вчитывался и вдумывался в одиночестве.
Приехали в Тарханы учиться еще два мальчика, тоже два брата, Юрьевы, доводившиеся родственниками Арсеньевой. Мальчики эти сразу же понравились Мише своей манерой держаться, хотя собою были некрасивы: оба белесые, кожа у них была землистого цвета, глаза — водянисто-голубые. Отсутствие бровей придавало их лицам удивленное выражение. Оба были умны, вежливы и деликатны. Старший Юрьев любил острить, а младший охотно повторял его остроты.
Миша Пожогин, бесцеремонный задира, тотчас же пристал к старшему Юрьеву, почему у него нет бровей.
— А это от папы, — спокойно объяснил Юрьев. — У него тоже бровей нет. Он шутит, что его брови моль покушала.
— А почему не «объела»? Моль насекомое вредное, она жрет или объедает. Уж слишком ты деликатен, ха-ха-ха!
— А вот я покажу тебе, какой я деликатный! — сказал, вскипая, старший Юрьев.
Но Миша Пожогин быстро ушел.
Юный Лермантов тотчас же оторвал листок из черновой тетради и нарисовал Пожогина, у которого изо рта выходили буквы, обведенные грушеобразной линией: «А где же твои брови?» Над безбровым Юрьевым кружил целый рой маленьких точек, изображавших собою моль, а изо рта свисала тоже грушеобразная линия, внутри которой стояло восклицание: «Ай-ай! Мои брови моль покушала!»
С братьями Юрьевыми Миша сдружился. Они учились ровно и добросовестно, и свободного времени у них никогда не было, потому что они или учили уроки, или читали, а больше всего любили танцевать. Арсеньева хотела было поискать учителя танцев, но мосье Капе сказал, что никому не уступит этой должности.
Уроки танцев давались почти ежедневно, что очень нравилось детям. В зале мальчики и Маруся становились парами, и Капе всем показывал, как надо танцевать. После того француз брал скрипку, и начиналось веселье. Вальсировали почти до упаду, пока не закружится голова; скакали в галоп, выучились мазурке, польке…
Капе объяснял фигуры кадрили, показывал па менуэта и, наконец, французские народные танцы. Иногда танцевали под фортепьяно. Аккомпанировала Пашенька, но часто сбивалась и темп не выдерживала. Лучше всех играла Полина Аркадьевна, но она приезжала всего раз в неделю. Посадили играть балалаечника, но Капе его не одобрил. Тогда вспомнили о старике скрипаче, который жил в деревне; он был дирижером домашнего оркестра в театре Михаила Васильевича. Оркестр распался после смерти хозяина, Арсеньева же не требовала музыкальных упражнений от своих мужиков. Теперь она вызвала старого скрипача и велела ему ходить в барский дом, когда понадобится.
Старик платил оброк деньгами: эти годы он ходил играть на селе в дни свадеб, крестин и на деревенских вечеринках, за что ему давали кто сколько мог; деньги почти все он отдавал помещице, а сам кормился на семейных торжествах.
Узнав, что его опять призывают на службу в барский дом, он пропил все свои деньги, всю ночь валялся под плетнем у кабака и причитал, что кончилась его вольная жизнь. Однако в назначенное время явился в барский дом чисто вымытый и игрой своей заслужил общее одобрение.
Старик радовался, что ему разрешили, как прежде, играть на всех семейных торжествах в деревне; Арсеньева же, глядя на танцующих мальчиков, была довольна, что затеплилась новая, молодая жизнь в Тарханах.
Когда Миша проходил через комнату мосье Капе, то его внимание привлекла скрипка гувернера. Он попросил показать, как надо с ней обращаться. С первого же урока Капе был удивлен понятливостью Миши и его музыкальностью, но сказал, что учить его без детской скрипки не может. Тотчас же была выписана детская скрипка из Москвы, и Миша охотно в свободное время учился этому искусству. Все удивлялись, как он преуспевал: смычок его извлекал из инструмента звуки чистые и глубокие, и вскоре скрипка стала петь в его руках. Видя, что учение пошло на лад, Капе просил выписать ноты, что опять-таки было исполнено, и учитель с учеником стали играть дуэты, причем вскоре голос первой скрипки перешел к ученику, а учитель добросовестно ему вторил.
Из Москвы привезли вместе с нотами закупленные там книги — альманах, учебники по литературе и по математике, а также псалтырь. Арсеньева была рада иметь псалтырь, переведенный на русский язык. Она надеялась, что благодаря этому переводу она поймет те места, которые ей не удавалось точно перевести с церковнославянского. Куплено было два экземпляра: один для нее, другой для Миши.
Вечером, перед сном, она торжественно вручила эту книгу внуку, наказывая читать ее, читать и читать. Он поблагодарил бабушку и прочел заголовок: «Книга хвалений, или Псалтырь на российском языке. Иждивением Российского библейского общества Московского отделения. Первое издание. Москва. В синодальной типографии. 1822 г.» Он раскрыл книгу и прочитал несколько страниц, а бабушка сидела на диване, рассматривая свои покупки. Миша стал пробовать на книге перо, сделал несколько рисунков и расписался по-французски: «M. Lermantoff», потом по-русски: «М. Лермантов», затем по-немецки. Подписал год: «1824 г.» Писать больше было нечего, он накрутил замысловатый росчерк и расписался еще раз, потом стал рисовать. Бабушка потребовала книгу — посмотреть, как он расписался, но, увидев рисунки, рассердилась:
— На священной книге ты рисуешь не разбери что! Не то куль с мукой, не то кота бесхвостого… А это что? Птица, что ли? Шалости везде, шалости! Расписался хорошо, а тут, прости господи, не то баран, не то курица… Ступай-ка спать!
По утрам усердно занимались науками. С мосье Капе учились по учебнику: «Lecons de littérature et de morale par Noêl et Chapsal».[25]«Уроки литературы и морали. Составили Ноэль и Шапсаль». Учебник был сухой и скучный — сборник высоконравственных отрывков творений разных авторов, — он утомлял своей высокопарностью.
Миша просил читать ему французские романы, но доктор Ансельм считал, что надо сначала изучать классиков. Пригласили доктора Ансельма заниматься с учениками французской литературой.
Доктор Ансельм декламировал вслух трагедии выдающихся французских драматургов Корнеля и Расина, написанные торжественными, тяжеловесными стихами, где герои олицетворяли добро и зло, и злодеи, давая волю своим страстям, доходили до неистовства, до убийства невинных. Миша спрашивал, почему и во французской литературе не меньше ужасов, чем в немецкой. Однако трагедии, написанные стихами, ему нравились ритмической своей напевностью; он внимательно прислушивался к рифмам и звукам, чуждым русскому языку, к произносимым в нос «en», «an», «on», картавому «r» и с придыханием произносимому «h». Слушая стихи трагедий, он больше упивался гармонией стихов, нежели содержанием, и то вспоминал убаюкивающую езду в санях по гладкой дороге под ритмичный стук копыт, то монотонное, равномерное шуршание дождя в осенний вечер.
Миша интересовался стихами, и доктор Ансельм принес томик стихотворений поэта Ламартина. Мишель быстро запомнил многие стихи и декламировал их. Мосье Капе удивлялся, что ученик внимательно слушает часами и не оставляет, не дослушав до конца, отрывок или книгу.
Миша научился бегло читать по-французски. Он запоем читал творения Мольера, создателя французского национального комедийного театра. Его очаровали пьесы «Тартюф», «Дон-Жуан», «Мизантроп». Он их перечитывал так часто, что многие отрывки знал наизусть.
Еще занимательней было читать комедии Бомарше «Севильский цирюльник» и «Женитьба Фигаро». Учителя наслаждались разбором этих произведений, и Миша вместе с ними. Мосье Капе хвалил ученика и выписал ему «Робинзона», а доктор Ансельм достал у кого-то из соседей книгу популярного французского писателя Бернардена де Сен-Пьера «Поль и Виргиния» и несколько романов французского романтика Шатобриана. Словом, Миша прекрасно знал французскую литературу и сердился, что учителя больше ничего нового ему предложить не могут, ведь ему хотелось знать и немецкую литературу и английскую.
Теперь, когда Миша научился свободно читать по-французски, он углубился в чтение альбома своей матери. Ведь многие стихи были на французском языке, и Миша знал их только в переводе. Стихи нравились. Мальчик стал разбираться, кто и кому их посвящал. Над этим можно было задуматься, потому что многие стихи были без подписи и посвящения. Миша расспрашивал бабушку, но не на все вопросы Мишеньки она могла ответить, потому что, хотя жизнь дочери протекала на ее глазах, Арсеньева заботилась главным образом о внешних событиях в ее жизни, а духовный мир Марии Михайловны был от нее далек.
Потом мальчик принялся читать дневник своей матери; многие страницы дневника были написаны по-французски. Это чтение ошеломило его. С кем же поделиться впечатлением? Кого расспросить?
Миша все-таки задал несколько вопросов бабушке, но она, подивившись тому, чем заняты его мысли, не сумела ему ответить. Выяснилось, что дневника дочери она не читала — или некогда ей было, или тяжело было раскрывать его… Сказать ей! Но если она узнает, какие душевные муки там описываются, то отберет дневник и бросит его в камин или начнет новую распрю с Юрием Петровичем. Поговорить с отцом? Но на некоторых страницах Мария Михайловна ясно адресовала упреки, которые задели бы его за живое; Юрий Петрович мог отобрать у сына заветную тетрадь, чтобы навсегда похоронить семейные тайны.
Поэтому мальчик читал дневник в одиночестве, с болью вникая в смысл фраз. Иногда, разбирая сложное выражение, он думал: «Может быть, я не так понял?»
Он обращался к мосье Капе с просьбой перевести точно ту или иную запись. Капе, с удивлением вслушиваясь в недетские слова и выражения, спрашивал, откуда он это взял. Мальчик говорил, что это страница из французского романа, и доверчивый Капе верил своему воспитаннику. Он даже не придавал особого значения расспросам.
На уроках французского языка, когда читали «Хрестоматию», Миша мог уже говорить о содержании прочитанных произведений, тогда как братья Пожогины читали по складам.
Капе ставил Мишеля в пример, говорил, что надо у него учиться умению сосредоточиться — это основное для того, чтобы овладеть предметом.
Пока мосье Капе или доктор Ансельм давали разъяснения, другие ученики слушали не всегда внимательно. Максутовы же, особенно по субботам, вертелись и прислушивались, не звенят ли колокольчики на дороге, не прислали ли за ними экипаж.
Глава XI
Приезд в Пензу царя Александра I. Болезнь Аркадия Алексеевича Столыпина
Звон колокольцев всегда сулил новости: или приезд гостей, или прибытие почты. Писем Арсеньева получала много от всех своих братьев и сестер и от членов их семейств; кроме того, бывали деловые письма, вернее, коммерческие, когда ей предлагали одно купить, а другое продать.
Миша редко слыхал особый «малиновый» звон колокольцев Юрия Петровича, но часто думал об отце, ждал, что он неожиданно приедет, и любил смотреть из окна классной комнаты во двор. Перед железными воротами останавливались дорожные возки, сторож выходил из своей будки и распахивал ворота настежь.
Однажды пришло письмо из Пензы. Среди разных новостей Раевская сообщала, что город готовится к необычайному событию — посещению Пензы императором Александром I.
Об этом оповещены все дворяне-помещики, в первую очередь крупные, а затем мелкопоместные. Всем предложено съехаться для встречи государя.
Арсеньева очень обиделась, что не получила приглашения. Но возможно, что оно запоздало? Так и оказалось. Она начала собираться в дорогу, и Миша с ней: ему очень хотелось увидеть самодержца, о котором он слыхал столько рассказов.
Русский царь, считавший себя победителем Наполеона; жестокий усмиритель Семеновского восстания; человек, на чье слово никто не мог положиться и от кого можно было ожидать лукавого издевательства после ласковых слов; щеголь и Дон-Жуан, известный разнообразными романтическими похождениями во всех странах мира; жандарм Европы, мечтавший при помощи ухищренной дипломатии и происков Священного союза отдалить время назревающей революции в России; недоумок, приблизивший к себе Аракчеева, доверчиво и без утомления слушавший его грубую лесть и хитрые военные выдумки; слабовольный трус, который не хотел и боялся услышать о себе правду; хитрец, больше всего на свете боявшийся тайных обществ, заговоров и убийств из-за угла, потому что сам был заговорщиком и призрак отца, удушенного с его согласия, являлся ему в тяжелых кошмарах, от которых он всю жизнь не мог освободиться; оглохший за последние годы путешественник, который в новых местах надеялся забыть о преследовавших его в юности призраках; не верящий в свои силы скептик, мечтавший найти разрешение мучивших его вопросов в мистических откровениях и шарлатанских гаданиях; человек, чьим именем няньки пугали детей. Его, самодержца всероссийского, императора Александра I, заклейменного меткими эпиграммами Пушкина, захотел видеть мальчик Лермантов.
Бабушка с внуком двинулись в путь. Когда они приехали в Пензу, город имел необычный вид: на домах были вывешены трехцветные флаги, на центральных улицах расставлены глиняные, наполненные овечьим жиром плошки, в которых по вечерам пылали и чадили фитили. На деревянных тротуарах прогуливалась нарядная публика, обращая на себя внимание. Обилие полицейских и жандармов, а также войсковых частей, неустанно шагавших по городу даже ночью, наводило на размышления. Необычное оживление чувствовалось в тишине захолустного города.
Остановились у Раевских.
В назначенный день Арсеньева облеклась в роскошное черное платье из лионского бархата, достала из заветной шкатулки бриллианты и украсила свой наряд драгоценностями. Внук ее, облаченный в парадный костюм, выделялся среди других детей — малорослый, с большой головой, с бледным лицом, на котором черные глубокие глаза горели мрачным суровым светом, он напряженно глядел, желая увидеть царя, который скоро должен был войти в церковь.
Вокруг волновалась блистательная толпа — степенное дворянство: мужчины в форменных фраках, в орденах и лентах, разного возраста дамы в беретах со страусовыми перьями мели уличную пыль пышными шлейфами; старики в немодных сюртуках съехались из медвежьих углов, повинуясь властям, которые ретиво старались собрать побольше встречающих. Крестьяне, одетые в новые рубахи, покорно и боязливо стояли поодаль, женщины в живописных костюмах Пензенской губернии — все толпились, замирая, боясь даже громко дышать.
Наконец показались генералы, сияющие белизной и золотом одежды. Появление их возвестило о том, что идет император. Когда он явился со своей свитой и все наконец увидели его близко, то в глазах у всех мелькнул огонек разочарования: в треуголке с пером шел небольшого роста располневший генерал в белых лосинах и лакированных ботфортах с тупыми носами. Он приблизился, и стало ясно видно его лицо, одутловатое, словно заспанное, с водянисто-зелеными навыкате глазами без ресниц, с красноватыми, словно больными, веками. Тонкие губы его были сложены в неопределенно-вежливую улыбку. Уголки губ застыли в этой официальной улыбке, и казалось, что улыбка эта, заученная с детства, неподвижная, словно воском облитая, страшна, как неживая.
Однако это был живой человек: ловко придерживая шпагу на боку, царь раскланивался на обе стороны, отвечая на приветствия. Бабушка что-то восторженно восклицала басом и судорожно сжимала маленькую ручку внука, который внимательно следил за всеми движениями самодержца.
Император медленно прошел в церковь, и за ним пошли все, кому полагалось.
Когда после торжественных обрядов, усталые от участия в церемониях, все разошлись по домам, бабушка, оставшись наедине с внуком, стала выражать свои верноподданнические чувства. Но Миша неожиданно зевнул и, отрицательно покачав головой, с искренним сожалением сказал сквозь зубы:
— Ох, если бы у него было другое лицо!
Арсеньева испуганно оглянулась по сторонам и стала повторять свои дифирамбы императору, а Мише строго наказала ничего, кроме хорошего, о царе не говорить, чтобы не было неприятностей. Миша тут же стал проситься обратно в Тарханы…
Дома они застали большую почту: в подарок от Аркадия Алексеевича Столыпина Мише передали три поэмы Пушкина — «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник» и «Бахчисарайский фонтан». Прислан был новый альманах «Полярная звезда», который издавали молодые сочинители — Александр Бестужев и Рылеев. Аркадий Алексеевич прислал их по просьбе своей сестры, которая желала иметь все столичные новинки для внука. Стихи Пушкина в оценке не нуждались, а стихи Рылеева Аркадий Алексеевич рекомендовал как первые блестящие опыты молодого, весьма одаренного поэта, которому Николай Семенович Мордвинов пророчит блестящую будущность и как поэту и как деятелю на поприще служебном.
Письмо от Веры Николаевны, жены Аркадия Алексеевича, глубоко огорчило Арсеньеву: брат ее тяжело заболел. Служебное положение Аркадия Алексеевича оставалось блестящим, он был при дворе в большой чести. Первоначально известный как зять сенатора Мордвинова, он добился повышения по службе и сам стал сенатором. В последнее время у него появился и второй влиятельный друг: Сперанский был возвращен из ссылки и вновь получил ответственный пост в Петербурге.
Успехи по службе радовали, но другое его угнетало: здоровье его пошатнулось и плохо поддавалось лечению, потому что Аркадий Алексеевич обладал характером страстным и настойчивым и, увлекаясь работой, не щадил своего здоровья.
Вера Николаевна с гордостью сообщала, что второй ее сын, Алексис, обращает на себя внимание своей наружностью.
Когда Елизавета Алексеевна читала это место письма Мишеньке, он вздохнул, вспоминая, что братья Пожогины обзывали его лягушкой.
Больше, чем за детьми, Вера Николаевна ухаживала за больным мужем. Аркадий Алексеевич болел, но, несмотря на уговоры друзей, не покидал своего служебного поста.
Он несколько раз выступал с резкими и самостоятельными мнениями в Сенате, и друзья полагались на него и превозносили его смелость. Друзей же у него было много, не только среди столичного чиновничества, но и среди мыслящих людей, среди сочинителей.
У него часто бывал Александр Сергеевич Грибоедов, чья комедия «Горе от ума» стала знаменитой в Петербурге.
Кроме того, находили, что он крупный дипломат и непременно выдвинется на этом поприще. Мордвинову приятно было беседовать с ним и с его другом, тоже молодым поэтом, Кондратием Федоровичем Рылеевым, который стал известен читающей публике своей сатирой «Временщику». В ней все узнали Аракчеева, но временщик отказался узнать себя. Это спасло автора — он не понес кары. Рылеев часто бывает у Мордвинова по делам Российско-американской компании. Рылеева все уважают как образованного, талантливого человека и очень интересного собеседника. Больше всего он любит говорить на политические темы, хоть разговоры эти очень волнуют Аркадия Алексеевича.
Однажды при гостях Вера Николаевна, обращаясь к мужу, спросила:
— Друг мой, не устал ли ты? Поди приляг, а мы перейдем в столовую.
Аркадий Алексеевич упрямо сдвинул брови, взял жену под руку и выразительно сказал:
— Пока человек жив, он должен действовать как живой, — и пригласил гостей к столу.
За обедом он рассказал о лорде Чатаме, который, будучи стар и слаб, не ездил уже в парламент, но, когда узнал, что там будут обсуждать одно важное дело, велел привезти себя туда и, подавши голос, упал без чувств, а через несколько дней умер.
— То же, наверное, будет и с тобой! — сердито заметила Вера Николаевна.
Гости начали успокаивать супругов. Аркадий Алексеевич сказал, что назло жене он скоро поправится, и согласился ехать вместе с Грибоедовым на Кавказ лечиться.
Глава XII
Занятия греческим языком. Смерть Аркадия Алексеевича Столыпина. Маруся и Пашенька
Пашенька просила ее благословить. Штаб-ротмистр Жизневский пленился ее кротостью и милой наружностью, подал прошение об отставке, решил жениться и заняться делами своего имения в Пензенской губернии. Родитель его умер, и молодой человек хотел остепениться и начать тихую семейную жизнь.
Стали готовиться к свадьбе. Арсеньева велела девушкам шить невесте приданое. Маруся Макарьева принимала в этом живейшее участие, но Миша равнодушно смотрел на домашнюю суету, занятый своими мыслями. Он не переставал рисовать, пробовал делать акварели.
Решено было пригласить для Мишеньки нового учителя — по греческому языку. Услуги свои предложил грек, только что приехавший из Кефалонии. Он бежал в Россию, когда вспыхнула война за освобождение Греции.
Стараясь угодить своей хозяйке, грек задавал детям много уроков, желая показать, какой он хороший учитель. Арсеньева сама проверяла знания внука; она помогала ему и принимала живейшее участие в его занятиях. Одна из родственниц впоследствии написала об этом стихи:
…Милой бабушке высказываешь снова
Урок младенческий, и вот забыл ты слово,
И вот она тебя с улыбкою бранит;
Но вечер. Сад тебя развесистый манит,
И няня вслед едва поспеет за тобою,
И дёрен смуглою ты оторвал рукою,
И снова к бабушке, и там перед огнем
За греческим ее находишь словарем.
С тобой и учится, и каждый вечер снова
Выписывать слова она готова,
Чтоб труд твой облегчить…
Впрочем, новый учитель недолго оставался в Тарханах. Мысли его были направлены на иное. Он быстро располнел на барских хлебах и стал часто ходить на тарханский базар и в Чембар, с большой выгодой продавал там шапки. Новый учитель был человеком глубоко практическим и специалистом по обработке звериных шкур. За отсутствием зверей в Тарханах деятельный грек начал дубить собачьи шкуры.
Грек научил своему ремеслу не только местных, но и окрестных крестьян. Истопник Прохоров, доезжачий Потапов и ливрейный лакей Кузьмин стали жаловаться, что доходность от их ремесла сильно упала — уж очень много у них появилось конкурентов, а те крестьяне, которые не шили шапок на продажу, научились их шить для себя и перестали покупать.
Слава о занятиях языками и другими науками в Тарханах стала темой для постоянных разговоров пензенских помещиков. Многие стали просить принять их детей для обучения, но Арсеньева отказывала.
Взяли только Колю Давыдова из Пачелмы. Мальчик был рад уехать из дому, потому что мать продолжала бесчеловечно наказывать дворовых.
Мальчик рассказывал, что у них в деревне живут несколько искалеченных крестьян — их не только били, но и пытали: по распоряжению помещицы им выщипывали бороды по волоску, а другим вывертывали руки на станке.
Многие умирали от побоев. Коля рассказал, что перед его отъездом дворовая девушка, убирая гостиную, нечаянно разбила большую китайскую вазу. Несчастную так избили палками, что она к вечеру умерла.
Рассказы Давыдова глубоко возмущали юного Лермантова. Он громко говорил о жестокости помещицы, не стесняясь гостей, которые постоянно бывали у бабушки. Арсеньева хотела заставить его молчать и долго советовалась с братом Афанасием Алексеевичем, как бы отвлечь мальчика от наблюдений за жизнью и нуждами крепостных крестьян.
Решено было, что бабушка будет по-прежнему хозяйничать в своем имении, а для крестьян, принадлежавших Мише по наследству от дедушки, начнут строить деревню, где он и будет распоряжаться, однако согласуя с бабушкой свои действия.
Деревню решили назвать Новоселовка или Михайловское. Там начали строиться и переселять туда крестьян, которых получил Михаил Васильевич из своего имения. Тогда их было шестнадцать человек, а за десять лет число семейств увеличилось. Арсеньева начала ездить по учреждениям, подавая и подписывая разные бумаги по этому делу. В Новоселовку выселили пять семейств дворовых и восемь семейств крепостных крестьян, всего семьдесят человек.
Так с 1825 года верстах в семи от Тархан образовалась новая деревня, хозяином которой стал Михаил Юрьевич Лермантов. Наконец-то бабушка выполнила свое обещание и дала всем тесу, чтобы построить новые избы. Дали им и кирпичей, чтобы сложить печи, а не топить по-черному. Все новоселы благословляли своего нового хозяина, а бабушка говорила, что такой расход она еще может выдержать, но всех тарханских крестьян вселить в новые избы не может, а то сама пойдет по миру с протянутой рукой.
С того времени Миша стал часто ездить в Новоселовку, когда разрешала бабушка, а мосье Капе, удивляясь причудам своего юного воспитанника, покорно следовал за ним.
Весной неожиданно пришло известие, которое заставило бабушку горько плакать: скончался брат ее Аркадий Алексеевич. Болезнь его окружающие не считали смертельной, да и он сам держался стойко. Жена его Вера Николаевна, желая, чтобы он лечился, постоянно повторяла ему шутя, что он умрет при исполнении своих служебных обязанностей. И действительно, вышло по ее слову!
Однажды Столыпин, превозмогая дурное самочувствие, решил выехать в Сенат. Вера Николаевна просила его остаться дома, но он отвечал:
— Когда действуешь по долгу своему, нужно уметь жертвовать собой!
Он присутствовал в Сенате, желая спасти честь одного несчастного человека, против которого выступали сильные люди. Впоследствии друзья рассказывали, что, «склонив мнения и вдохнув мужество в трусливых, Столыпин так ослабел, что его вынесли из Сената без чувств, и через шесть дней его не стало».
В «Северной пчеле» от 9 мая 1825 года было напечатано: «Сего 7 мая в 9 пополудни скончался здесь к общему сожалению тайный советник, сенатор, член комиссии о построении Исаакиевского собора и кавалер Аркадий Алексеевич Столыпин».
Миша огорчился, что теперь бабушка не поедет на Кавказ, а ему очень хотелось ехать, и он терпеливо ожидал, пока ее слезы иссякнут. Но бабушка любила поплакать, и глаза ее опухали, а веки краснели, их приходилось охлаждать примочками. Внук напоминал ей, что только серная вода может излечить ее глаза, и всячески убеждал ее поскорее выехать на Кавказ. Желание его сбылось, потому что много родственников Арсеньевой собирались в этом году в Пятигорье. Бабушка стала готовиться к отъезду. Однако надо было позаботиться о судьбе Маруси Макарьевой, — ведь свадьба и отъезд Пашеньки прошли незаметно для всех, кроме Маруси.
Арсеньева не занималась девочкой, хотя кормила ее за барским столом и одевала, как девицу благородного происхождения. Она даже часто разговаривала с ней о том о сем, но все это делалось свысока, без любви. С Пашенькой же Маруся была запросто, говорила все, что она думала, все, что подвернется на язык, и не стеснялась. Маруся была девочка хорошая, никаких дурных шалостей за ней не водилось, но все-таки приятно было иногда посекретничать, и они с Пашенькой хохотали и шушукались…
Пашенька была лицом погрубее, а у Маруси личико точеное, ярко-синие глаза, с золотым отливом волосы, кожа лица гладкая, румянец во всю щеку. Маруся уже становилась девицей — стягивала себе талию и краснела, когда гости говорили о ее наружности. Она была еще слишком молода, чтобы выслушивать комплименты мужчин. Мальчиков — Мишиных сверстников — она дичилась; теперь их собралось много, и они носились по саду с хохотом, гиком, с саблями и ружьями.
Такие игры считались неприличными для девицы, и Арсеньева принимать в них участие Марусе не разрешала. Если же Миша подходил к ней играть, мальчики его дразнили, и он уходил.
После отъезда Пашеньки Маруся оказалась одинокой. С дворовыми девушками она не сходилась, Арсеньеву она боялась и дичилась и целые дни сидела одна за вышиванием, или за книгой, или писала письма Пашеньке и своим сестрам. Учиться с мальчиками она не хотела: ей, подростку, казалось неудобным сесть с ними в один класс.
От сестер Маруся довольно часто получала письма. Старшая сестра, Катенька, которая была замужем за дьяконом в Тамбове, пригласила ее погостить. Арсеньева с внуком отвезли Марусю, щедро одарив ее. Оказалось, что Катенька живет неплохо: она очень обрадовалась сестре и стала уговаривать ее остаться поухаживать за ее детьми.
Маруся согласилась, а потом захотела постоянно жить с сестрой и не вернулась в Тарханы.
Глава XIII
Третья поездка на Кавказ
Стали собираться в дорогу на Кавказ опять-таки с братом Александром Алексеевичем, который на этот раз взял с собой жену и трех дочерей.
Арсеньева любила быть окруженной толпой «своих людей» и собрала в дорогу тех, кто мог оказывать услуги ей и Мишеньке в поездке. Поехали доктор Ансельм Левис, Христина Осиповна, здоровье которой рассчитывали поправить серными водами, мосье Капе, дядька Андрей Соколов, Дарья Куртина, няни, повар; даже Мишу Пожогина взяли для компании Мишеньке.
Выехали в хорошую погоду и радовались, что весна стояла добрая. Однако дорога утомляла. Чем ближе к Кавказской линии, тем чаще встречались сторожевые вышки с казачьими пикетами. Вскоре путников встретил муж Анеты Хастатовой — Павел Иванович Петров, командир Моздокского полка; его сопровождало около полуроты солдат. Арсеньева радовалась, что выехали на берег Подкумка под конвоем любезного родственника.
Наконец-то Екатерина Алексеевна переехала в Горячеводск! Она разобрала по бревнам свой большой шестикомнатный дом, перевезла его и поставила у подножия Горячей горы.[26]Ныне на месте усадьбы Хастатовой стоит здание серно-родоновых ванн, выстроенных в 1899–1900 гг. Теперь они называются Пушкинскими, ранее — Ново-Сабанеевскими; переименованы в 1927 году. Хастатова именовала свои владения «подворьем». Кроме большого дома, было выстроено несколько флигелей и службы — небольшие турлучные домики. Турлучные строения ставили быстро и дешево: между столбами, глубоко врытыми в землю, заплетали хворост, как плетень, только толще, затем обмазывали его глиной и белили. Крышу настилали из стеблей камыша, которым заросло Тамбуканское озеро.
Усадьба бабушкиной сестры Екатерины Алексеевны, окруженная большим садом, находилась в центре Горячеводска, который впоследствии был переименован в город Пятигорск.
Арсеньевой с внуком и со всем ее штатом отвели домик с камышовой крышей и небольшим балкончиком. Чудесно было здесь! Хастатова с семьей жила в конце Главной, или Большой, улицы, рядом находился застроенный участок; перед глазами была улица, заросшая ромашками и полынью, а прямо со двора дорожка вела по скалам на Горячую гору. Здесь за оградой начинались буйные заросли колючих кустарников шиповника и терна, а дальше, за кустами орешника, — низкорослый лесок. С Горячей горы можно было любоваться цепью Кавказских гор. Снега двуглавого Эльбруса розовели несказанными переливами.
Екатерина Алексеевна долго и шумно выражала свою радость по поводу прибытия дорогих гостей. Она громогласно приветствовала приезжих восторженным басом. Арсеньева, радуясь и предвкушая долгое наслаждение задушевными беседами, много раз целовала и обнимала свою любимую Катеньку.
В первую же ночь по приезде Мишенька обратил внимание, что возле усадьбы Хастатовой стояли казачьи пикеты и постоянно слышался окрик часовых:
— Кто идет?
В ночной тишине шла перекличка:
— Слушай!
Екатерина Алексеевна успокоила гостей, что легкие стычки с горцами мало волновали местных жителей. Больше вреда было от пожаров, которые оставляли людей без крова.
По ночам нередко слышались звуки набата. Екатерина Алексеевна повторяла, что тревожиться нечего, и спокойно шла укладываться спать. Арсеньева же, слыша ружейную перестрелку, чувствовала припадок сердцебиения. А Миша хватался за кинжал и хотел идти воевать, его едва удерживали дома.
К серным источникам ходили в обход через город, а затем по дорожке, которая поднималась от Александровского источника по хребту горы, к так называемому Елизаветинскому источнику. Здесь из горы вытекали питьевые серные ключи; к ним лечащиеся подходили со своими стаканами.
Около Елизаветинского источника неожиданно встретили старого родственника — генерала Мосолова из-под Чембара; он сказал, что побоялся оставаться этим летом в своем имении, потому что начались крестьянские волнения вокруг: и в Пензенской, и в Симбирской, и в Нижегородской губерниях. Участились побеги крестьян, и начались жестокие расправы с управляющими имениями.
Мосолов стал бывать в доме Хастатовой. У Екатерины Алексеевны часто собирались по вечерам «на шашлычок». Если приходили только свои, и то полно было народу: брат Александр Алексеевич с семейством, Шан-Гиреи и Петровы, Мосолов и Арсеньева с внуком. Кроме того, постоянно бывали знакомые, чаще всего Верзилины. Они купили себе небольшой дом и жили у подножия Машука. Верзилин только что женился на двадцатисемилетней вдове Марии Ивановне Клингенберг, очень женственной и миловидной. Ее дочь от первого брака, Эмилия, обращала на себя общее внимание своей красотой. У Верзилина была тоже дочь от первого брака — Грушенька.
Верзилин — соратник и сослуживец Ермолова — был дружен в свое время с генералом Хастатовым. Теперь он командовал Волжским полком, который стоял в Горячеводске, и часто навещал Хастатовых.
Мужчины говорили о войне. Александр Алексеевич любил вспоминать свою молодость, когда он служил адъютантом у Суворова.
Екатерина Алексеевна вспоминала геройские подвиги своего супруга Акима Васильевича, как он при Фокшанах был ранен, а «при Рымнике командовал крайним гренадерским кареем[27] Каре́й, или каре́, — построение пехоты в форме четырехугольника для отражения неприятельской атаки со всех четырех сторон. правого крыла и отбил со своей частью набег пяти тысяч турок за полчаса».
Генерал Мосолов рассказывал о Бородинском сражении, участником которого он был. Взрослые не обращали внимания на десятилетнего мальчика, который, расширяя огромные глаза, внимательно вслушивался в их разговор.
Часто бывал в доме Хастатовых молодой кабардинец Шора Ногмов. Он отлично говорил по-русски, хотя и с акцентом. Его родным языком был кабардинский, но он знал арабский, турецкий, персидский и абазинский. Все удивлялись блестящим способностям молодого человека и его умению поддерживать разговор.
Рассказывали, что еще с детства Шора Ногмов пристрастился к книгам и за начитанность его сделали в юности муллой. Но Шора оставил сан и стал служить в полковой канцелярии переводчиком — надо было зарабатывать себе на хлеб. Впрочем, он был не только канцеляристом, но впоследствии и учителем, он любил детей.
Когда Шора появлялся у Хастатовых, Миша выходил к гостям. Павел Иванович Петров однажды спросил Шора:
— Объясни, пожалуйста, мне, друг мой, сцену, которую я видел однажды, будучи в Кабарде, — она нейдет у меня из памяти. Из сакли вывели молодого человека в войлочном безобразном колпаке и поставили перед собранием. Одни с презрением отвернулись от несчастного, Другие оскорбляли его…
Шора объяснил:
— Так поступают с человеком, уличенным в трусости.
Кабардинцы — люди храбрые и мужественные, а труса они выводят перед собранием, желая посрамить его публично, чтобы клеймо позора легло на его жизнь. После того как сельчане выскажут свое негодование, они налагают на труса штраф: отнимают у него двух волов, а если их нет, то берут деньгами их стоимость. Этим нарочно почти разоряют беднягу. Но каждый должен помнить, что ему легче умереть, чем прослыть трусом.
Миша внимательно слушал эту историю и никак не хотел уходить.
Шора Ногмов был незаменимым спутником на пикниках, до которых генеральша Хастатова была большою охотницей.
Однажды выехали на пикник в немецкую колонию Каррас «погулять под сенью тополей», как выражался один из дядей. Поехали на линейках, большой компанией, а сзади на телеге везли самовар, вино и провизию. В дороге Миша присоединился к Шора Ногмову, и тот, польщенный вниманием мальчика, рассказал ему несколько местных легенд и преданий.
Пикник в Каррас очень удался, хотя Арсеньева обратила внимание, что на всех улицах стоят палатки пехотинцев, охраняющих немецких колонистов от набегов горцев.
На обратном пути, сидя на одной линейке вместе с другими, Екатерина Алексеевна случайно услыхала, что Шора Ногмов рассказывает Мишеньке об Исмеле Псыго; она тотчас же вмешалась в разговор, утверждая, что не Исмелем Псыго надо называть легендарного юношу, но Измаил-Беем, потому что покойный Аким Васильевич так его называл: он лично знал Измаил-Бея и с ним участвовал в Турецкой кампании вместе с Суворовым. Хастатова рассказала все, что знала про Измаил-Бея.
Шора приходил в гости не часто — он был постоянно занят. Однако как только он появлялся, юный Лермантов искал с ним встречи и подсаживался к нему. Шора ласково обнимал своего маленького слушателя и не отпускал от себя, вспоминая своих сыновей. Мишенька же требовал рассказов самых интересных, самых страшных: он ничего не боится, он уже совсем большой.
От него мальчик услыхал о некоторых кавказских обычаях, несвойственных русским. Так, Шора рассказал о старинном обычае кровной мести — «каллы»:
— Много лет назад в Аджи-ауле один юноша узнал от муллы о том, кто убил его отца, мать и брата, кто сделал его сиротой. «Кровь их должна быть отмщена!» — сказал мулла и с этими словами дал юноше кинжал, а тот, разгоряченный рассказом старика, поклялся отомстить.
Поздно ночью он прокрался в саклю своего врага и сдержал свое слово: убил не только убийцу своего отца, но и дочь его, цветущую семнадцатилетнюю девушку. Предсмертные стоны ее так потрясли молодого человека, что он пошел к мулле и пронзил его бесчувственное сердце кинжалом.
Глава XIV
Легенды и явь. Первая любовь. Смерть Христины Осиповны
Уж скачка кончена давно,
Стрельба затихнула. Темно
Вокруг огня. Певцу внимая,
Столпилась юность удалая,
И старики седые в ряд
С немым вниманием стоят.
На сером камне, безоружен,
Сидит неведомый пришлец.
Наряд войны ему не нужен,
Он горд и беден: он певец!
Дитя степей, любимец неба,
Без злата он, но не без хлеба.
Вот начинает — три струны
Уж забренчали под рукою,
И живо, с дикой простотою
Запел он песню старины.
В Аджи-ауле было объявлено празднование мусульманского праздника байрам. Празднование должно быть торжественным и многолюдным: в Аджи-аул приглашались русские — офицеры с женами и генералитет. 15 июля на торжество съехались чуть ли не все посетители Горячих вод, благо что аул находился всего в четырех верстах.
И здоровые и больные, и старые и молодые — все хотели видеть зрелище, для них новое. Кареты, коляски, дрожки, всадники в парадных костюмах потянулись к аулу. Миша вместе с бабушкой своей и Хастатовыми также поехал на праздник.
Изумрудная долина под навесами скал грозного Бештау расцветилась толпами гостей. Русские дамы в нарядах, которые они носили в гостиных, стояли рядом с черкешенками, одетыми в национальные костюмы. Офицерские мундиры сливались с модными нарядами столичных и провинциальных щеголей и щеголих. Казаки, черкесы, ногайцы гарцевали на борзых конях, красуясь перед толпой. Песенники и музыканты расположились по сторонам раскинутых палаток.
Национальные костюмы мужчин были очень живописны; пистолеты и кинжалы украшали пояса их суконных чох с откидными рукавами, расшитых золотым галуном.
Когда солнце стало клониться к закату и жара спала, всадники с криками выехали на луг и старались сорвать папаху один с другого. Потом на лужайке выставили высокий шест: на него повесили кожаный чехол для пистолета, обшитый серебряным галуном, и лучшие стрелки стали стрелять в эту мишень.
Чего только не делали джигиты! Обгоняя друг друга, они то вскакивали на седло, то опрокидывались и ложились на спину коня, словно убитые, то сползали до самой земли и неожиданно вскакивали и неслись за воображаемым неприятелем. На всем скаку они вынимали свои ружья из чехлов, заряжали их и стреляли в пролетающих птиц. Выкрики джигитов, топот мчащихся коней гулко отдавались вокруг.
Потом на лужайке начались танцы. Горцы в черкесках, облегавших их тонкую талию и широкие плечи, быстро перебирали ногами, обутыми в мягкие сафьяновые сапоги. Они плясали лезгинку и приглашали на танец стройных молодых девушек и женщин-горянок, и те плавно вскидывали легкие бубны над головой.
Тем временем вынесли угощение на подносах: засахаренные орехи, миндаль и фрукты нового урожая. Все это предлагали отведать почетным гостям.
На праздник приехал народный певец Керим-Гирей. По случаю праздника он надел шелковый бешмет, а на поясе его было прикреплено боевое оружие: пистолеты, шашка, кинжал.
Керим-Гирей сидел под навесом палатки и пел. Раздавался взрыв восторженных криков, друзья певца выходили с подарками, подносили ему платье, оружие, кошельки с деньгами; подарили даже коня.
Песни Керим-Гирея произвели на Мишу сильное впечатление. Мальчик часто повторял напевы и непонятные ему слова и фразы, которые поразили его слух.
Миша долго вспоминал праздник.
Этим летом он прочел поэму Пушкина «Кавказский пленник». Поэма его поразила. Он запомнил «Пленника» наизусть и на прогулках, глядя в небо и на горы, любил повторять отдельные стихи.
Два раза Миша ездил на Кавказ, но тогда он был еще слишком мал, чтобы разбираться во многом, теперь же пытливо вглядывался в природу Кавказа и в людей, населявших этот удивительный край, и запоминал мельчайшие подробности того, что видел. Он любил гулять по горам, по скалам и с вершин их видел перед собой цепь снежных Кавказских гор.
На Кавказе он видел змей, отвратительных, скользких, холодных и ядовитых, встреча с которыми сулила гибель неопытному и доверчивому человеку. В камнях и в кустарниках по дороге на вершину Бештау гнездилось множество их. У источника, где недавно был обвал, змеи кишели в балках. Их было так много, что они расползались повсюду, и иногда их замечали в Горячеводске. Змеи водились и в горах: одна из них даже именовалась Змеиной, и легенда гласила, что в пещере жил огромный змей, который причинил много зла людям.
На Кавказе Миша услыхал впервые миф о Прометее, прикованном к скале, и слышал несколько раз это сказание по-разному. Говорили, что богатырь прикован к выступу огромной горы за дерзкий вызов творцу Вселенной. Богатырь был силы неописуемой, и если бы ему удалось освободиться и взять в руки огромный меч, который лежал неподалеку от него, то он возвратил бы себе потерянную мощь. Верные псы его днем и ночью старались перегрызть цепи, в которые он был закован, но им не удалось еще освободить его, и прикованный страдал, терзаясь надеждой освободиться.
Миша задумывался, глядя вдаль. Кавказские горы приучили его любоваться небом, глубину которого он не мог наблюдать равнодушно.
Казалось, что все в этом краю прекрасно: на гладком холме одинокое дерево, согнутое ветром и дождями; виноградник, шумящий в ущелье; и путь неизвестный над пропастью, где, покрываясь пеной, бежит безымянная речка; выстрел нежданный на дороге и страх после выстрела: враг ли коварный, иль просто охотник?
С обостренным любопытством Миша впитывал новые впечатления.
Странное событие произошло в это лето — слишком рано для того, чтобы этому поверить… Да и кто поверит, что он узнал любовь, имея десять лет от роду?
Гостей у Хастатовой бывало много, и как-то утром пришла молодая дама под зонтиком, а с ней две нарядные девочки лет по девяти. Когда они показались в палисаднике, тетушка Мария Акимовна выбежала их приветствовать и обнимать. Она была очень дружна с Марией Ивановной Верзилиной. Девочки одеты были одинаково, но на одной платье сидело мешковато и ее загорелое, скуластое лицо походило на грушу, зато другая девочка ошеломила взгляд осанкой и красотой гордо поднятой головы. Белокурые волосы, яркой синевы глаза, алый рот и нежно-розовый румянец…
Катюша и Аким Шан-Гирей побежали навстречу девочкам и приветствовали их, называя некрасивую Грушенькой, а красавицу — Эмилией. Екатерина Алексеевна вместе с сестрой и Марья Акимовна усадили мать девочек в плетеное кресло на балконе, увитом виноградом, и начали с ней оживленный разговор.
Марья Акимовна, обратившись к бонне, сказала:
— Христина Осиповна, пусть дети поиграют в волан или в серсо!
Старушка тотчас же принесла игры, и дети стали подгонять цветными палочками обручи по аллее. Миша оказался рядом с Эмилией и стал ее перегонять, а остальные отстали. Девочка самолюбиво вскрикнула:
— Ой, он меня обгонит!
На бегу она опасливо посмотрела на Мишу; он взглянул на разгоряченное лицо своей соседки, на ее искрящиеся синие глаза, даже остановился, счастливо улыбаясь. Сердце у него замерло — так хороша была эта красивая, нарядная девочка, похожая на бабочку. Она же, не заметив произведенного ею впечатления, догнала свое серсо до цели и радостно закричала:
— А я первая, первая!
Миша сел на скамейку и продолжал любоваться Эмилией, а она, гордая тем, что выиграла, призывала детей:
— Катюша! Аким! И… как зовут нового мальчика? Миша? Где он? Становитесь в ряд! Бежим!
Но Миша почувствовал, что встать со скамейки не может. Сердце его билось сильнее обычного, ноги ослабели, и он отказался бежать.
Через несколько дней Миша успокоился и по-прежнему играл с маленькими Шан-Гиреями и Мишей Пожогиным. Однажды перед обедом он неожиданно вбежал в детскую, желая показать Акиму, какие карандаши ему купила бабушка, и обомлел: Катюша сидела на диване между Эмилией и Грушенькой. Миша остановился в дверях и восторженно стал смотреть на Эмилию не отрываясь. Катюша стала его подзывать, но он не мог оторвать глаз от гостьи…
Дети заметили его волнение и стали дразнить, а Эмилия, устремив на него невинный взгляд, вдруг поняла, что это из-за нее Мишель пришел в замешательство. Надменно улыбнувшись, она подошла к зеркалу пригладить локоны и неотступно стала наблюдать за Мишей, не спуская с него повелевающих глаз. Но он смутился окончательно и убежал к себе в комнату.
Христина Осиповна пришла звать его к обеду и ужаснулась: Мишенька лежал на постели, уткнувшись лицом в подушку, и тихонько плакал. Христина Осиповна окликнула его, он поднялся. Лицо у него было взволнованное, голос дрожал, когда он стал отвечать; но Миша сказал, что сильно ушиб себе ногу, потому и плакал. Не успела Христина Осиповна опомниться, как Миша вскочил на подоконник раскрытого окна, спрыгнул в сад, побежал в гору и пошел по проселочной дороге. Не замечая времени, он далеко отошел от дома и в пустынном месте, под тысячелетней скалой, покрытой мхом, заметил старика. Он был как бы высечен из камня. Выцветшая, запыленная одежда его, поседевшие брови и борода, вылинявшие глаза, загрубелая, темная кожа — все это казалось нарисованным одной серой краской, цветом угасания и безнадежности.
Старик сидел опустив голову, и нельзя было сразу догадаться, задумался он или молится.
Миша остановился и внимательно стал разглядывать старика, а тот, почувствовав на себе напряженный взгляд, очнулся от своей задумчивости и обрадовался, встретив живую душу в этом пустынном месте. Он знаком пригласил мальчика остановиться, и тот, вздыхая, сел рядом.
Старик плохо говорил по-русски, но Миша его понимал. Оказывается, он шел к Кислым Водам, желая излечить свои немощи целебной водой Нартсана — нарзаном, напитком нартов, сказочных богатырей, водой, дающей силу ослабевшим людям. Но он не вкусил еще из богатырского источника и потому был слаб. Старик предложил мальчику идти с ним до Горячеводска. Миша согласился. Они побрели по пыльной, малонаезженной дороге, стараясь идти по обочине.
Старик понемногу разговорился. Показав на развалины аула между подножиями гор, он сказал, что жил ранее там. Миша ответил, что он тоже приезжий, и стал расспрашивать. Старик сначала отвечал нехотя, думая, что ребенок не поймет его толком, а потом разоткровенничался, стал жаловаться на тяготы войны, говоря, что горцы живут мечтой о свободной, самостоятельной жизни. Разговорившись, старик стал рассказывать случаи из прошлого о людях, которых он знал, жизнь и поступки которых стали легендарными. Он рассказал про Исмеля Псыго, про Амирани. Миша его расспрашивал подробно — ведь Шора Ногмов рассказывал немного иначе.
Они незаметно дошли до дому. Бабушка в слезах встретила своего любимца, говоря, что его уже давно ищут. Миша попросил накормить старика, и его тут же отправили на кухню и даже оставили ночевать на сеновале.
Вернувшись домой, Миша опять стал думать об Эмилии. Он каждый день ждал ее, но боялся говорить о ней и убегал, когда упоминали ее имя.
Взрослые стали замечать его волнение и дразнили его, а он мечтал о ней и плакал…
Бабушка обеспокоилась. Однажды Миша слышал, как она советовалась с доктором Ансельмом:
— Что случилось с Мишенькой? Можно подумать, что он влюблен, но этого быть не может, ведь ему десять лет… Что делать? Загадка эта волнует меня…
Доктор Ансельм сказал, что в книге модного английского поэта Байрона он прочел, что ранняя страсть означает душу, которая любит изящные искусства, что в такой душе много музыки.
Бабушка всегда старалась возвращать мысли Мишеньки с облаков на землю. Однажды она предложила сопровождать ее на базар, потому что хотела купить ему сафьяновые сапожки.
Пришлось собираться. Запрягли линейку. Поехали бабушка с Мишей, мосье Капе, который почтительно поддерживал ее под руку, доктор Ансельм Левис, Марья Акимовна, Христина Осиповна, Андрей и Дарья.
Возвращались довольные покупками. Андрей нес большой узел на плече. Мише хотелось идти, а не ехать, и все пошли пешком. Миша уходил по тротуарным мосткам вперед, напевая и задумываясь, не щадя своих старух, которые едва за ним поспевали.
Линейка ехала за ними.
Навстречу им попалась цыганка с седыми волосами, заплетенными в косицы, которые темнели из-под цветного платка. Жилистая шея старой женщины увешана была бусами разного цвета и разной величины; возможно, каждая бусина имела свою историю: каждую из них цыганка подбирала, выпрашивала, а может быть, даже и воровала… Широкая цветная, вся в сборках юбка ее шевелилась от малейшего движения, а сгорбленный стан прикрыт был цветной шалью.
Тонкие, высохшие от времени и загорелые пальцы с длинными ногтями держали грязную и толстую колоду карт; каждая карта опухла и замаслилась.
Старуха поклонилась в пояс Арсеньевой, приговаривая:
— Дай червонец, красавица, правду скажу!.. Надо тебе правду знать — долго еще будешь жить…
Но Арсеньева отказалась гадать, дала цыганке монету и попросила, чтобы она отошла. Цыганка прикусила червонец еще крепкими зубами и затолкнула его языком за щеку.
Тем временем Христина Осиповна достала из своего кошелька ассигнацию и подала ее цыганке, прося погадать.
Стремительно и ловко выхватив бумажку и положив ее в карман, старуха сердито закричала:
— Тебе плохо! Ты скоро умрешь: не год, не месяц, не неделю — нет, дня даже жизни тебе нет: считай каждый час!
Христина Осиповна вскрикнула, побледнела и прислонилась спиной к какому-то бревенчатому строению. Арсеньева растерялась, махнула палкой, желая отогнать гадалку, но та с одушевлением выкрикнула, указывая на Мишу:
— За него деньги дай! Он будет большой человек!.. Великий человек! — повторила она таинственно и почтительно. — Только пусть себя бережет — ему судьба умереть от злой женки…
— Уйди! — закричала Арсеньева.
Она испугалась. Желая отделаться от старухи, она вынула из кошелька еще один золотой и бросила его на землю. Цыганка наклонилась искать монету; тем временем Арсеньева велела внуку сесть на линейку, подхватила под руку дрожавшую Христину Осиповну и подсадила ее. Кучер взмахнул кнутом, и они быстро отъехали.
Их догнали мосье Капе, доктор Ансельм, Марья Акимовна, Дарья и Андрей. Они все уселись на ходу и велели кучеру ехать как можно быстрей и завернуть в первый же попавшийся переулок.
Миша молчал. Самолюбивая улыбка, неожиданно проступивший румянец и отблеск гордости в глазах оживили его лицо. Любуясь внуком, Арсеньева не могла отвести от него взора. Миша, почувствовав на себе этот взгляд, сказал утвердительно:
— Дай бог, чтобы это надо мной сбылось, хотя бы я и стал несчастлив!
Бабушка возразила:
— Я не хочу, чтобы ты был несчастлив!
Она обернулась, желая поглядеть на Христину Осиповну, которая опиралась спиной о спину Арсеньевой и тряслась мелкой дрожью так, что зубы ее стучали; она не могла разжать рта, руки ее судорожно перебирали одежду.
— Что с тобой? — с беспокойством спросила Арсеньева. — Тебе худо?
Христина Осиповна упала бы на бок, но с одной стороны у нее сидел Андрей, с другой — Дарья. Они с испугом посмотрели на лицо бонны и подхватили ее под руки.
Когда подъехали к дому и все встали, забыв о ее болезни, Христина Осиповна осталась без опоры и, как кукла, повалилась на бок. Глаза ее были открыты, но неподвижны.
Ее внесли в дом и уложили в постель. Она лишилась дара речи, пыталась что-то сказать, но не могла.
Ночью Миша проснулся от резкого запаха лекарств. Он присмотрелся. Луна светила в окно. Кровати доктора Ансельма и мосье Капе были пусты. В соседней комнате слышалась суета. Миша потихоньку отворил дверь и заглянул в бабушкину комнату. Бабушка сидела в кресле и неудержимо плакала, а у кровати Христины Осиповны стояла Дарья со свечой в руке и, понурившись, сидели доктор Ансельм и мосье Капе. Андрей, сумрачно хмурясь, собирал пузырьки с лекарствами. Миша понял: Христина Осиповна умерла.
Он почувствовал сильное сердцебиение и едва дошел до своей кровати. Мальчик начал вспоминать, как Христина Осиповна ухаживала за ним в дни его бесконечных детских болезней, и острая жалость и нежность к ней, почти родной, пронизала его. Подумать только: никогда она больше не будет вязать чулок, никогда не скажет ему: «Фуй, шанде, Михель»… Нет. Нет, не то… Миша стал думать о том, что Христина Осиповна была как бы его второй бабушкой, и заплакал горько и мучительно. И зачем это люди умирают?
Утром он встал с воспаленными глазами, но сдержанно и молчаливо присутствовал на всех печальных церемониях, а на похоронах мужественно утешал бабушку.
Это происшествие случилось в конце лета, и Арсеньева, огорченная потерей преданного ей человека, велела собираться в дорогу, тем более что брат Александр торопился домой.
Перед отъездом Арсеньева долго говорила со своей племянницей Марьей Акимовной Шан-Гирей. Дело в том, что климат Кизляра был вреден для ее мужа, Павла Петровича, — он болел лихорадкой; в Пятигорске же обосновываться не желал, потому что не ладил с властной тещей своей, Екатериной Алексеевной. Марья Акимовна желала бы купить имение, но за недорогую цену. Арсеньева вспомнила про Опалиху, которую так давно собиралась продавать Полина Аркадьева Савелова, и обещала постараться уладить это дело. Миша был доволен, что Аким Шан-Гирей будет учиться вместе с ним.
Перед отъездом с Кавказа в родственной компании много говорили о безвременной смерти брата Аркадия и о его красавице жене, которая так рано осталась вдовой.
Рылеев трогательно утешал Веру Николаевну в постигшем ее горе.
В одном из петербургских журналов, завезенных в Пятигорск из Петербурга, было напечатано стихотворение Рылеева Вере Николаевне Столыпиной:
Не отравляй души тоскою,
Не убивай себя: ты мать,
Священный долг перед тобою
Прекрасных чад образовать.
Пусть их сограждане увидят
Готовых пасть за край родной,
Пускай они возненавидят
Неправду пламенной душой.
Пусть в сонме юных исполинов
На ужас гордых их узрим
И смело скажем: знайте, им
Отец — Столыпин, дед — Мордвинов!
Стихотворение это все не один раз прочитали и одобрили. У Хастатовых было две книги стихов Рылеева: «Думы» и «Войнаровский». Миша так часто перечитывал их, что выучил наизусть. Хастатовы же сказали, что этих книг перечитывать не будут — довольно того, что раз прочитали. Поэтому они подарили книги Рылеева Мише.
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления