Онлайн чтение книги
Дьявольские повести
Безымянная история
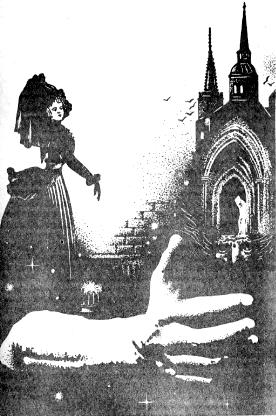
1
Ни дьявольская, ни серафическая, а просто… безымянная.
В последние годы восемнадцатого столетия, предшествовавшие Французской революции, в одном из городков Форе[391]Область в дореволюционной Франции. у подножия Севенн некий капуцин произносил проповедь между обедней и вечерней. Было первое воскресенье поста. В церковь искоса проникали лучи дня, затененного к тому же тенью гор, которые обстали, более того, сжимают этот странный городок и, неожиданно вырастая из-под стен последних домов, кажутся боками некой чаши, куда чьей-то рукой брошены здания городка. По этой примечательной особенности читатель, может быть, узнает ***. Эти горы представляли собой как бы перевернутый конус. Спускаться с них в городок приходилось по крутой, хотя и кругообразной, дороге, которая, скручиваясь штопором, как бы образовывала над городком несколько терасс, повисших на разных этажах. Жители этой бездны несомненно испытывали нечто вроде тревожной робости бедной мошки, которая свалилась в немыслимо глубокий для нее стакан и, вымочив крылышки, бессильна выбраться из хрустальной пропасти. Трудно представить себе что-либо печальней этого городка, несмотря на изумрудно-зеленый пояс лесистых гор, окружающих его, и речки, журчащие со всех сторон и подобные серебряному бульону из-за кишащих в них туч форели: ее там столько, что хоть руками бери… Провидение, действуя из наивысших соображений, соизволило, чтобы человек любил родную землю, как любят мать, даже если та недостойна любви. Без этого нельзя понять, как широкогрудые мужчины, которые не могут жить без свежего воздуха, горизонта, простора, соглашались оставаться замурованными в узком овале гор, где они на ходу постоянно наступали друг другу на ноги — настолько тесно там было всему живому; а то, что они даже не пытались подняться выше, чтобы надышаться всласть, невольно наводило на мысль о живших под землей углекопах или об узниках старинных монастырей, которые долгими годами молились в поглотивших их темных in расе. Что до меня, я прожил здесь месяц на манер поверженного титана[392] Титаны (миф., часто отождествляются с гигантами) — боги старшего поколения, восставшие против олимпийцев и погребенные последними под обломками гор. физически испытывая ощущение рухнувших на меня невыносимо тяжелых гор, и, когда я вспоминаю об этом, мне кажется, что они до сих пор давят мне на сердце.[393]Воспоминание о поездке Барбе д'Оревильи в Бурж-Аржанталь (департамент Луара) в 1841 г. Почерневший уже от времени, потому что тамошние дома — весьма старинной постройки, этот городок, который можно было бы сравнить с рисунком китайской тушью и в котором сохранились кое-какие феодальные руины, выглядел еще чернее — черное на черном — в перпендикулярной тени обставших его гор, похожих на стены крепости, куда испокон века не взбиралось на штурм солнце: они слишком отвесны, чтобы оно могло перемахнуть через них и швырнуть луч в образованную ими дыру. Иногда там темно даже в полдень. Вот где Байрону следовало писать свою «Тьму»,[394] «Тьма» — поэма Байрона (1816 г.). вот куда Рембрандту следовало бросать свои светотени или, вернее, заимствовать их оттуда. В летнюю солнечную погоду жители, вероятно, догадываются, что наверху — вёдро, поглядывая на синь отдушины, сияющей в тысяче футов у них над головой. Но в тот день не синела и отдушина. Она была серой. Низкие тучи легли на нее железной крышкой. В бутылке торчала пробка.
В этот момент все население городка находилось в церкви, суровом храме XIII века, где даже рысьи глаза, если бы такие существовали, не сумели бы прочесть требник зимним вечером, в пору меж волка и собаки, в которой было все-таки больше от первого, чем от второй. Восковые свечи, согласно обычаю, с началом проповеди погасили, и толпа, плотная, как черепицы на кровле, была видна проповеднику не отчетливей, чем он сам, отделенный от нее и вознесенный над нею своей кафедрой. Но хоть видели его плохо, слышали — хорошо. «Капуцин только в хоре гнусавит»[395]Нищенствующий орден капуцинов отличался необразованностью братии и низким качеством проповедей (франц. «говорить как капуцин» значит «гнусавить»). Однако, несмотря на такую оценку капуцинов в целом, эти темные, косноязычные монахи, в отдельности, очень часто весьма ловко обделывали свои делишки. гласила когда-то поговорка. У этого капуцина голос был звонкий и как нельзя более пригодный возвещать самые грозные истины религии, и в этот день он их возвещал. Он проповедовал об аде. Все в этой суровой церкви, куда медленно, волна за волной вползала с каждой минутой все более густая мгла, придавало величественность речи проповедника. Статуи святых, закрытые, как всегда во время поста, драпировками, походили на таинственные белые привидения, застывшие вдоль белых стен, и проповедник, чья почти неразличимая фигура металась на фоне белой колонны, к которой была приставлена кафедра, выглядел одним из таких привидений. Казалось, призрак читает проповедь призракам. Даже его громовый и столь явственно земной голос, который мог принадлежать только живому человеку, производил на таком фоне впечатление гласа небесного. Все это настолько захватывало, внимание было столь глубоким, а молчание столь полным, что, когда проповедник на секунду умолкал, переводя дух, за стенами церкви становилось слышным журчание ключей, просачивавшихся с гор к этому храму вздохов, усугубляя меланхолию его теней меланхолией своих вод.
Разумеется, красноречие человека, говорившего в этот час в этой церкви, во многом определялось тем, что его окружало и что я описал выше. Но кто знает, в чем секрет красноречия? Слушая проповедника, все поникали головой, все души, взметаясь, ловили его голос, раскатывавшийся как гром под потрясенными сводами. Однако две головы не поникли, а, напротив, потянулись к утопавшему в полутьме оратору в отчаянной попытке его разглядеть. Это были две женщины — мать и дочь, которые, видимо, пригласили проповедника оттрапезовать у них вечером после проповеди и которым не терпелось увидеть гостя. Если читатель помнит, в то время во всех приходах королевства проповеди на Великий пост произносились заезжими монахами, принадлежавшими к различным не местным орденам. Как истинный, хоть и не сознающий того, поэт, народ, умеющий всему изобрести прозвище, наградил таких залетных монахов кличкой «Ласточки поста». Так вот, когда одна из таких птичек опускалась в каком-нибудь городке или городишке, ей помогали в одном из лучших местных домов. В провинции, где жизнь нестерпимо монотонна, богатые и набожные семьи испытывали живой интерес к каждому такому проповеднику, ежегодно приносившему с собой очарование неизвестности и аромат далеких стран, который так любят вдыхать прозябающие в одиночестве души. Вполне вероятно, что самые непостижимые случаи совращения, о которых могла бы поведать история человеческих страстей, совершены путешественниками, которые сделали для этого только одно — откуда-то приехали, что и было в них самого соблазнительного… Суровый капуцин, который рассуждал в тот день об аде с энергией, напоминавшей неукротимого Бридена[396] Бриден, Жак (1701–1767) — знаменитый проповедник. был, казалось, рожден на свет только затем, чтобы насаждать в душах страх божий, и он, равно как обе желавшие повидаться с ним женщины, не знал, что в их-то сердцах он и оставит столь красочно описанный им ад.
Однако в тот вечер обе женщины обманулись в своем скромном провинциальном любопытстве. Выйдя из церкви, они обменялись всего лишь одним замечанием о грозном проповеднике грозного догмата: да, оратор наделен талантом, и притом немалым. Никогда, признались они, выходя из церкви и закутываясь в шубы, им не доводилось слышать лучшей проповеди в начале поста. Они были набожны и, употребляя расхожее выражение, ангельски богобоязненны. Звали их г-жа и м-ль де Фержоль. Домой они вернулись весьма возбужденные. В прошлые годы им не раз приходилось видеть и привечать у себя разных проповедников — генофевитов, премонстрантов, доминиканцев и эдистов, но никогда — капуцина. Да, ни одного члена этого основанного Святым Франциском Ассизским[397] Святой Франциск Ассизский (1182–1226) — основатель нищенствующего ордена францисканцев, прозванных капуцинами по сходству с капуцином (настурцией), цветком, форму которого напоминали длинные капюшоны монахов. нищенствующего ордена, одеяние которого — а одежда всегда более или менее интересует женщин — так поэтично и живописно. Мать, в свое время немало поездившая, нагляделась на них, зато дочь, которой было только шестнадцать лет, знала о капуцинах лишь, что так называется вещица, стоящая на углу камина в столовой и исполняющая роль барометра — барометра старой наивной и очаровательной системы, которая, как столько очаровательных предметов былых времен, больше не существует!
Однако тот, кто велел доложить о себе у входа в столовую, где его ждали к ужину дамы де Фержоль, нисколько не походил на барометр в виде капуцина, раскатывавшего свой капюшон перед дождем и скатывавшего в вёдро. Это был совсем другой тип, нежели веселая фигурка, изобретенная насмешливой фантазией наших отцов. В нашей галльской Франции даже в самые набожные времена немало смеялись над монахами, а уж капуцинами — в особенности. Разве позднее, в уже не столь богобоязненную эпоху, любезный повеса регент не спросил капуцина, называвшего себя «недостойным»: «Чего же ты, черт возьми, достоин, раз не достоин быть даже капуцином?» Восемнадцатый век, который презирал Историю, как Мирабо, и которому История отплатила тем же,[398] Мирабо, человек больших дарований, особенно ораторского, был в то же время беспринципным циником и довольно быстро продался двору, что стало известно после его смерти и за что он, погребенный с величайшими почестями, был посмертно вынесен из Пантеона. как, впрочем, и Мирабо, забыл, что Сикст V,[399] Сикст V (в миру Феличе Перетти) (1521–1590) — папа римский с 1585 г., родившийся близ города Монтальто, был по происхождению простым крестьянином, хотя и не свинопасом, что Барбе д'Оревильи, между прочим, знал. блистательный свинопас из Монтальто, был капуцином и в течение всей своей мирской жизни в песенках и эпиграммах вышучивал капуцинов. Однако тот, кто в описываемый нами вечер предстал дамам де Фержоль, навряд ли послужил бы предметом эпиграммы или куплета. Он был высокого роста, внушительного сложения, и — свет ценит гордость — в глазах его, отнюдь не просивших извинить их владельца за принадлежность к капуцинам, не было и намека на нарочитую смиренность его ордена. В движениях — тоже. Он выглядел так, словно приказывал подать милостыню, протягивая за ней руку. И какую руку! Столь безупречной формы и столь ослепительно белую, что, когда она высовывалась из широкого рукава, всякий сразу изумлялся этой по-королевски прекрасной руке и той властности, с какой она требует подаяния. Это был крепкий, подходивший к середине жизни[400]То есть к 33 годам, возрасту Христа. человек с короткой курчавой бородкой и волосами цвета темной бронзы, как у античного Геракла. Таким, наверно, был еще безвестный тридцатилетний Сикст V. Агата Тузар, старая служанка дам де Фержоль, по уважительному обычаю благочестивых семей, принесла ему в коридор воду, дабы он мог омыть ноги, и ступни его блестели в сандалиях, словно изваянные самим Фидием из мрамора или слоновой кости. Он учтиво поздоровался с дамами, по-восточному скрестив руки на груди, и в ничьих глазах, даже в глазах Вольтера, не заслужил бы презрительной клички «рясоносца», которой награждали в ту пору духовных лиц. Хотя красным кардинальским пуговицам вовеки не суждено было засиять на его рясе, он, казалось, был создан для них. Дамы де Фержоль, составившие себе представление о нем пока что лишь по голосу его, низвергавшемуся с кафедры в церкви, куда тьма вливалась дождем вечерних сумерек, поняли, увидев оратора воочию, что голос составляет одно целое со всей личностью. Шел пост, и этот человек, обреченный на нищету и воздержание, олицетворял этот пост тем более наглядно, что сам его проповедовал; поэтому гостю предложили обязательное в пост угощение — отварную фасоль с оливковым маслом и салат из сельдерея со свеклой, анчоусами, тунцом и маринованными бочоночными устрицами. Гость воздал трапезе должное, но отказался от вина, хотя предложили ему доброе католическое вино — выдержанный «Папский замок». Дамы нашли, что посетитель их, обладая духом и серьезностью, присущими его званию, свободен от нарочитости и ханжества. Когда монах откинул на плечи капюшон, потому что вошел не подняв его, он явил взорам шею римского проконсула и огромный череп, блестящий как зеркало и окаймленный венчиком волос столь же бронзового оттенка и столь же курчавых, что его борода.
Все, что он сказал двум принимавшим его женщинам, было достойно человека, привыкшего к гостеприимству, оказываемому в наизнатнейших домах Христовым нищим, которые чувствовали себя на своем месте в любом обществе и которых религия уравнивала с самыми высокопоставленными особами мира сего. Однако ни у той, ни у другой дамы особой симпатии он не вызвал. По их мнению, ему недоставало простоты и скромности тех великопостных проповедников, которым они давали приют в прошлые годы. Этот — как бы навязывал себя, и с ним было почти тревожно. Почему в его присутствии становилось как-то не по себе? Это не поддавалось объяснению, но в смелом взгляде этого человека и особенно в изгибе рта под усами и бородкой ощущалась какая-то неслыханная и беспокойная дерзость. Похоже, он был одним из тех, о ком говорят: «Такой способен на все». Однажды вечером, после ужина, когда между монахом и его хозяйками установилась уже известная короткость, г-жа де Фержоль, сидя у затененной абажуром лампы, задумчиво бросила: «Глядя на вас, отец мой, так и подмывает спросить, кем бы вы стали, если бы не были святым человеком». Замечание не резнуло гостя. Он даже улыбнулся, но какой улыбкой!.. Г-жа де Фержоль навсегда запомнила эту улыбку, которая вскорости после этого вонзила ей в сердце некое ужасное убеждение.
Но несмотря на фразу, непроизвольно вырвавшуюся у нее, г-жа де Фержоль за все сорок дней, что капуцин провел у них, не могла ни в чем упрекнуть человека, чье лицо так дисгармонировало со смирением, подобающим члену его ордена. Речь и поведение — все в нем было безупречно. «Может быть, ему было бы лучше у траппистов,[401] Трапписты — основанный в 1636 г. монашеский орден с особо суровым уставом, предписывающим полное вегетарианство, молчание, кроме молитв, и прижизненное приготовление для себя могилы. чем в любом другом ордене», — говаривала г-жа де Фержоль дочери, когда они с глазу на глаз толковали о своем госте и его смелом лице. По мнению света, орден траппистов с его молчанием и свирепо суровым уставом создан, прежде всего, для грешников, которым нужно искупить очень тяжкое преступление. Г-жа де Фержоль обладала проницательным умом. Хотя она уже долгие годы отличалась чрезвычайной набожностью, милосердие верующей не заглушило в ней проницательность светской женщины. Большая умница, способная по достоинству оценить высокое красноречие отца Рикюльфа — средневековое имя, очень, кстати, подходившее его носителю, — она тем не менее не позволила себе увлечься ни этим красноречием, ни человеком, который был им наделен. Что уж говорить о девушке, которую от этого свирепого красноречия просто бросало в дрожь!.. Ни талант, ни его обладатель не сопрягались с двумя этими женщинами, почему обе и не избрали его своим исповедником, в отличие от остальных жительниц городка, прямо-таки сходивших с ума от желания попасть в число духовных дочерей отца Рикюльфа. В набожных городах существует обычай во время миссий менять своего исповедника на приехавшего миссионера: тем самым человек как бы позволяет себе роскошь иметь двух исповедников — ординарного и чрезвычайного. На протяжении всего поста, пока проповедовал отец Рикюльф, его исповедальню осаждали женщины городка, и дамы де Фержоль были, пожалуй, единственными, кого там не встречали. Это всех удивило. В церкви, равно как и дома, обеих дам отделял некий мистический круг неприкасаемости, и они останавливались перед непостижимо магическим обводом его. Уж не внутренний ли голос, присущий каждому из нас, — Сократ называл его своим демоном[402]По преданию, на вопрос, кто подсказывает ему его поступки, Сократ отвечал, что это делает внутренний голос — живущий в нем дух, демон. — предупреждал их, что этот человек станет для них роковым?
2
Баронесса де Фержоль была не из местных и не любила здешние края. Родилась она далеко отсюда. Она была девушкой нормандских кровей, которую брак по безумной любви бросил в эту воронку муравьиного льва,[403] Муравьиный лев (leo formica) — насекомое, питающееся муравьями: оно роет воронкообразную норку в песке, куда скатываются муравьи, которых и пожирает личинка муравьиного льва. как презрительно выражалась она, вспоминая привольные горизонты и роскошные пейзажи своей тучной родины. Только вот муравьиным львом был мужчина, которого она любила, а воронкой, в которую он ее втянул, — любовь к ней, и за несколько лет брака он расширил свою воронку, преисполняя ее все более ярким светом. Счастливое падение! Г-жа де Фержоль свалилась туда потому, что любила. Урожденная Жаклина Мари Луиза д'Олонд увлеклась бароном де Фержолем, капитаном Прованского (пехотного) полка, который в последние годы царствования Людовика XVI[404]Автор ошибается: речь идет о последних годах царствования Людовика XV, поскольку лагерь был построен в 1771 г. входил в гарнизон обсервационного лагеря, возведенного на холме Ровиль-ла-плас, в двух шагах от реки Дувы и Сен-Совёр-ле-Виконта, который именуется теперь просто Сен-Совёр-сюр-Дув, как говорят Стаффорд-он-Эйвон.[405]Главный город английского графства Стаффордшир на реке Эйвон. Этот небольшой лагерь, устроенный на случай высадки англичан, угрожавших тогда Котантену, оборонялся гарнизоном из четырех пехотных полков под начальством генерал-лейтенанта маркиза де Ламбера. Те, кто мог бы запомнить это, давно умерли, и титанический грохот Французской революции заглушил и бесследно поглотил этот маленький эпизод истории. Однако, когда я был еще ребенком, моя бабушка, видевшая этот лагерь и пышно принимавшая у себя всех тамошних офицеров, рассказывала о нем тем тоном, каким говорят старые люди о том, чему им довелось быть очевидцами. Она прекрасно знала барона де Фержоля, который вскружил голову м-ль Жаклине д'Олонд, танцуя с ней в лучших домах Сен-Совёра, городка, населенного дворянством и высшей буржуазией, — там в ту пору много танцевали. Барон де Фержоль, рассказывала бабушка, был очень хорош в своем белом мундире с лазоревым воротником и отворотами. К тому же он был блондин, а женщины утверждают, что лазурь для блондина — все равно что румяна для женщины. Итак, мою бабушку нисколько не удивило, что г-н де Фержоль вскружил голову м-ль д'Олонд, и, действительно, это удалось ему настолько основательно, что в один прекрасный день эта девушка, которую все считали гордячкой, взяла и сбежала с ним! В те годы в обществе еще происходили похищения, с присущей им поэзией почтовых карет и достойной опасностью пистолетных выстрелов у дверец мальпостов. Теперь влюбленные больше никого не похищают. Они прозаически отбывают вдвоем в комфортабельном железнодорожном вагоне и — «порадуемся же такому счастливому исходу», как выражается Бомарше[406]«Безумный день, или Женитьба Фигаро», IV, I. 2 — возвращаются назад столь же глупо, как уехали, а подчас и еще глупее… Вот чем наши плоские современные нравы заменили самые прекрасные, самые очаровательные безумства любви! После страшного скандала, который наделало похищение в упорядоченном, высоконравственном, богобоязненном, даже чуточку янсенистском[407]Янсенизм — реформаторское движение в католицизме XVII–XVIII вв., ведущее начало от голландского богослова Янсения и близкое к кальвинизму. обществе, — впрочем, оно с тех пор не сильно изменилось, — опекуны м-ль д'Олонд — она была сирота — больше не колебались. Они согласились на ее брак с бароном де Фержолем, и тот увез ее к себе в родные Севенны.
К несчастью, барон умер молодым. Он оставил жену на дне гористой воронки, где ощущение простора давала ей его любовь и стены которой, снова обстав ее, набросили на печальную душу вдовы еще один вуаль. Тем не менее она отважно осталась в этой пропасти. Она даже не попыталась выбраться назад по обрывистому склону этих давящих все живое гор и вновь обрести хоть немного света над головой, раз уж его не было у нее в сердце. Став несчастной, она спряталась в свою пропасть, как душа ее — в тоску своего вдовства. Был, правда, момент, когда она подумывала возвратиться в Нормандию, но ее остановила мысль, что там она, похищенная, будет встречена презрением. Она не пожелала порезаться о стекло, которое сама же высадила. Ее надменной душе было нестерпимо презрение. Ее натуру, позитивную, как все ее племя, мало трогала поэзия окружающего мира. Г-жа де Фержоль ничуть не страдала от ее отсутствия. Она ведь не относилась к числу мечтательных, подверженных ностальгии душ. Напротив, это была душа здоровая, благоразумная, хотя и пылкая… Да, пылкая! Ее брак лишний раз подтвердил это. Но пылкость ее отличалась целеустремленностью, и, когда по смерти мужа баронесса впала в набожность, последняя оказалась набожностью того сорта, которую исповедники именуют «внутренней» и которая разом превратилась в суровость. Унылый городок, где она была заточена, показался ей теперь сносным: не все ли равно где жить и умирать? Затененный нависшими над ним горами, он отлично обрамлял ее особу. Темному портрету — темная рама. Баронесса де Фержоль, дама чуть старше сорока лет, представляла собой высокую худую брюнетку, чья худоба как бы озарялась изнутри неким тайным огнем, словно тлевшим под пеплом в глубочайших недрах ее существа. «Да, красива», — соглашались женщины, вспоминая, какой она была. «Но не приятна, о нет!» — тут же добавляли они с удовольствием, какое обычно доставляют им подобные оговорки. Свою красоту, которая, кстати сказать, была неприятна другим женщинам лишь потому, что с ней не шла в сравнение ничья другая, баронесса похоронила вместе с тем, кого любила без памяти: теперь, когда его не стало, эта кокетка для него одного забыла о ней. Он был единственным зеркалом, в котором она любовалась собой, и, потеряв этого мужчину, что значило для нее — весь мир! — она перенесла пыл своих чувств на дочь. Но точно так же, как вследствие свирепой стыдливости, свойственной иногда пылким натурам, она не всегда показывала мужу самые сильные и пламенные чувства, которые он ей внушал, баронесса не была в них откровенней и с дочерью, в которой любила не столько собственного ребенка, сколько дитя своего мужа — даже в материнстве она была больше супругой, чем матерью. Нисколько этого не подчеркивая и даже не замечая, г-жа де Фержоль держалась с дочерью так же, как со светом, — с непреклонной величественностью, влиянию которой равно поддавались и дочь, и свет. Глядя на г-жу де Фержоль, нетрудно было уяснить себе причину такого влияния без симпатии: в ней было слишком много повелительного, деспотичного, римского — и так во всем, вплоть до ее бюста матроны, надменно изогнутого профиля и копны черных волос, обильно тронутых сединой, что придавало вискам еще более суровый и почти жестокий вид: казалось, в этой безжалостной белизне спрятаны когти, вонзившиеся в неподатливый черный эбен, чтобы уже никогда не разомкнуться. Все это исторгло бы негодующие вопли у заурядных людей, которым хочется, чтобы все были так же заурядны, как они, но художники и поэты сходили бы с ума от этой бледной вдовьей головы, которая навела бы их, самое малое, на мысль о матери Спартака или Кориолана.[408]То есть о женщинах могучей воли, способных направлять даже своих героических сыновей. Кориолан, отважный римский полководец, рассорился с народом, бежал к недавним врагам Рима вольскам и с ними осадил Рим, от которого отступил, лишь вняв мольбам матери. Легенда о Кориолане подсказала Шекспиру одну из лучших его трагедий. Но — о горькая глупость Судьбы! — женщина с таким энергичным и отчаянным лицом, которая, казалось, была рождена укрощать самых дерзких бунтовщиков и повелевать героями от имени их отцов, обречена была воспитывать и направлять в жизни всего лишь бедную невинную девочку.
Действительно, трудно представить себе более невинного ребенка! Ластени де Фержоль (Ластени! — имя из тогдашних песенок, потому что все наши имена восходят к песенкам, петым над нашими колыбелями!) только что рассталась с детством. Ни на день не покинув свой городишко в Форе, она росла, как фиалка у подножия гор, по аквамариновым склонам которых жалостно журчат тысячи крошечных ручейков. Она выросла в сырой тени этих гор, подобно влаголюбивому ландышу, который лучше всего растет в тех уголках наших садовых стен, куда не просачивается солнце. Ластени де Фержоль отличала белизна этого стыдливого цветка полумглы, и в ней было что-то от его таинственности. Она во всем — и внешностью, и нравом — была противоположностью матери. Глядя на нее, каждый невольно изумлялся, как подобная слабость могла произойти от подобной силы. — Она походила на зеленеющий побег, нуждающийся в могучем дереве, чтобы обвиться вокруг него. Сколько в жизни есть девушек, которые, подобно беспомощной лиане или гирлянде, нашедшей сужденную ей опору и обвившей любимый ствол, распрямляются и обретают подлинную свою красоту в мужчине, украшением и гордостью которого они когда-нибудь станут! У Ластени де Фержоль было одно из тех лиц, которые свет признает скорее хорошенькими, чем прекрасными, но свет, увы, в таких вещах не разбирается. Обладательница тонкого и округлого стана — сочетания, придающего женщине совершенство, она к тому же была блондинкой, как ее отец, истинный барон, который подчас присыпал свою шевелюру розовой пудрой, подчиняясь изнеженной фантазии своей эпохи; то же самое еще в начале нового столетия позволял себе аббат Делиль, невзирая на вопиющую свою уродливость. Ластени вместо пудры употребляла естественный пепел жженых перьев голубки. Глаза ее, обрамленные матовой белизной ландыша, которая наводит на мысль о фарфоре, казались на фоне присыпанных пеплом волос большими и сверкающими, как фантастические зеркала, и зеленоватый их блеск напоминал зеркала со странным отсветом, объясняющимся, вероятно, глубиной и чистотой отделки. Эти бледно-серо-зеленые глаза цвета листьев ивы, подруги вод, затенялись длинными темно-золотыми ресницами, медленно стелившимися по прекрасным бледным щекам, и все в Ластени было столь же неспешно, как они. Томность ее походки не уступала томности ее ресниц. За всю жизнь я знавал только одну особу, источавшую подобное же обаяние медлительности, и никогда ее не забуду… Это была подлинно небесная хромоножка. Ластени не хромала, но казалась хромушей. Ее движениям было присуще очарование слегка хромающих женщин, что придает их одежде — о волшебство! — такие соблазнительные изгибы. Словом, все существо Ластени дышало той божественной слабостью, перед которой неизменно преклоняют колени сильные великодушные мужчины, и тем чаще, чем больше в них мужественности.
Ластени любила мать, но боялась ее. Она любила ее, как иные верующие любят Господа — с трепетом. У нее не бывало, не могло быть с матерью той раскованности и доверчивости, к которым приучают детей переполненные нежностью родительницы. О какой раскованности могла идти речь с ее матерью, величественной и мрачной женщиной, которая, казалось, жила в безмолвии закрывшейся за ней мужней могилы? Вот так эта отринутая мечтательница с челом, отягченным неизъяснимыми думами, бремя которых гнуло его долу, хотя Ластени и не предполагала, что эту ношу нужно скрывать, жила в скупом свете, падавшем к ней на дно чаши, боками которой служили горы; но еще больше она жила в других горах — своих грезах, где в отличие от первых не существовало спиральной дороги, позволявшей спуститься в их глубину…
Ластени была скрытна и все же бесхитростна. Однако бесхитростность надо было искать в глубине души, чтобы извлечь ее оттуда, как изводят из чистого ключа жемчужную пену, которая, вскипая, поднимается на поверхность, лишь когда во влагу погружают сосуд или руку… Никому никогда еще не пришло в голову усмотреть то же в душе Ластени. Мать обожала ее, но, прежде всего, потому, что дочь напоминала ей о мужчине, которого она любила с таким самозабвением. Она наслаждалась ею сполна. Она насыщала ею свою душу, не намекая на это ни словом. Будь она не столь набожна, не опасайся столь сильного чувства, не вменяй себе в вину несдержанность и мягкость, г-жа де Фержоль замучила бы дочь ласками и приоткрыла бы своими поцелуями ее сердце, рожденное робким и закрытым, словно бутон цветка, которому, может быть, вовеки не суждено раскрыться. Г-жа де Фержоль была уверена в чувстве, которое питает к дочери, и этого ей было довольно: она видела свой долг перед Богом в том, чтобы сдерживать волну нежности, которая стремилась лишь к одному — вырваться наружу. Но сдерживая себя (давала ли она себе в этом отчет?), г-жа де Фержоль сдерживала нежность дочери. Она, как плотиной, затыкала волей источник чувства, пытавшийся пробить себе русло в ее материнском сердце, и он, не находя выхода, взбухал все больше и больше. Увы! Закон, управляющий нашими сердечными движениями, более жесток, чем тот, что правит поступками. Стоит расслабить волю, играющую роль плотины, препятствующей течению, источник, избавленный от преграды, вырывается наружу и вновь хлещет со всевозрастающим неистовством, тогда как в душе у нас обязательно наступает момент, когда скрытые там чувства непременно всасываются в нее и при попытке их выказать Уже не появляются снова, словно кровь, которая в смертельных случаях изливается внутрь и перестает течь из открытой раны. К тому же кровь из нее можно отсосать, а чувства — нет: слишком долго скрываемые в нас, они как бы свертываются, и их уже не приведешь в движение.
Итак, хотя две эти женщины никогда не разлучались, всегда выступали вместе в наимельчайших житейских обстоятельствах и любили друг друга, они оставались одиноки, и одиночество их было одиночеством вдвоем. Г-жа де Фержоль, сильная душа, у которой перед внутренним взором, галлюцинируемым памятью, неизменно стоял образ человека, любимого ею с пылкостью, представлявшейся ей теперь грехом, меньше страдала от одиночества, нежели Ластени. Что же до девушки, у которой не было прошлого и которая только приближалась к поре чувственной жизни, к расцвету еще дремлющих, но уже готовых пробудиться способностей, одиночество ее было куда более глубоким, чем у матери. Правда, она испытывала от этого лишь смутное неудобство, скорее недомогание, чем боль, потому что все в ней было еще смутно, но время определенности было уже не за горами. Она более или менее страдала от одиночества всегда, начиная с колыбели, но беда человеческой натуры в том, что она ко всему привыкает. Ластени привыкла к унылому одинокому детству, привыкла к унылому краю, в котором родилась и который ронял ей на голову скупые капли света и ограничивал ее горизонт склонами гор, точно так же, как она привыкла к печальному одиночеству материнского дома, потому что г-жа де Фержоль, женщина богатая и жившая в эпоху, когда еще существовали классы, коим предстояло вскоре исчезнуть, мало с кем общалась в городке, где особе ее ранга действительно трудно было найти ровню. Когда она приехала туда с бароном де Фержолем, она была опьянена таким счастьем, с каким не расстаются за все блага мира. Осмелься кто-нибудь слишком пристально присмотреться к ее счастью, она сочла бы, что у нее хотят отнять или, по крайней мере, осквернить его. А когда это счастье исчезло вместе со смертью мужчины, от которого она была без ума, она не стала ни у кого искать утешения. Она жила уединенно, не подчеркивая ни свое одиночество, ни свою печаль, оставалась учтива с другими, но делала это с той высокомерной холодностью, которая хоть и не оскорбляет людей, однако деликатно и решительно вынуждает их держаться на расстоянии. Городок очень быстро расценил ее поведение на свой лад. Г-жа де Фержоль стояла слишком высоко над своими согражданами, чтобы кого-нибудь могло задеть ее уединение, объясняемое, кстати, скорбью об утрате мужа. Люди не без основания полагали, что она живет только ради дочери, и, зная, что она богата и обладает крупными поместьями в Нормандии, утверждали: «Она — не здешняя, и, когда ее дочери пора будет замуж, она вернется в край, где у нее состояние». Партий, подходящих для м-ль Ластени де Фержоль, не было, и никто не допускал даже мысли, что мать захочет после замужества Ластени расстаться с дочерью, с которой никогда не разлучалась и даже не отправила ее в монастырь соседнего города, когда настала пора подумать о воспитании Ластени. Действительно, Ластени в полном смысле слова вырастила сама г-жа де Фержоль. Она обучила ее всему, что ей было известно самой. По правде сказать, это было не бог весть что. Все воспитание знатных девушек эпохи водилось к тому, что им прививали склонность к возвышенным чувствам и навыки светского поведения, чем все и довольствовались. Когда же девицам приходила пора вступать в свет, они, ничему не обученные, прекрасно там во всем разбирались с помощью интуиции. Теперь их обучают всему, и они утратили интуицию. Им обтачивают разум всеми видами знания и тем самым избавляют от необходимости обладать тонкостью, этой славой наших матерей! Г-жа де Фержоль, убежденная, что, живучи рядом ней, дочь всегда будет отличаться чувствами и манерами, приличествующими ей по рождению, устремила ее юный ум прежде всего к делам божественным. Врожденная нежность души, естественно, развила в Ластени набожность. Она обрела в молитве ту возможность душевного излияния, которую не находила у матери, но эти излияния перед алтарем не заставили ее забыть об иных, которых она не изведала. В этой слабой и нежной душе благочестию всегда недоставало рвения, значит и счастья, которое подобное рвение дает подлинно верующим душам.
В Ластени, несмотря на всю ее невинность, всегда было чуточку больше или меньше того, что нужно, чтобы быть счастливой только в Боге и только Богом. Она выполняла обязанности христианки со всей искренностью и простотой. Она ходила с матерью в церковь, сопровождала ее к беднякам, которых г-жа де Фержоль часто навещала, причащалась вместе с ней по причастным дням, но все это не проливало на ее матовое чело луч, озаряющий юность. «Быть может, ты недостаточно усердна в молитве?» — допытывалась у нее г-жа де Фержоль, обеспокоенная такой необъяснимой меланхолией при столь чистой жизни. Суровый вопрос, суровое сомнение! Ах, лучше бы эта мать, свихнувшаяся от большого ума, схватила руками голову своего ребенка, отягченную иным грузом, нежели копна ее великолепных пепельных волос, и положила ее себе на материнское плечо, эту столь сладостную для дочерей подушку, куда те могут излить свои мысли, слезы и сердце! Но она этого не делала. Она воспротивилась себе самой. Ластени всегда недоставало этой подушки, на которой, пусть даже без слов, говорят всё, и ее — поскольку Ластени знала только общество матери — не заменило даже плечо подруги. Бедное одинокое существо с задыхающейся душой, которая в момент, когда начинается наша история, еще не умирает от удушья!
3
Пост кончился. Было десять часов утра. Дамы де Фержоль вернулись к себе, поприсутствовав на службе и омовении алтаря, поскольку была Святая суббота, а это, как известно, последняя суббота Святого сорокадневья. Особняк г-жи де Фержоль возвышался в центре маленькой квадратной площади, которая отделяла его от церкви XIII века с ее романским фасадом, так удачно передающей своей энергической протяженностью приниженность варвара, в страхе и смирении простершегося перед крестом Иисуса Христа! Площадь, вымощенная мелким булыжником, была так мала, что дамы де Фержоль, постоянно посещавшие церковь по соседству, отправлялись туда без зонтика даже в дождливые дни. Их же собственный дом представлял собой обширное здание, лишенное стиля и восходящее к эпохе гораздо более поздней, чем церковь. Предки барона де Фержоля жили в нем в течение многих поколений, но дом уже не соответствовал роскоши и нравам той эпохи, которая называлась восемнадцатым столетием (и сама подходила к концу). Это древнее и неудобное жилище навлекло бы на себя насмешки и тех архитекторов, чья цель — комфорт, и тех, чья цель — приятность внешних форм; но когда у человека есть сердце, он не считается с насмешками и не продает такие дома. Чтобы иметь право избавиться от них, необходимо, чтобы они превратились в руины, невосстановимые руины, которые притягивают взор и отталкивают его, — нужны горечь и страх! Закопченные углы старых, а иногда и просто облезлых зданий, которые видели наше детство и в которых, может быть, обретаются где-нибудь души наших отцов, возопили бы против нас, продай мы жилище последних по той вульгарной и низкой причине, что оно не соответствует более изнеженности и роскоши века… Г-жа де Фержоль, уроженка не Севенн, а другого края, могла бы, разумеется, избавиться по смерти мужа от его большого и просторного дома, но предпочла сохранить его и жить в нем из почтения к традициям семьи своего возлюбленного мужа, а также потому, что для нее, единственной, кто видел это серое большое нескладное строение духовным взором, стены у него, как у Града небесного, были из золота, несокрушимые сверкающие золотые стены, воздвигнутые любовью в день счастья. Построенное в расчете на то, чтобы давать приют бесконечным поколениям, а на последнее наши отцы уповали с религиозной гордостью, и многочисленной челяди, это вместительное жилище, опустошенное смертью, казалось необъятным с тех пор, как в нем поселились всего две женщины, терявшиеся в его огромности. Дом был холоден, лишен всякого уюта, но внушителен благодаря своей просторности: простор придает величавость не только пейзажу, но и домам; однако даже в таком виде это здание, именовавшееся в городе «особняком де Фержоль», производило сильное впечатление на посетителей высотой потолков, переплетением коридоров и странной непрерывной, как у колокольни, лестницей, настолько широкой, что по ее ста ступеням могли подниматься в ряд четырнадцать всадников. По слухам, такое чудо имело место во время войны с «рубашечниками» и Жана Кавалье.[409] «Рубашечники» («камизары») — французские кальвинисты, восставшие в 1701 г. в Севеннах против отмены Нантского эдикта. Кавалье, Жан (1679–1740) — вождь восставших, талантливый полководец. На этой грандиозной лестнице, которая казалась выстроенной не для этого дома, а может быть, в самом деле являла собой остаток некогда рухнувшего замка, не восстановленного в своем первоначальном великолепии ввиду неблагоприятных времен и неудач населявшего его рода, — на этой лестнице маленькая Ластени без подружек, чьи игры она могла бы разделить, отделенная от всех печалью и строгой набожностью матери, провела долгие часы своего одинокого детства. Не острее ли ощущала рождающаяся в ней мечтательница в пустоте и свободе исполинской лестницы другую пустоту — пустоту существования, которую должна была бы заполнить материнская нежность, и не приучалась ли она — поскольку души, предназначенные быть несчастными, силятся заранее усугубить чаемое несчастие предчувствием его — взваливать на свое сердце сокрушительную тяжесть лестничного простора поверх сокрушительного груза одиночества? Обычно, когда г-жа де Фержоль, выходившая утром из спальни и возвращавшаяся туда только вечером, предполагала, что Ластени резвится в саду, забытый ею ребенок просиживал долгие часы на немых и звонких ступенях. Она долго пребывала там, подперев щеку рукой, опершись локтями о колени, в позе, неизбежной и привычной для всякого, кто печален, в позе, которую гений Альбрехта Дюрера[410] Дюрер, Альбрехт (1471–1528) — великий немецкий художник. Имеется в виду его гравюра «Меланхолия» (1514). без труда нашел для своей «Меланхолии», и девушка застывала, нет, почти цепенела в мечтах, словно созерцая, как ее судьба восходит и спускается по грозной лестнице, ибо у будущего, как и у прошлого, есть свои видения, и те, что уходят, быть может, печальнее тех, что возвращаются. Место, бесспорно, влияет на человека, и этот дом из сероватого камня, похожий на большую сову или огромную летучую мышь, рухнувшую с распростертыми крыльями к подножию гор, к которым Ластени сидела спиной, будучи отделена от них только садом, перерезанным посредине портомойной канавой, где в сточных водах черепичного цвета чернели вершины прозрачно-голубых гор, — подобный дом не мог не сгущать своим отражением другие тени, из которых выступало непорочное чело Ластени.
Что касается г-жи де Фержоль, ничто не могло усугубить ее неподвижной печали. Влияние места никак не сказывалось на этой бронзе, подзелененной патиной тоски. По смерти мужа, всегда ведшего широкий образ жизни богатого дворянина и отличавшегося вельможным хлебосольством, она разом предалась благочестию, которое пришло из Пор-Рояля[411] Пор-Рояль — в XVII — начале XVIII в. монастырь в Париже, центр французского янсенизма. и отпечаток которого в эту эпоху еще лежал на французской провинции. Все, что оставалось в ней от женщины, растворилось в этом благочестии, которое ничего не прощает себе и само себя умерщвляет. Этот мраморный столп она сделала своей опорой, чтобы охладить пылающее сердце. Она устранила всякий намек на роскошь в доме. Продала лошадей и экипажи. Уволила челядь, оставив у себя, как скромная горожанка, лишь одну служанку по имени Агата, которая состарилась за двадцать лет службы у нее и которую она привезла из Нормандии.
Видя эти нововведения, кумушки городка, представлявшего собой, как все небольшие поселения, банку с вареньем из мелочных слухов, обвинили г-жу де Фержоль в скупости. Затем это варево, показавшееся сперва лакомым, засахарилось и приелось сплетницам. Слухи о скупости рассеялись. На поверхность выплыла милостыня, которой, правда скрытно, г-жа де Фержоль оделяла бедных. В конце концов у низких душ, копошившихся на дне темной бутылки, сложилось смутное убеждение в добродетели и достоинствах г-жи де Фержоль, столь скудно жившей на отшибе от всех с таинственным достоинством сдерживаемого горя. В церкви — а видели ее почти исключительно там — прихожане издали с почтительным любопытством рассматривали эту величественную особу в длинных черных одеждах; она неподвижно отсиживала долгие службы на своей скамье под низкими сводами сурового романского рама с коренастыми опорами, словно древняя меровингская королева, восставшая из своей усыпальницы. Действительно, в своем роде это была королева. Не стремясь к этому, даже не думая об этом, она царствовала над мнениями и поведением жителей городка, хотя, конечно, последний не был ее царством. Да, она царствовала там, и если уж не на манер невидимых древних персидских царей,[412]Древних греков и римлян поражал пышный церемониал при дворах восточных царей (особенно персидских), где принимались все меры, чтобы подданный не мог заглянуть в лицо владыке: обычай простираться ниц, занавес, закрывающий трон, престол, спускающийся из-под кровли дворца на канатах, и т. д. чьей полной незримости, разумеется, не могла достигнуть, то, по крайней мере, почти как они, в силу того отдаления, на котором держалась от маленького узкого мирка, с коим никогда не становилась на короткую ногу.
Пасха в том году пришлась на первую половину апреля, а Страстная суббота у дам де Фержоль целиком посвящалась домашним заботам, носящим в провинции почти торжественный характер. Там производилось то, что именуется весенней стиркой. В провинции стирка — это целое событие. В богатых домах, где заведено, чтобы белья было много, ее приурочивают к началу времени года и называют большой стиркой. «Вы знаете, у госпожи такой-то большая стирка», — сообщают вам как важную новость в доме, куда вы отправляетесь скоротать вечер. Большие стирки делаются в полных доверху чанах, малые, для повседневных нужд, — в бачках. Выражение «у нас сегодня прачки» обозначает одно из самых серьезных, важных и подчас шумных обстоятельств жизни, потому что в большинстве случаев прачки — довольно трудно управляемые особы, порой вольные в обращении, задиристые, прожорливые, не промах выпить, с ногтями, не ставшими мягче от воды, в которой они плещутся целыми днями, и, ко всему, у них медные глотки, грозные фиоритуры которых накладываются на удары валька. «У нас сегодня прачки» — это перспектива, от которой, как правило, холодеет спина у самых властных хозяек дома… Однако в этот день их у г-жи де Фержоль не было. Они уже пронеслись смерчем по «особняку де Фержолей», тишину которого их голоса возмущали в течение нескольких предыдущих дней. Словом, шумная стиральная сессия завершилась еще накануне. Наступил день вывешивания, как до сих пор выражаются в провинции, а для того чтобы снять высохшее белье с веревок в саду, было вполне достаточно старой Агаты и «годичной» гладильщицы. Итак, с самого утра обе эти труженицы, стуча и шлепая сабо по аллеям сада, разукрашенным простынями и наволочками, казавшимися глазам и ушам вздутыми и хлопающими флагами, постепенно снимали, подносили и грудами сваливали их на стулья и круглый стол в столовой, где дамам де Фержоль предстояло отплоить их по возвращении из церкви. Эту обязанность дамы не доверяли никому. Как истая нормандка, г-жа де Фержоль любила белье и передала эту склонность дочери. Она задолго принялась готовить великолепное приданое ко дню ее замужества. И вот, возвратясь домой, обе, словно за приятную работу, поспешно уселись друг против друга в столовой за стол из узловатого темно-красного дерева и принялись в четыре свои аристократические руки, подобно простым поденщицам, плоить простыни, когда в столовую вошла Агата, неся на плече тюк сухого белья, которое лавиной обрушила на стол.
— Святая Агата! (Это была ее «излюбленная божба»,[413] Божба, то есть упоминание Бога или святого всуе, есть грех. но можно ли поставить в упрек богобоязненной женщине, что она по любому поводу произносит имя своей небесной покровительницы и призывает ее на помощь!) Святая Агата, ну и тяжеленная куча! Вот уж вес так вес! А белье белое, как снег, и сухое-пресухое, и пахнет вкусно! Здесь его больше, чем вам удастся наплоить до обеда, сударыня и мадмуазель. Ну да сегодня с едой можно и подождать: у вас обеих никогда аппетита нет, а капуцин ушел. И ушел так, что уже не вернется… Ах, Святая Агата! Похоже, капуцины так всегда и уходят: ни «здравствуйте», ни «прощайте» людям, дававшим им кров.
Старая Агата, трижды достигшая совершеннолетия с тех пор, как молодой красоткой, кровь с молоком или цвета спелого помидора, какие производит Котантен, она уехала вслед за юной и влюбленной хозяйкой в Севенны после скандального похищения последней бароном де Фержолем, — старая Агата имела право на известную вольность в речах со своими хозяйками. Она завоевала это право. На него у нее было три основания. Во-первых, ее участие в похищении м-ль Жаклины д'Олонд, для чего она немало потрудилась и за что «побывала на зубах у всех собак округи». Два других сводились к тому, что она вырастила м-ль де Фержоль и осталась в сурковой норе, местности, которую ненавидела как дочь края больших быков и привольных пастбищ, на каждом шагу вспоминая свою родину. В довершение следовало бы добавить, что она прожила всю жизнь вместе с хозяевами, а такая связь становится в нравственном плане тем теснее, чем меньше ей остается существовать. Однако, несмотря на добродушие, которое выказывают к маленьким людям важные гордые особы с возвышенной душой, потому что гордость не всегда сродни возвышенным душам, — однако, если бы г-жа де Фержоль, наделенная этими достоинствами, не уволила все двадцать человек своей прислуги, старая Агата, в сущности почтительная, но внешне фамильярная, может быть, и не позволяла бы себе теперешней прямоты и непринужденности в речах.
— Что вы несете, Агата? — неколебимо спокойно возразила г-жа де Фержоль. — Ушел? Отец Рикюльф? Что вам взбрело в голову, моя милая! Сегодня Страстная суббота, а завтра, в Светлое воскресенье, он должен проповедовать на всенощной о Воскресении Господнем, чем всегда и завершаются пасхальные проповеди.
— Ну и что? — отпарировала старая дева, которая была упряма, о чем явственно свидетельствовали и ее нормандский выговор, от которого она доныне не отвыкла, и нормандский чепчик, который она невозмутимо продолжала носить. — Подумаешь! Я знаю, что говорю. Он ушел всерьез и навсегда. Утром его не было в церкви — это мне причетник сказал: прибегает запыхавшись и спрашивает, где отец Рикюльф, а то там целая куча в его исповедальню на исповедь к завтрашнему дню ломится. А мне что отвечать? На рассвете я видела, как он спускался по большой лестнице: капюшон опущен, в руке походная клюка, которую он обычно у себя в комнате за дверью оставлял. Он прошел мимо меня, прямой как палка, и хоть я шла вверх, а он вниз, даже словечка учтивого мне не сказал. И глаза у него были опущены, а я так полагаю, что они у него похуже, когда опущены, чем когда подняты. Я удивилась, чего это он с клюкой, — идти-то ему мессу служить всего два шага отсюда, — и повернулась — дай, думаю, посмотрю, как он спускается, а потом следом и сама до дверей спустилась: куда это он в такую рань собрался? И тут я увидела, что он направился по дороге, проходящей у подножия Большого распятия. Ручаюсь вам: если он за это время не убавил шагу, он теперь в своих сандалиях далеконько отсюда.
— Немыслимо! — запротестовала г-жа де Фержоль. — Ушел!
— Как дым с моей кухни, — перебила Агата. — И так же бесшумно.
Это была правда. Капуцин действительно исчез. Но ни г-жа де Фержоль, ни старая Агата не знали, что у капуцинов в обычае незаметно покидать дом, где им оказали гостеприимство. Они уходят, как приходят Смерть и Иисус Христос. А те приходят, как тать ночью.[414]Еванг., 2 Петр., 3, 10. — говорит Священное писание. И уходят, как тать ночью. Когда утром входишь к ним в комнату, кажется, что они испарились. Это их обычай, и в этом их поэзия! Разве не сказал о них Шатобриан. знавший толк в последней: «На другой день их искали повсюду, но они исчезли, как те святые видения, которые посещают иногда достойного человека в его жилище»?[415]«Гений христианства», IV, кн. III. гл. VI (1802).
Однако в пору, когда начинается наша история, не было еще ни Шатобриана, ни «Гения христианства», и дамы де Фержоль до сих пор принимали у себя братию лишь из менее поэтических и суровых монашеских орденов, которые за пределами церкви оказывались вполне светскими людьми и, уходя из домов, где были приняты, проявляли подобающую учтивость.
Впрочем, дамы де Фержоль отнюдь не прониклись к отцу Рикюльфу столь сильным благоволением, чтобы, как Агата, оскорбиться его молчанием и нежданным уходом. Ушел? Ну и бог с ним. Все время пребывания в доме он скорее стеснял их, чем был им приятен. Долго огорчаться они, во всяком случае, не намеревались. Исчез — и не стоит больше о нем думать. Зато старую Агату это задело куда сильнее. Ей отец Рикюльф внушал то необъяснимое и безотчетное чувство, которое зовется антипатией.
— Наконец-то мы от него избавились! — брякнула она, хотя тут же спохватилась: — Может, я и не права, что так отзываюсь о божьем человеке, только, Святая Агата, ничего поделать с собой не могу. Ничего он мне не сделал, а мне все равно дурные мысли насчет его капюшона в голову лезут. Эх, почему он не такой, как те проповедники, что гостили у нас в прошлые года, — душевные, апостольские, ласковые к бедному люду! Помните, сударыня, приора премонстрантов два года назад? Уж до чего был кроткий да душевный! Весь в белом, вплоть до башмаков, что твоя новобрачная. Рядом с ним отец Рикюльф в своей выгоревшей рясе — все равно что волк рядом с ягненком.
— Ни о ком не следует думать дурно, Агата, — отозвалась г-жа де Фержоль для очистки совести: порицая старую служанку, она, как женщина набожная, порицала и самое себя. — Отец Рикюльф, священнослужитель и монах, наделен и верой, и силой убеждения; за все время, что он живет у нас, мы не усмотрели ни в его речах, ни в поведении ничего, что можно бы истолковать ему во вред. Поэтому у тебя, Агата, нет никаких оснований отзываться о нем дурно. Так ведь, Ластени?
— Совершенно верно, матушка! — поддержала дочь своим чистым голосом. — Но не надо бранить и Агату. Мы же столько раз говорили между собой, что в отце Рикюльфе есть что-то неуловимо тревожное. Откуда это происходит? Не думаешь о человеке плохо, а все-таки ему не доверяешь. Вы, матушка, как и я, не пошли к нему исповедоваться, а ведь вы такая сильная и рассудительная!
— И может быть, обе были не правы! — ответила суровая женщина, чей янсенизм по-прежнему докучал ее совести своими советами. — Нам лучше было бы перебороть себя: ведь прислушиваться к ничем не подкрепленным чувствам, которые не давали нам склонить перед ним колени, это уже означает приговор в глубине души, выносить который мы не правомочны.
— Ах, я никогда не смогла бы поступить так, матушка! — простодушно призналась девушка. — Этот человек всегда вселял в меня страх, который я не в силах была преодолеть.
— У него только и речи что про ад! Вечно один ад на языке! — разволновалась Агата, словно ей хотелось оправдать тот страх, что отец Рикюльф внушал Ластени. — Никогда я столько проповедей про ад не слышала. Он нас всех осуждал. Много лет назад знавала я в родных краях у валоньских августинцев одного священника — его все звали отец Любовь, потому как ни о чем другом, как о любви Господней и о рае, он не говорил. Но, Святая Агата, уж отца-то Рикюльфа никто таким именем не назовет.
— Полно! Замолчи! — прикрикнула г-жа де Фержоль, которой хотелось положить конец разговору: он оскорблял милосердие. — Ведь если отец Рикюльф вернется, а я не могу поверить, чтобы он ушел в канун Пасхи, он застанет нас за болтовней о нем, а это не пристало. Словом, так! Раз ты говоришь, Агата, что он не у себя, поднимись к нему в комнату: может быть, он оставил где-нибудь свой требник, и это докажет нам, что он не ушел.
Мать и дочь остались одни. Агата немедленно отправилась с поручением, данным ей хозяйкой. Больше они не добавили ни слова о загадочном капуцине, о котором им нечего было сказать, а слишком много думать — боязно, и они неторопливо принялись за прерванную работу. Какое простое и мирное зрелище представляли собой две эти женщины в высоком и просторном зале, окруженные со всех сторон кипами чистого белья, которое, по словам Агаты, «так вкусно пахло», распространяя вокруг свежий аромат росы и живых изгородей, где его сушили: оно таило этот аромат, словно душу, в своих складках. Женщины были молчаливы, но внимательны к тому, что делали, время от времени расправляя загнувшийся край, причем каждая вытягивала руку до половины неправильной складки и, устраняя ее, прихлопывала по ней прекрасной рукой — одна белой, другая розовой. Розовой была рука дочери, белой — матери. Каждую в целом, как и руки их, отмечал свой тип красоты. Ластени (этот ландыш) была восхитительна в темно-зеленом платье, обвивавшемся вокруг нее, как листья вокруг белого цветка и его меланхолической головки, меланхолию которой подчеркивали пепельные волосы, потому что пепел — примета скорби: в старину, в дни скорби, им посыпали голову; не уступала ей и г-жа де Фержоль, в черном платье, суровом вдовьем чепце и с висками, приподнятыми обильным слоем белил над копной темных волос с мазками гуаши, наложенными не столько годами, сколько горем.
Неожиданно в зал вернулась старая Агата.
— Думаю, что он все-таки ушел, — объявила она. — Я все облазила, но он оставил только вот это. Проповедники ведь всегда что-нибудь оставляют, когда уходят. Кто — образок, кто — реликвию. Это они так благодарят за оказанное гостеприимство. Наш оставил вот это, прицепив к распятию над альковом. То ли хотел их нам подарить, то ли забыл, уходя.
И она положила на простыню, которую плоили хозяйки, тяжелые четки, какие капуцины носили на поясе.
Они были из черного дерева, и среди нескольких Десятков черных бусинок в виде черепов была одна, Разделительная, из слоновой кости, цвет которой делал ее еще больше похожей на череп: казалось, что она извлечена из земли гораздо раньше остальных.
Г-жа де Фержоль протянула руку, благоговейно взяла четки, полюбовалась ими и опустила их на лежавшую перед ней простыню.
— Возьми! — бросила она дочери.
Однако Ластени, приняв подарок, почувствовала, как у нее сводит пальцы, и выронила четки. Уж не черепа ли подействовали так на нервы не в меру чувствительной девушки?
— Оставь их себе, матушка, — промолвила она.
О инстинкт, инстинкт! Иногда наша плоть видит дальше, чем мысль. Не могла же Ластени в этот момент знать причину того, что почувствовали ее очаровательные пальцы!
Что же до старой Агаты, она всегда — как до, так и после этой истории — верила, что четки, которые перебирал руками и на зернах которых оставил свои следы страшный капуцин, отравлены и заразны, подобно перчаткам,[416]В XVI в. отравленные перчатки использовались для устранения политических противников. Особенно часто молва приписывала такие злодеяния Екатерине Медичи (1519–1589), жене короля Генриха II и фактической правительнице Франции при ее сыновьях. В частности, Екатерину и ее парфюмера-флорентийца обвинили в отравлении Жанны д'Альбре, королевы Наваррской и матери будущего Генриха IV Бурбона. упоминаемым в хрониках времен Екатерины Медичи, хотя бедная служанка слыхом об этих перчатках не слыхивала. В этой вере Агата была неколебима.
4
Между тем пробило полдень, а отец Рикюльф так и не возвратился в особняк де Фержоль. Агата не ошиблась. Он ушел, и толпа, скопившаяся у его исповедальни в приделе Святого Себастиана, прождала его напрасно. Разразился скандал, за которым назавтра в городке, приверженном к старинным обычаям, последовал другой, когда кюре вынужден был заменить того, кто проповедовал на посту и, следовательно, должен был проповедовать также в Воскресение Господне между обедней и вечерней. Однако впечатление, произведенное этими странностями, вскоре рассеялось. Да и что на свете длится долго? Дождь дней, капля за каплей падающий на нас, смыл это впечатление, подобно тому как первый осенний ливень уносит листья, по которым скатывался. Жизнь дам де Фержоль, застойность которой нарушало пребывание в доме отца Рикюльфа, вновь стала монотонной. Уста обеих забыли, как произносится его имя. Но может быть, дамы все же думали о нем? Бог их знает. Эта безымянная история на редкость темна… Однако впечатление, произведенное этим человеком, которого, увидев хоть раз, уже не забывают, несомненно оказалось глубоким, тем более глубоким, что объяснить, почему это происходит, было невозможно! Холодный и почтительный отец Рикюльф пробыл у дам сорок дней, проявляя в повседневных отношениях с ними сдержанность, свидетельствующую о немалом такте и о воспитанности. Но о себе он, естественно, хранил полное молчание. Что представляло собой его прошлое? Каковы были его жизнь, воспитание, происхождение? Всего этого г-жа де Фержоль слегка касалась в мыслях, но, как подлинно светская женщина, перестала этого касаться, когда увидела, что это человек из мрамора и столь же холоден, непроницаем и неприступен. Разглядеть в нем можно было только капуцина.
В то время капуцины уже перестали быть тем, чем были когда-то. Этот орден, восхищавший своим христианским смирением, давно утратил это восхитительное достоинство. Общество стояло на грани самых зловещих своих дней. Атеистический эпикуреизм царствования Людовика XV, тянувшийся еще долгие годы при Людовике XVI, расшатал все доктрины и нравы, и самые прославленные своей святостью ордена утратили ту суровость, которая вселяла почтение к ним даже в неверующих. Общественное мнение уже начало повсеместно требовать упразднения иноческого жития, что выбросило столько монахов на мостовую порока. Те виды жизненного призвания, которые считались наиболее надежными, были поставлены под сомнение… Г-жа де Фержоль вспоминала иногда, что в городке, где она танцевала свой первый контрданс с очаровательным беломундирным офицером бароном де Фержолем, был капуцин такой красоты, какой нельзя не заметить, хоть он и капуцин; так вот, явившись, как отец Рикюльф, проповедовать под Пасху, он умудрился упрятать щегольскую кокетливость под одеяние нищеты и нестяжательства. Говорили, что он очень высокого рода, и это, возможно, отчасти смягчило дворянское общество, хотя в тех краях оно осталось по-прежнему суровым к этому непристойному минориту, почти по-женски пекшемуся о своей особе, прыскавшему духами бороду и носившему под грубошерстной рясой шелковые рубашки вместо власяницы. Г-жа де Фержоль, в те поры еще барышня д'Олонд, встречала его в свете, где он сидел за вечерним вистом, отпуская женщинам комплименты и нередко шушукаясь с ними в углах гостиной, словно один из тех римских кардиналов, коих поминает Президент Дюпати в своем, очень тогда читаемом, «Путешествии в Италию».[417]Барбе д'Оревильи допускает легкий анахронизм: эта книга (точное название: «Письма об Италии 1785 г.») Шарля Маргерита Жана Батиста Мерсье по прозвищу Президент Дюпати (1746–1788) появилась несколькими годами позднее. Но хотя всего через несколько лет, усугубивших всеобщую развращенность и разложение, все превратилось в гниль и прочная древняя бронза Франции потекла в выгребную яму Революции, отец Рикюльф был не похож на этого салонного капуцина. От него не разило пороками. Он, как имя его, казалось, пришел из средних веков. Отличай его неподобающая светскость, столь неуместная в духовном лице, г-жа де Фержоль поняла бы, почему он внушает отталкивающее чувство, за которое она себя упрекала, но, как Ластени и Агата, столь же стойкие в своей антипатии без видимой причины и столь не сведущие в природе ее, г-жа де Фержоль этого не знала.
Задумывались ли они с дочерью об этом? Трудно предположить, что нет. Для них эта антипатия оставалась тайной. А что сильнее действует на человеческое воображение, нежели тайна? Тайна — это религия для народа, но она же религия для наших бедных сердец… Ах, никогда не давайте познать вас до конца тем, чьей любовью вы хотите обладать! Пусть даже в ваших поцелуях и ласках всегда остается нечто не познанное до конца!.. Пока отец Рикюльф жил у дам де Фержоль, он оставался для них тайной; когда же он ушел, она стала еще больше. Пока он был рядом, им верилось, что в свой срок они проникнут в эту тайну, но теперь, исчезнув, он превращался в неразрешимую загадку, а ничто не терзает мысль сильнее, нежели то, чего она не разгадала.
А извне — ни крупицы света, ничего, что могло бы объяснить появление этого человека, ушедшего из особняка дам де Фержоль утром так же, как он вошел в него однажды вечером. Из каких мест он появился, когда пришел, куда удалился, когда ушел — одна неизвестность. Оправдывалось библейское речение: «Скажите мне, откуда он пришел, и я скажу вам, куда он ушел».[418]Сочиненная самим Барбе д'Оревильи цитата, навеянная, вероятно, евангельским стихом: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит» (Еванг. Иоан., 3, 8). Неправда. Писатель имеет в виду цитату: «Иисус сказал им в ответ: если Я и Сам о Себе свидетельствую, свидетельство Мое истинно; потому что Я знаю, откуда пришел и куда иду; а вы не знаете, откуда Я и куда иду» (Иоанн.; 8, 14). Amfortas Он не сказал, откуда он пришел. Он был из дальнего монастыря и скитался по Франции, как его братья по ордену, которых безбожники презрительно обзывали бродягами. Исчезнув из городка, где проповедовал сорок дней, он не сказал, куда понесет глагол своей бесконечной проповеди. Он исчез, как прах, возметаемый ветром.[419]Псалт., 1, 4. Ни в одном из городов, соседствовавших с тем, который он потряс силой своего красноречия, он не поднялся вечером на кафедру, не прошел утром по улицам, а ведь это был не заурядный капуцин, и где бы он ни появлялся, привлекал к себе все взгляды — настолько был величествен и высокомерен в своей чиненой-перечиненой рясе, настолько достоин вдохновить стих, который один великий современный поэт влагает в уста другого капуцина: «Он императором казался, хоть был нищ!» Он, без сомнения, ушел в края достаточно отдаленные, чтобы здесь о нем больше не говорили, хотя — при такой внешности! — должен был повсеместно оставлять о себе воспоминание как об опустошителе душ.
Оставил ли он где-нибудь о себе подобную память? На вид он был молод, но люди, выглядящие молодыми, бывают подчас страшно стары душой, и если отец Рикюльф до сих пор не оставил по себе подобное воспоминание, то, быть может, должен был оставить его в этом городишке и в душе бедной Ластени де Фержоль, которая трепетала перед ним как лист, его уход породил чувство освобождения и дал ей блаженство вздохнуть полной грудью. Он всегда был для нее тем, что девушки, испытавшие уже к кому-нибудь антипатию, называют «своим кошмаром», и если Ластени не называла его так, то лишь потому, что ее речь, равно как все существо, была недостаточно энергична. Очаровательная, но хрупкая девушка, над которой как рок тяготела ее слабость, Ластени была счастлива избавиться от присутствия человека, который беспричинно, но неодолимо производил на нее впечатление заряжаемого в дальнем углу ружья. Теперь ружье исчезло. Ластени была счастлива, но счастье бывает и ложным. Ведь будь она действительно счастлива, почему счастливое чувство освобождения не озарило ее лицо, почему меж широких бровей, еще недавно таких печальных и таких кротких, с недавних пор пролегла складка какого-то тайного ужаса?.. Г-жа де Фержоль с ее несгибаемой душой и здравым смыслом нормандки смотрела на вещи слишком свысока и слишком общо, чтобы откинуть волосы с лица дочери и разгладить морщинки, которые промывала иногда влага слез на этом челе мечтательницы, чистом, как меланхолическое озеро; но зато их видела Агата, простая служанка Агата. Инстинктивная ненависть, питаемая ею к этому хрычу капуцину, как выражалась она, чтобы не прибегать к другому словцу, представлявшемуся ей куда более греховным, — как оно, впрочем, и было на самом деле, — обостряла зрение служанки и вооружала ее проницательностью, которой не хватало той, в ком супруга, неутешная супруга в трауре, вытеснила мать. Будь Агата не нормандкой, а родись в Италии, она верила бы в сглаз. Она объяснила бы все этой таинственной jettatura,[420]Сглаз, порча (итал.). которою объясняют непонятные им несчастья страстные итальянцы, верящие только в любовь и ненависть. О, эти странные астрологи, усматривающие в человеческих глазах благоприятное или вредоносное стечение звезд нашей жизни, столь же хаотичное, как стечение светил небесных! Но на родине Агаты суеверие носило иной характер. Она верила в незримые чары, в невидимое для глаз колдовство. Отца Рикюльфа, «о котором она думала плохо», Агата подозревала в способности наводить порчу, которую он навел, в частности, и на Ластени. Почему именно на нее, добрую невинную девочку? Да как раз потому, что она добра и невинна: что нечистый, творящий зло ради зла, особенно остро ненавидит невинность; что он, падший ангел, особенно завидует тем, кто остался в царстве света. Словом, для Агаты Ластени была ангелом, который, пребывая на земле, не перестает жить в горних лучах.
Вся во власти мысли о «порче», старая служанка унесла черные четки из бусин-черепов, на которых у Ластени однажды свело пальцы. Агата этого не забыла и обошлась с четками, как с оскверненной святыней. А так как огонь очищает все, она благочестиво их сожгла. «Но порча-то все равно в Ластени сидит», — сокрушалась Агата. «Порча», приходящая из ада, где все горит, должна напоминать ожоги, проникающие в тело и изъязвляющие его; точно так же она должна проникать в душу и изъязвлять ее… Вот что втолковывала себе суеверная Агата, когда прислуживала за столом и, стоя за стулом г-жи де Фержоль с зажатой под мышкой салфеткой и упертой в фартук тарелкой, подолгу смотрела на день ото дня все более бледное лицо Ластени, сидевшей напротив матери и ничего не евшей. Девушка начала утрачивать даже свою хрупкую красоту. Со дня ухода отца Рикюльфа минуло едва два месяца, а зло, которое он привнес в дом, уже стало обретать осязаемые формы. Дьявольское семя, посеянное им, дало первые всходы. Конечно, печаль Ластени никого не удивляла и не пугала. Девушка всегда была такой. Она родилась в ненавистном Агате мерзком краю, где даже в полдень сумеречно и где Ластени росла рядом с матерью, думавшей только об утраченном муже и не находившей для дочери ласкового слова. «Не будь меня, — добавляла про себя Агата, — малышка не знала бы, что такое улыбка. Она никогда никому не показала бы свои хорошенькие зубки. Но теперь ее гложет не только печаль, теперь это порча, а порча — это смертные корчи, как гласит присказка в наших краях». Таковы были внутренние монологи Агаты. «У вас что-нибудь болит, барышня?» — часто осведомлялась она у Ластени с тревогой, в которой чувствовался ужас, несмотря на все усилия не выдать мысли, которые шастали у нее в голове, но Ластени побелевшими губами неизменно отвечала, что у нее ничего не болит. Видно уж, всем девушкам, этим кротким стоикам, суждено отвечать, что у них ничего не болит, когда это совсем не так. Женщины настолько созданы для страдания, боль настолько их удел, они начинают испытывать ее так рано и так мало ей дивятся, что утверждают, будто не испытывают ее еще долго после того, как она начинается.
И боль пришла. Ластени явно страдала. Вокруг глаз у нее легли круги. На ландыше ее лица появились пятнышки, как от ожогов, и складка бровей на опаловом лбу перестала быть только следом мимолетной мечты. Она выражала теперь нечто большее. Внешне жизнь Ластени не изменилась. Это по-прежнему была рутина домашних обязанностей, то же шитье в той же оконной амбразуре, то же хождение в церковь в обществе матери и — опять-таки в обществе матери — прогулки по зеленым склонам гор, где трепетали ручьи, то взбухавшие, то пересыхавшие в зависимости от времени года, но никогда не перестававшие низвергаться вниз. Особенно часто дамы прогуливались по вечерам — обычное время прогулок на своей земле. Но они делали это не как более счастливые обитатели равнин и берегов, отправляющиеся полюбоваться закатом. В этом зажатом между горами краю не было солнца: они как бы образовывали экран, защищавший от его лучей. С вершин, правда, было видно, как оно садится на горизонте, но до них требовалось добраться, а они были изрядно высоки. В самых долгих своих прогулках дамы де Фержоль не поднимались выше, чем на полпути.
Вечером ковер лугов, заросли, кое-где почти непроходимые, могучие деревья на склонах, которые гнутся долу, скручиваясь и переплетаясь между собой, придавали этим горам с тучной почвой, и ничуть не похожим на тощие и жаркие рыжие Пиренеи, характер, который хорошо, пожалуй, даже слишком хорошо сочетался с мыслями и чувствованиями обеих прогуливающихся женщин. Приближающаяся ночь окрашивала более темными тонами или расцвечивала звездами синюю орбиту, простертую над головами, а когда всходила луна, та луна, которой не замечаешь, она озаряла молочно-бледным светом убогое слуховое окно неба, благодаря которому, подняв глаза, можно было убедиться, что небо действительно существует… В любом ландшафте вечером появляется нечто фантастическое; этот тоже не был исключением. Выстроившиеся кругом горы, вершины которых только-только не целовались друг с другом, представлялись воображению хороводом гигантских фей, тихо шепчущихся между собой, словно закончившие визит и уже вставшие с мест гостьи, которым что-то торопливо договаривают, перед тем как облобызаться на прощание и разъехаться. И это сравнение казалось тем более разительным, что испарения, поднимавшиеся от зелени и бесчисленных орошающих траву источников, как бы набрасывали белый бурнус жемчужного тумана на просторные зеленые платья фей-великанш, слегка колышемые серебром ручьев. Только эти феи не уходили. Они оставались на прежнем месте, и там же их находили на следующее утро… Дамы де Фержоль почти никогда не возвращались с вечерних прогулок прежде, чем под их ногами не разнесется «ангелус», взметающийся к ним из небольшой долины, где прижималась к земле черная романская церковь, откуда вздымалась молитва, которую Данте именует «агонией умирающего дня». Тогда они спускались в темнеющий городок и шли в эту похожую на гробницу церковь, куда по обычаю ходили к вечерне перед ужином.
Подчас, когда г-жа де Фержоль по той или иной причине не могла уйти из дома, Ластени осмеливалась совершать подобные прогулки одна. Никакой неосторожности в этом не было. В краю — прежде всего в силу его удаленности — царил порядок. В этой со всех сторон наглухо заткнутой дыре жили, подобно некому троглодитскому племени, домоседы, многие из которых никогда не покидали кольца обставших их гор, как будто некое колдовское заклятие удерживало их в пределах мрачного магического круга. Ни чужаков, ни подозрительных бродяг здесь не попадалось, нищие и всевозможные путники, столкновение с коими могло бы сулить девушке недоброе, встречались лишь на внешних склонах этого хребта, который пересекает Францию и одним из центров которого была Форе; с внутренней же его стороны обитали только описанные нами насельники темной и сырой, как колодец, долины. К тому же дамы де Фержоль были окружены едва ли не суеверным почтением. Ластени знала по имени всех пастушков, гонявших своих коз по почти отвесным горным пастбищам, всех коровниц, отправлявшихся вечером на дойку на обрывистые луга, всех ловцов форели, удивших ее в маленьких водопадах и приносивших домой полные корзины этой рыбы, которой они кормили округу, как ловцы семги — Шотландию. Кроме того, г-жа де Фержоль никогда не разлучалась надолго с дочерью. Она отыскивала Ластени тем легче, что, уговорившись заранее, куда та пойдет, девушку нетрудно было обнаружить издалека на склоне расположенных амфитеатром гор и даже прямо из окон большого серого дома г-жи де Фержоль, из которых открывалась все та же перспектива — обрывистые Уступы гор, громоздящиеся перед глазами, словно шпалеры вдоль стены.
Однажды вечером Ластени непривычно быстро вернулась с подобной прогулки, усталая, изнемогающая, еще более изменившаяся. Изменилась она так, что это мог заметить не только острый наблюдатель, — зримо, грубо, очевидно. От Агаты, не перестававшей расспрашивать девушку, как та себя чувствует, она больше не скрывала, что сильно недомогает. Однако что она испытывает, Ластени объяснить не захотела. Она отделалась одной фразой: «Да не знаю я, что со мной, бедная моя Агата!» В тот вечер кое-что заметила даже ее мать, не желавшая ничего видеть и с головой ушедшая в благочестие и в воспоминания о муже, снедавшие ее. Ластени, уговорившаяся с матерью, что та, помолясь в церкви, поднимется вечером за дочерью в горы, сама спустилась в церковь — ей было так худо, что у нее не хватило терпения ждать. Войдя в храм, она увидела спину г-жи де Фержоль, преклонившей колени в исповедальне, и опустилась на скамью позади нее, сломленная усталостью. Быть может, она слишком много ходила пешком? Церковь, и без того темную, затопляли сумерки. Витражи ее померкли. Однако, когда г-жа де Фержоль вышла из исповедальни, час ужина еще не наступил, и мать предложила Ластени:
— Завтра праздник. Почему бы тебе завтра не причаститься со мной, а сейчас не исповедаться, пока я сотворю благодарственную молитву? Время у тебя есть.
Но Ластени отказалась, сославшись на то, что не готова, и продолжала сидеть не молясь, покамест г-жа де Фержоль, преклонив колени на плитах пола, творила молитву. Она была совершенно ошеломлена и, как бывает в такие минуты, совершенно ко всему безразлична. Отказ исповедаться и причаститься удивил г-жу де Фержоль, которая не пожелала настаивать, боясь, как бы сопротивление дочери не раздражило ее (она хорошо себя знала!), и она сочла, что дочь обязана будет раскаяться в отказе причаститься вместе с ней. Г-жа де Фержоль, эта ревностная богомолка, была сильно раздосадована, но воля ее не уступала неколебимостью вере, и когда мать с дочерью направились из церкви домой, Ластени не могла не почувствовать, что рука матери, лежащая на ее руке, дрожит от подавленного волнения. Они дошли до дому, не обменявшись ни словом. На углу маленькой квадратной площади, отделявшей церковь от особняка де Фержоль, стоял кузнец, чья кузница бросала через открытую дверь сноп огня, отблеск которого пересекли дамы, и Ластени оказалась настолько бледна, что даже красное пламя не смогло обагрить страшную в эту минуту бледность девушки.
— Как ты бледна! — изумилась г-жа де Фержоль. — Что с тобой?
Ластени ответила, что она устала. Но когда они сели за стол, одна, как обычно, напротив другой, черные глаза г-жи де Фержоль, обращенные на Ластени, потемнели, и девушка поняла, что мать сердится на нее за отказ причаститься вместе с нею. Она не поняла, она еще не могла понять, что заронила в свою мать впечатление, которое позднее окажется страшным гвоздем, и в один прекрасный день ее мать повесит на этот гвоздь отвратительное подозрение.
5
На другой день г-жа де Фержоль послала служанку за городским врачом, и Агата с задушевной и давно дозволенной фамильярностью выпалила:
— А, сударыня, заметили-таки, что барышня больна! Я-то уж это давно ясней ясного вижу и сама выложила бы все сударыне, не запрещай мне барышня: ей совестно тревожить мать из-за недомогания, которое, уверяет она, само по себе пройдет. Ан, глядь, не прошло, и я рада, что пожалует врач… — Агата не договорила, потому что в силу своей суеверности была отнюдь не убеждена в способности врача справиться с недугом Ластени. Тем не менее она со всей поспешностью отправилась за врачом, и тот явился. Он расспросил м-ль де Фержоль, но в ответ услышал мало что вразумительного. Она сказала, что чувствует надломленность и непобедимый упадок сил, сопровождаемые смертельным отвращением ко всему на свете.
— Даже к Богу? — бросила ей мать с горькой иронией.
Слово вырвалось у нее непроизвольно — так она сердилась на дочь за вчерашний отказ причаститься совместно. Ластени, которая никогда ни на что не роптала, безропотно отнеслась и к этому выпаду. Но она почувствовала, словно грозное пророчество грядущего, что всегда казавшаяся ей суровой набожность матери может в один прекрасный день стать жестокой.
Права ли была Агата в своих сомнениях? Но врач, если что-нибудь и понял в болезни м-ль де Фержоль, ничем не намекнул на это ее матери. Он не сказал ничего определенного о состоянии дочери, а сама г-жа де Фержоль никогда не болела. «Здоровьем мне возмещено то, что недодано счастьем», — говаривала она подчас. Она едва была знакома с врачом, к которому обращалась лишь по поводу мелких детских расстройств Ластени, когда та была еще совсем ребенком. Доктор уже лет десять практиковал в этой дыре, как презрительно выражалась Агата, что, впрочем, отнюдь не ставило под сомнение его медицинские способности. Из всех, кому нужен обширный театр, чтобы продемонстрировать свои таланты и даже свой гений, врач — тот, кому легче всего обойтись без такого театра. Разве он не повсюду находит материал для своих ученых занятий? Самый, может быть, лучший практик XIX века Рокаше[421]Знакомый Барбе д'Оревильи во время пребывания последнего в 1862 г. у г-жи де Буглон в Бастид-д'Арманьяке в департаменте Ланды на юго-западе Франции. прожил всю жизнь в глухом городишке черного Арманьяка, где больше полувека творил сущие чудеса исцеления. Правда, врач из городишка в Форе был не похож на своего коллегу из городишка в Ландах. Это был всего-навсего здравомыслящий и опытный человек, который придерживался выжидательных методов и не насиловал природу, каковая, будучи женщиной, не прочь иногда быть изнасилованной. Возможно также, симптомы, подмеченные им у Ластени, были слишком неопределенными, чтобы он решился сказать, что думает, если и усмотрел в них намек на нечто серьезное. Короче, даже если у него и появились основания для тревоги, он не поделился ими, предпочитая выждать, прежде чем поведать о них матери, в чьих черных глазах он читал такое суровое материнское чувство. Он повел разговор о недомоганиях, столь свойственных юным особам в возрасте Ластени, когда их организм, ослабленный кризисом, который превращает их в женщин, еще не успевает обрести былое равновесие, и прописал не столько лекарства, сколько определенный гигиенический режим.
— Все это — что мертвому припарки, — решительно заключила Агата после его ухода. — Такими глупостями барышню на ноги не поставишь!
И действительно, в странном недуге, казалось снедавшем Ластени, не наметилось никакого улучшения. Щеки ее приобрели свинцовый оттенок, меланхолия обострилась, отвращение ко всему возросло.
— Хотите знать, что я думаю, сударыня? — спросила Агата г-жу де Фержоль как-то раз, когда они остались одни.
Обед подходил к концу, и Ластени, которую за едой, казавшейся ей отвратительной, то и дело подташнивало, ушла к себе полежать.
— Вот уж месяц как у нас побывал врач, а толку что? — закипела Агата. — Третьего дня он опять приходил, — наливаясь злостью, продолжала она. — Так вот, сударыня, думаю я, что бедной барышне нужнее священник, который изгонит из нее бесов, чем лекарь, который все равно не лечит.
Г-жа де Фержоль посмотрела на старую Агату, как смотрят на человека, которого постиг первый приступ безумия.
— Да, сударыня, — гнула свое старая верная служанка, ничуть не напуганная большими глазами, которые сделала г-жа де Фержоль, — да, сударыня, священник, который сведет на нет сатанинские труды капуцина.
Глаза г-жи де Фержоль метнули черное пламя.
— Что такое? — спросила она. — Вы смеете думать, Агата?..
— Да, сударыня, — бесстрашно отпарировала Агата, — и думаю, тут не обошлось без нечистой силы, и бес оставил здесь то, что оставляет всюду, где проходит. Не может погубить душу — вымещает злость на теле.
Г-жа де Фержоль не ответила. Она стиснула виски руками и оперлась локтями о стол, с которого Агата убрала скатерть. Она размышляла над словами старой служанки, сказанными тою с глубокой убежденностью, словами, которые, словно копье, вошли ей в душу, столь же религиозную, как у Агаты, а то и больше.
— Оставь меня на минутку, Агата, — распорядилась она, расстроенно подняв голову и тут же вновь опустив на руки.
И Агата, пятясь, вышла, чтобы подумать на свободе о состоянии, в которое ввергла эту женщину, поразив ее, как молнией, всего одним словом.
— Ах, Святая Агата! — пробурчала служанка, уходя. — Раз она сама ничего не видит, нужно было ей это сказать.
Г-жа де Фержоль не была суеверна, говоря языком света, который ничего не смыслит в сверхъестественных вещах; не была она склонна и к христианскому мистицизму, но зато отличалась глубокой религиозностью. Слова Агаты произвели на нее глубокое впечатление. Разумеется, она вовсе не отрицала возможность физического вмешательства и зримого воздействия того, кого Священное писание именует нечистым духом. Она верила в это. И хотя разуму ее были свойственны и сила, и твердость, она верила в это спокойно и в соответствии с христианской доктриной в той мере, в какой разрешает верить в это церковь, мать всяческого благоразумия и враг всяческого вольнодумства. Поэтому мысль Агаты завладела ею с меньшим неистовством, чем это произошло бы, будь ее воображение более созерцательным и экзальтированным. Вот только мысль эта озарила ее иначе, нежели Агату. Женщина, которая любила, которая уже пятнадцать лет тщилась успокоиться и охладеть, но все еще пылала и бурлила неистребимой страстью к мужчине, тайно подсказывала ей вещи, которых не могла открыть наивная старая Агата, прожившая жизнь в безбрачии сердца и немоте чувств. Так же, как простушка Агата, г-жа де Фержоль верила, что на службе у лукавого состоят грозные плотские соблазны, но по собственному опыту знала то, чего не знала Агата, — что самый грозный из таких соблазнов — любовь. Такова была мысль, внезапной молнией сверкнувшая у нее в мозгу. «Что, если Ластени полюбила? — спросила она себя. — Что, если недуг ее — любовь?» И она сидела, поникнув и обхватив голову руками, но ее внутреннее зрение — те глаза, что даются нам, чтобы видеть во тьме своей души, — сосредоточилось на внезапной мысли: «Что, если она любит?» А так как в заштатном городишке проживали только мелкие буржуа, не было ни светского общества, ни молодых щеголей, и они с дочерью проводили дни в недрах своего пустынного особняка, словно в какой-нибудь Фиваиде,[422] Фиваида — пустыня около Фив (Египет), место уединения отшельников в первые века христианства. в душевной ночи г-жи де Фержоль возник образ непостижимого капуцина, вошедшего в их жизнь, исчезнувшего, как видение, и тем более волновавшего воображение женщин, что они ничего не могли в нем понять и не поняли.
Ужас, вернее нечто вроде ужаса, что Ластени постоянно испытывала перед этим страшным сфинксом в рясе, который сорок дней, непроницаемый, провел рядом с нею, не мог быть причиной, которая помешала бы ей безумно влюбиться в него. Напротив, это было достаточной причиной, чтобы полюбить его до исступления. Женщины это знают. Если даже им не подсказывает этого женский инстинкт, их этому учит жизнь страстей. Как часто любовь начиналась со страха, ненависти или отвращения, представляющего собой сочетание страха с ненавистью, доведенных до предельного напряжения в робких взбунтовавшихся душах. «Вы действуете на нее, как паук», — сказала как-то раз одна мать мужчине, влюбленному в ее дочь, бедная мать даже не подозревала, с каким неистовством преступного и тайного счастья дочь ее через два месяца после этой жестокой и уничижительной фразы росилась в волосатые лапы паука, позволив ему до последней девственной капли высосать из нее кровь ее сердца! Ластени трепетала перед холодным и загадочным капуцином. Но женщина, не трепетавшая перед мужчиной, никогда его не полюбит. Надменная г-жа де Фержоль тоже, вероятно, трепетала перед неотразимым беломундирным офицером, который похитил ее, как Борей — Орисию.[423] Орисия (миф.) — дочь Эрехтея, царя Афин, похищенная северным ветром Бореем. Чтобы испугаться того, что угрожало ее дочери, г-же де Фержоль достаточно было припомнить времяпрепровождение Ластени. «Если Ластени знает, что с ней, — рассудила г-жа де Фержоль, — она будет молчать и таиться. Болезнь засела глубоко». Вспомнила она и то, как таилась сама, когда была влюблена. Любовь — это свирепая стыдливость, легко становящаяся ложью, и притом ложью самой сладострастной и низкой. С каким отвратительным наслаждением мы приклеиваем лживую маску на свое пылающее лицо, жар которого все равно пожрет ее и превратит во прах, так что оно предстанет, снедаемое страстью, которой больше уже ничто не скроет!
Когда г-жа де Фержоль подняла голову, она была спокойна и полна решимости узнать, что с дочерью. О враче она больше не думала. «Пронаблюдать и увидеть — это мой долг», — сказала она себе. Она еще раз осудила себя за главный грех своей жизни — за то, что была сперва супругой и лишь потом матерью. Бог продолжал карать ее за это и правильно делал. Она заслужила наказание. Когда Ластени, еле волоча ноги, спустилась вниз и уселась в оконной амбразуре, где они работали с матерью, она наверняка испугалась бы выражения глаз г-жи де Фержоль, если бы заглянула в них, но она в них не заглянула. Она и не пыталась это делать. Она никогда не видела в них нежности, этого магнита, с которым так заслуженно ту сравнивают, и она избавляла себя от перспективы снова увидеть в них любые чувства, кроме кротости.
— Как ты себя чувствуешь? — осведомилась г-жа де Фержоль у Ластени, помолчав и перестав орудовать иглой, которою метила белье.
— Лучше, — отозвалась Ластени, не поднимая лица и продолжая работать.
Однако из-под наклоненного лба, не коснувшись щек, отвесно упали две крупные слезы, увлажнив руки и работу девушки. Г-жа де Фержоль, держа иголку на весу, увидела, как вслед за ними скатились две другие, более крупные и тяжелые.
— Тогда почему ты плачешь? А ты ведь плачешь? — спросила мать голосом, прозвучавшим как упрек или даже обвинение.
Растерянная Ластени утерла глаза тыльной стороной руки. Она была бледнее своих пепельных волос.
— Не знаю, матушка, — ответила она. — Это, наверно, что-то физическое.
— Я тоже думаю, что это нечто физическое, — отчеканила г-жа де Фержоль. — С какой стати тебе плакать? Чего огорчаться? С чего считать себя несчастной?
Она умолкла. Ее черные сверкающие глаза всмотрелись в светлые и прекрасные глаза дочери, еще влажные от слез, торопливо высыхавших под огнем вперенных в них темных зрачков.
Ластени вобрала в себя слезы, молчание возобновилось, и обе иглы опять заработали.
Короткая, но чреватая угрозой сцена! Обе женщины наклонились над разделяющей их пропастью недоверия и больше в тот день не сказали ни слова. Жестокое молчание вновь и вновь вставало между ними.
Это молчание становилось как бы неподвижным. А что может быть печальнее и даже зловещее, чем совместная жизнь, над которой нависло безмолвие? Несмотря на решимость г-жи де Фержоль, боязнь увидеть воочию удерживала ее, и прошло еще несколько безмолвных дней. Но наконец однажды ночью, лежа без сна и размышляя о немоте, которая гнула ее и дочь одну перед другой, под бременем тревоги, с обеих сторон превращавшейся в ужас, г-жа де Фержоль устыдилась своей слабости. «Пусть выказывает трусость она, я — не буду!» — решила та, что была матерью, взяла со стола лампу, которую никогда не гасила, чтобы в часы бессонницы постоянно видеть распятие, висящее над альковом, и, видя его, молиться с еще большим рвением. Только в эту ночь, вместо того чтобы созерцать распятие и молиться, г-жа де Фержоль рывком сдернула его с алькова и унесла с собой, как последнее отчаянное средство против несчастья, которого она искала, зная, что несчастье уже поджидает ее. Нужно немедленно покончить со снедающей ее тревогой! С лампой в одной руке, с распятием в другой, похожая в своих белых ночных одеждах на странное привидение, она вошла в спальню дочери. К счастью, вокруг не было никого, кто мог бы ее увидеть и кого она могла бы привести в ужас. Она сама была воплощенный Ужас! Что собиралась она предпринять?.. Ластени спала почти не дыша и без сновидений, спала тем безжизненным сном, который похож на смерть и охватывает вечером тех, кто много страдал днем. Г-жа де Фержоль подняла лампу выше лица дочери и направила а него свет, дрожавший в ее дрожащей руке. Потом, пустив лампу, она обвела ею вокруг лица своего ребенка, чью болезненную тайну хотела прочесть, воспользовавшись простодушием сна.
— О! — вырвалось у нее с невыразимой горечью. — Я не ошиблась. Я все угадала точно. На ней маска.
Трагические слова, которые выражали для нее нечто страшное и которых Ластени, девственная Ластени, не поняла бы, даже если бы услышала их!
Поставив на ночной столик лампу, которую держала в руке, и не сводя глаз с дочери, г-жа де Фержоль повторила:
— Да, на ней маска!
И внезапным яростным движением она, как молот, подняла распятие над лицом дочери, чтобы раздавить ту маску, о которой говорила. Но это длилось лишь мгновение. Тяжелое распятие не упало на спокойное лицо уснувшей девушки, но — что не менее ужасно! — отчаявшаяся женщина повернула его и обрушила на собственное лицо! Она ударила сильно, ударила с неистовством покаяния, на которое обрекла себя в своем свирепом фанатизме. Брызнула кровь, и шум удара разбудил Ластени, издавшую крик при виде внезапного света, хлынувшей крови и лица, по которому мать била себя крестом.
— А, теперь ты возопила! — с раскатом отвратительной иронии в голосе воскликнула г-жа де Фержоль. — Ты не возопила, когда нужно было вопить. Ты не возопила, когда…
Но тут, вся растерзанная, она запнулась из страха перед тем, что собирается сказать, и как бы встав на дыбы перед собственной мыслью.
— О притворщица! — продолжала она. — Лицемерная дочь, ты сумела обо всем умолчать, все спрятать, все утаить. Ты не возопила, но твой грех вопиет на твоем лице, и это услышат все, как услышала я. Ты не знала, что существует маска, которая не обманывает и все выдает, и эта маска-обвинительница — на тебе.
Растерянная, перепуганная, ничего не понимающая в словах матери, Ластени, вероятно, сошла бы с ума от этой дикой ночной сцены, так неожиданно разбудившей ее, если бы девушку не спасла от помешательства потеря сознания; но без всякого сострадания к этому, ею же вызванному, обмороку г-жа де Фержоль оставила дочь в беспамятстве на подушках и, сжав обеими руками распятие, упала на колени.
— Прости меня, Господи! — вскричала она, лобызая ноги Распятого и раздирая себе губы о гвозди. — Прости мне грех, который я разделяю, потому что слишком мало пеклась о ней. Я уснула, как Твои нерадивые ученики в саду Гефсиманском. И лукавый подкрался, когда я спала.
Она опять принялась бить себя по груди, и кровь заструилась с новой силой.
— Да будет крест Твой орудием моей казни, Господи Боже, грозный Судия!
Не помня себя, раздавленная мыслью о своем грехе и вечном осуждении, она осела и рухнула на пол перед застывшим на кресте Христом, принимающим в объятия спасенный мир, подобно ее собственным застывшим рукам; но ее руки не простерлись к Богу, правосудию Его, не обратились с любовью к Кресту, а бросили полумертвой родную дочь, чтобы устремиться только к небу!
6
Когда Ластени пришла в себя, мать ее в изнеможении лежала на полу спальни, прижавшись лицом к распятию. Движение, сделанное девушкой, к которой вернулось сознание, и вырвавшийся у нее стон вывели г-жу де Фержоль из подавленного состояния; она встала и, с окровавленным лицом поднявшись во весь рост над дочерью, властно потребовала:
— Ты все мне скажешь, несчастная, я хочу все знать. Я хочу знать, кому ты отдалась в этой пустыне, где мы живем, как две затворницы, и где нет мужчины, достойного тебя.
Ластени опять вскрикнула, но, не в силах ответить, лишь тупо и ошеломленно уставилась на мать.
— Ну, довольно молчать, довольно лгать, довольно ломать комедию! — прошипела г-жа де Фержоль. — Не прикидывайся изумленной, не прикидывайся дурочкой! — добавила жестокая мать, которая была уже не матерью, а судьей, и таким, что готов стать палачом.
— Но, матушка! — вскрикнула бедная девочка и, возмущенная такой безмерной жестокостью и несправедливостью, разрыдалась от страха и обиды. — В чем я провинилась? За что вы гневаетесь на меня? Я ничего не знаю. Я слышу от вас ужасные слова, но ничего не понимаю, ничего. Вы убиваете меня. Вы сводите меня с ума, и, может быть, то же происходит с вами — так страшны ваши речи и окровавленный рот.
— Пусть он кровоточит! — перебила ее г-жа де Фержоль, ударив себе в лоб неистовым движением тыльной стороны руки. — Он кровоточит из-за тебя, негодяйка! Только не тверди мне, что ты ничего не понимаешь. Лжешь! Ты прекрасно знаешь, что с тобой. Когда это приходит, любая женщина это знает: стоит ей взглянуть на себя — и она сразу всё поймет. А, теперь я больше не удивляюсь, почему ты в тот вечер не пожелала пойти к исповеди!
— Матушка! — в отчаянии вскричала Ластени, внезапно уловившая смысл низкого обвинения, брошенного ей матерью. — Вы же прекрасно знаете: то, что вы имеете в виду, невозможно. Я больна, мне нехорошо, но мое недомогание не может быть той гнусностью, о которой вы думаете. Я же не вижусь ни с кем, кроме вас и Агаты. Я не расстаюсь с вами.
— Ты одна ходишь гулять в горы, — бросила г-жа де Фержоль с безжалостной недоверчивостью.
— О! — охнула девушка, уязвленная подобным подозрением. — Вы убиваете меня, матушка. Ангелы небесные, сжальтесь надо мной! Вам-то ведомо, что я такое!
— Не призывай ангелов, оскверненная! Ты отпугнула их. Они тебя больше не слышат! — отрезала г-жа де Фержоль, упрямо и слепо не веря невинности, заявлявшей о себе с таким простодушием и отчаянием. — Не отягчай ложь богохульством! — продолжала мать, наливаясь все большей яростью, и грубо добавила страшные в своей обыденности слова: — Ты брюхата, ты погибла, бы обесчещена. Отпирайся не отпирайся — какая разница! Сколько ни лги, ребенок родится и уличит тебя. Ты обесчещена, ты погибла! Но я хочу знать, с кем ты погубила себя, с кем утратила честь! Отвечай немедленно — с кем? С кем? С кем?
Повторяя это, она схватила дочь за плечи и встряхнула с такой силой, что вновь опрокинула ее на подушку, и слабая девочка упала на нее, став бледнее наволочки.
Ластени (за столь краткий срок!) уже вторично лишилась чувств, но жестокая г-жа де Фержоль и в этом случае выказала сострадания не больше, чем раньше. Теперь, когда она попросила у Бога прощения за грех дочери и собственное нерадение в присмотре за ней, она в своем материнском гневе готова была топтать Ластени ногами. Усевшись в изножье кровати девушки, которую уже дважды довела чуть не до смерти, г-жа де Фержоль предоставила Ластени приходить в чувство, как та сумеет. И это длилось долго! Ластени потребовалось много времени, чтобы опамятоваться. Гордость, которую религия не укротила в г-же де Фержоль, переворачивала сердце этой знатной и от природы столь надменной женщины, стоило ей — о, невыносимая мука! — подумать, что какой-то безвестный мужчина, может быть простолюдин, сумел тайком обесчестить ее дочь. И она хотела знать, кто этот мужчина. Когда Ластени открыла глаза, она увидела мать, почти приникшую к ее губам, как будто в надежде услышать или вырвать роковое имя.
— Имя! Имя! — алчно повторяла она. — Знай, лицемерная дочь, я вырву у тебя это проклятое имя, даже если мне придется проникнуть в твое чрево, где зреет его ребенок.
Но Ластени, раздавленная ужасами этой ночи, не отвечала матери и лишь глядела на нее большими пустыми и, казалось, мертвыми глазами.
Эти прекрасные глаза цвета ивы так и остались с тех пор безжизненными: никто уже не видел в них блеска, даже когда они увлажнялись слезами, а слезы им пришлось лить ручьем. Ни в эту ночь, ни потом г-жа де Фержоль не вырвала у дочери никаких признаний, и с этого времени для несчастных матери и дочери началась адская жизнь, которой нет подобных в волнующих и трагических ситуациях самых мрачных историй. Это действительно была безымянная история, обжигающе холодная схватка двух женщин одной крови и вдобавок любивших друг друга, никогда не расстававшихся и всегда живших вместе, но не ставших близкими людьми, которых соединяли бы доверие и самозабвение. О, теперь они дорого расплачивались за обоюдную сдержанность и самососредоточенность, в которых жили до этого. Им пришлось жестоко раскаяться! То была глубокая драма, столкновение двух душ, долгое и скрытное, причем скрытность его приходилось все время усугублять даже при Агате: служанка тоже не должна была знать о позорной беременности, секрет которой г-жа де Фержоль страстно желала бы упрятать на сто сажен под землю в отличие от Ластени, покамест не верившей, что она действительно в тягости. Испытывая незнакомые ощущения, девушка воображала, что терзается каким-то неизвестным недугом с обманчивыми симптомами, а мать ее пребывает в чудовищном заблуждении. Она страдальчески защищалась от материнских оскорблений. Она не склоняла голову под позорными пощечинами упреков. Ее оружием было возвышенное упорство невинности. И поскольку она была не похожа на свою страстную, деспотичную, неукротимую мать, которая на месте Ластени рычала бы как львица, она лишь отвечала с кротостью агницы, подставляющей горло под нож.
— Как вы будете в свой день раскаиваться, матушка, что заставили меня столько страдать!
Однако день, о котором она говорила, все не наступал, но сколько тем временем утекло дней у этой немилосердной матери, не знающей прощения, и дочери, почитавшей за честь не домогаться прощения. Шли дни — долгие, нелюдимые, изъязвленные, черные. Но среди них был один, еще более безнадежный, чем остальные, которого Ластени не ожидала, — тот, когда она ощутила внутреннее содрогание, то, что счастливые матери называют «первым толчком пяточки» ребенка, возвещающим о том, что он живет и, быть может, когда-нибудь принесет родительнице горе. Вот тогда злополучная девушка поняла, что заблуждалась она, а не ее мать.
Они, как обычно, сидели друг против друга в амбразуре своего окна, занимая работой лихорадочные пальцы и снедаемые одной и той же мукой. Серый, хотя светлый и свежий, день, как сквозняк через щель, просачивался через дыру, образованную где-то высоко в небе конусообразно сходящимися вершинами гор, и луч, словно нож гильотины, падал на склоненные шеи женщин в глубине немого зала.
Внезапно Ластени схватилась рукой за бок, издав непроизвольный крик, и по этому крику, а еще больше по невыразимому отчаянию, залившему и без того глубоко искаженное лицо дочери, мать, словно читавшая, что творится у той в душе, все угадала.
— Почувствовала его, да? — спросила она. — Он пошевелился. Теперь ты в этом уверена и не станешь попусту притворяться, упрямица. Больше ты не повторишь «нет», свое дурацкое «нет»! — И она положила руку на то место, за которое схватилась Ластени. — Но кто его туда пристроил? Кто? — пылко добавила она.
Г-жа де Фержоль вернулась к постоянному, ожесточенному вопросу, которым снова, как кинжалом, разила бедную девушку, ослепленную, словно вспышкой молнии, внезапным откровением, вырвавшимся из недр ее плоти и доказавшим, что мать ее права. Бессильно опустив руки, чувствуя, как ноги наливаются свинцом от убеждения в бесспорности свалившегося на нее несчастья, Ластени растерянно ответила: «Не знаю», повторив нелепые слова, разом пробуждавшие материнский гнев. Г-жа де Фержоль упорно считала, что рот ее дочери затыкает стыд, но ведь чаша стыда была теперь испита. Беременность подтверждала существование ребенка, который шевельнулся во чреве Ластени под ее рукой.
— Значит, тут скрыто нечто более постыдное, чем твоя беременность, — поразмыслив, решила она. — Ты стыдишься того, кому отдалась, коль скоро молчишь. И ей пришла мысль о капуцине, странном капуцине, которая однажды уже мелькнула в голове, но пришла не как Агате с ее суевериями насчет сглаза, а как женщине, верящей только в колдовство любви: она ведь сама стала когда-то его жертвой. Любовь, которая прикрывается ненавистью или притворной антипатией, а затем внезапно, как молния, обнаруживается через беременность, была для нее чем-то вполне вероятным. Но она отгоняла от себя мысль о таком преступлении, затмевающем для нее любое другое, коль скоро его совершил священнослужитель. Она отгоняла эту мысль не столько из веры в невинность дочери, сколько из почтения к сану человека божия. По собственному опыту она знала, сколь хрупка любая невинность! Однако из любопытства, упорного и непроизвольного любопытства, хотя и устрашенная до того, что не осмеливалась высказать вслух мысль, тайно снедавшую и пронизывавшую ее подобно ледяной стали меча, она вновь и вновь истязала и добивала своим постоянным ожесточенным вопросом доведенную до отчаяния девушку, полумертвую от непостижимости своей беременности и отупевшую до такой степени, что та в конце концов замкнулась в слезах и отчаянии.
Однако ни неисчерпаемые слезы, ни немота забитого животного, в которую впала и в которой пребывала Ластени под неутомимым бичом материнских вопросов, не утолили и не обезоружили раскаленную душу г-жи де Фержоль. Всякий раз, когда мать и дочь оставались одни, допрос с пристрастием возобновлялся. А ведь теперь они почти все время оставались наедине. Вечное пребывание с глазу на глаз двух этих женщин в колоссальном пустом доме у подножия гор, тесная сдвинутость которых словно подталкивала мать и дочь Друг к другу и усугубляла их близость, стало еще более полным, чем раньше. Прежде Агата, эта старая испытанная служанка, которая рассталась с родным краем, чтобы сопровождать похищенную г-жу де Фержоль в ее греховном бегстве, не думая о том каким презрением, может быть, встретят их с хозяйкой на новом месте, часто прерывала эти жуткие бдения вдвоем. Закончив уборку большого дома, она имела привычку шить или вязать в зале, где работали дамы, подчиняясь повседневной монотонной рутине, к которой и сводилось их однообразное существование. Но с тех пор как г-жа де Фержоль проникла в тайну дочернего недуга, она под тем или иным предлогом старалась не подпускать служанку к Ластени. Она боялась проницательных глаз старой верной слуги, обожавшей бедную девушку, и слёз, которые та не могла удержать и которые беззвучно стекали ей на руки в долгие часы работы.
— Ради стыда и всего остального, — твердила мать, когда служанки не было рядом, — сдерживайте слезы при Агате.
Теперь она больше не обращалась к дочери на «ты».
— У вас достаточно сил, чтобы молчать. Найдутся и на то, чтобы не реветь. При всей вашей субтильности, вы девушка крепкая. Пусть вы родились слабенькой — порок укрепил вас. Я — всего лишь ваша мать и наполовину в ответе за ваше преступление, поскольку не сумела помешать вам совершить его, но Агата — честная служанка и будет вас презирать, если хотя бы заподозрит то, что знаю я.
Она настойчиво играла на презрении Агаты, презрении служанки, служившем ей для того, чтобы лучше унизить Ластени и выдавить из нее грузом этого презрения имя, которое дочь не желала назвать. Г-жа де Фержоль знала толк в язвительных словах. Она бы охотно измыслила еще что-нибудь более низкое, чем презрение служанки, и швырнула находку в лицо и душу дочери. Но знай Агата скрываемую от нее постыдную правду, она и тогда не стала бы презирать Ластени, а испытала к девушке только жалость. Презрение надменной души преобразуется нежной душой в жалость, а у Агаты была нежная душа, и годы не задубили ее. Ластени это знала.
«Агата — не то, что моя мать, — думала она. — Она бы не презирала и не винила меня. Она бы меня пожалела». Сколько раз в беде, обрушившейся на злополучную девушку, ее подмывало броситься в объятия той, кого она в годы детства и детских огорчений называла няней. Но мать — вернее, мысль о матери — удерживала ее. Влияние г-жи Фержоль на дочь, и раньше-то непререкаемое, стало теперь устрашающим. Когда Агата бывала с ними, мать цепенила дочь неотрывным взглядом. Агата же, со своей стороны, не смела делиться бродящими в ее голове мыслями, когда глядела поверх очков на двух этих женщин, в молчаливом унынии работавших друг напротив друга.
Мысли ее не изменились, но она предпочитала хранить их про себя с тех пор, как г-жа де Фержоль встретила ее домыслы лишь пожатием плеч. Владелица особняка, чтобы как-то объяснить бледность, обмороки и «нервическую», по ее выражению, слезливость дочери, придумала болезнь, в которой «врач этого невежественного городка ничего не понимал» и по поводу которой она письменно запросила консультацию в Париже. Действительно, проще было не прибегать к врачу, который распознал бы все с первого взгляда, чем отдалить от Ластени суеверную Агату.
К тому же возможно ли было до бесконечности скрывать от нее положение Ластени? Разве оно, и сейчас уже непростое, не разрушает все хитрости г-жи де Фержоль и не станет вскоре настолько явным, не обнаружит себя такими уличающими симптомами, что даже старая дева Агата, которую ее невинность делает близорукой, увидит в конце концов правду?.. Неизбежная необходимость! Г-жа де Фержоль много размышляла об этом. Она чувствовала, что близок день, когда придется либо все открыть Агате, либо устранить ее. Устранить Агату, с которой ее хозяйка никогда не расставалась, чьи преданность и привязанность так глубоко изведала?.. Отослать ее на родину? Не брать другой служанки по причине, побудившей уволить Агату, и, возбуждая подозрения всего городка, почтительного, но любопытного и неблагожелательного, жить вдвоем с дочерью в доме без челяди, на дне горной бездны, словно две души в пропастях ада? Она с ужасом рисовала себе эту перспективу. Неустанно ломала себе голову над устрашающей задачей: «Что с нами будет через несколько месяцев?» Однако ее материнская гордость, усугубляемая природным высокомерием, останавливала ее, вынуждала медлить и мешала принять решение, которое надо было-таки принимать. Эта неизбежность, возмущавшая неукротимую душу г-жи де Фержоль, была чем-то вроде огненной точки, неподвижной и неугасимой, которая росла в ее мозгу расширялась в потемках неотвратимого и с каждым ем все ближе подступавшего будущего. Когда она молчала при дочери, с которой говорила лишь затем, чтобы взять ее за горло вопросом, не получившим ответа, и снова удариться о прекрасный, но ставший отупелым лоб Ластени, она в душе все-таки сопротивлялась признанию, немыслимому для той, кто носит имя Фержолей, — к признанию вины, бесчестившей имя, коим она так гордилась, и она повторяла про себя: «Как же нам быть?»
Г-жа де Фержоль думала об этом в любой час дня и ночи, даже когда молилась. Она думала об этом в церкви, глядя издали на дарохранительницу и опустелый жертвенник, потому что после преступления дочери больше не причащалась, считая для себя, янсенистки, невозможным вкушение Святых даров. Когда в церкви людям казалось, что она углублена в молитву, и она преклоняла колени, опершись локтями на молитвенную скамеечку, побелевшими пальцами вцепившись себе в густые черные волосы, где волнами накатывались теперь седины, появившиеся в дни страданий, она была целиком поглощена проблемой и сомнениями, подтачивавшими и снедавшими ее жизнь. Тревога доводила ее до головокружений, и постоянное беспокойство, к которому примешивалось горе, причиненное ей падением дочери, возбуждало в ней злость и жестокую до свирепости обиду на Ластени.
Но, увы, из двух жертв наиболее злополучной была все-таки девушка. Конечно, г-жа де Фержоль была очень несчастна. Она страдала в своем материнстве, в своей материнской и женской гордости, от своей религиозности, даже силы, за которую иногда платят нестерпимо дорого: у физиологически сильного человека нет такого средства самообличения и умиротворения, как слезы: он душит рыдания, не давая им вырваться наружу. Но в конце концов она была мать, воплощенные упрек и обида, тогда как Ластени — всего лишь ее дочь, предмет вечных укоризн, жертва, которой приходилось до дна пить чашу поношений от матери, за которой стояла теперь ее жестокая правота и которая сокрушала дочь неоспоримой очевидностью ее греха или, по словам г-жи де Фержоль, ее преступления! Кошмарная семейная жизнь, кошмарная для обеих! И разумеется, сильнее всего страдала от этой отвратительной близости именно Ластени. В несчастье бывает минута, когда, как это говорится о счастье, продолжать историю становится невозможно и воображению приходится угадывать то, что нельзя рассказать. Эта минута наступила для Ластени. Она изменилась до неузнаваемости, и те, что так недавно находили ее очаровательной, не отважились бы теперь сказать, что перед ними — прелестная м-ль де Фержоль!
Ластени, этот сладостный чистый ландыш, рожденный в тени гор и потому особенно выделявшийся своей блестящей белизной, теперь внушала страх. Это была уже не шекспировская «лилейная Розалинда»,[424]Героиня комедии Шекспира «Как вам это понравится». с той самой белизной, что составляет красоту нежных душ. Она стала всего лишь бледной мумией, но тело ее, вместо того чтобы усыхать, как это происходит с мумиями, размягчалось от слез, пропитывалось ими и расплывалось. Она с трудом несла свой отяжелевший стан и ужасно мучилась из-за живота, который все рос и рос. Будь ее воля, она не снимала бы пеньюара, таясь под его развевающимися складками, но мать не позволяла этого. Нужно было ходить в церковь. Мать не допускала тут никаких послаблений и упорно водила ее к службе. Религиозная г-жа де Фержоль, вероятно, думала, что посещение храма благотворно повлияет на виновную и замкнутую душу Ластени. Оно побудит ее открыть свое сердце и перелить то, что скрыто в нем, в сердце матери.
— Вы слишком близки к родам, — толковала она дочери с презрительной суровостью, — чтобы не отправиться молить прощения у Бога в его святом доме.
И, собираясь вести дочь туда, она собственноручно одевала ее: Агата и здесь была отстранена. Перед выходом мать сама окутывала дочери голову толстым вуалем: пусть даже Ластени задохнется, ей, матери, нужно скрыть ту маску, которую она видела и которую вряд ли сумела бы скрыть надежней, если бы то были следы проказы. А ведь прятать приходилось не только лицо! Живот Ластени разом раскрыл бы все самым ненаблюдательным глазам, и потому г-жа де Фержоль сама шнуровала корсет дочери, не боясь затянуть его слишком сильно и сделать ей больно. В том ожесточении, в котором она жила из-за упрямого молчания дочери, г-жа де Фержоль, шнуруя ее, испытывала подчас такой гнев, что ее конвульсивно стиснутая рука нажимала слишком сильно и бедная будущая роженица издавала непроизвольный стон от этого прикосновения.
— Ах! — с ироническим жестокосердием приговаривала мать. — Можно немного и потерпеть, когда приходится скрывать свою вину! — И г-жа де Фержоль с дикой горечью добавляла: — Боитесь, что я его изуродую! Успокойтесь. Дитя греха выдержит все.
7
Однако в разгар этих жестокостей наступил все-таки миг, когда мать, оскорбленная до глубины души, но все же не лишенная жалости, прекратила пытку, которой подвергала дочь. То ли она почувствовала, что, при всей виновности Ластени, наказание чрезмерно, то ли ее тронуло лицо девушки, прежде обворожительное, а теперь уподобившееся раздавленному цветку, то ли это была уловка ожесточенной души с целью выведать тайну слабого создания, впервые в жизни проявившего силу и с невероятной энергией защищавшего скрытую в его сердце тайну?.. Г-жа де Фержоль знала, что такое любовь.
«Она, без сомнения, отчаянно в него влюблена, коль скоро, столь кроткая от природы и столь мало приспособленная к сопротивлению, сопротивляется с такой силой», — подумала баронесса. И вот она внезапно заговорила с дочерью другим тоном. Язвительность ее смягчилась, и г-жа де Фержоль вернулась даже к нежному «ты».
— Послушай, бедное злополучное мое дитя, — начала она, — ты умираешь от тоски, а заодно убиваешь меня. Ты губишь свою душу, а заодно и мою. Блюдя молчание, ты лжешь и вынуждаешь меня участвовать в этой лжи, разыгрывая унизительную комедию каждую минуту, когда приходится исхитряться, чтобы скрыть твой позор, а ведь одно искреннее слово, сказанное тобою матери, могло бы, возможно, все спасти. Одно твое слово, может быть, вернуло бы тебя тому, в чьих объятиях ты уже побывала. Назови же мне имя того, кого любишь. Быть может, он стоит не настолько низко, чтобы тебе нельзя было выйти за него. Ах, Ластени, я кляну себя, что была так сурова с тобой. Я не имею на это права, дочь моя. Я скрывала от тебя свою жизнь. И ты, и остальные знали одно — что я безумно любила твоего отца и что он меня похитил. Но ни тебе, ни свету неведомо, что я, как и ты, моя бедняжка, оказалась виновна в слабости: когда он привез меня в этот край и женился на мне, я уже была в том положении, в каком находишься ты. Супружеское счастье скрыло грех, краснеть за который мне довелось лишь перед ликом Господним. Твой грех, моя бедная дочь, — это, без сомнения, кара во искупление моего греха. Бог прибегает порой и к такому страшному воздаянию. Я вышла за твоего отца. Он был моим богом! Но Господь небесный не терпит, когда ему предпочитают кумиров, и он покарал меня, отняв у меня мужа и попустив тебе стать такой же грешницей, какой была я. Так почему бы и тебе не выйти за того, кого ты любишь — а ведь ты любишь его! Любишь так же безумно, как я твоего отца, иначе ты не молчала бы.
Г-жа де Фержоль умолкла. Как бы ужасна ни была цена этого признания, она его сделала. Мать признала, что равна дочери в грехе. Она не отступила перед унижением — последним оставшимся у нее средством выведать правду, желанием узнать которую она сгорала. Ей, так высоко ставившей идею материнства и почтения, которым дочь обязана матери, пришлось залиться краской стыда перед собственным ребенком. Открыв ей сегодня то, чего не знала ни одна живая душа, о чем никто в мире даже не подозревал и что так удачно прикрылось браком, она унизила себя как мать в глазах Ластени — вот почему она так долго медлила, прежде чем решиться на унизительное признание. Она пошла на него лишь в последней крайности, но мысль о нем вынашивала уже давно. Вот что значило подобное признание для этой могучей души и какое усилие потребовалось, чтобы решиться на подобное унижение в глазах дочери! Но, так или иначе, она укротила себя и сказала то, что должна была сказать.
Однако жертва оказалась бесполезной. Она не растрогала Ластени. Дочь выслушала признание матери, как слушала теперь все — ничего не отвечая: тщетные отрицания исчерпали ее силы. Как мертвый зверь, она была не чувствительна к упрекам, нетерпению, выговорам и гневу г-жи де Фержоль. Точно так же она встретила и ее признание. Быть может, это была отчаянная решимость, быть может, уверенность, то ей все равно не убедить мать в своей невиновности перед неопровержимой уликой — беременностью. Как бы то ни было, нежность, столь нежданно проявленная г-жой де Фержоль, доверие, взывающее к ответному доверию, исповедь в той же, что у дочери, слабости, которая так дорого стоила материнской гордыне перед лицом ее ребенка, не проникла в душу Ластени, которая никогда не раскрывалась перед матерью и которую к тому же доводили до отупения муки ее непонятного состояния. Было уже слишком поздно! Ластени давно предполагала все что угодно, кроме беременности. В городке, где они жили, она слыхала о несчастной, которую сочли брюхатой, публично позорили и бесчестили самыми поносными словами все время ее пребывания в тягости и которая по прошествии девяти месяцев осталась с животом, раздутым от злокачественного отвердения желез; болезнь еще не добила ее, но, конечно, развязка была не за горами. Ластени — какое безумие! — уповала на этот недуг, как уповают на Бога!
«Моя болезнь будет матери наказанием за все, что она наговорила дурного!»— думала девушка.
Но теперь у нее не было и этой страшной надежды. Она больше не сомневалась. Ребенок зашевелился, и эти толчки в утробе пробудили в сердце несчастной нечто похожее на материнскую любовь.
— Девочка моя, твое молчание отныне бесполезно. Ответь матери доверием на доверие, признанием на признание! — почти ласково просила г-жа де Фержоль. — Тебе нечего меня бояться: ведь я когда-то согрешила, подобно тебе, и могу тебя спасти, отдав тому, кого ты любишь, — добавила она.
Но Ластени даже не слышала: голос, обращавшийся к ней, просто не достигал ее слуха. Она была глуха. Она была нема. Мать смотрела на нее в ожидании ответа, который все не слетал с побелевших губ.
— Ну, девочка моя, назови же мне его! — вновь попросила она Ластени, приподняв и ласково потянув на себя одну из ее повисших рук, чтобы привлечь дочь к себе на грудь. Истинно материнское движение, но тоже слишком запоздалое!
Дамы находились в ту минуту в высоком зале, где проводили все время и куда горы, кольцом обставшие этот печальный дом, бросали тень, умножавшую его печаль. Дамы сидели в оконной амбразуре. Ах, кто знает, сколько безмолвных трагедий разыгрывается между дочерьми и матерями в этих оконных амбразурах, где они на первый взгляд так спокойно работают. Ластени, прямая, застывшая и бледная, на фоне темных дубовых панелей стен, напоминала гипсовый медальон. Г-жа де Фержоль склоняла мрачное лицо над работой, а Ластени уронила из безвольных рук свою вышивку на пол и была неподвижна как статуя — воплощение бесконечного отчаяния, словно над нею разверзлись небеса, чтобы ее поглотить! Ее глаза, такие перламутровые, свежие, чистые, буквально потухли от слез, края век набрякли, покраснели и опухли от все увеличивающихся отеков, и эти глаза, побагровевшие так, словно ни источали кровь, не выражали больше ничего — даже безнадежности, потому что девушка постепенно опускалась ниже незыблемой самопоглощенности помешанного: она погружалась в незыблемую пустоту идиотизма.
Мать долго глядела на дочь с жалостью, смешанной ужасом, который вселял в нее распад этого лица. Она никогда не говорила Ластени, что находит ее красивой, но в глубине души гордилась ее красотой, хотя никогда не заводила об этом речь: суровая янсенистка боялась пробудить две гордыни — дочернюю и свою. Сегодня взгляд на это опустошенное лицо надрывал ей сердце. «Ах, — думала она, — эта очаровательная девушка завтра, быть может, станет безобразной и окончательно полоумной». Она уже видела первые проблески отвратительного идиотизма в чертах этого создания, мертвого еще до смерти: считается, что тело умирающего большинстве случаев уходит из мира первым, раньше души, но бывает и так, что оно остается жить, когда душа давно уже покинула его.
Потом для них, сидевших лицом к лицу на четырех квадратных футах, на которых сосредоточилась их жизнь, наступал вечер, спускавшийся на безвестный городок быстро, как на дно колодца, и опять приходило время идти в церковь возносить вечернюю молитву.
— Ступай молиться Господу, чтобы он отверз сердце и уста твои, ниспослав тебе сил заговорить, — сказала г-жа де Фержоль. Но, равнодушная ко всему, даже к Богу, который не сжалился над ней, Ластени не шелохнулась, и г-жа де Фержоль вынуждена была сжать запястье дочери, которая стала теперь просто изболевшейся плотью, и девушка, автоматически подчинясь матери, поднялась с места.
— Смотри-ка! — воскликнула г-жа де Фержоль, поднимая руку Ластени на уровень своих глаз. — У тебя больше нет отцовского кольца. Что ты с ним сделала? Потеряла? Или считаешь себя недостойной его носить?
Обе женщины так погрязли в своей семейной неурядице, что ни та, ни другая не заметили, что кольца давно уже не было на привычном месте.
Ластени, переставшая что-либо вообще понимать, посмотрела на свою руку, бессмысленно раздвинув пальцы.
— Разве я его потеряла? — спросила она, словно приходя в чувство после обморока.
— Да, ты потеряла его, как потеряла себя, — откликнулась г-жа де Фержоль, взгляд которой вновь стал темен и неумолим. — Ты отдала его тому, кому отдалась сама.
И к ней вернулась прежняя ее суровость. Эта женщина, бывшая не столько матерью, сколько супругой, переживала потерю не сбереженного дочерью кольца, которое носил обожаемый баронессой мужчина, гораздо больнее, чем утрату чести дочерью. В тот вечер и в последующие дни Агата обшарила весь просторный дом в поисках перстня: он вполне мог упасть с исхудалого пальца Ластени. Она его не нашла. И это стало еще одной причиной того, что сострадание ни на минуту не возвращалось больше в сердце г-жи де Фержоль и обида ее стала настолько глубока, что уже не смягчалась.
В тот вечер они забыли пойти в церковь.
Если бы они отправились туда, г-жа де Фержоль пошла бы в храм с мыслью, которая упорно вновь и вновь появлялась у нее, а теперь, после непобедимого молчания Ластени, окончательно, как когти хищника, засела в ней.
«Раз она не желает назвать мне виновного, — заключила хозяйка особняка, — значит, не может выйти за него». И тогда ей на ум вновь пришел тот страшный капуцин, мысль о котором леденила ей мозг и чье имя она не смела произнести ни при дочери, ни про себя, когда о нем думала. Ей было страшно назвать не то что его имя — даже буквы, из которых оно складывалось. А уж составить эти буквы и шепотом прочитать их вместе представлялось ей чудовищным святотатством. Чем иным мог быть для нее дурной помысел о духовном лице, монахе, который, живучи под ее кровом, казался ей безупречным! Она трепетала, думая об этом, хотя то, что она думала, было, разумеется, вполне мыслимо с человеческой точки зрения, но она, благочестивая янсенистка, верившая в сверхъестественную благодать таинств, отгоняла от себя возможное, почитая его невозможным в священнике, ежедневно вкушающем кровь и плоть Господню. «О Боже, — восклицала она, молясь, — сделай так, чтобы это оказался не он». Она даже в мыслях именовала монаха только местоимением он. К тому же в какую минуту, спрашивала она, когда пыталась рассеять свои страхи, могло совершиться преступление — преступление не столько против ее дочери, сколько против Господа? Он никогда не оставался наедине ни с одной из двух дам, приютивших его в сорокадневье. Если не считать часов трапезы, он никогда не выходил из своей комнаты, которую превратил в келью. Следовательно, все ее предположения — вздор, безумие! Но мысль, которая осаждала ее и которую она отгоняла как искушение ада, с адским упорством возникала в ней снова и снова, несмотря на явную свою нелепость. Наваждение, галлюцинация, устрашающее видение, в которое она неутомимо вперялась духовным взором, как тот безумец, что не сводил глаз с солнца, пока не выжег их себе лучами всепожирающего светила, но более несчастная, чем он, вскоре ослепший, с двумя кровавыми дырами вместо выжженных глаз, она не ослепла духовно, созерцая страшное внутреннее пламя, которое испепеляло ее, но в которое она постоянно вперялась и которое по-прежнему видела. Кончалось это тем, что она погружалась в молчание, подобное молчанию Ластени. А если ей случалось на минуту отвлечься от этого всепоглощающего наваждения, избавить ее от которого она тщетно молила Бога, перед ней вставала другая, не менее сокрушительная и властная, проблема — мысль об утекающем времени.
В самом деле, оно утекало беспощадно, как всегда утекает время, и вскоре должно было предать огласке позор дам де Фержоль в том городке, где они, окруженные уважением, прожили восемнадцать лет. Роды Ластени приближались. Надо было уехать, скрыться, исчезнуть! В одно прекрасное утро г-жа де Фержоль — сама она ни с кем не общалась — распространила через Агату слух на городском рынке, что она возвращается на родину. Покинуть ненавистный Агате край, одиночку в тюремном подземелье, где она задыхалась, было единственным способом смягчить горе служанки, удрученной непонятным и, может быть, неисцелимым недугом Ластени, которая, по мнению старухи, оставалась во власти беса. Итак, она вновь увидит свой Котантен и его пастбища. Предлогом для отъезда г-жа де Фержоль избрала недомогание дочери. Ей необходимо переменить климат, и мать ее, естественно, отдает предпочтение родному краю, где располагает крупным состоянием. Она привела Агате всевозможные глупые доводы, маскировавшие подлинную нравственную причину отъезда, и Агата, восхищенная возвращением в Нормандию, не задумываясь и не споря, с несказанной радостью встретила решение хозяйки. Она была без ума от мысли, что возвратится в родной край. Но и от Агаты, как от всех на свете, г-жа де Фержоль жаждала скрыть тайну дочери, которая была и ее тайной, поскольку перед судом ее совести беременность Ластени бесчестила мать почти так же, как дочь. С этой точки зрения г-жа де Фержоль без конца обдумывала, как ей скрыть беременность дочери, но о преступном выходе не помышляла. Мысль о нем, то есть об искусственном выкидыше или детоубийстве, которые при наших мерзких нравах сделались такой ужасной повседневностью, что их можно было бы назвать преступлением девятнадцатого века, — мысль о нем даже не возникала в этой сильной, прямой и верующей душе.
За этим исключением, г-жа де Фержоль билась и ранила себя обо все углы грозной проблемы. Она составила и отбросила сотни планов. Она могла бы, например, уехать с дочерью в огромный Париж, где так легко затеряться и исчезнуть, или в какой-нибудь заграничный город и вернуться лишь по разрешении Ластени от бремени. Она была богата. При деньгах, больших деньгах можно спасти все, даже видимость приличий. Но как оправдать в глазах Агаты отъезд с больной дочерью бог весть куда без старой и преданной служанки, с которой в самый важный и опасный момент жизни — в день похищения — признательная г-жа де Фержоль обещала не разлучаться, что бы ни случилось? Она поклялась ей в этом. К тому же, пойди она даже на такую неблагодарность, это, несомненно, вселит в Агату подозрение, которым г-жа де Фержоль ни за что не хотела осквернять дочь в глазах тех, кто, видя чистую жизнь Ластени, почитал ее ангелом невинности. Вот тогда-то ей и пришла мысль о возвращении в Нормандию, и она остановилась на этой мысли. Она подумала, что после двадцатилетнего отсутствия она там прочно забыта, что те, кто знавал ее в юности, поумирали или поразъехались, и сказала себе: «Там мы затеряемся. Агата, опьяненная радостью возвращения, не заметит того, что должно остаться между мною и Ластени. Мы отгородимся от нее стеной волнения от встречи с родным краем».
Г-жа де Фержоль приняла во внимание, что новое одиночество, которого она так добивается, будет совсем иным, чем в севеннском городке. В Нормандии она обоснуется не в городе, городке или деревне, а в собственном старом замке Олонд, расположенном в забытом Богом уголке между побережьем Ла-Манша и одной из оконечностей полуострова Котантен. В те времена туда не вела ни одна шоссейная дорога. Замок охранялся скверными проселками с глубокими колеями, а известную часть года еще и северо-западными нагоняющими дождь ветрами, словно это здание среди затерянных тропок воздвиг некий мизантроп или скупец, ненавидевший посетителей. Там, как кроты под землей, они обе похоронят свой позор. Решительная г-жа де Фержоль дала себе слово, что даже в последний и судьбоносный миг не позовет врача: на все хватит ее самой, она сама выполнит священную обязанность и материнскими руками примет роды у дочери. Но тут все естество этой героической и несчастной женщины начинало содрогаться и из недр его вырывался вопль:
— Ну, а дальше-то, дальше что? Она разрешится ребенком, и прятать придется уже не мать, а дитя, чья жизнь сама по себе обвинение, сводящее на нет все прежние предосторожности.
И вновь она начинала биться над задачей, которую тщилась решить и которая душила ее, как петля. Но времени для колебаний больше не было. Срок приближался с каждым днем, как волна за волною подступает прилив. Ждать было дальше нельзя. Как можно скорее нужно уехать, вырваться из наблюдавшего за ними городка!
Как все отчаявшиеся люди, г-жа де Фержоль не рассуждала: она не знала, как спастись от гибели, — любой ее шаг только отдалит неизбежную катастрофу. Как все в таких случаях, она твердила себе пустые слова, утешая ими себя и не веря в них: «В последнюю минуту все как-нибудь образуется» — и, словно в пропасть, бросилась вместе с дочерью в почтовую карету, которая их увезла.
8
Эта безымянная история таинственного семейного несчастья, свалившегося неизвестно как и откуда на двух женщин, скрытых как бы в тени глубокой пропасти, но все равно видных взору Судьбы, развертывалась во мгле другой тени, накладывавшейся на первую и сгущавшей ее. Это была тень вулкана, который внезапно разверзся под ногами Франции и в кратере которого частные беды на мгновение сплавились в общей беде. Когда г-жа де Фержоль покинула Севенны, разразившаяся уже Революция не зашла еще так далеко, чтобы поездка двух дам в Нормандию могла вызвать подозрения и наткнуться на препятствия, что непременно случилось бы позднее. Поездка, хотя и в почтовой карете, оказалась долгой и мучительной. Ластени так страшно страдала от толчков кареты, которая трясла и выматывала ее на дорогах, бывших тогда далеко не такими, какими они стали с тех пор, что, к унижению почтальонов, в те времена еще лихих, им приходилось каждый вечер останавливаться не для простой смены лошадей, а на ночевку и возобновлять путешествие лишь на следующее утро. «Плетемся, как катафалк», — презрительно ворчали они, но в словах их было больше правды, чем они предполагали: их рыдван вез полумертвую Ластени. Бледная, вздрагивающая при каждом столкновении грубой почтовой кареты с булыжником дороги, она все время пребывала в предобморочном состоянии. Бес, вечно улавливающий из незримой засады даже самые лучшие и сильные души, тут же молниеносно пронзил мозг г-жи де Фержоль зловещим желанием. «Если б у нее случился выкидыш!»—думала она, но добродетельная женщина подавляла в себе греховный помысел. Она подавляла его с отвращением к себе: как мог он у нее зародиться?
В карете мать и дочь были еще ближе, чем в вечной оконной амбразуре, но разговаривали они не больше, чем там… Что еще им было сказать друг другу? Они уже все сказали. Повергнутые в тоску и поглощенные собою, ни та, ни другая ни разу не высунулись из экипажа, чтобы развлечь на ходу взгляд каким-нибудь пейзажем или мало-мальски любопытным предметом, Их ничто больше не интересовало. Они проводили долгие часы дневных перегонов в молчании, гораздо худшем, чем перебранка, не испытывая сострадания друг к другу, — обеих ожесточила нестерпимая обида обе питали взаимное озлобление: одна — из-за того, о не сумела ничего вытянуть из упрямой и глупой девчонки, хотя та была ее дочерью и сидела с нею колено к колену; вторая — из-за всего, что думала о ней мать, ее несправедливая мать. Долгая поездка по Франции оказалась крестным путем в полтораста лье для обеих… и для Агаты, как та ни радовалась возвращению на родину, потому что служанка откликалась на любое страдание Ластени. Она придерживалась все того же мнения о неизвестном недуге ее «голубки»,
от которого не спасают людские лекарства и от которого, на ее взгляд, было только одно верное средство — изгнание бесов. Однажды она даже попыталась убедить в необходимости этого г-жу де Фержоль, но та. неколебимая в своей вере, отклонила ее совет, что показалось вовсе уж непостижимым благочестивой Агате. Однако по прибытии в Олонд она дала себе слово настоять перед хозяйкой на том, что предлагала. Нормандка, она сохраняла все культовые пристрастия родных краев. Одним из самых древних таких пристрастий, поскольку оно восходит к Людовику Святому,[425] Людовик IX Святой (род. 1213) — король Франции в 1226–1270 гг. там является почитание присноблаженного Тома де Бивиля, исповедника этого короля. Агата вознамерилась отправиться босиком к гробнице святого человека, который исцелением Ластени умножит число совершённых им чудес, а уж если не поможет и он, она обратится к духовному наставнику девушки и попросит изгнать из бедняжки бесов. Невзирая на свою полную и доказанную преданность баронессе и фамильярность в разговорах с ней, Агата была не очень-то смела с властной хозяйкой, умевшей затыкать ей рот одним словом, а то и просто молчанием. Впрочем, власть этой надменной души над другими как раз и объяснялась ее способностью охлаждать симпатию, вселяя чрезмерное почтение к своей особе, и отправлять обратно на небо божественное Доверие, когда оно, раскрывая объятия, излетало с горних высей на землю.
Наконец, после многодневной поездки, они добрались до Олонда. Если что-нибудь и могло расшевелить оцепеневшее воображение мрачной и еле живой Ластени, то это был радостный, сияющий день, хлынувший на путниц по выходе из кареты, которая во время путешествия казалась им гробом. Эта сверкающая веселость погожего зимнего утра (шел январь), какого они никогда, даже весной, не видели в Форе, этом горном гроте, где скупой свет падал сверху, словно сквозь отдушину, восхитительно затопила бы душу девушки, будь ее душа еще настолько жива, чтобы испытать благотворное влияние внезапного и могучего светового душа. На ясном солнце этого дня, составившего исключение в одном из тех дождливых девятидневий,[426] Девятидневье — у католиков серия молитв по обету, продолжающаяся девять дней; в переносном смысле — ряд однообразных, скучных дней. как выражаются у нас на Западе, где так часты непогоды, особенно отчетливо выделялись бесконечные просторы полей, зеленеющих подчас даже зимой, и сверкали изумрудные искры неувядающей промытой дождями и продутой ветром листвы падубов в живых изгородях. Нормандия — это зеленый Эрин[427] Зеленый Эрин (ныне Эйре) — Ирландия. Франции, но (в отличие от другого Эрина) ухоженный, плодоносный, тучный и достойный носить цвет счастливых и победоносно осуществленных чаяний, в то время как злополучный английский Эрин вправе притязать лишь на ливрею безнадежности.[428]В XIX в. борьба за освобождение Ирландии достигла особой остроты: в мае 1882 г., как раз в год написания данной повести, в Феникс-парке в Дублине были убиты фениями (ирландскими революционерами) английский министр по делам Ирландии Кэвендиш и его помощник Бэрк. К несчастью, перемена климата благотворно подействовала только на Агату. Баронесса, которая, покинув в глухом уголке Севенн могилу мужа, вырвала последний корень, связывающий ее с этой землей, где она хотела быть похороненной в свой черед, вся сосредоточилась на мысли о том, как любой ценой спасти честь дочери, — баронесса осталась столь же невосприимчива к красотам края, что и страдалица Ластени, превратившаяся в колыбель ребенка, возникшего так же загадочно, как некое злокачественное отвердение желез, в коем она долго видела свою надежду.
Увы, и та, и другая стали нечувствительны к внешней красоте природы. Обе во всех смыслах утратили свою былую натуру и с ужасом это сознавали. Они еще любили друг друга, но ненависть, непроизвольная ненависть уже цедила отраву в эту неизжитую и спрятанную в глубине сердца любовь, горькую и взбаламученную, как источник, мутный от яда. Баронесса с дочерью, одержимые овладевшими ими чувствами, обосновались в замке Олонд, своем убежище, со слепой беззаботностью людей, утративших связь с повседневной жизнью. Последняя воплощалась для них в Агате. Старая дева, помолодевшая и обновленная встречей с отчим краем и красотой его, вновь с восторженной жадностью пившая родной, насыщенный кислородом любви воздух, одна справлялась со всем, избавляя хозяек от домашних забот. Она была связующим звеном между миром и этими женщинами, которые явились в заброшенный замок, не предупредив округу, где они не хотели ни с кем знаться. Агата в одиночку привела в жилой вид обветшалый, почти разрушенный замок, в котором она все знала наизусть и который напомнил ей молодость. Ставни она оставила наглухо закрытыми, зато распахнула почерневшие и заржавленные окна за ними, чтобы немного проветрить помещения, где, как она выражалась, пахло цвелью. Цвель на нормандском диалекте означает плесень, следствие сырости. Она выбила и вычистила мебель, хотя та трещала и рассыпалась от ветхости. Она раскрыла шкафы с бельем, слипшимся и пожелтевшим за столько лет, и застелила кровати простынями, которые прогрела во избежание той схожести их с саваном, что ощущает тело под старыми простынями, слишком долго хранившимися без употребления в шкафах. Несмотря на возвращение в замок трех человек, внешний вид его не изменился. Крестьянам, проходившим мимо и обращавшим на него не больше внимания, чем если бы его вовсе не существовало, он по-прежнему казался местом, где души живой не слышно. Они давным-давно привыкли к нему, к его заделанным косым проемам, придававшим жилью все тот же облик отлученного, как говорили местные жители, пользуясь глубоким и зловещим церковным термином давних времен, и привычка не замечать его отбила у них всякий интерес к странному зданию, пораженному схожим со смертью забвением.
Олондские фермеры жили недостаточно близко от хозяйского замка, чтобы знать, что происходило там после тайного приезда дам де Фержоль. Агату, которой было сорок, когда она исчезла вместе с похищенной м-ль д'Олонд, двадцать лет отсутствия изменили настолько, что ее никто не мог узнать на окрестных рынках, куда она по субботам отправлялась за провизией. Среди старых крестьянок она была единственной, кто расплачивался за покупки наличными, после чего она одиноко возвращалась в Олонд, не обмолвившись ни с кем ни словом. У нормандских крестьян неразговорчивость вызывает уважительную ответную неразговорчивость. Они настолько подозрительны, что раскрываются не раньше, чем собеседник сделает первые попытки пообщаться. К тому же за то короткое время, что оставалось до развязки нашей истории. Агата не встретила ни одного любопытного, который смутил бы ее каким-нибудь вопросом: в этом краю каждый занят лишь собственными делами. Дороги, которые вели в Олонд, почти всегда были безлюдны, потому что замок отстоял довольно далеко от шоссе, идущих мимо него прямиком к деревням Денвиль и Сен-Жермен-сюр-Э. Домой служанка возвращалась не через ворота в большой заржавленной решетке, забранной изнутри щитами, полностью маскировавшими парадный двор, а через низенькую калиточку, скрытую в углу садовой стены по другую сторону замка. Прежде чем вставить ключ в скважину, осторожная Агата оглядывалась по сторонам, как воровка. Но это была излишняя предосторожность. Никогда на этих разбитых тропах, где одноколки увязали в колеях по самые ступицы, она не замечала ничего подозрительного.
Выполняя данное себе слово, баронесса зажила там в еще более полном одиночестве, чем в Форе. Это было не просто уединение: это была тюрьма вдобавок к уединению. Ластени, послушная Ластени, которая дрожала перед матерью и с детства покорялась любым решениям ее деспотичной натуры, и теперь не восстала против глубокого одиночества, которое навязала ей энергичная воля баронессы. Понятие чести в светском его толковании занимало меньше места в ее девственном невежественном и ослабевшем мозгу, нежели в сознании ее матери. Захлебнувшаяся в слезах, душа ее превратилась в податливую глину, мнущуюся под крепкими пальцами такой ваятельницы, перед которой не устоял бы и мрамор. Что до Агаты с ее фанатической привязанностью к девушке, которую она просто была не способна заподозрить в том, что невинность ее осквернена, она нисколько не удивлялась такому чудовищному и таинственному удалению от людей. Она находила вполне естественным желание баронессы скрыть состояние Ластени, которой не следовало показываться в таком полном упадке на родине своей матери: нельзя, чтобы о г-же де Фержоль говорили: «Вот что принесло гордой м-ль д'Олонд ее скандальное похищение!» К тому же Агата не забыла о своем сверхъестественном лекарстве для Ластени и все время размышляла о паломничестве к гробнице присноблаженного Тома де Бивиля и о последующем экзорцизме, если присноблаженный не вонмет молитве над его гробницей. Это была последняя надежда души, полной простодушной веры, а вера всегда простодушна. Баронесса не встретила ни препятствий, ни возражений со стороны дочери и старой служанки, без которой она не сумела бы создать для себя монашеское существование. Действительно, Олонд был монастырем на троих, только без капеллы и богослужения, что еще более отягчало и мучило совесть баронессы. Даже под вуалем она не могла ходить к мессе в соседние приходы: оставлять Ластени хоть на минуту в последний месяц тревожного ожидания было слишком опасно.
«Мне придется принести ей в жертву даже свои религиозные обязанности!»— огорчалась она: буква закона для этой янсенистки всегда значила больше, чем сам закон. «Моя дочь обрекает на вечную гибель нас обеих», — сокрушалась она в своей неистовой и экзальтированной праведности. И нужно понять это религиозное чувство, чтобы отдать себе отчет, как отчаянно терзалась совестью эта сильная женщина. Поймет ли читатель его? Сомневаюсь… Этот дом без монахинь и капеллы, который за царящее в нем одиночество я сравнил с монастырем, вскоре стал для нее и Ластени столь же тесен и душен, что и карета, производившая на них во время поездки впечатление гроба. К счастью (если подобное слово может быть употреблено в такой надрывающей сердце истории), этот дом-гроб был достаточно просторен, чтобы в нем физически можно было существовать. Стены сада, за которым долгое время не ухаживали, были достаточно высоки, чтобы скрывать обеих отшельниц, когда им требовалось хоть на несколько минут выйти наружу, чтобы не задохнуться в пустоте, как умершая за четырнадцать месяцев от самоудушья энергическая принцесса Эболи,[429]Обстоятельства смерти принцессы Эболи заимствованы Барбе д'Оревильи из какого-то легендарного источника. Ана де Мендоса и Ла Серда (1540–1592), долго игравшая видную роль при дворе Филиппа Испанского (1356–1598) и его любовница, была приговорена к тюремному заключению, где и провела до смерти более 12 лет. заточенная по приказу Филиппа II в камере с зарешеченными и запертыми на замок окнами и вынужденная дышать лишь воздухом, который выдыхала и который возвращался обратно ей в грудь. Страшная казнь!.. Но через несколько дней Ластени перестала даже выходить. Она предпочитала лежать у себя в спальне на кушетке, где ночью ее место занимала мать, потому что баронесса всегда была рядом, как тюремщик, и даже хуже, чем тюремщик, потому что в заключении не всегда остаешься наедине со своим стражем, тогда как Ластени жила вместе с ним, теперь безмолвным, но вездесущим и безжалостным в своем упорном безмолвии. Баронесса приняла решение, отлично живописующее душевную ее твердость. Она больше не говорила дочери ни слова. Ни в чем ее не упрекала. Она, такая сильная, почувствовала, что не может победить эту слабую девушку, и все слова отскакивают от дочери назад и хлещут ее же по сердцу. Увы, это молчание всю жизнь занимало слишком большое место в общении двух женщин. Теперь оно стало молчанием двух мертвецов, но живых мертвецов, запертых в одном гробе, которые вечно и безмолвно видели и касались друг друга между четырьмя стиснувшими их досками. Это мрачное обоюдное молчание было самой нестерпимой из их пыток. Дыхание души человеческой — это не молитва, как утверждает Сен-Мартен.[430] Сен-Мартен, Луи Клод, маркиз де (1743–1803) — французский мистик, прозванный Неизвестным философом. Нет, это выражение чувства в целом, что бы оно ни передавало — любовь или ненависть, проклятие или благословение, молитву или богохульство. Поэтому приговорить себя к молчанию — это все равно что приговорить себя задыхаться, но не мочь умереть от удушья. Мать и дочь по своей воле и от отчаяния осудили себя на это. Их обоюдное молчание было палачом для каждой из обеих. Баронесса де Фержоль, глубокой веры которой никто не мог поколебать, говорила хотя бы с Богом: она бросалась на колени перед дочерью и тихо молилась. Но Ластени больше не молилась, говорила с Богом не больше, чем с матерью, и даже улыбалась недоброй, презрительной улыбкой, глядя, как та молится на коленях у ее постели. Для нее, жертвы судьбы, справедливости не существовало ни у Бога, ни у людей, коль скоро она не нашла ее для себя даже у родной матери. Да, самой несчастной из двух была все-таки Ластени. Что до Агаты, постоянно устраняемой г-жой де Фержоль, она не осмеливалась работать в комнате, где больше не разговаривали, и, хотя состояние Ластени надрывало ей сердце, она вновь увлеченно вступила во владение вещами, окружавшими ее и, как она выразилась, «знакомыми с нею» с юности, прошедшей в этом замке; она хлопотала в саду и у колодца, взвалив на себя все домашние заботы, о которых ее хозяйки, судя по всему, утратили всякое представление. Без Агаты, которая заботилась о них, как о детях или умалишенных, они, поглощенные снедающими их мыслями, вероятно, умерли бы с голоду.
9
Однажды вечером баронесса воочию обнаружила у дочери симптомы, предвещающие близкое разрешение от бремени, и хотя она ждала этого события, г-жа де Фержоль не без тревоги увидела, что оно наступает. Торжественное и грозное, оно в неопытных руках могло стать трагическим и смертельным. Однако она подготовилась к нему с решительностью, удержавшей в узде ее нервы. Боли у Ластени были такого свойства, что женщины, испытавшие их, не могли ошибиться на сей счет. Ластени родила ночью. Когда начались схватки, г-жа де Фержоль посоветовала:
— Кусайте простыни, чтобы не кричать. Постарайтесь взять себя в руки.
Ластени взяла себя в руки так, словно от рождения была сильной натурой. Она не издала ни звука, хотя стоны все равно никого не подняли бы на ноги в доме, где ночь не усугубляла тишину — такое безмолвие Царило там днем. Единственной, кто мог что-то услышать, была Агата, но она спала в своей комнате на дальнем конце замка, и, закричи Ластени, голос ее все равно не долетел бы туда. Баронесса предусмотрительно приняла все возможные предосторожности. Тем не менее, вопреки всему, ей пришлось пережить отчаянную минуту. Ее охватила смесь страха и неуверенности — безумная подозрительность. Она твердо знала, что они с роженицей наедине, и все-таки с трепетом сердечным рискнула отойти от постели, распахнуть настежь запертую дверь и, выглянув в потемки коридора, убедиться, что никто не подслушивает. Ей чудилось, что там на корточках сидит Агата. Это было совершенно немыслимо, и все равно она выглянула за дверь с заходящимся сердцем, как бывает у суеверов, которые не убеждены, что в зияющей черноте ночи мимо них не скользнет сейчас привидение. В данном случае привидением была бы Агата. Дрожа, г-жа де Фержоль расширенными зрачками впилась во мглу коридора и, бледная от непроизвольного страха смелых людей, вернулась к постели, где ее дочь извивалась от боли в конвульсиях, и помогла ей освободиться от своей ноши.
Во время беременности ребенок, произведенный Ластени на свет, исчерпал до конца силы матери. Он вышел из ее лона мертвым. Ластени родила, словно труп, извергший из себя другой труп. Можно ли назвать жизнью то, что осталось от жизни в почти бездыханной девушке? Баронесса, весь переезд из Форе в Олонд корившая себя за желание, чтобы из-за какого-нибудь дорожного происшествия у дочери случился выкидыш, который спас бы ее будущность, не смогла подавить в себе глубокую радость, вызванную в ней этой смертью, в которой никто не виноват. Она возблагодарила Господа за гибель ребенка, которому, останься он в живых, мысленно уготовила уже имя Тристан, и восславила Провидение, прибравшее его до появления на свет, словно желая избавить его, равно как ее дочь, от множества других унижений и мук. Для самой баронессы это тоже было избавление! Эта смерть избавляла ее от ребенка, которого пришлось бы всю жизнь скрывать, как она — и какой ценой! — скрывала его во чреве матери, и который, останься он жив, осудил бы Ластени на вечную краску стыда, налагаемую побочными детьми на щеки матерей, словно пощечины.
Но радость ее была еще более жестокой. Приняв дитя, она показала его матери.
— Вот ваше преступление и воздаяние за него. Ластени посмотрела на ребенка столь же мертвыми, как он, глазами, и все ее изнемогшее тело затрепетало.
— Он счастливей меня, — только и произнесла она, пока баронесса следила за ее лицом, надеясь прочесть там чувство, которого, к удивлению своему, так и не обнаружила. Она искала в чертах дочери проблеск нежности и прочла в них лишь отвращение, безграничное отвращение, всегда теперь присущее Ластени, словно судьба навсегда приговорила ее к нему. Она, баронесса де Фержоль, страстная женщина, любившая — и какой любовью! — человека, который взял ее в жены, не прочла на этом изборожденном слезами лице того, что все объясняет и все оправдывает, — любви! Она бессознательно рассчитывала на последний момент разрешения от бремени, когда по долгу материнства выполняла обязанности повитухи при собственной дочери, чтобы утрата Ластени девственности осталась тайной между ними двумя и Богом, а теперь ей приходилось отказаться от надежды на последний свет, который мог пролиться в душевную тьму Ластени. Этот чаемый ею свет унес при тайных родах ребенка без отца. В тот же час этой зловещей ночи, переживания которой г-жа де Фержоль запомнит навсегда, в мире, конечно, множество счастливиц разрешилось от тягости живыми детьми, плодами разделенной любви, падавшими из облегченного материнского лона в объятия сходящего с ума от радости и гордости отца. Но была ли среди женщин хоть одна, чья участь сравнилась бы с участью Ластени, вокруг которой ночь, страх и смерть сгустили свой тройной мрак, чтобы навеки скрыть безымянное дитя этой безымянной истории?
И ночь, долгая мрачная ночь неизбывной тревоги, не кончилась для г-жи де Фержоль. От скольких новых опасений ей еще придется задыхаться? Дитя родилось мертвым — пусть это ужасно, но это счастье! А труп?.. Что делать с трупом, последней уликой против грешной Ластени? Куда его деть? Как стереть последний след позора, чтобы уничтожить воспоминание о нем повсюду, кроме двух их душ?.. Баронесса думала об этом, и ей было страшно своих мыслей. Но она оставалась истой нормандкой, дочерью героического племени. Как ни Устрашено и надорвано было ее сердце, она повелевала им и, трепеща, делала то, что должна была бы делать, так, как будто сохраняет полное спокойствие. Когда Ластени, как все родильницы, разрешившиеся от бремени, погрузилась в сон, баронесса взяла трупик ребенка и, завернув его в одну из пеленок, сшитых ею в долгие часы молчания рядом с дочерью, так и не нашедшей в себе сил работать над приданым вместе с матерью, вышла из спальни, заперев ее на ключ до своего возвращения, хотя и была уверена, что Ластени не проснется. Необходимость, бронзовоперстая необходимость заставила ее пойти и на этот риск. Она зажгла потайной фонарь, спустилась в сад, где, помнится, видела в уголке стены старую лопату, и у нее достало мужества вырыть этой лопатой в этом уголке могилку для мертвого ребенка, в смерти которого она была неповинна. Она погребла его собственными руками — некогда столь гордая, а ныне столь униженная. Украдкой копая зловещую яму в черноте ночи под звездами, которые видели все, но никогда не скажут об этом, она невольно думала о других детоубийцах, делавших, может быть, в этот час в иных концах мира то, что делала она ночью перед ликом звездного неба.
«Я хороню его так, словно убийца — я», — размышляла она, и ей вспомнилась одна, особенно жестокая, история, которую ей когда-то рассказали. Речь шла о юной семнадцатилетней служанке, которая без посторонней помощи, одна родила ребенка и задушила его, а утром (к тому же в воскресенье, когда она исправно ходила к мессе) положила в набедренный карман юбки и продержала там до конца службы, а возвращаясь из церкви, бросила его под арку давно пребывавшего в руинах моста, благо тот лежал у нее на пути. Воспоминание об этой гнусности неотступно преследовало г-жу де Фержоль. Дрожащая и оледеневшая, словно сама была преступницей, она долго переминалась с ноги на ногу, утаптывая взрыхленную землю над тем, кто мог стать ее внуком, и когда окончательно уверилась, что все следы могилы исчезли, вернулась, бледная от сознания того, насколько случившееся сходно с преступлением, не будучи им, в комнату, где Ластени еще спала. Проснувшись с оцепенением во всем теле, следующим за тяжелыми родовыми муками, та не попросила показать ей мертвого ребенка, произведенного ею на свет. Она, казалось, забыла о нем. Это заставило призадуматься г-жу де Фержоль, которая тоже промолчала: ей хотелось знать, не заговорит ли дочь первой. Но — вещь странная и почти чудовищная! — Ластени не заговорила, она вообще перестала говорить. Не потому ли, что этой милой, когда-то обворожительной девушке недоставало чувства материнства, которое есть корень женского естества, — ведь женщины, даже ставшие жертвой насилия, любят своих детей и оплакивают мертворожденных? Ни в ту ночь, ни в последующие дни она так и не вышла из своей молчаливой апатии. Но слезы все текли по ее изборожденному ими лицу, как текли вот уже целых полгода, хотя новых причин для них не было.
Оправившись после родов, Ластени осталась, включая, пожалуй, даже живот, такой же, какой была во время беременности. Та же подавленность, бледность, оцепенение, погруженность в себя и потерянность в случаях, когда она вдруг опоминалась, та же отупелость и немое безумие! Удар, что нанесла ей мать, не поверив в ее невиновность, и несуразность ее беременности нанесли ей в сердце рану, которая непрестанно кровоточила и от которой она так и не исцелилась.
Баронесса, успокоенная непроницаемостью тайны, окружившей отныне грех дочери, смягчилась и как христианка вспомнила, быть может, христианский завет: «Всякий грех и хула простятся».[431]Еванг., Матф., 12, 31. Во всяком случае, она не выказывала с дочерью обычной вспыльчивости, которую не способна была унять, несмотря на свой характер и сильный ум. То, что непоправимо, — подобно смерти, а мы приемлем мысль о смерти; но Ластени не приняла мысль о непоправимости своего греха. Та из двух женщин, что была слабее, оказалась более гордой… Отношение Ластени к матери не изменилось. Растоптанный цветок, она не подняла больше своей поруганной головки. Она осталась беспощадна к подобревшей матери. Она оставила в ране тот кинжал, который невозможно вырвать после удара, потому что он словно приваривается к краям раны и зовется обидой. После неизбежного для выздоравливающей пребывания в постели она поднялась на ноги, но по ее изменившемуся лицу, слабости и общей подавленности можно было сделать вывод, что ей вообще не следовало вставать: недуг ее неисцелим и смертелен. Агата, уповавшая все время, пока Ластени лежала в постели, на какой-нибудь — почем знать, может быть, и счастливый — кризис и видя, что любимый родной край, которому она приписывала все чудодейственные свойства, никак не действует на ее «голубку», еще больше укрепилась в своей постоянной мысли, что в Ластени сидит бес, что она одержима, и в конце концов попросила у баронессы дозволения совершить паломничество к гробнице присноблаженного Тома де Бивиля, и г-жа де Фержоль согласилась.
Итак, Агата отправилась туда босиком с наивностью средневековых паломников, которая, невзирая на успехи современного безбожия, еще встречается в этом краю глубоко укоренившихся обычаев. Пробыв в отсутствии четыре дня, она вернулась в Олонд без всяких надежд и еще более грустная, чем перед уходом. Теперь она сомневалась в чуде, о котором однажды молила с такой несокрушимой уверенностью в успехе, потому что сверхъестественное и чудовищное видение смущало теперь стойкость веры в ее душе, открытой для всех влияний и традиций среды, в которой она прожила юность. Она собственными плотскими глазами видела страшную вещь, рассказы о которой сотни раз слышала в детстве, и виденное ею — это знал каждый крестьянин в округе — было предвестием смерти.
Она шла тогда по тропинкам Олонда, сильно запаздывая из-за усталых ног, потому что и к гробнице, и обратно отправилась босиком в соответствии с обетом, принесенным ею ради исцеления Ластени. Была уже поздняя ночь, вокруг — поля без домов, ни поблизости, ни вдалеке ни души, везде лишь одиночество и безмолвие. Старуха торопилась, потому что шла одна, хотя и не боялась ни безмолвия, ни одиночества. Ничто не нарушало безмятежности ее разума, такого же спокойного у нее, как совесть. Утром она причастилась, и это разливало в душе ее божественный мир. Давно уже взошедшая луна тоже разливала в природе свое, такое же божественное, спокойствие, как утреннее причастие разлило его в душе этой христианки, и две эти безмятежности плыли лицом к лицу в мирной ночи. Вдруг — в иных местах проселки чрезвычайно сужаются — дорога, избранная Агатой, стала не шире тропинки, и в тот же миг служанка заметила еще довольно далеко от себя в голубоватом отблеске луны нечто белесое, что она приняла за туман, встающий над землей, всегда несколько влажной в этой части Нормандии. Но, продолжая идти, она отчетливо различила, что это не туман, а гроб, стоящий поперек дороги и перегородивший ее. По древним традициям и верованиям края, такой таинственный гроб без провожающих и словно брошенный разбежавшимися носильщиками, служит, когда на него натыкаешься светлой ночью, несомненным предвестием близкой смерти, и, чтобы отвратить дурное предзнаменование, следует отважиться приподнять его и поменять концами. Агате когда-то рассказывали, что кое-кто, пренебрежительно посчитав такое видение обманом чувств, набирался храбрости и непочтительно перешагивал через гроб, словно через низкий плетень, но на заре таких смельчаков находили в беспамятстве на том же месте и в течение года они хирели и умирали. Агата была от природы не трусиха и, кроме того, слишком религиозна, чтобы до ужаса бояться смерти, но — подумала она — здесь-то кончина угрожает не ей самой, а Ластени. Поэтому, невзирая на всю свою смелость и религиозность, служанка на мгновение застыла перед гробом, который с каждым шагом, приближавшим ее к нему, приобретал все более четкие, зримые, осязаемые очертания. Луна, это бледное солнце призраков, очерчивала его, придавая ему сходство с белым пригорком на черной полосе тропы между двумя живыми изгородями.
«Ну, — сказала она себе, — предназначайся гроб для меня, мне, пожалуй, недостало бы сил его повернуть, — но для нее!..» И, опустясь на колени в колею и отчитав дюжину молитв по четкам, чтобы силы — не дай Бог! — не изменили ей, Агата перекрестилась и наконец рискнула.
Но гроб оказался не в меру тяжел для ее рук, и это надрывало ей сердце: ведь, чтобы заклясть судьбу и смерть, которые он предрекает, его нужно повернуть, а у нее не хватит на это сил. Гроб весил слишком много. Он не поддавался. Она сделала усилие, но усилие не заменяет силу. Гроб не двигался с места. Он, казалось, был приколочен к земле. «Раз он такой тяжелый, значит, в нем покойница», — решила Агата и опять подумала о Ластени… Задумав добиться своего, да еще с решимостью, способной вырвать из земли гору, и тем не менее не способная сдвинуть с места четыре жалкие сосновые доски, впав в отчаяние от своего бессилия и зловещего предзнаменования, она вновь принялась молиться, и вновь все было напрасно; тогда, удрученная, сломленная и понимая, что не может оставаться тут всю ночь, она прошла по одной из узких полосок земли, отделявшей гроб от живой изгороди. Теперь она тоже испугалась. У нее задрожали руки, которыми она касалась холодного гроба: ведь она только что ощутила всей своей плотью его материальную доподлинность. Однако, немного отойдя, она почувствовала угрызения совести и смело подумала: «А что, если попробовать еще разок?»
Но когда она обернулась, чтобы возвратиться, на прямой и безлюдной дороге ничего больше не было. Гроб исчез. Агата не сумела бы даже показать, где он стоял. Тень опять окутала мраком путь между двумя живыми изгородями, освещенными и неподвижными: в ту ночь — вещь необычная для этих приморских мест! — ветра не было.
— Бог не дышит, — сказала Агата. — А где воздух неподвижен, там владения домовых, а они — бесы.
Поэтому, охваченная ужасом, затопившим ей душу этой безветренной ночью, когда даже луна, казалось служанке, «светила по-необычному», она заторопилась и пошла быстрее, но на ходу ей чудилось, что месяц, который был от нее слева по горизонту, шагает с ней в ногу и напоминает череп мертвеца, упорно провожающий ее. Чем дальше шла Агата, тем больше она бледнела. Зубы у нее стучали. И когда на развилке дорог месяц, находившийся по левую руку ее, оказался из-за поворота тропинки у нее за спиной, «я, — признавалась она много позже, когда воспоминание начинало леденить ее, — подумала, что этот череп, катящийся по небу, преследует меня и явился, словно адский кегельный шар, переломать мне мои старые ноги, а без них я не дойду до дому».
В Олонд, правда, она добралась, но совершенно разбитая. То, что она видела, заставляло ее страшиться, как бы, вернувшись, она не стала там свидетельницей нежданного несчастья. Ее успокоила лишь мрачная тишина дома. Спят мать с дочерью или не спят? Из их закрытых комнат не доносилось ни малейшего звука. На другой день она нашла, что со времени ухода ее в паломничество Ластени несколько посвежела, и, не будь того ночного видения, она приписала бы своим молитвам некоторое улучшение здоровья ее бедной раздавленной Ластени. Она в подробностях рассказала г-же де Фержоль о своих странствиях, но умолчала о видении.
«Зачем? — подумала служанка. — Она все равно мне не поверит».
Однако баронесса верила в молитвы и в чудеса, которые творит молитва, и сказала Агате, что и Ластени уже почувствовала облегчение от молитв у гробницы присноблаженного исповедника. Она даже прикинула, насколько улучшилось состояние дочери, потому что ей не терпелось возобновить внешнее соблюдение обрядов, прерванное из-за уединенной жизни, которую ей пришлось вести в Олонде.
— Итак, мы сможем ходить к мессе, — объявила она Агате. И это мы относилось к ней и Ластени, поскольку Агата и без того не пропускала служб. Ей не приходилось корить себя за смертный грех неприсутствия на богослужении, в котором обвиняла себя баронесса и который был следствием преступления Ластени. Старая служанка всегда находила способ, как она выражалась, «воспринять мессу» в соседних с Олондом приходах. Она ходила в церковь, прикрыв голову поверх чепца капюшоном своей черной накидки, но останавливалась у дверей, и поближе к кропильнице, чтобы выйти первой по окончании службы, почему ее никто и не узнал, как не узнали на рынке в Сен-Совёре, когда она по субботам запасалась там съестным на неделю. Прихожане, присутствовавшие на службе и не имевшие интереса (великое нормандское слово!) знать, кто эта женщина, принимали ее за местную крестьянку. Но то, что было позволительно Агате, исключалось для г-жи де Фержоль. Поэтому, когда она сочла, что пришло время вернуться в церковь и вновь услышать светлую мессу, она не то чтобы испытала радость — для этого она была слишком удручена состоянием дочери, но грудь ее, так долго и ужасно стесненная, вздохнула свободней. Никогда не опускавшая рук и практичная в житейских делах, она подумала, что теперь они с дочерью могут отказаться от того строжайшего и мучительного инкогнито, к которому она до сих пор стремилась и которое хранила.
— Можете объявить местным фермерам, что мы неожиданно ночью приехали в Олонд, и приехали для того, чтобы здесь поселиться, — дала она распоряжение Агате, наказав ей всячески напирать на нездоровье Ластени, хворающей вот уже несколько месяцев и перебравшейся из Севенн на родину матери для перемены климата; недомогание ее помешает принимать у себя кого-либо до полного исцеления девушки.
Излишняя предосторожность! Сейчас было не до поддержания светских и дружеских связей, но баронесса, измотанная несчастьем с дочерью, представления не имела о том, что происходит вокруг. Революция охватила Францию, как злокачественная лихорадка, и как раз вступала в период острого безумия.
В Олонде этого не знали. Обе несчастные его владелицы даже не подозревали о кровавой политической трагедии, сценой которой стала Франция, — так поглотила их домашняя трагедия, сценой которой служило их мрачное жилище. Г-жа де Фержоль рассуждала о мессе, а ведь близок был день, когда церковные службы вовсе прекратятся и баронесса не сможет преклонить колени перед жертвенниками, этими столпами, на которые надлежит опираться всем разбитым сердцам в здешнем мире!
10
Когда г-жа де Фержоль явилась к мессе в один из окружающих Олонд приходов, она не вызвала того любопытства и удивления, на какие могла бы рассчитывать в другое время. Заботы — у одних восторженные, у других боязливые, — порожденные Революцией, от которых у всех (даже в Нормандии, краю многовекового здравого смысла) головы пошли кругом, перед тем как начать скатываться с плеч, помешали многим обратить внимание на приезд г-жи де Фержоль в этот край, где, кстати сказать, почти забыли давний скандал с ее похищением. Замок Олонд, столько лет, казалось, спавший у дороги, над которой высились три его башенки, в одно прекрасное утро открыл веки, то есть ставни, почернелые и подгнившие от времени и дождей, и в окнах замелькал белый чепец Агаты. Внутренний щитовой забор, усиливавший решетку парадного двора, исчез, и, не привлекая к себе внимания редких в этих краях прохожих, жизнь с ее повседневными мелочами как бы бесшумно возобновилась в этом замке, отмеченном смертью, нет, хуже, чем смертью, — заброшенностью. По наблюдениям тех, кто проходил мимо, пребывание баронессы в Олонде вызвало в округе не больше удивления и шума, чем ее приезд. Теперь, не прячась, она жила там столь же одиноко, как жила, когда пряталась. Она проводила дни наедине с дочерью, составлявшей всю ее жизнь, в которую не вторгалось ничье, кроме Агаты, присутствие. Она постоянно размышляла об этой жизни с глазу на глаз, к которой — для матери, и для дочери — неизбежно сводилось будущее. «Брак для Ластени невозможен», — часто думала она. Как сказать мужчине, который полюбит ее достаточно сильно, чтобы жениться на ней, и будет надеяться взять в жены девушку, что она всего лишь вдова и никогда не сможет расстаться со своим отвратительным вдовством? Как признаться в бесчестье Ластени мужчине (пусть даже единственному под шатром небес!), который придет просить у матери ее руки со всей верой и упованиями любви? Честность, прямота, религия — все божественные начала, составлявшие душу этой благородной женщины, восставали в баронессе, отгоняя такую мысль, из всех распинавших ее мыслей эта была самой кровоточащей. Разумеется, в состоянии подавленности и упадка, в какое погрузилась Ластени, она могла внушать только жалость; но она была молода, а у молодости столько неисчерпных запасов! Только вот средства скрыть при необходимости правду под страхом совершить низость у нее не было. И эта мысль о низости связывала существование и участь г-жи де Фержоль с существованием и участью ее дочери, обрекая их на так им теперь знакомую жизнь в одиночестве — страшном одиночестве душ тех, чьи сердца бьются рядом друг с другом.
Но предположение о мужчине, который когда-нибудь полюбит Ластени, осталось всего-навсего мечтой ее матери и лишь умножало число горестей, которые жизнь обрушила на баронессу. Ластени, у которой в печальную ночь, когда она стала матерью, г-жа де Фержоль тщетно добивалась хоть намека на обманутую любовь, — Ластени было суждено умереть, так и не познав любви. Красота ее не расцвела вновь, не вернулась к ней, приведенная назад молодостью. Хотя в день, когда Агата возвратилась из паломничества, баронесса сказала, что Ластени лучше, и верить в это ей хотелось сильнее, чем она сама думала, г-жа де Фержоль окончательно разуверилась в улучшении, когда увидела, что груз дней и месяцев все ниже пригибает столь очаровательную недавно головку ее дочери. Тот, кто проник бы в тайну истории Ластени, непременно нашел бы, что роды, от которых она не умерла, хотя и могла умереть, вызвали у нее какой-то разрыв в поясничном отделе позвоночника, потому что с постели она встала скрюченной. Когда по воскресеньям они с матерью появлялись в церкви, люди, видя их, понимали, почему г-жа де Фержоль не хочет никого принимать, чтобы целиком посвятить себя здоровью дочери. Общее мнение было таково, что девушка, которую она таскает с собой, долго не протянет.
И все-таки баронесса долго бы еще таскала дочь с собой, если бы Революция, достигшая своего кровавого и кощунственного апогея, не закрыла разом все церкви. Немало врачей побывало в Олонде с тех пор, как у г-жи де Фержоль не стало оснований прятать Ластени; но у юной девушки, такой слабой и чахнущей как телом, так и разумом, они обнаружили лишь глубокую непонятную им апатию. Причину ее знала во всем мире одна г-жа де Фержоль. «Это — грех, — думала она, — и умереть за него должна та, кто его совершила». Ей, суровой янсенистке, которая, увы, больше верила в справедливость Господа, чем в Его милосердие, казалось естественным, что безжалостное божественное правосудие переломило через колено свое стан ее бедной дочери, когда-то, пока его не стиснули мужские руки, качавшийся, как колос на стебле, а теперь ставший таким согбенным.
Долго тянулась эта семейная трагедия двух женщин в просторе полей, нисколько не похожих на севеннскую воронку, хотя дамам де Фержоль ни разу не пришло в голову бросить на них даже взгляд из своего жилища. У окна можно было видеть только Агату, наслаждавшуюся по вечерам воздухом отчего края. Вот так они и жили, если это можно назвать жизнью. Г-жа де Фержоль, уверенная, что дочь ее не уйдет от кары за свое преступление, и видя, что Ластени день за днем угасает от снедающего ее таинственного недуга, взирала на это, как взирают на превращающиеся во прах руины рухнувшего дворца. Несмотря на преступность дочери, которая осмелилась сопротивляться матери, когда та потребовала от нее раскрыть душу и сказать правду, невзирая на жесткость своих религиозных правил, несмотря, словом, на все пережитое, г-жа де Фержоль страдала из-за того, что страдает Ластени; но, принеся свою жизнь в жертву мужчине, которого она боготворила, и целиком сосредоточившись на воспоминаниях о нем, баронесса не выказывала сострадания дочери, не способной, в свою очередь, даже понять, что она внушает сострадание. Упадок сил у больной, который поставил в тупик врачей, попустословивших насчет прижиганий и объявивших его неизлечимым, поразил не только ее тело, но и душу. Он завладел ею целиком. Рассудок Ластени, уже едва не впавшей в идиотизм, тянулся к потемкам мрачного безумия. Но все это, как и раньше, происходило за стеной молчания. Она умирала, как жила, — молча. Сознавала ли она еще происходящее? Она проводила целые дни без единого слова, ничего не делая, не двигаясь, привалившись головой к стене (признак тихого помешательства!), не отвечая даже заплаканной от жалости Агате, убивавшейся, что у нее под рукой нет больше средства, на которое она слишком долго уповала, — священника для изгнания бесов из ее «голубки», ее бедной «одержимой». Священники находились тогда в бегах, а Революция — в самом разгаре. Об этом в Олонде знали только потому, что нельзя было найти священника для экзорцирования больной! Странный, может быть единственный в своем роде, факт! В маленьком замке Олонд, который не разрушила Революция и который до сих пор существует со своими тремя башенками, жили три женщины с достаточно печальной душой, чтобы позабыть в этом гнезде страданий, куда они забились, все, что не касалось их кровоточащих сердец. Францию заливала кровь с эшафотов, но три эти мученицы собственной судьбы видели только те ее капли, которые лились из их сердец. Во время этого забвения забытой ими Революции и ушла Ластени, унеся с собой в могилу тайну своей жизни, ставшей, в свой черед, тайной для г-жи де Фержоль. Ничто не подсказывало баронессе и Агате, что конец Ластени так близок. В тот день она чувствовала себя не хуже, чем накануне и, вообще, последние дни. Они ничего не заметили ни по ее лицу, давно уже безнадежно бледному, ни по блужданию глаз цвета листьев ивы — плакучей ивы, потому что девушка пролила довольно слез, ни по безвольной изнеможенности странно скрюченного тела, — ничего, что предвещало бы смерть Ластени. Обычно присматривать за нею не было нужды. Они оставляли ее в спальне, положив головой к стене, в позе, к которой привыкла кроткая помешанная, а сами расходились по своим углам, где вечно происходило одно и то же: тут молилась г-жа де Фержоль, там плакала Агата. В этот день они нашли девушку такой же, как оставили: на том же месте, голова к стене, глаза широко раскрыты, хотя она была мертва и душа ее, бедная душа, чуть не сгинувшая во тьме, отлетела. Убедясь в этом, Агата бросилась к ногам своей «голубки», упала на них, страстно обняла и зарыдала, почти не помня себя от горя. Однако баронесса, умевшая лучше владеть собой в подобных обстоятельствах, подсунула руку под грудь той, кого так долго звала столь подходящим ребенку словом «доченька», чтобы удостовериться, что бившееся там слабое сердце больше не бьется, и пальцы ее почувствовали…
— Агата, кровь! — выдавила она мерзко охрипшим голосом.
На вытащенных ею пальцах действительно застыло несколько красных капель. Агата оторвалась от колен, которые обнимала, и они вдвоем расшнуровали корсаж. Их охватил ужас… Ластени покончила с собой с помощью булавок — медленно, по частям, вгоняя их и каждый день — а сколько этих дней было? — чуть усиливая нажим.
Они извлекли их в количестве восемнадцати штук, вонзенных в области сердца.
11
Однажды при Реставрации — ровно четверть века после смерти Ластени де Фержоль, таинственную историю которой я рассказал, — мать ее, баронесса де Фержоль, пережившая дочь и до сих пор продолжавшая жить («Ничто меня не берет!» — с дикой горечью упрекала она Бога, пощадившего ее), — баронесса де Фержоль присутствовала на большом парадном обеде у графа дю Люда, своего родственника и, добавлю в скобках, хозяина одного их лучших домов в городишке Сен-Совёр, где до Революции много танцевали и где она, г-жа де Фержоль, а тогда м-ль Жаклина д'Олонд, выходила в паре с красивым беломундирным офицером, который стал для нее Черным Ангелом, потому что на всю жизнь облек ее в траур. Теперь там больше не танцевали. Другие времена, другие нравы! Зато там обедали. Обед заменил контрданс. Как ни удивительно казалось встретить на веселом праздничном обеде г-жу де Фержоль, дважды состаренную — годами и невзгодами, еще более суровую и набожную, почти святую, если бы святой можно было стать без чувства сострадания, она была там! Эта женщина, силу которой читатель уже мог оценить и которая ненавидела все внешнее и показное, возвратилась, правда много лет спустя после смерти дочери, в светское общество, свою природную стихию, где показывалась на людях редко и не выпячиваясь, но все-таки показывалась. Однако где бы она ни была, ей приходилось стоически сдерживать боль от погребенной в груди мысли, которая, подобно раку сердца, разъедала ей душу, а она не могла даже застонать. Это была мысль о непостижимой и незабываемой тайне ее дочери, умершей, так ни в чем не сознавшись. Никто никогда не догадывался о том, что пережила Ластени, и больше всего баронессу мучило, что она знает не больше остальных. Проникнет ли она когда-нибудь в эту тайну? Баронесса потеряла надежду и доживала жизнь, скрывая отчаяние од внешним спокойствием, и лицо ее не выдавало состояния г-жи де Фержоль. Она была всего лишь руиной, но это были руины Колизея. Ее с ним роднили мощь и величавость.
— На том конце стола, где она сидела за обедом графа дю Люда, невольно говорили и смеялись тише, чем на другом, — рассказывал виконт де Керкевиль, большой охотник посмеяться, но которого уважение к этой грандиозной старухе вынуждало держаться при ней серьезнее. — В тот день на обеде, который, как все теперь в жизни, она воспринимала с совершенным безразличием, вокруг нее царила атмосфера подъема симпатии, хотя компания подобралась жутко пестрая. Она представляла собой уменьшенную копию общества, каким оно стало после Революции и Империи, но в тот день этот безвкусный социально-политический винегрет (теперь, правда, правительство не способно приготовить и такой) никого не раздражал. Граф дю Люд остроумно охарактеризовал свой обед как «собрание трех сословий» — в нем действительно участвовали духовенство, дворянство и буржуазия. Все были очень сердечны и в прекрасном расположении духа. Правда, в тогдашнем Сент-Совёре было больше благодушия, чем в Валони, соседнем городишке за четыре лье оттуда: там последний дворянчик считал себя паладином Карла Великого, и, приглашая на обед, у вас могли попросить ваши дворянские грамоты.
Мой рассказ настолько точен, что я не умолчу вот еще о чем: на том обеде, где локти без дрожи отвращения касались друг друга, между маркизой де Лимор, самой вельможной из приглашенных дам, и маркизом де Пон-л'Аббе, который мог с кем угодно потягаться древностью рода, очутился великолепный мужчина цветущей комплекции и чисто нормандского крестьянского рода, отмывший с себя землю и навоз и ставший доподлинным парижским буржуа. В своем белом пикейном жилете он красовался между маркизом и маркизой, как серебряный гербовой щит между двух держателей, один из которых — маркиз справа — изображал собой единорога, другой — маркиза слева — борзую. Этот парижский буржуа, обзаведшийся загородным домом в Сен-Совёре, ежегодно проводил там свой досуг, потому что располагал досугом человека, который, сумев составить себе состояние, охотно промотал бы его, чтобы составить себе новое. Он скучал. Он страдал недугом особого рода — ностальгией коммерсанта, ушедшего от дел.
Он действительно был раньше коммерсантом и — поверите ли? — бакалейщиком. Но он представлял высокую бакалею. Он был бакалейщиком его величества императора и короля Наполеона[432]Наполеон был не только императором Франции, но и королем Италии; в королевство Италия входила при нем северо-восточная часть Апеннинского полуострова. в прекраснейшие дни славы, и лавка его, исчезнувшая теперь вместе с другими зданиями на площади Карусели,[433]Площадь Карусели, расположенная против Тюильри, резиденции Наполеона, была застроена в начале XIX в. различными зданиями, которые правительство начало постепенно сносить, чтобы расчистить подступ к дворцу. десять лет не жмурясь глядела в лицо Тюильрийскому дворцу, владелец которого, в свой черед, тоже исчез. Этот императорский бакалейщик, который отнюдь не мнил себя слишком важной персоной, а просто сидел развалясь и угощался за столом графа дю Люда, как некий добродушный Тюркаре, ни именем, ни обликом не напоминал бакалейщика. Фамилия у него была генеральская. Его звали Батайль.[434] Батайль (франц. bataille) — битва. Провидение, позволяющее себе подчас подшутить, сочло остроумным в предвидении появления Императора, дать такую фамилию тому, кто поставлял Наполеону сахар и кофе. Это что касается фамилии. Но оно, Провидение, придумало кое-что еще: оно сделало бакалейщика одним из самых красивых мужчин эпохи, когда почти все мужчины были столь горделиво красивы, что Давид[435] Давид, Жак Луи (1748–1825) — французский художник и общественный деятель, с 1804 г. — «первый художник» Наполеона. и Жерико оставили их портреты на посрамление нашему веку. В кругу поваров его звали «красавцем бакалейщиком с Карусели». Выглядел он под стать фамилии. Выправка у него была настолько военная, что при Империи, когда, выйдя из кафе на углу улицы Сен-Никез, где проводил вечера за игрой в домино, он надевал модный тогда шапокляк и набрасывал на широкие плечи просторный плащ с золотым шитьем на вороте, часовые у тюильрийских аркад с преуморительной серьезностью и воинским рвением отдавали ему генеральские почести, чем приводили в восторг его друзей. На минуту он действительно чувствовал себя генералом, но тут же вновь ощущал себя бакалейщиком. Он был им благодаря особому устройству мозга — мозга, который не обременял его ни одной идеей, чем и объяснялось его отменное здоровье при возрасте за шестьдесят, хотя он часто смежал глаза, складывал руки на животе и, словно уйдя в себя, с непередаваемым выражением объявлял: «Я даю бал своим мыслям!» Хорош бал, хороши танцоры! Невзирая на пустоту в мозгу, он был хитер, как нормандец, чему отнюдь не препятствовал забавно придурковатый вид, который он умел напускать на себя и, несомненно, ради шутки: этот странный субъект, соединивший фамилию Батайль с именем Жиль, обычным именем дурачка в старинных фарсах, отнюдь таковым не был. Во время Империи он оказал немало мелких услуг окрестным дворянчикам, с которыми был всегда почтителен, за что из признательности и чувства землячества те покупали у него соленые огурчики. Кое-кто из них передавал через него прошения и петиции, полагая, что у него есть связи во Дворце, хотя он был знаком там лишь с Мусташем, кучером Жозефины,[436] Жозефина (Мари Жозефа Роза Таше де ла Пажри) (1763–1614) — в первом браке жена виконта Богарне, казненного при терроре, во втором — Наполеона Бонапарта (1796–1809), императрица Франции. да Зоэ, ее негритянкой. Падение Империи, от которой он кормился, не обернулось для него разорением. В 1814 году он отрекся от своей лавки, как Наполеон от Империи, но в отличие от последнего у Наполеона высокой бакалеи не оказалось своего возвращения с острова Эльбы и, так и не дождавшись его, он умер в 1830 году от холеры.
Таков был оригинальный персонаж, которого случай и Революция поместили напротив г-жи де Фержоль за столом графа дю Люда. Он восседал на обеде в том, что называл «своим парадным мундиром», так как, зная, что он красив, Батайль подкреплял свою еще сохранившуюся красоту изысканным туалетом. В самом деле, внешне это был великолепный старик, относительно еще моложавый, гибкий, крепкий и любивший подчеркивать свою несокрушимую крепость лицемерным фатовством: с видом, взывающим к состраданию, он демонстрировал всем свой большой палец, здоровехонький и верткий, но, по его словам, парализованный взрывом адской машины,[437]Имеется в виду покушение на Наполеона 24 декабря 1800 г. Когда он в карете направлялся из Тюильри в Оперу по улице Сент-Никез, роялисты Сен-Режан и Карбон взорвали бочку с порохом, упрятанную в повозку. Жертв было много, но Бонапарт уцелел и обрушил свой гнев не столько на роялистов, сколько на непричастных к делу бывших якобинцев. который, как уверял он, выбросил его из окна второго этажа маленького кафе на улице Сен-Никез, где он мирно читал газету; совершенно обеспамятев, он долетел до Шайо, откуда его доставила домой жена, нашедшая его без чувств на руках доктора Дюбуа, который извлекал у него из груди осколки стекол от его собственной лавки. Это была одна из его излюбленных историй. Бедный паралитик, бедная жертва взрыва, из уважения к своему амфитриону появился на обеде в голубом фраке с золотыми пуговицами, облегавшем его геркулесовский торс, в панталонах из белого казимира, в шелковых чулках с широкой строчкой и туфлях на высоких каблуках, которые так любил Император, носивший их во всех случаях, когда не носил сапог. Жиль Батайль, которого принимавшие его у себя провинциальные дворяне несколько фамильярно величали «папашей Батайлем», хотя в нем не было ничего от папаши, блистал английской опрятностью, благоухающей, как женское белье. Он был из тех блондинов, что напоминают о скандинавском происхождении наших нормандцев, причем скорее не шевелюрой, которая была у него белой, словно крыло альбатроса, и которую он стриг накоротко (впритирку, как стали говорить потом), а розовым цветом лица — свежим, чистым, без прожилок. Его веселые голубые глаза смотрели из-под плотных, чуть тяжеловатых век, которыми он постоянно мигал, как будто потешаясь над собственными словами и стараясь заразить вас своей шутливостью. Больше всего он тщеславился своими зубами, за которыми ухаживал заботливее, чем любая женщина за жемчугом в своей шкатулке, и которые, даже когда не смеялся, показывал ради удовольствия молча показать их. Он явился на обед к графу дю Люду с длинной тростью из индийского бамбука на плече (он обычно всегда носил ее вот так, на манер ружья), оставил ее в углу коридора, вошел в гостиную, держа шляпу обеими руками, как первый любовник старой Комической оперы[438] Комическая опера — французский музыкальный театр. Основанный в 1715 г. в Париже как временный ярмарочный театр, претерпел несколько реорганизаций, название свое окончательно получил в 1801 г., а государственным театром стал с 1806 г. входил к антрепренеру, и приветствовал собравшихся с дурашливостью крестьянина, не совсем, вероятно, естественной, потому что этот человек по имени Жиль любил иногда разыгрывать из себя фарсового Жиля, а попросту валять дурака. Он давно был знаком с баронессой де Фержоль, напротив которой сидел за обедом, но был слишком легкодум, чтобы понять ее глубину. Ко всему, что превосходило его разумение, он относился свысока, бесцеремонно именуя такие вещи «маниями». «Это всё мании», — говаривал он в таких случаях с самым отъявленным и тягучим нормандским акцентом. Тем не менее, когда дело касалось г-жи де Фержоль, благородство этой женщины держало его хамство в узде. Нельзя сказать, что он был человек дурного тона, — слово «тон» было просто неприменимо к нему. Откуда у него взялся бы тон? Уж не от продажи ли тысяч кульков кухаркам из богатых домов, которые с шести утра наводняли его лавку, запасаясь чаем или шоколадом? «К восьми утра я уже делал дневную выручку», — с гордостью рассказывал он. Что касается «тона», Батайль был таким же невежей, как г-н де Корбьер,[439] Корбьер, Жак Жозеф Гийом Пьер, граф де (1767–1853) — французский политический деятель, ультрароялист; в 1820 г. — министр народного образования, с 1821-го по 1827 г. — министр внутренних дел. клавший свой перепачканный нюхательным табаком платок на письменный стол Людовика XVIII. Батайль, конечно, не положил бы свой надушенный бензоем фуляр на стол графа дю Люда, но с самого начала обеда примостил там свою шагреневую табакерку с миниатюрой довольно тонкой работы — портретом сына в детском костюмчике из голубого бархата и с золотой трубой в руке; он не играл на ней, но, поскольку нос у него тоже был трубой, получалось, что у него две трубы. Этого своего отпрыска, преуродливого мальчишку, который отнюдь не обещал стать похож на отца, он премило именовал «Батальоном».
Так вот, из-за этой чертовой табакерки, переданной одному из гостей, пожелавшему повнимательней рассмотреть портрет, маркизу де Пон-л'Аббе бросился в глаза изумруд на руке, протянувшей мимо него табакерку.
— А вы ведь изрядный фат, мэтр Батайль, если позволяете себе носить кольцо такой красоты и цены, — сказал маркиз де Пон-л'Аббе, шокированный тем, что видит подобную драгоценность на руке, которая отвешивала бакалейные товары. — Но послушайте, Батайль, где, черт возьми, вы раздобыли такое чудо?
— Даю слово, — весело и непринужденно отозвался Жиль Батайль, — вам никогда не догадаться, где я его раздобыл, и ставлю полтораста тысяч экю ,[440] Экю — старинная французская золотая монета разного достоинства в разное время, в описываемое — от 3 до 6 франков. как говорил Ла Мейоне де Гранвиль, против двадцати пяти луи ,[441] Луи, луидор — французская золотая монета стоимостью в 20 франков. что вы не способны это угадать.
— Ну уж! — недоверчиво протянул маркиз де Пон-л'Аббе.
— А вы попробуйте! — отпарировал Батайль. Однако старый повеса маркиз, призадумавшийся на
минуту, не нашел, видимо, достаточно пристойной версии, которую он мог бы выдвинуть вслух при этой грозной ханже баронессе де Фержоль, хотя та на другой стороне стола не слушала и не слышала их, поглощенная вечными муками, подобно раку снедавшими ей сердце.
— Так вот, — сказал Жиль Батайль, дав маркизу поразмыслить. — Я снял его с пальца у вора, уплатив ему той же монетой. Вора обокрали. Это любопытная история. Хотите послушать?
— Да, рассказывайте, Батайль, — согласился граф дю Люд. — Она сдобрит нам шамбертен.[442] Шамбертен — знаменитая марка бургундского вина.
12
— Итак, слушайте мою историю. Она о ворах и относится к давним временам, — начал Жиль Батайль. — Тогда император еще не был императором, а я — его бакалейщиком, — добавил он с императорской гордостью, ибо величие Империи было таково, что вселяло гордыню даже в бакалейщиков. — Нами правил Баррас,[443] Баррас, Поль Франсуа Жан Никола (1755–1829) — французский общественный деятель, один из организаторов термидорианского переворота, затем член Директории из 5 человек, управляющей Францией. Баррас, ловкий политик, циник и стяжатель, входил во все составы Директории. поручивший полицию Фуше.[444] Фуше, Жозеф (1759–1820) — французский политический деятель. До Революции — преподаватель в духовных школах, затем якобинец и террорист, затем один из руководителей Термидора, с августа 1799 г., еще при Директории, министр полиции, затем предал Директорию и был министром полиции Наполеона до 1810 г. Последний был уже тем, кого вы знали позднее, когда он стал министром Императора; но в то время этот грозный Фуше, разрываясь между якобинцами и шуанами, как Святая Аполлония[445] Аполлония — христианская святая. мученица, казненная 243 г. между растяжками, не мог — будь он даже сам дьявол, а он от него недалеко ушел! — заниматься ничем, кроме адской политической полиции, и интриги в правительстве были для него важнее, чем порядок в Париже. Вы, господа, жившие тогда в провинции или эмиграции, не можете даже представить себе Париж тех времен, Париж на другой день после Революции, в которой он еще погрязал. Это была больше не столица.
Это был больше не город. Это была разбойничья пещера. Это был воровской притон. По ночам там убивали так же запросто, как ложились спать. Уличные фонари — Революция превратила их в виселицы — горели только в квартале Пале-Рояль.[446]В те времена квартал увеселительных заведений. А в потемках кишели кучи негодяев и душегубов. Повсюду зияли черные вертепы. Пройти по городу можно было, только вооружась до зубов, но по нему никто не ходил.
Так вот, однажды ночью в то мерзкое время (я жил тогда на углу Севрской улицы, в лавке с витриной, забранной железными прутьями, которую теперь, проходя мимо, всегда с интересом разглядываю, и вы скоро узнаете — почему) я закрылся пораньше и улегся спать в комнате над лавкой, как вдруг меня разбудил странный скрип. Звук был такой, словно что-то пилили. «Внизу воры!»—сказал я себе, разбудил приказчика, спавшего на чердаке, и мы, взяв витые свечи, спустились вниз. Я не ошибся: это были воры. Они пропиливали ставень, в котором к нашему приходу уже проделали дыру размером в два верха шляпы; через эту дыру в ставне смело просунулась рука, вцепилась в один из прутьев перед витриной и попыталась его вырвать. Мы видели только эту руку. Обладателя ее скрывал ставень, но мошенник был не один: я слышал, как за ставнем тихо шепчутся несколько человек. У меня родилась идея! Я подмигнул приказчику, здешнему, из Бенвиля, которого привез с собой, парню здоровому и не безрукому, как убедитесь сами. Он меня понял, навалился на руку, которую я ему указал, и схватил ее своими лапищами размером с баранью лопатку, зажав ее в такие тиски и клещи, что я, достав с прилавка веревку, умудрился накрепко привязать нашу добычу к железному пруту решетки. «Отработала ты свое, красавица!» — весело подумал я. Бандит попался, и я уже радовался in petto, представляя себе, какая у него будет рожа утром, когда рассветет. «Пойдем-ка спать!» — скомандовал приказчику, и мы вернулись: я — в постель, он — на чердак. Но в постели я долго не мог уснуть. Я все время невольно прислушивался. Через некоторое время мне показалось, что я слышу удаляющиеся шаги. Выглянуть в окно я боялся: разбойники могли выстрелить в меня, да и не в этом одном было дело. Я, знаете ли, дорожил своей мордашкой, — пояснил он, обнажив в фатоватой улыбке все еще молодые и красивые зубы. — К тому же я сказал себе, что сумею сквитаться за все утром, с каковой сладкой мыслью и заснул.
А ведь бакалейщик сумел-таки пробудить интерес у окружавших его превосходно воспитанных аристократов. Они слушали его, смотрели ему в рот и не посмеивались больше над красивой головой, красоте которой, возможно, завидовали, и над серьгами, которые дуралей Жиль Батайль носил еще с молодости и которые мстили за его красивую голову, придавая ему вид старого почтальона.
— Однако утром мне пришлось поумерить свои упования, господа, — продолжал Жиль Батайль. — Вам всем, конечно, понятно, что, ухнув (Батайль расцвечивал все, что говорил, словечками своего наречия) из спальни в лавку, я первым делом уставился на эту чертову руку. Я твердо помнил, что затянул петлю двойным беседочным узлом и вор не может пальцем пошевелить: я ведь веревки не пожалел. Каково же было мое удивление! Я думал, что увижу распухшую, вздувшуюся, побагровевшую почти до черноты руку, которую спеленал так, что грубая веревка при затягивании врезалась в тело, а эта рука оказалась нисколько не распухшей и побелела, словно в ней не было больше ни капли крови. Она казалась увядшей и была мягкой и белой, как у женщины. Поэтому, ничего не понимая и стремясь понять все, я настежь распахнул дверь лавки и выглянул наружу. Человека не было, зато стояла лужа крови.[447]Мотив, неоднократно использованный в мировой литературе, начиная с Апулея: «Метаморфозы» («Золотой осел»), IV.
Жиль Батайль был не бог весть каким оратором. Этот человек, начинавший в детстве пастушонком в ландах Тайпье, делал в речи вопиющие ошибки, которые я здесь убрал. Он обычно говорил «представиться» вместо «преставиться», «наперстный» вместо «наперсный» и даже полагал, что и на письме следует держаться той же орфографии. Но, честное слово, владей он и на самом деле красноречием, рассказ его не произвел бы большего впечатления.
— Лихая, однако, публика! — заметил Керкевиль, сам способный на отчаянный поступок: энергии у него хватало.
— Я вернулся в лавку, — продолжал Батайль, — и долго рассматривал эту руку, перепиленную ниже локтя, и, вероятно, той же пилой, которой взрезали ставень. Я тщательно осмотрел эту любопытную руку, которая, клянусь, принадлежала не какому-нибудь мужлану; вот тогда-то я и заметил кольцо, камень которого выскочил, когда оно съехало на внутреннюю сторону пальца, вцепившегося в железный прут. Этот камень, господин маркиз де Пон-л'Аббе, и есть изумруд, который вы держите. Согласен, он действительно слишком хорош для меня. Поэтому я ношу его не каждый день, а лишь изредка и только в надежде, что, может быть, — кто знает? случай! — встречу особу, у которой он был украден и которая, в свой черед, возможно, пособит мне опознать вора.
Жиль Батайль завершил свою историю, заставившую позабыть злые шутки старого Пон-л'Аббе. Он его срезал, как говорят англичане. Все (а на обеде, который граф дю Люд окрестил «собранием трех сословий», присутствовало человек двадцать) воспылали любопытством и, в восхищении от изумруда, имевшего собственную историю, передавали кольцо из рук в руки, чтобы рассмотреть его получше, и оно обошло вокруг стола. Наконец оно попало к соседу слева г-жи де Фержоль, а был им отец аббат траппистского монастыря, который строился в то время в Брикбекском лесу, расчищенном впоследствии братией. Известно, что настоятели у траппистов были не обязаны соблюдать обет молчания. Они носили шерстяную митру и деревянный крест, на соборах шли по старшинству сразу за епископами и имели право отлучаться из монастыря, когда это диктовалось интересами общины. Отец Августин направлялся к мортаньским траппистам, и, поскольку он проезжал через Сен-Совёр, граф дю Люд пригласил его отобедать, чтобы оказать честь баронессе де Фержоль, местной святой, и за столом посадил рядом с нею. Из двух десятков приглашенных только отец Августин и г-жа де Фержоль не проявили покамест интереса к изумруду, обходившему стол по кругу, и траппист, не глядя на драгоценность, взял ее из рук графа де Керкевиля, другого своего соседа, и протянул г-же де Фержоль с серьезностью человека, нехотя совершающего легковесный поступок. Г-жа де Фержоль, еще более серьезная, чем аббат, не приняла кольца. Однако ее высокомерно-рассеянный взгляд случайно упал на изумруд, и, словно пораженная пулей, она вскрикнула и рухнула без чувств.
Она узнала кольцо своего мужа, подаренное ею Ластени.
Испытанный баронессой удар привел в не менее сильное, быть может, волнение гостей графа дю Люда, но, скованные почтением пополам со страхом перед этой суровой женщиной, они ни словом не обмолвились об обмороке г-жи де Фержоль. Во всем, что касалось ее неожиданного беспамятства, настойчиво наводившего на мысль о какой-то скрытой драме, их языки оказались и остались немы. Придя в себя после потери сознания, длившейся довольно долго, и тем же вечером возвратясь в Олонд, она вновь принялась терзать свое кровоточащее сердце, изъязвленное воспоминаниями, словно чудовищной раковой опухолью, сердце, на которое она извела столько белоснежных, но бесполезных повязок — они неизменно пропитывались кровью. Она с ужасом обнаружила в этой опухоли новую язву: ее дочь, дочь Фержолей, полюбила, быть может, вора, чьи руки толкнули ее на преступление. Язва не уменьшалась, напротив, становилась все ощутимей, и от нее нельзя было избавиться, как от телесных страданий, когда рак оперируют, как бы бросая недугу на сожрание кусок мяса, чтобы он хоть на время оставил больного в покое и перестал его грызть.
— Когда же конец этому, Боже? — простонала она. — Ужели так необходимо, Господи, чтобы эта мука длилась вечно?
И давно для нее привычным жестом вцепившись себе во впалые виски, с которых уже не раз исступленно выдирала волосы, а те отрастали снова и снова, она. сама распятая, поникла перед распятием, когда Агата, спутница ее в несчастьях, которой минуло уже восемьдесят лет и которая, если бы горе поддерживало в нас жизнь, могла бы протянуть и до ста, вошла и замогильным голосом доложила:
— Преподобный отец-настоятель брикбекских траппистов просит принять его, сударыня.
— Впусти, — ответила г-жа де Фержоль.
13
Г-жа де Фержоль еще опиралась одним коленом на молитвенную скамеечку, с которой вставала, когда вошел отец Августин. Он почтительно поздоровался с ней, но было видно, что этот суровый и сильный монах, едва шагнувший за половину жизни, сильно взволнован и что, явившись в Олонд с такой неожиданной поспешностью, он повиновался строгому долгу.
— Сударыня, — без всяких предисловий начал он, оставшись стоять, хотя она знаком пригласила его сесть, — я принес кольцо, принадлежавшее вам и опознанное вами вчера, а также хочу, — добавил он с печальной торжественностью, — назвать вам имя человека, который потерял его вместе с рукой.
При этих словах г-жа де Фержоль слегка вздрогнула, и монах протянул ей кольцо, которого она не взяла. В ту минуту она была не в силах коснуться этого оскверненного и поруганного, десятикратно оскверненного и поруганного кольца, да еще снятого с руки вора.
— Имя!.. — потрясенно выдохнула она.
— Да, сударыня, — перебил монах, — человек, который составил несчастье всей вашей жизни и которого вы, без сомнения, много раз проклинали, именовался в духовном чине отцом Рикюльфом из ордена капуцинов; это его ровно двадцать пять лет назад вы приютили у себя в доме во время поста.
При этом имени г-жа де Фержоль побледнела, словно перед смертью, но собрала все силы своей энергической души, чтобы задать вопрос, грозный вопрос, от которого зависела ее жизнь.
— Вы собирались сообщить мне только это, отец мой? — спросила она, глядя на трапписта своими глубокими глазами, под взором которых бедная Ластени всегда опускала свои.
— Я собираюсь поведать вам все, сударыня, потому что он рассказал мне все, примирившись с Господом на пепле, на котором умирают члены нашего ордена,[448]По орденскому уставу трапписту полагалось умирать на пепле или золе. («Прах ты и в прах возвратишься», Библ., Быт., 3, 19.) и, умирая, тому всего несколько дней, поклялся на распятии, поднесенном мною к его губам в последний миг, что единственным виновником всего был он, а ваша дочь неповинна в его преступлении.
— Значит… Ох! Значит, я… — простонала г-жа де Фержоль, словно озаренная молнией, мгновенная вспышка которой высветила всю ее жизнь.
— Не мне судить вас, сударыня, — перебил траппист с неподражаемым достоинством. — Я здесь лишь затем, чтобы принести благую весть такой благочестивой душе, как ваша: ваша дочь невиновна, и незримый ангел-хранитель, которого Господь приставил к нам, всегда пребывал рядом с ней, взирая на нее чистыми бессмертными очами.
Он замолчал, удивленный тем, что радость не преисполнила душу этой благочестивой женщины. Он не подумал, что в то же мгновение эту глубокую душу пронзили угрызения совести, — ведь она поверила в виновность Ластени и своей ошибкой довела ее до медленной и трагической смерти.
— Ах, отец мой, отец мой, — молвила г-жа де Фержоль, — благая весть запоздала. Ластени убила я. Человек, священнослужитель, в грех которого я не пожелала поверить и который содеял нечто худшее, чем убийство, не убил мою дочь, заключив ее в свои кощунственные объятия. Он лишь осквернил ее, надругался над ней, а убивать предоставил мне, и я убила ее. Я довершила смертью дочери преступление, начатое им.
С этими словами баронесса опустила голову. Она судила себя. Аббат отчетливо видел, что сердце ее разрывается на части, и выказал ей сострадание, которого она не нашла для Ластени. Он сел и заговорил с ней, преисполнясь божественного милосердия. Сказал, что страдает она свыше меры, что она оказалась жертвой ошибки, не стать которой не могла, и поведал ей о преступлении Рикюльфа. В те времена наука, ставшая ныне столь популярной, располагала лишь таинственными фактами, теперь, правда, общепризнанными, хотя и до сих пор знает она о них одно — что они существуют. Ластени была сомнамбулой, как леди Макбет, но г-жа де Фержоль, вероятно, не читала Шекспира. Итак, в одном из приступов лунатизма, случавшихся с девушкой крайне редко и потому не замеченных ни матерью, ни Агатой, отец Рикюльф и застал Ластени однажды ночью, когда она, выйдя из спальни и усевшись на большой лестнице, заснула там, где с детства проводила столько часов, бодрствуя и мечтая; искушаемый демоном одиноких ночей, он совершил над ней преступление, которое бедное дитя в неведении сна просто не осознало и за которое только он в свой срок ответит перед Господом. Вот только почему, совершив злодеяние, он украл у нее кольцо? Не был ли он уже тем, кому предназначалось в свой день и час стать вором с отрезанной рукой, каким он и сделался? Безответный вопрос! Тут поневоле теряешься в таинственной бездне, которую именуют человеческой натурой. Сомнамбулы отдают иногда кольца, и это ничего не доказывает. Я, например, знал одну лунатичку (юную девушку), которая отдала свое человеку, повинному в том же преступлении, что Рикюльф содеял над Ластени, и с непреодолимым отвращением, хотя и по доброй воле, вышла замуж за страшного жениха из своего сна. Не желая краснеть перед этим человеком, она сохраняла ему внушающую ужас верность и умерла спустя несколько лет после свадьбы.
Г-жу Фержоль, слыхом не слыхивавшую о сомнамбулизме в своем севеннском уединении, ошеломил рассказ аббата-трапписта. Ее леденило преступление изверга, который промелькнул через их с дочерью жизнь, словно вампир, и, опустясь от чудовищного злодейства до мерзости, кончил такой низостью, как воровство. Здесь знатная дама возобладала в ней над негодующей матерью, и отвратительное воровство показалось ей даже более омерзительным, чем насилие, совершенное над Ластени во время сна. На мгновение она даже засомневалась, вправду ли он дважды осквернил ее дочь. Но брикбекский аббат уверил ее, что отрезанная рука принадлежала именно капуцину Рикюльфу и что несчастный в самом деле был одним из первых бандитов столетия. После того дня, когда, встретясь с Агатой на ступенях колоссальной лестницы, свидетельницы его преступления, он оставил позади Большое распятие у въезда в севеннский городок, он предался всем порокам. Они уже кипели в котле, где клокотала Революция, готовая перехлестнуть через край и затопить Европу. Наступил час, когда церковь сама нуждалась в гонениях, чтобы вновь закалиться в крови мучеников. Рикюльф, совершив преступление, порвал со своим орденом, вероятно, в то же время, что Шабо,[449] Шабо, Франсуа (1759–1794) — монах до Революции, он расстригся, стал членом Законодательного собрания, занимая крайне левые позиции, и был казнен с группой Дантона. капуцин Революции. Но у Рикюльфа перед Шабо было преимущество: впоследствии он сумел раскаяться. После долгих лет злодейской жизни он однажды вечером явился в Брикбекскую обитель к траппистам в последней степени отчаяния и выказал такое раскаяние, на какое способны только могучие души. «Прогнав меня, — сказал он аббату, — вы отошлете меня обратно в ад, откуда я вышел!»
— Мы с братией, — рассказывал аббат г-же де Фержоль, — вспомнили, что орден траппистов — это прибежище преступников, избежавших суда людского, отперли дверь новоприбывшему и во имя милосердия небесного скрыли его от земного правосудия. Отец Рикюльф был одним из тех, чья душа ни в чем не знает удержу. Он прожил среди нас много лет в самом искупительном покаянии…
— И умер как святой, не правда ли? — перебила монаха возмущенная г-жа де Фержоль, взорвавшись горчайшей иронией, но тут же спохватилась и спросила менее оскорбительным тоном: — Отец мой, верите ли вы, что такой человек может быть впущен в царство небесное?
— Во всяком случае, он прожил долгие годы и скончался как человек, жаждущий туда попасть, — ответил милосердный служитель Бога.
— Мне не нужно небо, если оно могло его принять, — возразила г-жа де Фержоль не то что упрямо, а со слепым и бешеным упорством.
Кроткий священнослужитель был глубоко уязвлен в своем милосердии, но не оставил попечение о беспощадной женщине. Он неоднократно навещал ее в Олонде, надеясь вернуть к более христианским чувствам эту фанатичную душу, но ничего не добился: она была непреклонна. Ненависть к извергу, как она его называла, усугубленная мыслью о невиновности дочери, ослепила ее. Бог, может быть, и простил, она — нет. Она никогда не простит. Она не желает прощать. Ненависть ее превратилась в одержимость. Она стала одержима своей ненавистью. Несмотря на все увещания аббата Августина, силившегося пролить в эту неистовую и уязвленную душу то целительное масло, которое добрый самарянин возливал на раны человека, «шедшего из Иерусалима в Иерихон»,[450]Еванг., Лук., 10, 30–37. — ничто не помогало: г-жа де Фержоль неуклонно противопоставляла словам и доводам аббата мысль о надругательстве над гостеприимством, совершённом капуцином, которого она величала Иудой; однажды ненависть внушила ей даже некое отвратительное желание (странная вещь, которую, однако, поймет любая страстная душа!). Из ее ненависти родилось мерзкое любопытство, и баронесса сумела его удовлетворить.
Ей, знавшей назубок церковные порядки, было известно, что траппистов хоронят без гроба, с непокрытым лицом и в незасыпанной могиле, куда каждый из братии ежедневно бросает лопату земли, пока там не накопится шестифутовый слой глины, которого, увы, достаточно для любого из нас. Так вот, ей захотелось еще раз увидеть ненавистного Рикюльфа и насытить глаза зрелищем его трупа! Ненависть — как любовь: она жаждет видеть. «Умер он не так уж давно, — рассудила она. — Лики у блаженных не такие, как у обычных людей. Когда раскапывают землю и открывают гробы, где они лежат, лица их поражают умиротворенностью, порой даже сияют, а это свидетельствует, что они умирали, обоняя благоухание небесное. Значит, я смогу убедиться, в самом ли деле блаженство коснулось злодея, который, может быть, обманул своим раскаянием отца Августина, как обманул своей святостью меня». И не сказавшись старой Агате, она в один прекрасный день отправилась в Брикбек. Женщин к траппистам впускают лишь в определенные праздничные дни и не дальше церкви, но кладбище их, расположенное в поле рядом с обителью, открыто для всех. Туда может приходить каждый, кто пожелает, и она вошла.
Она без труда нашла могилу, которую искала. Кладбище было пустынно, и могила последнего по счету покойника-трапписта, затерянная среди высокой травы, оказалась именно могилой Рикюльфа. Баронесса остановилась на самом ее краю и глянула вниз глазами ненависти, острыми, как у любви, глазами, пронизывающими все, и увидела мертвеца на дне могилы. Несмотря на комья земли, наваленные вокруг головы, но чаще всего падавшие на туловище и ноги трупа, она сумела рассмотреть лицо мужчины. О, она узнала его, невзирая на поседевшую бороду и незрячие глаза, в орбитах которых уже роились черви. Она позавидовала участи червей. Ей захотелось стать одним из них… Она узнала смелый рот, который так поразил ее в Севеннах, хотя сам Господь написал на нем, что этих страшных уст следует опасаться. Она стояла у могилы, созерцая ее, забыв о времени и вперяясь в эту нору, где гнил ненавистный ей человек, но солнце летнего вечера уже склонялось к горизонту. Оно было за спиной у г-жи де Фержоль, и на могилу падала ее колоссальная тень, удлиненная солнцем, которое садилось, багряня своими лучами ее черные одежды. Вдруг рядом с ее тенью пролегла другая, и чья-то рука опустилась ей на плечо. Она вздрогнула. Это был аббат Августин.
— Вы здесь, сударыня? — спросил он скорее задумчиво, чем удивленно.
— Да! — отозвалась она таким глубоким голосом, что он вздрогнул. — Мне захотелось потешить свою ненависть.
— О, сударыня, — сказал священнослужитель, — вы христианка, а говорите не по-христиански. Смотреть на мертвеца в могиле ненавидящими глазами значит осквернить ее, а мы обязаны чтить мертвых.
— Но не этого же! — возразила она. — Я только что испытала желание спрыгнуть в могилу и растоптать его каблуками.
— Бедная женщина, — вздохнул аббат. — Она умрет нераскаянной: слишком неудержимая у нее натура.
И действительно, вскоре она умерла с той великолепной нераскаянностью, которою мир вправе восхищаться, но мы — нет.
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления