Онлайн чтение книги
Дивные пещеры
8. СВИДАНИЕ
Первый копач, толстый лысый человек, воткнул в землю лопату и вытер ладонью пот. На траву упали крупные горошины, словно пролился дождь.
– Ну и жарища! – проворчал он и посмотрел на солнце. – Август, а как июль.
Второй копач, молодой белобрысый парень, тоже прекратил работу.
– Пивка бы сейчас холодненького, – сказал он мечтательно.
Полный оживился.
– Идея неплохая. Слышь, хозяин, сбегал бы за пивом.
Семен Петрович Рудаков, к которому были обращены эти слова, ничего не ответил. Он чинил нижнюю ступеньку крыльца. Вчера, занося в сени мешок с яблоками из собственного сада, главный бухгалтер поскользнулся и грохнулся вместе с мешком. Подгнившая ступенька провалилась, и вот теперь ее надо было починить.
– Эй, хозяин! Хоть бы кваску вынес, – приставал лысый, – твою же жену ищем.
Десять дней тому назад жена Шкафа вышла из дома и не вернулась. Она не взяла с собой ни денег, ни вещей, ни документов. Просто вышла из дома и пропала. Никто ее больше нигде не видел. В доме Рудаковых сделали обыск. Ничего проливающего свет на исчезновение жены не нашли, и милиция совсем уж было убралась восвояси, как вдруг на скобе для очистки грязи с ног возле крыльца обнаружили следы крови. Рудаков сказал, что это он, поскользнувшись, случайно поранил руку. Однако группа крови оказалась не его, и на Семена Петровича пало подозрение в убийстве.
Петровск разделился на два неравных лагеря. Одни считали – их было большинство, – что Семену Петровичу не было никакого смысла убивать свою жену: жили дружно, делить было нечего, по бабам Рудаков ходить был не охотник. Другие, более философского склада ума, полагали, что чужая душа – потемки, что жизнь – сложная штука и ни за что в мире нельзя ручаться. Возьмем простой случай, говорила эта вторая, философская часть: захотелось Семену Петровичу опохмелиться, а денег не оказалось, и он просит у жены на чекушку, а жена, конечно, не дает. Слово за слово, разгорается драка, жена падает виском на скобу – и с приветом.
Анализ крови со скобы все-таки оказался не очень определенный, но с Семена Петровича взяли подписку о невыезде. Кроме того, Рудаков, что было неприятнее всего, должен был каждый вечер ходить отмечаться в милицию.
Двор и сад Семена Петровича разбили на квадраты, и там стали работать землекопы-копачи: искали труп.
– Жмот, – сказал молодой копач. – Сколько работаем, даже стакана воды не дал.
У копачей с Рудаковым сразу установились плохие отношения: рыли копачи небрежно, не жалели кустов малины и смородины да еще отпускали разные поганые шуточки.
– Живут же люди, – проворчал лысый копач. – И от жены избавился, и кассу взял… а тут копай за трешку в сутки.
– Ты думаешь, он кассу взял? – заинтересовался молодой копач.
– А кому же еще? С этим… бухгалтером Минаковым сговорились и взяли. Проще пареной репы. Ловкач!
Семен Петрович продолжал молча чинить ступеньку.
– И выкрутится, – молодой оперся на лопату. – Что он, дурак, что ли, ее в саду закапывать? Речка-то она вон, рядом. К ногам камень привязал – и будет лежать до высадки человека на Марсе.
– Ладно, разболтался, – лысый поплевал на ладони. – Поехали, а то вон милиция топает.
Во двор входил младший лейтенант Кобчиков.
– Ну как дела? – энергично воскликнул он, пройдя сразу к копачам и не поздоровавшись с Рудаковым. – Сколько квадратов сделали?
– Ноль целых и одна десятая, – сострил лысый. – Ты сам, начальник, попробуй в такую жару повкалывай. Да еще за трешку в сутки.
– Разговорчики!
Младший лейтенант осмотрел две ямы, которые выкопали лысый и молодой, и вздохнул:
– С такими темпами нам работы на всю пятилетку хватит.
– Пивка бы сходить попить, товарищ старший лейтенант. – Лысый нарочно повысил в звании Кобчикова и сглотнул пересохшим ртом. – А то сейчас народ с завода повалит – до утра стоять придется.
– Ладно. Идите, – вздохнул младший лейтенант. – Все равно от вас толку, как…
– Благодарствуем. Моя милиция меня бережет. – Копачи поставили лопаты к стене дома и торопливо ушли, боясь, что он передумает.
Кобчиков с озабоченным видом осмотрел ямы, не нашел в них ничего примечательного, и у него сделалось огорченное лицо. Огорченное и обиженное, как у мальчишки, которому не дают любимую игрушку.
Младший лейтенант подошел к Рудакову, посмотрел, как тот работает, сказал:
– Слушайте, Рудаков… Бросьте упрямиться… Зря только людей мучаете. Все равно ведь найдем. Не во дворе, так в речке. Не в речке, так в Пещерах. Или в лесу. Год, два, три будем искать, а найдем.
– Дурная голова рукам покоя не дает, – буркнул Семен Петрович.
– Что вы сказали?
– Я говорю: копайте, если желание есть.
– Давайте по-хорошему, Рудаков.
– Я и так по-хорошему. Весь сад испохабили, другой бы давно жалобу подал.
– Чего ж вы не подаете?
– Вас, товарищ Кобчиков, жалко. Молодой вы еще. Выговор дадут – карьеру себе сгубите. Вам ведь не жена моя, товарищ Кобчиков, нужна. В вас честолюбие бродит. Год у нас работаете, а ничем не отличились. Так, пьянки да драки… Не везет вам. Вот вы и уцепились за мою жену.
Младший лейтенант нахмурился.
– Полегче на поворотах, товарищ Рудаков!
– Или с «ограблением века», например, вы горячку порете. Чтобы отличиться, скорее дело закрыть. Не дан бог еще область перехватит. Собаку, беднягу, за сколько верст гнали. А дело-то не такое ясное, как вам кажется.
– Уж не вы ли замешаны?
– Может, и я. Проверьте. Почему Минаков взял документы? Зачем они ему нужны? Чего ж вы молчите?
Главный бухгалтер разогнулся, положил на крыльцо молоток и ехидно посмотрел на милиционера.
– Поймаем Минакова и узнаем. А вы не лезьте не в свое дело. Мало, что ли, своего? – Кобчиков с вызовом глянул на своего противника.
Тот усмехнулся.
– А что будет, товарищ Кобчиков, если я вам место укажу?
– Шуточки шутите, товарищ Рудаков, – младший лейтенант тоже усмехнулся, но тело его напряглось.
– Вдруг не шуточки?
– Дайте слово, что не шутите, товарищ Рудаков.
– Вот еще, товарищ Кобчиков. Какое может быть слово у убийцы?.. Так что тогда будет?
У младшего лейтенанта, видно, пересохло в горле: он хотел что-то сказать, но вместо слов послышался какой-то клекот.
– Может, водички принести?
– Не надо.
– Так что тогда будет?
– Вы смягчите свою участь.
– И все?
– Что же вам еще надо?
– Глупость говорите, товарищ младший лейтенант. Сейчас я свободный, а тогда сяду за решетку. Что лучше?
– Кроме того… вы облегчите совесть.
Рудаков опять усмехнулся и взял молоток.
– Мы в ладах со своей совестью. Я не то имею в виду. Что с вами будет, товарищ младший лейтенант?
Кобчиков посмотрел на главного бухгалтера подозрительно: не насмехается ли тот над ним, но лицо у Семена Петровича было серьезное.
– Вам-то какое дело?
– Ради любопытства.
– Ну… Я – может быть, получу благодарность.
– Повышение, а не благодарность, товарищ Кобчиков. Только повышение надо зарабатывать не на самом преступлении, а на профилактике преступлений. Долгой, безупречной службой, как ваш начальник капитан Яковлев. Почему он стал капитаном? Потому что в городе не было никаких преступлений. Вот и вы берите курс на это.
– Зато из-за вас он сейчас снова начнет все с нуля, – буркнул Кобчиков и поправил фуражку, которая была ему слишком велика.
– Ну раз так… Раз все сошлось на мне… Так и быть, скажу. Труп я спрятал в космосе.
– Где? – опешил младший лейтенант.
– В космосе. Изготовил воздушный шар… из воздушных шариков и запустил в космос. Теперь придется специальный спутник запускать, чтобы мою жену выловить.
– Тьфу! – в сердцах сплюнул Кобчиков. – Сколько времени потерял! Но скоро я над вами буду шутить.
Младший лейтенант поправил еще раз фуражку и зашагал к выходу.
– Одну минуточку! – крикнул главный бухгалтер.
– Что еще? – Кобчиков недовольно остановился. – Вспомнили, что закопали на Луне?
– Можно мне сегодня уехать на рыбалку? В воскресенье вечером вернусь…
У Рудакова был какой-то просящий, даже заискивающий тон. Совсем другой, чем минуту назад.
– На рыбалку? Вы разве рыбак?
– Балуюсь иногда… Что мне дома делать? Один. Скука. Копачи и те ушли.
Ах, как хотелось младшему лейтенанту сказать «нельзя» этому старому хитрому лису, он уже открыл было рот, чтобы произнести запрет, но подумал, что Шкаф обязательно пойдет с этим вопросом к начальнику милиции капитану Яковлеву, слишком, на взгляд Кобчикова, для этой должности добродушному человеку, тот, конечно, разрешит, и он, младший лейтенант Кобчиков, окажется в глупом положении.
– Ладно, – сказал Кобчиков. – Идите рыбачьте, товарищ Рудаков. Но с одним условием.
– Я же вам сказал – она в космосе.
Младший лейтенант сделал вид, что не услышал.
– Условие такое. Крепко подумать на досуге. Очень крепко. Рыбалка к тому располагает.
– Охотно, младший лейтенант, весьма охотно принимаю ваше условие. Но и вы подумайте. Из сейфа пропали документы. Зачем Минакову документы? Почему он так зверски избил кассиршу? Чтобы взять деньги, Перовой достаточно было показать кулак. Эта женщина не из храбрых. И последнее – самое главное. Минаков собирался стать летчиком-космонавтом – зачем ему совершать столь бессмысленное ограбление?
Младший лейтенант хмуро выслушал Семена Петровича, не перебивая.
– Ладно, товарищ Рудаков, спасибо за информацию, но мы как-нибудь без вашей помощи разберемся. Поймаем Минакова и разберемся.
– Жалко мальчишку, товарищ Кобчиков. Испугается. Ведь это не очень приятная процедура, когда тебя ловят. Исковеркаете нервы.
– Себя пожалейте, товарищ Рудаков. Свои нервы.
– Нервы у меня закаленные, товарищ Кобчиков.
– Это очень приятно слышать, товарищ Рудаков. Только положение серьезное. Намного серьезнее, чем вам кажется. Скоро вы перестанете шутить свои шуточки.
– В саду только не копайте. Деревья засохнут. Сад-то тут ни при чем. Сад пожалейте.
– Странный вы человек, товарищ Рудаков. Вам о своей голове надо думать, а вы о яблонях печетесь.
– Так яблони, товарищ Кобчиков, только яблоками нас дарят, а человеческая голова разные фокусы выкидывает.
– Яблоня, товарищ Рудаков, растит яблоки бездумно, а человек думает. Так что ценнее?
– Все вы знаете, товарищ Кобчиков. Все у вас просто.
– Зато у вас, товарищ Рудаков, чересчур сложно. Очень сложно. Запутались вы совсем.
– Ваша простота, товарищ Кобчиков, от молодости. Со временем пройдет. Но у некоторых затягивается. Опасайтесь этого.
– А ваша сложность, товарищ Рудаков, от хитрости. Крестьянской хитрости. От нее много бед проистекает. Подумайте над моими словами, когда не будет клевать. И упростите свою жизнь.
– Подумайте и вы, товарищ Кобчиков. За выходные. И сделайте свой взгляд на людей чуть-чуть шире.
– Ну ладно. Мне некогда с вами язык чесать. Приятной вам рыбалки, товарищ Рудаков, и не забудьте убрать в сарай лопаты. Казенное имущество.
– Приятного выходного, товарищ Кобчиков. Пусть ничего не случится. Или вам хочется обратного?
Но младший лейтенант уже не слушал главного бухгалтера. Он поправил на голове фуражку, чтобы она сидела чуть набекрень и стал виден русый чуб – на соседском огороде работала молодая красивая баба, мимо которой ему предстояло пройти, – и ушел.
Семен Петрович закончил ремонт, убрал в сарай казенные лопаты, прошелся с тяжелым, каменным лицом по изувеченному саду, заглядывая в ямы, в которые уже, как колючая проволока, стала заползать малина, со злобой столкнул ногой в яму распитую копачами бутылку «Петровской десертной» и ушел в дом собираться на рыбалку.
Было темно, когда Семен Петрович добрался на автобусе до нужного села. На пристани – дощатом настиле на сваях – уже зажглась на столбе желтая лампочка под жестяным кругом, почти ничего не освещая.
Народу на пристани было немного: две старухи с корзинами, трое рыбаков в нейлоновых куртках и пьяный с пустым стаканом в руках.
Село уже заснуло. Оттуда к реке почти не доносилось никаких звуков: только слышалось тоскливое мычание еще почему-то не доенной коровы, изредка – завлекающий смех девчат да шорох садов, бормотание радио на столбе, возле правления колхоза…
Скамеек на пристани не было, и Рудаков сел на ящик из-под бутылок – они здесь громоздились темной кучей, очевидно, приготовленные для отправки по воде и забытые. Рядом, тоже на ящиках, сидели тетки с кошелками – по всей видимости, они направлялись на базар в городок ниже по течению, еще с петровских времен славившийся большими съездами крестьян. Тетки тихо говорили о ценах на кур, гусей, уток; наверно, везли продавать битую птицу. Рыбаки в нейлоновых иностранных куртках молча курили, глядя на реку, у их ног лежали удочки, пижонские сумки с иностранными наклейками – наверно, это были городские парни из Суходольска.
Пьяный что-то недовольно бормотал себе под нос. Иногда он вставал с ящика и, покачиваясь, вглядывался в даль, откуда текла река.
Когда-то в юности Семен Петрович любил реку. Позагорать, поплавать, поудить рыбу, просто побродить по зеленой береговой траве босиком… Потом за хозяйственными заботами, работой речка забылась, он перестал вспоминать о ней, отдыхал больше дома, в саду или ездил на массовки в лес. В лесу проще, спокойнее, не надо было раздеваться, лезть в воду… Выпил, закусил и лежи вверх животом, дремли…
Сейчас запах реки, ее движение опять волновали. Семен Петрович полез в карман за сигаретами, но туг же вздохнул и опустил руку: от него не должно пахнуть сигаретным дымом.
Ни звука, ни огонька, ни движения, как будто все замерло на месте. Замерли эти миллионы тонн воды, гектары леса, километры воздуха…
К главному бухгалтеру подошел пьяный, держа под мышкой стакан.
– Вот в Нью-Йорке, – сказал он, – в это время все открыто. Бары разные, забегаловки, кафе-шантаны. Пей и опохмеляйся хоть до утра. А у нас, – пьяный махнул рукой. – Клавка-магазинщица закрыла в шесть и подалась на гулянку. Корова вон мычит, до сих пор не доенная, да и мужикам хоть помирай. В обед выпили, теперь что – опять до обеда жди? А вот в Нью-Йорке…
– Вы были в Нью-Йорке? – спросил Рудаков.
Пьяный оживился.
– Был. А как же. Ленд-лиз возил. Я и в Париже был. На Эйфелеву башню лазил. На первом этаже там выпивка дешевле, а на самом последнем – очень дорогая. Так я что делал? Брал фужер водки на первом и ехал на последний. Сижу там, на верхотуре, попиваю себе да вниз поплевываю. Красота. Все мне завидуют, думают, что миллионер. А Клавку бы там сразу уволили. Поддал бы хозяин коленом под зад – и все дела. Сколько хочешь тогда жалуйся в суд. У них там насчет этого запросто. Не желаешь работать – подыхай с голоду.
Послышался опять рев недоеной коровы. Клавку, пожалуй, и правда стоило бы уволить. Сколько Семен Петрович ни бывал здесь, повторялась одна и та же история: загулявшая Клавка, недоеная корова, пьяный со стаканом под мышкой с разговорами о Нью-Йорке и Париже.
– А ты, я вижу, будешь простой человек, – сказал пьяный. – Ты нигде не был. Ведь не был?
– Не был.
– Ты счастливый человек, – сказал пьяный. – Потому что тебе нечего вспоминать. А мне есть что вспоминать. Потому я мучаюсь. Ты не смотри, что я сейчас сторожем работаю. Я раньше разведчиком был. И в Берлине, и в Токио. Я самого Зорге знал. Ручкался с ним.
– Ладно, Пахомыч, будет брехать, – сказала ближайшая тетка с корзиной.
– Да как ты смеешь, невежественная женщина! – закричал пьяный, но в это время кто-то негромко сказал:
– Идет…
На темной полосе показались огоньки. Все встали, задвигались. Женщины потащили свои корзины к краю пристани, рыбаки начали гасить окурки, пьяный со стаканом под мышкой неверной походкой обогнал всех и стал первым.
Огоньки быстро приближались, и вскоре стали видны контуры небольшого судна. Теплоходик затормозил, дал задний ход и стал медленно приближаться к пристани. Яркая фара на рубке погасла. На берег соскочил молодой парень, несмотря на прохладный вечер, в одной тельняшке и джинсах, быстро привязал веревку к железной тумбе и сказал:
– Карета подана. Прошу, пожалуйста!
Все по одному потянулись к борту теплохода. Парень ловко помогал перенести вещи, поддерживал под локоть. Семен Петрович дал ему два рубля.
– Сдачи нет, – сказал парень.
– На том свете сочтемся.
– Напомните тогда, – согласился парень.
Народу оказалось мало: все те же тетки с корзинами, рыбаки и только на носу, в уголке жалась закутанная в демисезонное пальтишко девушка-подросток.
На палубе была сооружена самодельная будка-буфет, слегка смахивающая на собачью конуру. В будке стояла, ожидая клиентов, полная женщина в белом халате.
Пьяный первым вскарабкался на борт и сразу направился к буфету.
– Двести грамм, Мартьяновна, и пару килечек.
– Опять Клавка загуляла? – спросила Мартьяновна.
– Опять… так ее…
Буфетчица не спеша налила в стакан, протянутый пьяным, водки, отрезала кусок белого ситного хлеба, положила на него несколько килек из банки. Килька остро пахла пряностями и морем.

У Семена Петровича были в рюкзаке и водка и закуска, но он подошел к буфету: ему нравилась и неторопливая, ухоженная продавщица, и керосиновая лампа сбоку прилавка, вокруг которой вились мошки, и открытая банка с килькой, откуда пахло тропическими пряностями и знойным морем.
– Мне тоже сто пятьдесят и бутерброд с килькой.
Продавщица его помнила.
– Конфет возьмете? «Белочка». Только что получила.
– Возьму.
– Полкило?
– Да.
Буфетчица наклонилась к Рудакову и понизила голос:
– В прошлый раз вы интересовались жемчужной помадой.
– Да, она вам очень идет, Мартьяновна…
– У меня есть лишний тюбик.
– Вот здорово!
– Но очень дорого. Пришлось заплатить пятерку,
– Ничего, Мартьяновна. Выдюжим.
Пьяный между тем залпом выпил свой стакан и снова полез к буфетчице.
– Мартьяновна, еще двести на дорожку! Матрос, подожди! Я сейчас…
– Давай, дядя, быстрее, и так опаздываем.
Мартьяновна налила пьяному опять стакан, тот расплатился и заспешил к трапу, бережно прижимая полный стакан к груди.
– В Нью-Йорке бы домой принесли, а тут лазь по каким-то старым калошам, – проворчал он, перебираясь на берег.
Матрос подождал, пока Пахомыч утвердится на берегу, отвязал канат, прыгнул на палубу, и суденышко стало медленно отчаливать.
– Вам в стакан или в фужер?
– В фужер.
Рудаков всегда хорошо расплачивался с буфетчицей, и она явно симпатизировала ему.
– Колбаски возьмете? Свиная домашняя, очень вкусная.
– Можно кусочек.
Рудаков отнес все на маленький столик с розовым пластмассовым покрытием, что стоял возле буфета. Продавщица выдвинула фитиль в лампе, чтобы было видней. На освободившееся место к окошку встали молчаливые городские рыбаки в джинсах с иностранными ярлыками, задымили иностранными сигаретами.
Рудаков залпом, затаив дыхание, выпил водку, закусил килькой. Килька была свежей, баночного посола, такую в Петровск не завозили, и Семен Петрович с наслаждением съел все четыре штуки – для бутерброда было положено три, но Мартьяновна из симпатии добавила ему еще одну.
От курящих возле столика рыбаков тянулся ароматный дым. Мучительно хотелось курить. Семен Петрович снова достал пачку сигарет, подержал в руках и опять сунул в карман.
Потом он прошел на нос и сел рядом с девушкой-подростком. Девушка была совсем худенькой, зябко куталась в коричневое пальто, ее лицо почти закрывал низко надвинутый на лоб шерстяной красный платочек – в тон пальто. Она сидела, полуотвернувшись от палубы, и смотрела в воду. На ее ногах были стоптанные туфли.
Ноги она поджала под скамейку. Семен Петрович нащупал ее руку, взял в свою большую ладонь.
– Холодная, – сказал он. Девушка ничего не ответила.
– Ну, здравствуй…
– Здравствуй…
– Замерзла?
– Нет…
Он взял и вторую ее ладонь, поднес ко рту, стал дышать.
– Я вправду не замерзла.
Но голос у нее был холодный.
– Я боялся, что ты не приедешь.
– Ты же знаешь… брошу все…
В их сторону никто не смотрел.
– Плохой из тебя конспиратор, – сказала девушка. – Пил водку, а сам с меня глаз не спускал.
– Мало ли чего… Может быть, просто понравилась.
– В этом пальто я совсем маленькая… Ты долго ждал?
Он отпустил ее руки.
– Нет. Совсем немного.
– Мы опоздали на пятнадцать минут.
– Я знаю.
Она приблизила к нему лицо.
– От тебя пахнет водкой и селедкой.
– Тебе противно?
– Нет, ничего. Я бы тоже сейчас выпила водки и закусила килькой.
– Я сегодня целый день не курил.
Она погладила его по лицу.
– Спасибо, милый. Я это почувствовала.
Они помолчали.
– Тебя отпустили? – вдруг тревожно спросила она. – Или ты сам…
– Отпустили.
– До конца?
– До конца.
– Как хорошо…
– Да… Жалко, нельзя поцеловать тебя…
– Можно. Никто не смотрит.
Рудаков покачал головой.
– Земля тесная. Вдруг кто знакомый. Потерплю.
Он отвернулся и стал смотреть вниз. Темная вода с тихим шипением струилась вдоль борта.
«Господи, как хорошо, что она у меня есть, – подумал Семен Петрович. – Как хорошо, что тогда я поехал с ними в санаторий. А то бы ничего не было, ничего… Как же я жил до этого?»
Рудаков после той ночи в санатории, когда они сидели с Ниной в ельнике, и шел снег, и она рисовала на снегу, и поцеловала его в губы, не мог ни работать, ни спать, и в следующее воскресенье поехал в санаторий, сказав жене, что решил попробовать заняться зимней рыбалкой. Он долго добирался автобусом, попутными машинами, шел пешком и заявился в санаторий вечером, к ужину. Он вошел в столовую прямо так, одетым, в пальто и валенках. Весь зал уставился на него. Стало так тихо, что было слышно, как кто-то, видно сидевший спиной и не видевший пришельца, усердно жевал. Нина тихо вскрикнула, у нее выпала из рук ложка. Потом она вся залилась краской, медленно встала и пошла навстречу Рудакову неверным шагом, словно спросонья.
– Приехал все-таки.
Она, не стесняясь, обвила его шею руками, приникла горячей щекой к его заиндевелому подбородку.
Она тут же сбегала в палату, переоделась, и они ушли в лес. Вернулись, когда уже потускневшая перед рассветом луна садилась за лес…
Весь остаток ночи Рудаков шел пешком до трассы, где ходили машины, но шоферы не решались взять неведомо откуда бредущего человека, и только когда встало красное, все залившее алым солнце, его подобрал самосвал. В самосвале он почти не слышал, что болтал разговорчивый шофер, а смотрел в упор, не щурясь, на уже начинающее теплеть солнце, и мрачно думал, перебирая свои неведомые до сих пор чувства. Он понял, что влюбился, хотя не знал, что такое любовь, и не верил в ее существование.
– Случилось что, папаша? – наконец догадался разговорчивый шофер.
– Случилось, – ответил Рудаков.
Шофер замолк, и всю дорогу сочувственно поглядывал на главного бухгалтера.
Семен Петрович стал ездить в санаторий каждую субботу, а когда Нину весной выписали, они встречались в лесных полосах за селом, где она жила. В село Рудаков не ходил, чтобы не было пересудов: Нина работала лаборанткой на элеваторе, и ее знал каждый.
Летом он придумал более спокойную вещь. В пятницу вечером Нина брала билет на теплоход, он садился на этот же теплоход из ближайшего к Петровску села, и они ехали до глухого хутора Пещеры. Там они вдвоем проводили остаток пятницы, субботу и почти все воскресенье…
Это оказалось очень удобным. До сих пор никто ни в Петровске, ни в Нинином селе не сказал про них ни слова. Дома тетке, с которой она жила, Нина говорила, что ездит в санаторий, где прежде лечилась, показаться врачам.
…Теплоход причалил к маленькой пристани. Сели женщина с тяжелым бидоном, из которого, несмотря на то, что он был закупорен и плотно завязан чистой белой марлей, пахло парным молоком; рыбак с огромной раколовкой, маленький, с короткими ножками, похожий на паука, затканного сетью; мальчишка с велосипедом и удочками.
К буфету никто не подошел. Мартьяновна щелкала на счетах, освещенная с одного бока красным светом керосиновой лампы; другая сторона скрывалась во мраке. Буфетчица была похожа на колдунью, занимающуюся своими колдовскими делами.
– Я тебе «Белочки» купил.
Семен Петрович залез в карман куртки, достал пригоршню конфет, вложил в руку Нины.
– Спасибо.
Она положила конфеты на колени.
– И еще кое-что.
– Что?
Голос ее стал по-детски любопытным.
– Вот.
Рудаков протянул ей помаду.
– Боже мой! Жемчужная!
– Ага.
– Неужели польская?
– Не знаю.
– Польская. Девчонки полопаются от зависти.
– Это не для девчонок, а для тебя.
– Само собой, но немного и для девчонок. Не будь жадным.
– Ладно уж, – великодушно согласился Семен Петрович.
Нина спрятала конфеты в карман, а помаду оставила в руке.
Теплоход отвалил от маленькой пристани – три доски, две сваи, железная труба, – и прожектор снова беспокойно заметался по обеим берегам.
«Зачем он так светит? – подумал Рудаков о капитане. – Нервничает или просто так? А может быть, он служил во флоте, допустим, на пограничном катере и осталась привычка быть всегда настороже?»
Теперь они шли совсем близко к берегу. Тянулся заболоченный луг. Оттуда порывами набегал ветер. То промозглый, тревожный, какой-то безнадежный, пахнущий болотом, туманом, скользкими холодными тварями – это когда проплывали низкую часть луга; и теплый, ласковый, добрый, приносящий запахи земляники, сухого сена, трепет перепелиных крыльев, когда напротив оказывался сухой луг, – это был запах жизни, счастья, острой жалости, что так не может продолжаться вечно.
И когда проплывали мимо этих разных участков луга, Нина то сгорбливалась, то распрямлялась, совсем как тонкий стебелек в зависимости от того, дует ли холодный ветер или светит теплое солнце.
– Дай я тебя укрою, ты замерзла, – сказал Семен Петрович.
– Не надо, я не замерзла.
Но он снял с себя куртку и насильно укутал ее. Куртка была модная, нейлоновая, с шерстяной подкладкой, очень теплая, он купил ее специально для этих поездок.
Навстречу проплыла баржа, хрипло прогудела простуженным басом в знак приветствия. Капитан теплохода в ответ дал три неожиданно звонких молодых гудка, озорно побил по барже лучами. Баржа была с песком; из рубки высунулся человек в форменной фуражке, «начальник баржи», помахал рукой; издали не было видно, но Рудаков догадался, что он улыбается. Капитан еще просигналил три раза. Баржа прошла рядом, обдав их запахом мазута, сырого песка и сохнущей рыбы – наверно, матросы занимались рыбалкой.
Большая волна ударила в борт теплохода, он качнулся один раз, другой, мотор сделал перебой, потом все выправилось. Капитан теплохода повернул прожектор назад и проводил баржу лучом света до тех пор, пока можно было. «Начальник баржи» улыбался и махал рукой.
– В Игнатовке… пиво… свежее… бочечное… – донеслось с баржи. – Ждет…
– В Селезневку колбасу копченую завезли! – крикнул в ответ капитан.
Опять хриплый гудок и три звонких. Вскоре баржа исчезла за поворотом.
– Петя умер, – сказала Нина. Семен Петрович резко повернулся к ней.
– Когда?
– На той неделе… В среду…
– Ты… была?
– Нет.
Они замолчали. Петя был тем гармонистом, который пытался выяснить с Рудаковым отношения во время первого приезда в санаторий. Он как-то еще раз хотел затеять драку с Семеном Петровичем. Главный бухгалтер, притопывая от мороза, ждал на улице Нину, которая убежала в палату одеться потеплее, как вдруг из корпуса выскочил гармонист. Он был без пальто, без шапки, в пижаме и больничных тапочках, волосы всклокочены.
– Уходи отсюда! Уходи! Кобель! – закричал он срывающимся мальчишеским голосом. – Уходи и больше никогда не появляйся, подонок пошлый! Зашибу!
Петя кинулся на Рудакова, выставив вперед кулаки, норовя ударить в лицо. Семен Петрович повернулся правым плечом, выдвинул его и слегка шевельнул. Он не собирался бить этого нервного, хилого парня, но гармонист, наткнувшись на плечо, вдруг отскочил, как резиновый мячик, ноги его сплелись, и он упал на спину.
Семен Петрович подошел к поверженному сопернику. Изо рта гармониста показалась кровь. При виде ненавистного врага Петя попытался вскочить, но не смог даже перевернуться на бок. Рудаков поднял его, помог дойти до палаты.
– Меньше нервов, – сказал Семен Петрович на прощание, – не мы их выбираем, а они нас.
– Кобель… бугай, – прошептал гармонист. – Грубое животное…
Больше Рудаков гармониста не видел, но Нина иногда рассказывала о санаторных делах, в том числе и о Пете. Вскоре, рассказывала она, гармониста выписали, но дела его были неважны. Жил он в том же селе, что и Нина. Иногда они встречались на улицах или на базаре. Однажды Петя пришел к Нине домой и весь вечер играл на аккордеоне. Играл он очень хорошо, возле окон останавливались любопытные.
– Свадьба, что ли? – спрашивали они.
– Да нет, просто женихаются.
– Ты не приходи больше, – сказала Нина.
Больше Петя не приходил, но иногда присылал короткие записки. Писал, что начал сам сочинять музыку, но получается ли что, он не знает…
* * *
Теплоход подошел к Игнатовке. Пристань Игнатовки была ярко освещена двумя лампочками на столбах и выглядела абсолютно пустынной. Недалеко от причала светилось окошко пивного ларька. Продавщица вышла наружу и стала наблюдать, как швартуется катер.
– Давай быстрее, а то закрываю, – закричала она матросу.
– Свежее? – спросил матрос.
– В обед завезла.
Матрос обернулся к пассажирам.
– Кто желает пивка – прошу, пожалуйста. Поторопитесь.
Первыми поднялись парни с иностранными наклейками, потом мужик с раколовкой. Поднялось даже несколько женщин.
– Я схожу, – сказал Семен Петрович.
– Сходи.
– Не напирай, пожалуйста, – говорил матрос, сдерживая столпившихся у борта пассажиров. – Сначала пропустим капитана. Такова традиция… А теперь прошу, пожалуйста.
Сухощавый капитан с военной выправкой, в кителе и форменной фуражке – видно, действительно служил на флоте – проворно сбежал на берег, спорым шагом направился к ларьку. Там его уже ждала кружка пива. Кружка была налита так полно, что пена стекала по ее бокам и падала на дощатый, влажный от пива прилавок. Капитан осушил кружку единым духом. Продавщица, смотря на него влюбленными глазами, налила другую. Капитан отошел с кружкой в тень ларька и принялся попивать неторопливо.
Пассажиры уважительно подождали, когда отойдет капитан, и столпились у ларька. Семен Петрович тоже взял две кружки. Пиво оказалось отличным: свежим, хмельным, горьким. Оно пахло золотым ячменным полем, где созревало под солнцем, и темными подвалами, где выдерживалось.
Мужичок-паучок, оставивший свою паутину на палубе, достал из-за пазухи четвертинку, плеснул из нее в кружку, сунул опять за пазуху.
– Так-то оно надежнее будет, – подмигнул он Семену Петровичу.
– Я не люблю мешать, – сказал главный бухгалтер. – Теряется естественный вкус.
– У водки тоже естественный вкус, – резонно заметил мужичок-паучок.
Капитан дал гудок. Пассажиры засобирались, стали совать пустые кружки в окошко.
– Ишь, понравилось, – ворчал матрос. – Так бы и до утра стояли. Заходите, прошу, пожалуйста.
Он отмотал веревку, мотор заработал, между бортом теплохода и пристанью образовалась щель.
Продавщица стояла на берегу и махала рукой. Капитан отсалютовал ей три раза.
Семену Петровичу захотелось еще выпить. Он подошел к буфету.
– Сто грамм и килечки.
Буфетчица, забытая на какое-то время всеми, обрадовалась, стала торопливо наливать.
– Ухажерка капитана, – сказала она, кивнув в сторону пристани. – Каждый раз его ждет, когда пиво свежее. Муж и двое детей. Вот что оно в мире делается.
В голосе буфетчицы была зависть.
Семен Петрович посмотрел на пристань. Продавщица, ладная, молодая, закрывала окошко широким щитом. Потом погасли фонари, и пристань слилась с лесом.
* * *
– Ты не пьяный?
– Ни на вот столечко.
– Больше не пей.
– Слушаюсь, товарищ начальник.
Теплоход шел теперь посередине реки. Берега отодвинулись, лесные звуки исчезли, и был слышен лишь шорох воды. Нина перегнулась через борт. Семен Петрович проследил за ее взглядом. Отблески от прожектора освещали плывущие по реке листья.
– Осень скоро, – сказала Нина.
– Да, пойдут дожди. Теплоход ходить перестанет. Я буду приезжать к тебе домой. Наплевать…
– Он прислал мне записку. – Нина разглядывала плывущие за бортом листья.
Семен Петрович молчал. Казалось, и сейчас этот хлипкий парнишка со сжатыми кулаками стоит между ними. Рудаков погладил девушку по плечу:
– Не горюй…
– Я не горюю… Когда все известно заранее, не так страшно.
– Не надо об этом.
– Ты знаешь, что было в записке?
– Откуда же мне знать?
– Два рисунка без слов.
– Рисунки? – удивился Рудаков.
– Ну да. Два рисунка. Нота и кисть. Очень неумелые рисунки.
– Что значит «нота и кисть»?
– Это символы музыки и живописи.
Рудаков не знал, что сказать. Нина молчала.
– Зачем он так… сделал? – наконец спросил главный бухгалтер.
– Он хотел сказать, чтобы я не унывала. На свете всегда останется живопись и музыка. Он знал, что я пойму. Мы и раньше говорили на эту тему. Тогда еще… до тебя. Я немного с ним дружила. Ну не дружила, а так… ходили, разговаривали. Он считал, что история ничего не хранит вечно. Исчезают государства, храмы, рушатся горы, высыхают и образуются новые моря. И ничего нет вечного. Только немножко остается от человека. Это рисунок и музыка.
– Вот как… – Семен Петрович никогда не думал об этом. – Значит, все исчезнет, и останутся только картины и музыка? – Он недоверчиво покачал головой. – А книги, допустим? Книги тоже долго сохраняются, скульптуры…
– Да. Это правильно. Но все-таки дольше всего – рисунок и музыка. Он так считал. Например, наскальные рисунки, он говорил, будут существовать вечно. А музыка… Она была и до человека. Шум моря, шорох песка, движение ветра. Ведь это тоже музыка.
– Это он потому так говорил, – сказал Семен Петрович, – что сам сочинял и потому, что ты рисуешь.
– Да, может быть, и поэтому тоже. Но, по-моему, он прав. И только ради этого стоит жить.
– А если не умеешь рисовать и сочинять музыку? – спросил Семен Петрович. Ему показалось, что он задал очень сложный вопрос, поставил Нину в тупик и пожалел, что ввязался.
– Ну и что? Тогда надо смотреть на картины, которые нарисовали другие, и слушать музыку других.
Семен Петрович хотел замолчать, но не удержался.
– А когда же работать?
– Работать надо днем, а вечером наслаждаться искусством, размышлять. Так делали еще древние.
– Вечером – хозяйство, сад, огород… да и посидеть, отдохнуть надо, – возразил главный бухгалтер.
– Значит, ты зря живешь.
– Зря? – удивился Рудаков.
– Зря…
Главный бухгалтер усмехнулся.
– Эх, милая девочка… Кроме музыки, в жизни еще кое-чего хватает. Жизнь – борьба за существование. Слышала? Борьба каждый день. Или он тебя, или ты его.
– Кто «он»?
– Кто-нибудь. Найдется.
– Значит, мы рождаемся для того лишь, чтобы делать друг другу больно?
– Выходит, так.
– Но это же вопреки здравому смыслу! Есть, спать, драться, размножаться – как животные…
– Мы и есть животные. Только обличье надели человечье. А некоторые так даже и надевать его не хотят.
– А я вот не такая! Что ты на это скажешь? А если есть я, значит, есть и другие. И, значит, ты не прав.
– Ты еще ребенок.
– И Петя так считал…
– И Петя был ребенком.
Нина обиженно повернулась к нему спиной, засунула руки в карманы наброшенной куртки. Он насильно повернул ее к себе, пощекотал подбородком шею.
– Не дуйся. Тут ничего не поделаешь. У каждого своя правда.
Нина вся обмякла от его прикосновения. Она вообще любила, когда он до нее дотрагивался.
– Повторяй за мной, – сказала она капризно. – Повторяй за мной: да здравствует живопись и музыка!
– Да здравствует живопись и музыка…
– Громче!
– Да здравствует живопись и музыка!
– Еще громче!
– Да здравствует живопись и музыка!
Все, кто сидел рядом, посмотрели на них. До Семена Петровича донесся шепот бабки с кошелкой:
– Поднабрался уже… Ну, мужики…
– У Пещер кто сходит? – спросил громко матрос, хотя прекрасно знал, что сходят Семен Петрович и девушка.
– Сходим! Сходим! – сказал Рудаков, поднимаясь.
Матрос крикнул что-то капитану. Теплоход сбросил обороты и стал разворачиваться влево.
Нина подошла к борту, а Семен Петрович задержался у буфетчицы.
– Посошок? – спросила она, улыбаясь. Видно, Семен Петрович ей здорово нравился.
– Нет. Хватит. Просто попрощаться. Спасибо вам, Мартьяновна. До следующей пятницы.
– Не стоит благодарности… Следующий раз угощу вас бутылочным пивком. Обещали областное.
– Здорово.
– И батончик колбаски копченой приготовлю. Хотите?
– Не откажусь.
По всей видимости, буфетчице очень хотелось завести знакомство с понравившимся ей мужчиной покороче.
– А вы не могли бы достать японский зонтик? Женский? – вдруг спросил Семен Петрович.
– Зонтик? – буфетчица задумалась. – Для дочки? – она кивнула в сторону Нины. – Или для жены? – женщина хитро прищурилась.
– Для дочки…
– Ну и молодежь, – вздохнула буфетчица. – Все им заграничное подавай. Ладно, попробую…
– Вот спасибо вам, Мартьяновна.
– Спасибо потом скажете.
– Деньги сейчас?
– Найду. В пятницу расплатитесь.
Она первой протянула Семену Петровичу руку. Он крепко пожал ее.
У хутора Пещеры пристани не было, но меловый берег обрывался отвесно в реку, и на специально вырубленную в скале площадку можно было бросить доску, если не шла сильная волна.
Волны не было, и Семен Петрович благополучно сошел с Ниной на берег.
Теплоход сразу ушел, и его огоньки затерялись среди звезд, только луч прожектора еще был виден – издали он походил на отблеск луны на реке; потом исчез и он.
Они остались совсем одни. Хутор чернел высоко на горе, там не светилось ни единого огонька, оттуда не доносилось ни звука. Шорох волн, разбивавшихся внизу о меловую скалу, тихая возня ветра в траве, далекий-далекий гул самолета – больше ничего не было слышно.
– Вот мы и одни наконец…
Нина наклонила голову Семена Петровича, потерлась нежной щекой о его колючую щеку, потом нашла губы своими губами.
– Я столько ждала… Целую неделю… Единственное, что есть… Ты такой горячий, даже через плащ…
– А ты вся дрожишь.
– Это от реки. Пойдем скорее в наш дом.
– Пойдем.
Главный бухгалтер поднял свой рюкзак, взял из рук Нины сумку.
Они пошли по тропинке вверх – Рудаков впереди, Нина сзади. В крутых местах он подавал ей руку. Тропинка была каменистой, щедро посыпана меловой пылью. Скоро их ноги по щиколотку испачкались мелом, и они стали похожи на средневековых вельмож в белых чулках.
Нина поднималась с трудом, часто останавливалась и, чтобы скрыть это, говорила:
– Посмотри, как красиво…
Рудаков останавливался и послушно смотрел вниз, хотя ничего не было видно, только темный лес, пронизанный светлой лентой реки, и огромная чаша неба, вся в голубых дырочках.
– Ты держись за меня.
– Вот еще! Что я, немощная старуха?
Вскоре тропинка перестала подниматься, пошла параллельно берегу, потом немного спустилась и вильнула в небольшую ложбинку, заросшую кустарником и густой зеленой травой. Ложбина была круглой, вдавливалась в гору, и ее невозможно было заметить ни с какой стороны, кроме как с реки, но и с реки ложбина не казалась тем, чем она была. С реки она походила на группу кустов, прилепившихся на неприступной скале.
Сюда никто не приходил. За все время их ни разу не побеспокоили. Если бы на хуторе были мальчишки, они обязательно бегали бы сюда, но мальчишек на хуторе не было. Раньше они, конечно, были, иначе откуда бы взялась тропинка, но потом, видно, выросли, новые не появились, а тропинка осталась. Тропинки живут дольше людей. Может быть, она осталась еще с тех пор, когда здесь рыли Пещеры?
Семен Петрович раздвинул кусты и пропустил Нину вперед. Они очутились на ровной площадке. Площадка была из мела, кое-где поросла мелкой травой и очень напоминала заброшенный дворик, сквозь каменные плиты которого пробивалась трава. Одной стороной площадка упиралась в гору, и там высилась огромная, до самого неба, голая отвесная стена. Две стороны были положе, густо заросли кустарником, высокой травой и мелкими деревьями, но, по мере того как они переходили в гору, растительность становилась мельче и жиже, пока на горе не исчезала вовсе, разве что оставалась низкая травка, издали похожая на пятна лишайника. Четвертая сторона, огороженная невысоким терновником, словно забором, выходила на реку; она почти отвесно падала к воде, но сбоку имела незаметный скос, по которому вниз сбегала еще более незаметная белая тропинка; по этой тропинке можно было за две минуты очутиться возле воды.
Семен Петрович достал из рюкзака и включил фонарик. Яркий луч обежал площадку, метнулся на склоны, задержался на траве под деревьями.
– Никого, – сказал Рудаков. – И не было…
– А вдруг были?
– Нет… Если бы были, разожгли костер. Не удержались бы. Турист без костра не турист.
Они очень боялись туристов. Но пока никто не пронюхал про их убежище.
– И родник цел, – прошептала Нина.
Они прислушались. Из кустов слева донеслись веселый лепет родника и его радостные прыжки по камням.
– Конечно. Куда он денется?
– Когда нас нет, он исчезает, – убежденно сказала Нина. – А когда мы приходим, он прибегает. Слышишь, как радуется? Ах, малыш глупый…
Нина торопливо ушла к роднику. Рудаков слышал, как она пила из ладоней. Когда она вернулась, он взял ее руки в свои. Ладони горели, словно обожженные огнем.
– Зачем ты… Я бы дал тебе кружку.
– Надо руками… Послушай, Сеня, мне кажется, что это ребенок… Наш ребенок…
Она уже не раз так говорила.
– Ты сама ребенок…
Ему не нравился ее голос, когда она говорила про ребенка.
Родник давал жизнь всей этой ложбинке. Остатки его стекали по отвесной скале в реку широкой мокрой полосой, но только в пасмурный день родник достигал реки; когда было солнце, он высыхал где-то посредине скалы. В жаркий день Нина жалела родник: «Бедненький, умер, не дотянулся до мамы». В хмурую же погоду она радовалась и хлопала в ладоши: «Ура! Они вместе!» Нина, наверно, поэтому любила пасмурные дни, хотя нельзя было загорать и купаться.
Семен Петрович взял вещи и пошел к скале. У основания скалы росли невысокие кусты терновника. Рудаков протиснулся сквозь них, положил рюкзак и сумку на землю и с трудом отодвинул в сторону прислоненный к скале широкий плоский камень. Открылся узкий черный ход.
– Нинок, ну где ты там?
– Иду, иду…
Рудаков посветил в ход.
– Тоже никто не был? – спросила девушка, подбегая.
– Нет… Плиту не трогали.
– А изнутри?
– Чтобы попасть сюда изнутри, надо сначала войти в Черное море.
– Ты думаешь, они тянутся до моря?
– Вполне может быть.
Семен Петрович первым влез в ход и посветил Нине. Они очутились в небольшой уютной пещере. Пол пещеры застилали высохшая трава и листья; в углу из камня, на который были набросаны мелкие ветки и сухое сено, было сооружено широкое ложе. Ложе аккуратно застилало старенькое одеяло, наполовину прикрывавшее подушки в розовых наволочках. Возле этой кровати лежал тоже старенький коврик и две пары тапочек: мужские и женские.
Пещера была обжита. В противоположном углу стояли грубо сколоченные стол и две табуретки, над ними полка с посудой, портативная газовая плитка. Стена этой своеобразной кухни на высоту человеческого роста была выкрашена голубой масляной краской.

Над столом даже висела картина: на вставленном в рамку полотне был изображен пляж на берегу речки с высоты птичьего полета. Безбрежные, уходящие за горизонт просторы: луга, перелески, извивающаяся река и лишь два человека лежат на пляже – мужчина и женщина. От огромной скалы к ним тянется тень. Еще немного, и эта тень уничтожит солнечную полоску пляжа, накроет мужчину и женщину и уйдет дальше в светлые просторы делать свое черное дело. За скалой, словно дожидаясь сигнала, прятались сумерки. По картине можно было определить время – где-то около семи вечера.
Эту картину нарисовала Нина с натуры, со скалы. Рудаков лежал на пляже, а она рисовала, взобравшись на самую вершину.
Картина не нравилась Рудакову. Была в ней какая-то безнадежность. Было жалко эти светлые просторы, которые скоро исчезнут, накрытые тенью от скалы и прячущимися за спиной скалы сумерками. Хотелось, чтобы эти двое на пляже убежали подальше от реки, от подкрадывающейся к ним черноты. Но они лежали, доверчиво сдвинув друг к другу головы, видно, увлеченные разговором, и не видели опасности. Впрочем, куда бежать? Вскоре вся долина покроется мраком. Эти двое, наверно, понимали, что бежать поздно, бессмысленно, зачем тратить драгоценные минуты в панической суете бега, лучше насладиться оставшимся на их долю солнцем. И они лежали, доверчиво сблизив тела, в их позах не было страха, но и не чувствовалось полного счастья. Казалось, мужчина и женщина постоянно помнили, что черная тень всего лишь в нескольких метрах от них, и они спешили. Спешили закончить разговор, спешили вобрать кожей как можно больше солнца, спешили насмотреться друг на друга – точка, откуда зритель смотрел на мужчину и женщину, находилась очень высоко над землей, и нельзя было рассмотреть лежащих во всех подробностях, но все же очевидно было, что мужчина слегка приподнялся и пристально смотрит на женщину.
– Тебе нравится? – спрашивала часто Нина, смотря на картину, когда они сидели за столом.
– Хорошо передан простор, – уклончиво отвечал Семен Петрович. – Но лучше, если бы было утро.
Нина качала головой.
– Утром все пропадет. В картине не станет смысла.
– А сейчас… Сейчас она какая-то очень грустная, – говорил главный бухгалтер. – Я вообще не люблю вечер.
– Я специально сделала вечер. Вечер всегда полон мудрости и смысла.
– Зато утро – надежда.
– Бессмысленная надежда.
– Все равно надежда. Надежда и не должна иметь никакого смысла. Просто надежда, и все. Утром, если пораньше встанешь, всегда кажется, что тебя ждет что-то хорошее.
– А потом оказывается, что ничего хорошего нет.
– Ну и что? Зато прожил день с верой. А вечер – это конец. Конец всему: и делам и надежде…
Нина не соглашалась.
– Не конец, а венец. Итог. Информация к размышлению. Да, согласна, это не так приятно, как надежда, но мы ведь и не должны стремиться все время к приятному. Тогда мы просто выродимся. Утро говорит: «Все впереди», вечер отвечает: «Впереди больше ничего нет. Подумай о том, что было». Утро – это радостный крик, вечер – это мудрое молчание. Мне утро напоминает ребенка, эгоистичного, глупого, капризного, самовлюбленного, который кричит: «Дай каши! Хочу шоколада! Пойдем в кино!» А вечер похож на старика. «Возьмите у меня все, оставьте меня в покое, дайте посидеть, подумать».
Семен Петрович обычно не спорил дальше. Ему не нравилась не только сама картина, но и разговор о ней. Не нравилась ему еще и одна деталь в картине, которая почему-то раздражала его, хотя, может быть, художница и не думала делать это специально.
Была большая разница в позах мужчины и женщины. Женщина лежала на песке спокойно, покорно, она вся отдалась солнцу, покою, разговору с любимым человеком, ее не очень беспокоила приближающаяся тень, а если и беспокоила, то она сумела подавить в себе это беспокойство, глубоко загнать его внутрь себя; она старалась отвлечь от тени и внимание мужчины, замкнуть его внимание на себе, увлечь разговором.
Мужчина, хотя и придвинулся к женщине и приподнялся, глядя ей в глаза, но поза его была напряженной, тревожной. Создавалось такое впечатление, что мужчина слушает женщину, а все его внимание направлено на подкрадывающуюся тень. В любой момент человек может не выдержать и убежать на залитый солнцем луг, бросив женщину одну на берегу реки.
Вот какое впечатление было у Рудакова о картине, и поэтому он не любил и даже боялся картину.
Семен Петрович положил фонарик на кухонную полку, направив его луч в потолок. В пещере наступил приятный полумрак. И вообще она мало напоминала пещеру. Прямо жилая комната. Пахло сеном, сухими цветами, дымком, кухней. Главный бухгалтер как-то взял два дня без содержания посередине недели, выписал на заводе вязанку досок, приехал сюда, сколотил мебель, соорудил кровать, покрасил стену, натаскал травы и веток… Нина ахнула, когда вошла, потом долго обнимала Семена Петровича и плакала:
– Это наш дом… Наконец-то у нас есть свой дом… Я так мечтала…
Здесь им была не страшна любая непогода. Они забирались под одеяло на мягкую, источавшую медовый запах кровать; молчали, разговаривали, слушали музыку, льющуюся из поставленного в ногах транзисторного приемника. Впрочем, дожди бывали редко, лето стояло на редкость сухое и жаркое, и они почти все время проводили на реке, приходили сюда только ночевать.
* * *
Рудаков разложил на полке и столе принесенные продукты: хлеб, овощи, банки консервов, колбасу, сало, яйца, сырую курицу. «Ужас! – всегда удивлялась Нина. – Здесь же на целый санаторий!» – она всегда еду соизмеряла с порциями в своем санатории. Поставил бутылки с водкой, пивом, ситро, кефиром – Нина любила кефир, санаторная привычка.
Опустошив рюкзак, главный бухгалтер бросил его в угол, подошел к отверстию в дальнем конце «комнаты». Это был вход в Дивные пещеры. Рудаков потрогал решетку, прислушался. Из глубин Пещер веяло вечным молчанием, тянуло сыростью и холодом, даже не сыростью и холодом, а каким-то специфическим воздухом, в котором было и спокойствие, и мудрость, и смерть, и насмешка над человеком – жалким комочком из мяса, костей и крови, все суетящимся, кривляющимся перед лицом Вечности. Нина боялась этого хода, и Рудаков принес несколько железных прутьев, цемента и забрал отверстие решеткой, будто тюремной. Но все равно ход как-то странно волновал Нину. Ей казалось, что кто-то стоит там и делает ей знаки, словно просит впустить или манит с собой.
– Там Старик, – говорила она серьезно. – Он хочет меня увидеть.
– Он слишком стар для тебя, – шутил Рудаков.
Но Нина пропускала его шутку мимо ушей.
– Он мудр. Он все знает. Он хочет научить меня не бояться смерти. Я очень боюсь и не знаю, как себя держать… Чтобы достойно… Смерть – это ведь очень интимно, а тут будут стоять, смотреть, ахать, сочувствовать. А потом какая-то старуха начнет снимать одежду, лапать твое тело… Потом надо лежать среди запаха водки и жареного мяса, слушать дурацкие пьяные разговоры…
– Слушать-то не придется, – опять мрачно пошутил Семен Петрович.
– Все равно противно… Потом потащат на это мерзкое старое кладбище, где лежат старики и старухи еще с семнадцатого века. Представляешь, лежать среди стариков семнадцатого века!
– Старина сейчас в моде.
– Как ты пошло шутишь.
– Извини. Но что поделаешь? Крематория у нас нет. Впрочем, ты еще будешь жить сто лет и, возможно, дождешься крематория, а вот мне придется лежать рядом с какой-нибудь графиней. Аристократическое знакомство.
– Я, знаешь, как хотела бы умирать? Одна. Совсем одна.
– Не дадут.
– В том-то и дело… Но я бы хотела. И чтобы потом никто не прикасался… Ведь на кладбище все равно побеспокоят. Начнут что-нибудь строить. Хорошо, если не найдут и соорудят над тобой пивной ларек, а если зацепят экскаватором? Отвезут ведь с землей на свалку.
– Вполне может быть, – согласился главный бухгалтер.
– Вот… Поэтому я и хочу лежать в таком месте, чтобы меня не тронули века.
– Такого места нет.
– Есть.
– Где же оно?
– Пещеры.
– Да. В Пещерах можно лежать хоть сколько… Это точно… Только ведь скучно. То ли дело на кладбище. То корова пройдет, то парочка целоваться начнет.
– Я скуки не боюсь… Идти день или два, пока хватит сил, а потом лечь на камни… Надо только точно определить, когда… Чтобы долго не идти…
– Тебе еще рано думать о смерти. Пусть Старик научит меня. Только я его сам научу.
– Ты должен жить до ста лет.
– Зачем?
– Чтобы хоть кто-то помнил обо мне. Это так страшно, когда человек ушел из жизни, а его никто не помнит. Никто, никто. Получается так, что вроде бы он и не жил, никогда не рождался. У меня никого нет, кроме тебя. Будешь жить ты – буду жить я. Так что в моих интересах, чтобы ты дожил до ста лет. Видишь, какая я эгоистка?
– Что ты сегодня все время говоришь о смерти? Ты молодая, ты переживешь меня. А может быть, мы умрем вместе. Так даже будет лучше.
– Нет, ты не умрешь. Ты дуб, могучий дуб. За это я тебя и полюбила. Стою на танцах, хворая, малокровная, еле на ногах держусь, и вдруг появляется дуб. Здоровенный, краснощекий дубище. Могучий, уверенный в себе дуб.
– Я так трусил тогда…
– Не заметила. По-моему, ты вел себя даже нахально. Ну я и влюбилась сразу в тебя. Я еще никогда не встречала таких здоровяков-боровиков. Ну, может быть, не совсем влюбилась. Это уж потом… Я тогда подумала: дотронусь до этого дуба, прижмусь к нему, и часть его силы ко мне перейдет. Я так загадала… Я в детстве немного ворожила… Меня бабушка научила. Только у меня ничего не получалось. Даже наоборот. Что загадывала – все наоборот выходило. Пророчила себе большую судьбу, мечтала стать великой художницей, а стала лаборанткой на элеваторе. Колдовала себе здоровье, а наколдовала болезнь. Но с тобой вроде бы получилось. Я ведь тебя присушила?
– Присушила…
– И силы немного от тебя взяла?
– Взяла.
– И еще я, знаешь, насчет чего колдовала?
– Насчет чего?
– Насчет ребенка… Сразу же… Как только мы танцевали первый танец… Я смотрела на тебя и колдовала, колдовала, колдовала… Мне так хотелось, чтобы после меня остался сын, похожий на тебя: здоровый, крепкий, уверенный, чтобы он не боялся ничего, ни одной болезни. Знаешь, сколько всего болезней?
– Нет.
– Двадцать пять тысяч. И всех я боялась. Потому что если есть одна болезнь, то боишься и остальных. Теперь, конечно, я не боюсь. И сына уже не хочу… Слишком поздно… Жаль только, что я не успела почувствовать, что это такое – быть матерью… Ну хоть любовницей побыла, и на том спасибо.
– На следующее лето мы поедем с тобой в Крым. В Крыму самый лучший в мире климат. Он любых больных излечивает. Я один раз был в Крыму. Полгода позвоночник болел – ни сесть, ни лечь, а там как рукой сняло… Мы купим себе домик в Крыму. Пусть даже не на берегу моря. Там везде автобусы ходят. Сел – и через час у моря. Я тебя в школу художественную устрою – наверняка там есть художественные школы. И ты начнешь учиться и станешь великой художницей. А я поступлю на работу в виноградный совхоз и каждый день буду приносить тебе виноград, пока не вырастет свой. У нас будет и огород, и дворик с виноградом… Там я тебе поставлю раскладушку – загорай, ешь виноград, рисуй… А по воскресеньям мы будем путешествовать. На теплоходе. И в Сочи съездим, и в Одессу. А когда появится сын, мы втроем везде станем ездить. И твоя болезнь пройдет.
Нина слушала не перебивая. Рудаков чувствовал в темноте, какое внимательное у нее лицо. О чем она думала? Может быть, мчалась на автобусе по жарким крымским дорогам к морю, бережно прижимая к себе ребенка? Или, сидя в садике под виноградными лозами, рисовала картину, которая потрясет всех? Или, стоя на палубе белого теплохода, вглядывалась в приближающуюся солнечную Одессу?
– Сеня, – послышался нерешительный голос. – Я давно хотела тебе сказать, да боялась… Но ведь когда-то надо…
– Что ты хотела сказать? Говори.
– Сеня, я ведь не верю, что твоя жена ушла.
Наступило молчание. Нина затаилась как мышь, даже не было слышно ее дыхания.
– Я же тебе рассказывал… Она как-то догадалась о наших отношениях… И ушла. Она была очень гордым человеком и любила меня. Она не хотела мешать мне.
– Я не верю, Сеня…
– Что ж, дело твое…
– Она не могла уйти из-за этого. Она бы боролась за тебя. Так сделала бы я и любая другая женщина. Ты хороший, Сеня. За тебя стоило бороться. Она скорее нашла бы меня и набила бы мне морду или поговорила по-бабьи, с глазу на глаз, или пожаловалась в местком.
– Она была гордая. Ты не представляешь, какая она была гордая. И она очень любила меня.
– А кровь на скобе? – выдохнула Нина. – Откуда взялась кровь на скобе?
– Выдумки. Бабья болтовня. – Рудаков повысил голос. – Какая-то баба слышала звон, да не знает, где он. Когда-то давно я чистил на скобе ноги, башмак был рваный, и я поранил палец. Вот откуда могла быть. Поняла? И группа совпала. Совпала. И башмак тот нашли.
– Почему же они тогда копают?
– Дураки, вот и копают. Делать им нечего. Хотят показать видимость работы.
Они опять замолчали.
– И все-таки я не верю, Сеня, – прошептала Нина. – И поэтому я никогда не войду в твой дом.
Семен Петрович нащупал руку Нины, сжал ее. Она не ответила на пожатие.
– Ну хорошо, – сказал он. – Я расскажу, как было дело. Мы красили крышу… Можешь спросить у соседей… Они подтвердят, что мы действительно красили крышу… Дело было рано утром… после дождика. Крыша была скользкой… Она заскользила и протянула мне руку… Я тоже протянул, но не успел… Она упала и ударилась боком о скобу… Пока я спустился, ее уже не было во дворе. Я подумал, что она пошла в больницу сделать укол или еще что, ждал, а она так и не пришла. Куда-то уехала… Я потом догадался, почему она уехала. Она подумала, что я не подал ей руки нарочно, желал ей смерти… Она уже тогда знала… о наших с тобой отношениях… И ушла… От обиды… Я уверен, она уехала в деревню. Есть у нее какие-то родственники. Когда-то она говорила, да я не придал значения. Видишь ли, у нее был комплекс. Она считала, что невольно загубила мою жизнь. Ей казалось, что я способен на большее, чем всю жизнь проработать бухгалтером в этом городишке. Но я, дескать, связался с домом, садом, с обыкновенной бабой, и это погубило меня. Как-то она мне сказала, что если бы можно было начать жить сначала, то она не вышла бы за меня замуж, чтобы я не остался в Петровске, а уехал в большой город и там выбился бы в люди. А она продала бы дом и ушла бы с геологами путешествовать. Жена нигде не была, и ей очень хотелось поездить по миру. Она любила смотреть «Клуб кинопутешествий». Когда она догадалась, что у меня появилась женщина, то замкнулась в себе и все время о чем-то думала. Наверно, она уже тогда задумала уехать. Ну а потом… когда ей показалось, что я специально не подал ей руки, она ушла сразу. Из гордости, из самолюбия. И чтобы помучить меня. Но я уверен, скоро все это разъяснится.
– Ты говорил все это… там?
– Нет. Я не хочу, чтобы ее нашли. Пусть и у нее и у меня начнется новая жизнь. Если уж так получилось. Но я, честно, протянул ей руку. Протянул, но не успел. Ты мне веришь?
– Верю. Давай спать.
Нина отвернулась к стене. Он долго прислушивался, надеясь услышать ее обычное сонное посапывание, но посапывания не было. Девушка не спала. И Рудаков тоже не спал. Ему не нравился тон, которым было произнесено слово «верю».
* * *
Они назвали эту бухточку бухтой Радости. Маленькая, закрытая с трех сторон скалами, всегда тихая – ветер почти никогда не дул со стороны реки, – она была вся усыпана мелким чистым песком и пронизана солнцем с самого раннего утра.
Бухта Радости была двенадцать шагов в длину и семь в ширину. К полудню она превращалась в раскаленную духовку, и Рудаков с Ниной, бросив здесь все вещи, переплывали на тот берег, на безбрежный, тянущийся на много километров пляж, где всегда гулял ветерок, прохладный от реки и близкого тенистого грибного леса, полного небольших круглых озер и родников.
Пока шли, Нина замерзла от утренней свежести, ее ноги в босоножках и капроновых носках промокли, но в бухточке уже было тепло, песок высох и нагрелся, и они сразу сняли с себя влажную обувь, одежду и остались в купальниках.
Солнце еще совсем низко висело над лугом и громадным пляжем… Тени от леса скользили по траве на лугу, темная пелена набегала на желтый пляж, пересекала его, стекала в воду и уносилась течением. До них не долетала ни одна, даже маленькая, тень, только иногда от игравших волн падали на песок, чередуясь, темные и светлые пятна. Они легли рядом на теплый песок и стали слушать.
Наверху шуршала под ветром трава. Подсыхала скала, шелушилась, тонкие ручейки мела стекали к основанию и застывали крошечными холмиками, образуя миниатюрную пустыню.
Далеко-далеко, так далеко, что звук казался естественным, издававшимся рекой, лугом, лесом, гудел теплоход. Наверно, капитан приветствовал свою возлюбленную, открывшую ларек чуть свет, чтобы угостить его пивом.
Потрескивал, нагреваясь, под ухом песок.
Молчало небо. Еще заспанное, хмурое, но уже начавшее постепенно голубеть, обещая длинный, жаркий, простроченный песнями кузнечиков день.
Ласково, притворясь безобидной, обтекала скалу вода.
Возились высоко наверху обрадованные, что кончилась длинная холодная ночь, обсохшие на солнце птахи.
– Ты все слышишь? – спросила Нина.
– Да, – ответил Рудаков.
– И песок?
– Да. И песок.
– И теплоход?
– И теплоход.
– А небо?
– Небо молчит.
– Неправда. Прислушайся. Только надо закрыть глаза.
Рудаков послушно закрыл глаза,
– Все равно молчит.
– Значит, ты еще слишком молод, – тихо засмеялась Нина. – Или огрубел душой. Небо разговаривает звуками детства. Вот голос мамы… Скрип калитки… Смех подружки… У меня была только одна подружка Тоня… Она потом уехала… А вот я плачу: у меня собака растерзала куклу… Такое горе… Мне тогда казалось, что сильнее горя на свете не бывает… А вот танцы в парке… Вальс… А меня так никто и не пригласил… Ты когда-нибудь в детстве лежал на спине и смотрел в небо?
– Да.
– Тогда там были звуки будущего… Какие-то необыкновенные голоса, чудесная музыка, шепот влюбленного в тебя человека. И еще что-то прекрасное, загадочное. А сейчас, наоборот, небо отдает те звуки, которые вобрало в себя в детстве. И оказывается, что тогда все было чудесно и необыкновенно, а сейчас… Сейчас… Дай мне водки.
– Тебе же нельзя, – растерянно сказал Рудаков. За все время их встреч Нина ни разу даже не пригубила спиртного.
– Сегодня можно. Сегодня все можно.
Главный бухгалтер полез в сумку, достал бутылку, стакан.
– Я из горлышка.
– Ну и ну…
Девушка хлебнула водки, закашлялась.
– Вот… а теперь дай сигарету.
– Ну уж это… ни в коем случае.
– Давай, давай. Кутить так кутить. Я приказываю.
Семен Петрович нехотя протянул ей сигарету, зажег, закурил сам.
– Только чуть-чуть.
– Ладно, ладно, не учи.
Нина курила, лежа на спине с закрытыми глазами.
– Как хорошо… А я и не знала…
– Это только вначале… Потом все значительно хуже.
– Ну вот. Мир перевернулся. Теперь ты меня воспитываешь. Рудаков, тебе нравится здесь? Как славно…
– Да. Мне очень нравится здесь.
– Тихо, тепло, одиноко.
– Да.
– Можно сколько хочешь крутить любовь с женщинами. Ты ведь будешь приводить сюда женщин, а, Рудаков?
– Зачем мне женщины? Ты одна у меня.
– А после меня? Чего молчишь? Знаю, будешь. Мне бы не хотелось…
– Я не буду сюда никого приводить, – сказал Семен Петрович.
Нина с шумом выпустила дым.
– Не верю, Рудаков. Вы, мужики, такие. Сегодня одна – завтра другая. Но я сейчас сделаю так, что ты больше ни с кем здесь не будешь крутить любовь. Дай-ка мне нож. Давай, давай, не бойся, я тебя убивать не стану.
Главный бухгалтер вытащил из сумки широкий острый резак и протянул его девушке. Нина встала и, не вынимая сигареты изо рта, подошла к скале.
– Принеси мне камней.
Рудаков послушно принес несколько легких меловых камней.
– Поставь друг на друга… Так. А теперь иди отсюда и не смотри. Можешь поспать.
Семен Петрович отошел к реке, лег на песок и незаметно для себя заснул. Ему снился удивительный сон. Будто он совсем маленький и мчит на велосипеде с никелированными ободами по цветущей, усеянной крохотными алыми маками земле. А отец, молодой, красивый, смотрит, улыбаясь, ему вслед и кричит:
– Объезжай маки! Не топчи цветы!
И он лавирует между маленькими алыми кострами, но их так много, что все-таки он их давит и давит, и вот уже синие шины велосипеда стали красными и сок маков брызжет в стороны, как кровь…
– Рудаков! Эй! Сеня!
Семен Петрович проснулся и немного полежал, удивляясь сну. Никогда ему не снился отец. Он умер еще до войны, и Семен Петрович не помнил ни его лица, ни голоса, ни фигуры, а тут вдруг так явственно, так четко, словно кто-то во сне прокрутил ему пленку. И про велосипед с никелированными ободами Рудаков не помнил. И про маки. Но сейчас он мог с уверенностью сказать: все это было – и молодой смеющийся отец, и легкий послушный велосипед, и маки…
– Рудаков! Проснись! Вот разоспался!
Семен Петрович поднялся на колени и невольно протер глаза от удивления. На скале перед ним красовался его портрет, а сбоку портрет Нины с развевающимися волосами. Портреты были в профиль.
– Похоже?
– Очень… – пробормотал Рудаков.
– Ну вот… Теперь ты не приведешь сюда никакую мадам. А если приведешь, она тебе истерику устроит… Можно, конечно, еще для верности написать внизу «Семен Петрович + Нина = любовь», но, по-моему, и так достаточно.
– Да, не стоит портить рисунок, – согласился главный бухгалтер. – Здорово получилось. У тебя настоящий талант.
– Улика… Ха-ха-ха! Теперь никуда не денешься. – Нина нервно рассмеялась. – Не будешь же ты соскабливать. Это глупо и жестоко… – Вдруг Нина побледнела и опустилась к подножию скалы, выронив нож.
Семен Петрович подбежал к ней, взял за руку.
– Нинок, что случилось?
Пульс был медленный, неровный.
– Ничего… так… голова закружилась.
– Говорил же… Тебе нельзя ни пить, ни курить…
– Пить и курить – здоровью вредить… – Девушка попыталась улыбнуться, но получилась лишь болезненная гримаса.
– Я тебя отнесу к воде… Там больше воздуха.
Рудаков взял девушку на руки – она была совсем легкая, прижалась к нему и закрыла глаза – и отнес ее к месту, где они лежали раньше.
Почти сразу же Нине стало лучше. Она улыбнулась:
– Очередной звонок… Что-то они стали часто звонить в последнее время.
– Уже было… так?
– Вчера на работе… Вот переполошились все. Одна даже предположила, что я беременная. Может, и вправду я беременная? А, Рудаков? Как ты считаешь?
– Больше я не дам тебе ни капли. И про сигареты забудь.
– Ух, какой строгий папочка… Сейчас отлежусь… Я живучая… Все бабы живучие как кошки. Слушай, Рудаков, когда будет последний звонок, не вздумай тащиться ко мне домой и выспрашивать, как, где да что. Понял? Ты лучше сюда приезжай и помяни здесь меня. Понял? Вот тут, на этом месте, под нашими портретами, а стакан выбрось в речку. Чтобы больше никто из него не пил. Обещаешь?
– Выкинь все это из головы
– Обещаешь?
– Вот привязалась… Ну, обещаю… Если тебе так хочется.
Нина откинула голову на песок.
– Это я так… между прочим. А сейчас давай купаться. Вода должна быть теплой.
– Подождем, пока еще прогреется.
– Ты один искупайся. Мне хочется посмотреть, как ты плаваешь. Ты похож на атомный ледокол, когда плаваешь. Вода выходит из берегов, рыбы ложатся на дно, а русалки вылазят из своих нор…
– Разве они живут в норах?
– Конечно. Ты не знал? Они живут в норах, как раки. И как увидят приличного мужика, так стараются его зацапать. Будь осторожен.
– Хоть бы одну выманить из норы.
Рудаков подошел к кромке воды, сделал несколько упражнений и вдруг, не оглянувшись, резко бросился в воду.
Он знал, что девушка смотрит на него.
Семен Петрович хорошо плавал. Вода была теплой, так всегда бывает после жаркого дня и холодной ночи, когда туман окутывает реку, словно пуховым одеялом.
Течение быстро понесло Рудакова. Нина встала и смотрела на него. Семен Петрович помахал ей рукой. Она сделала ответное движение.
Чуть дальше за скалой была заросшая камышом болотистая низинка. Потом опять начинался крутой берег, и вылезти можно было только здесь. Семен Петрович направился к низинке, прошел по вязкому илу, раздвинул камыши. В болотце цвели кувшинки и лилии, и он всегда набирал здесь Нине букет, но сейчас цветов не было: то ли кто сорвал, то ли было уже слишком поздно. Только одна лилия, уже отцветшая, пожелтевшая по краям, плавала посередине болотца. Не хотелось лезть из-за нее в вязкую, заросшую ряской жижу, но Рудаков все же слазил и сорвал лилию. Затем он обмылся в реке и присел на большую сухую кочку обсохнуть.
Солнце уже припекало вовсю. Сегодня должен быть по-настоящему жаркий день. Как это здорово… Длинный, длинный жаркий день… Есть ли еще что-нибудь более прекрасное, чем длинный жаркий день в средней русской полосе? День, медленно текущий, словно река, окаймленная плакучими ивами, нежными наивными березками, надменными, самоуверенными елями, круглыми студеными озерами, мятными лугами… И над всем этим небо с разбросанными по нему редкими голубиными перьями; бездонное голубое небо… Небо, наполненное звуками детства?
Рудаков лег на спину, вытянул ноги в мягкую мокрую траву болотца, закрыл глаза и стал слушать небо. Небо молчало. Неужели права Нина, он слишком стар и огрубел душой? С самого детства он не слушал небо, а сегодня вот уже второй раз…
И вдруг он опять услышал голос отца, которого он не помнил. На этот раз отец говорил что-то взволнованно, горячо, и взволнованно и горячо отвечала ему мать. Рудаков не мог разобрать слов, он только понимал, что они говорят о нем, о своем сыне. Семен Петрович пытался проникнуть в смысл разговора и не мог. Потом голос отца затих, замер, растаял в небе, и послышался страшный, отчаянный крик матери. И этот крик, как и голос отца, Рудаков никогда до этого не вспоминал и не видел во сне.
Что это было? Никогда не дано узнать… Семен Петрович только знал, что это относится к нему… К его жизни. Может быть, это было предсмертное завещание отца? Какое? О чем? Каким отец хотел видеть его, своего сына?
Рудаков открыл глаза и встал. Ему не нравилась эта игра – слушать небо. Она тревожила душу. Нельзя безнаказанно заглядывать в детство. Да и зачем вспоминать Утро, когда уже скоро Вечер?
Семен Петрович с лилией в руке побрел по дорожке к бухте Радости, стараясь вытравить из головы неприятные звуки, особенно крик матери.
Тропинка вышла из болота, согрелась. По щиколоткам захлестала полынь. По мере того как Рудаков поднимался на скалу, полынь становилась меньше, чахлее, между кустиками залегла белая пыль.
* * *
Остаток дня они провели в лугах. Нине захотелось собрать букет полевых цветов. Они переплыли реку, немного полежали на огромном пустом горячем пляже обсыхая, потом отряхнули друг другу спины от песка и пошли прямо по нескошенной траве к синеющему вдали лесу. Трава была мягкой, шелковистой, ноги скользили по ней, словно по натертому мастикой полу. В низинках трава закрывала их с головой. Один раз они даже потеряли друг друга.
Под старой ветлой – первым форпостом близкого уже леса – они отдыхали. Уже близок был вечер. У травы появились тени, словно она загустела; движения стеблей стали трудными, вязкими. Фигурная тень от ветлы выползла из полянки и стала принюхиваться, присматриваться к лесу, словно животное, почуявшее родное стадо. И лес тоже насторожился, стал серьезнее, строже, но, конечно, не от тянущейся к нему тени ветлы, а от предчувствия ночи, тревожных, трудных снов, еще оставшихся от тех времен, когда он был папоротником и видел кошмары: бродивших внизу чудовищ, небо, расколотое зигзагами молний, океан, коварно таящийся за поворотом…
Со стороны леса уже начало пахнуть вечером: сырым туманом и растревоженным родниками болотом. На опушках стала сгущаться синева.
– Уже поздно идти в лес, – сказал Семен Петрович. – Надо до захода солнца успеть переплыть реку обратно Да и плохо там сейчас. В лесу хорошо только утром…
– У меня красивое тело? – спросила Нина.
– Да…
– Я немного худая, но у меня все пропорционально, правда?
– Да, все пропорционально.
– А грудь, как у девочки.
– Ты и есть девочка.
Она лежала на копне травы, которую нарвал Семен Петрович, под голову она положила собранный большой букет цветов, и ее зеленые глаза терялись среди разноцветья. Рудаков сидел рядом, курил, стараясь пускать дым в сторону.
– Если бы нас сейчас нарисовать – получилась бы хорошая картина. Необычная, много цвета. Как у импрессионистов. Но выставить ее нельзя.
– Почему?
– Я стыжусь своего тела… Правда, глупо? Мне кажется, что быть женщиной стыдно. Мне кажется, что в женском теле есть что-то вызывающее, порочное… Как это лучше выразить… Женское тело – это грех. Вот.
– Женское тело – это самое совершенное, что создала природа.
– Я знаю. Но все-таки мне так кажется.
– Ты еще не женщина, поэтому так считаешь. У тебя тело женщины, но ты девочка. Потом ты будешь гордиться своим телом.
– Я уже горжусь… немножко… Только ты не смотри на меня.
– Я не смотрю…
– Если бы полгода назад мне сказали… Что я вот так буду в траве… перед мужчиной… я бы страшно рассердилась… Лучше умереть… Но в траве как-то не так стыдно, среди цветов… Ведь они тоже раздетые.
– Кто? – не понял Рудаков.
– Цветы.
– Цветы – раздетые?
– Ну да… А ты не понимаешь? Как бы тебе объяснить… Они словно сняли с себя одежду и говорят; вот мы какие, мы все-все вам показываем… Мы раздетые… Нам немножко стыдно… И вообще, если подумать, все кажется таким необычным, полным скрытого смысла… Вот, например, эта ветла… Она очень несчастная?
– Почему же несчастная?
– Одинокая. Одна среди травы. А лес далеко.
– Ей одной даже лучше. Больше света и корма.
– Корма! Скажешь же… Да наплевать ей на корм, если она все время одна. Все время смотрит на лес, а у леса своих забот полон рот. Лесу ветла до лампочки. Тут целая трагедия. Понял?
– Ты художница… по природе… Поэтому у тебя так развито воображение.
– А разве ты никогда не думаешь над такими вещами?
Семен Петрович покачал головой. Сигарета кончилась, и он закурил другую. На мгновение запахло сгоревшей спичкой. Ветер унес синее облачко, пригнул к траве, насильно заставил траву дышать табачным отравленным дымом. Главному бухгалтеру показалось, что трава дышит с отвращением.
– Нет… никогда, – сказал Рудаков. – Мне хватало другого, о чем надо было думать.
– О вещах?
– Почему ты так решила?
– Почти все думают о вещах.
– Не только о вещах… Но, в общем, ты права. Больше всего, конечно, о вещах. Вообще… о жизни…
– Что значит – думать о жизни?
– Во всяком случае, не об одиночестве ветлы.
– Подай мне платье.
Семен Петрович протянул ей одежду.
– Отвернись.
Он повернулся к ней спиной. Теперь дым обвевал его лицо. Рудаков потушил сигарету. Иначе волосы будут пахнуть табаком и Нине будет неприятно его обнимать.
– Застегни платье.
Главный бухгалтер принялся неумело большими грубыми пальцами застегивать кнопочки на узкой спине.
– Если бы я могла, я бы научила всех думать не о вещах, а о другом, более интересном. Но я не знаю, как это сделать. – Нина поправила волосы. – В жизни столько необычного, чудесного, а она так коротка… Не стоит ее отдавать лишь вещам… Ты доволен своей жизнью? Ты много прожил… По сравнению со мной… Я совсем мало…
– Я не знаю…
Нина встала и подала ему руку.
– Нет, ты не увиливай. У тебя есть опыт, и ты должен им поделиться. У меня ведь только теория.
Они пошли по траве к реке. Ветер к вечеру покрепчал, трава гнулась, словно кланялась им в пояс.
– Моя жизнь, – сказал Семен Петрович задумчиво, – делится на две неравные части. До встречи с тобой и после. Мой опыт до встречи с тобой не представляет для тебя никакой ценности. В общем это борьба за существование. Но борьба какая-то неинтересная, тусклая, без особых происшествий. Прожил год с прибылью, и хорошо.
– Что значит «с прибылью»?
– Ну продвинулся по службе… построил сарай… родил сына… купил телевизор… вырастил на огороде хорошую картошку… Да мало ли что…
– Но это же страшно скучно.
– Так живет большинство моих знакомых, и я не знал, как надо по-другому. Я был доволен… У меня имелось все, что я хотел… Оставалось только достойно встретить и проводить старость. Мне уже пятьдесят два… А тут появилась ты… Все изменилось… Вроде бы как засверкало… Даже не засверкало… Как это сказать… Ага… переоценка ценностей… То, что раньше было ценным, – оказалось пустяком. Дом, например, сад… моя должность… деньги. А твоя улыбка, шепот ветра, заря вдруг стали очень важными – это удивительно… Вот старый дурак… Не знаю, как это и называется…
– Название известно очень давно.
– Я думал, ее нет. Выдумали такие, как ты, художники, писатели. А остальные подхватили и придуриваются. Вот мой первый опыт. Тебе он нужен?
– Нет.
– Вторая часть жизни очень короткая… С зимы… С того вечера в санатории… Безумства старого дурака… Нужно?
– Тоже нет. У меня свой опыт. Его хватит на двоих. Потому что я старше тебя.
– На тридцать лет?
– На миллионы. Ты забыл, что я женщина. Прародительница жизни.
– Ах, извини. Слушай, женщина, ты забыла свой букет.
– Я не забыла. Он больше мне не нужен. Сослужил свою службу… Знаешь что, давай поговорим о более важных вещах.
– Разве мы говорим не о важных вещах?
– О важных… Но теперь все это не имеет никакого значения.
– Почему? – удивился Рудаков.
– Да так… То все теория, а нам надо поговорить о деле.
– Говори… – Сердце Семена Петровича екнуло от нехорошего предчувствия.
– Сеня, я ждала тебя в тот вечер на танцах… В санатории.
– Как это ждала? – удивился Семен Петрович.
– Так… Я знала, что приедешь.
– Знала? Откуда?
– Меня предупредил Евгений Семенович Громов… Ваш главный инженер. Знаешь такого?
– Знаю, конечно… Почему же он тогда ничего мне не сказал? Странно…
– Ничего странного нет. Он попросил меня, чтобы я занялась тобой…
Рудаков долго шел молча.
– Как это – занялась? – спросил он наконец глухо.
– Ну, чтобы ты… влюбился в меня…
– Зачем это ему было нужно?
– Не знаю… Но мне казалось, что он хочет как-то связать тебя, сделать покладистей, ближе к себе… Ты его опасайся, Сеня… Это нехороший человек… Он устроил мою маму к себе на завод – обещал повышение, квартиру… а взамен видишь; чтобы я занялась тобой… Мама скоро умерла…
– А договор остался?
– Как хорошо, что он привез тебя… Ты меня прощаешь?
– Прощаю. Это и все твои тайны?
– Да… Остальное ты все знаешь… Я так боялась, что ты меня не простишь…
– Я прощаю. Это ерунда…
Они подошли к реке. От скалы, как на Нининой картине, через реку, через пляж, по траве тянулась к лесу длинная черная тень.
– Сеня, – сказала Нина, – спасибо за этот день. Это мой самый счастливый день.
Утром Нина сказала:
– Ты иди один загорай.
– Почему?
– Мне надо побыть одной.
– Я тебе надоел?
– Нет. Но мне надо побыть одной.
Рудаков вернулся в пещеру после полудня. Нины не было. Кровать аккуратно заправлена. Куда же она делась?
И вдруг главный бухгалтер вздрогнул: возле решетки, что загораживала ход в Пещеры, лежали Нинино пальто, платок…
Рудаков рванулся к ходу, схватил пальто, платок… Что здесь произошло? Нет, крови не видно… пальто и платок лежат спокойно, они не носят следов насилия или спешки. Их сняла сама Нина. Сняла и аккуратно положила возле решетки… Зачем? Чтобы переодеться в другое? Чепуха. И почему одежда осталась лежать на этом месте?
Семен Петрович уже знал ответ на эти вопросы. Тщательно, сантиметр за сантиметром главный бухгалтер стал исследовать пещеру. Знакомые вещи… Все знакомое, все или принесенное из дома, или сработанное его руками здесь… Но того, чего искал Рудаков, не было. Это ведь невозможно… Записка должна где-то лежать. Она не могла уйти, не оставив записки…
Нигде ни клочка бумаги… Все на своих местах… И все-таки в пещере что-то изменилось. Все было на своих местах, но что-то изменилось. Рудаков стал посередине их «комнаты», уже автоматически вновь и вновь водя лучом фонарика.
И вдруг он увидел, что изменилось. Изменилась картина над столом.
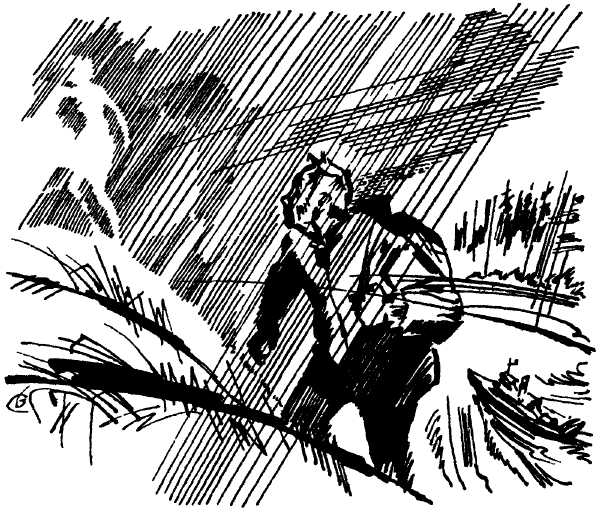
Картина, которую он не любил и боялся. То есть картина осталась, только чуть-чуть стала иной. Не было тени от скалы. Тени не было потому, что теперь на картине стоял полдень. Полдень вместо вечера. А в полдень тени не бывает…
Скала возвышалась вся освещенная солнцем, сверкающая, как айсберг, посередине голубой реки, голубого неба. Вообще-то по правилам тень уже должна зародиться у основания скалы, но ее не было. Даже намека. Сияло ослепительное солнце, сияла скала, голубело бездонное знойное небо; небо, откуда прилетают звуки детства…
И было еще одно изменение, которое сразу не бросилось Семену Петровичу в глаза. Не бросилось, ибо он не мог даже предположить, что такое возможно. Мужчина лежал на пляже один! Он лежал в свободной позе, с наслаждением отдаваясь солнцу, ветру, своим мыслям. От женщины не осталось даже следа. Ни вмятины, ни одежды, ничего. Она исчезла, вроде бы ее никогда и не было.
Семен Петрович бессильно опустил руку с фонариком. Вот почему не было записки…
– Нина! – крикнул Рудаков. Крикнул негромко. Он знал, что ничего не услышит в ответ.
Потом Рудаков попытался выломать решетку. Он бил и бил в решетку плечом, пока плечо не заныло. Стальные прутья даже не погнулись. Сделано на совесть. Все, что делал Семен Петрович, делалось на совесть.
И только потом, когда разболелось плечо, главный бухгалтер удивился. Как же она могла уйти, не повредив решетки? Он еще и еще раз осматривал заделанный проход. Нет, это невозможно… Надежная стальная решетка… Неужели она проскользнула в квадрат… Она же совсем худенькая… Сняла пальто и проскользнула между прутьев, как ласка?..
В Пещерах не надо иметь пальто… Там постоянная температура… И идет сейчас торопливым шагом по узким ходам?.. Или уже лежит на дне колодца?
Он сам замуровал ее от себя.
Рудаков закурил и вышел на улицу. Теперь можно курить…
Семен Петрович спустился к бухте Радости. На скале смутно проступало ее лицо. Рядом с его лицом. Он повернулся спиной к скале. Река тихо плескалась у берега, шуршала дождем.
Рудаков вылил остатки водки в стакан, выпил. Потом бросил стакан в реку. Постоял, не зная, что делать дальше.
Было тихо. Шорох реки сливался с шорохом неба. В небе таились какие-то звуки, звуки детства… Так что хотел сказать отец матери? Каким он хотел видеть сына? Теперь этого никогда не узнаешь…
Вдруг возник еще один звук. Со стороны хутора ветер принес звучание радио. Передавалась какая-то медленная мелодия. Семен Петрович повернулся лицом к хутору. Мелодия удивительно точно передавала его настроение, сжимала сердце…
Рудаков простоял долго на берегу, повернув мокрое от слез лицо к хутору, удивляясь новому ощущению. Раньше его никогда не трогала музыка. Она его даже раздражала. Семен Петрович всегда выключал телевизор или радио, едва раздавались первые звуки.
Мелодия затихла, словно затерялась. Главный бухгалтер постоял еще немного, напрягая слух, но так больше ничего и не услышал.
Потом он с трудом побрел в гору…
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления