Онлайн чтение книги
Дочь регента
XXII. ЧТО ПРОИСХОДИЛО В ДОМЕ НА ПАРОМНОЙ УЛИЦЕ, ПОКА ТАМ ЖДАЛИ ГАСТОНА
— Как, монсеньер, вы здесь? — воскликнул Дюбуа, войдя в гостиную дома на Паромной и увидев регента на том же месте, что вчера.
— Да, я здесь, — ответил регент, — ну и что в этом удивительного? Разве я не назначил шевалье свидание на полдень?
— Но мне казалось, что приказ, который вы подписали, положил конец совещаниям.
— Ошибаешься, Дюбуа. Я хотел бы последний раз поговорить с этим беднягой и попытаться отвратить от его намерений.
— И если он от них откажется?
— И прекрасно, если он от них откажется, все будет кончено, значит, заговора не было, ибо намерения ненаказуемы.
— Ну, с другим человеком я бы вам этого делать не дал, а с этим скажу: попробуйте.
— Ты думаешь, что он от своих планов не откажется?
— О, я успокоюсь, только если он совершенно оставит их, но если вы убедитесь, что он упорствует в своем намерении убить вас, вы предоставите его мне, правда?
— Но только не здесь.
— Почему не здесь?
— Мне кажется, что его лучше арестовать в гостинице.
— Там, в «Бочке Амура», Тапеном и людьми д'Аржансона? Невозможно, монсеньер, скандал из-за ареста Бургиньона еще свеж в памяти, квартал бурлил целый день. С тех пор как Тапен начал точно отмеривать вино, они уже не так верят в то, что его предшественника хватил удар. Уж лучше здесь, когда он будет выходить, монсеньер. Дом стоит уединенно, у него хорошая репутация; мне кажется, я говорил вашему высочеству, что здесь жила одна из моих любовниц. С этим бретонцем легко справятся четыре человека, и они уже спрятаны в этой комнате. Я просто размещу их с другой стороны, раз ваше высочество хочет обязательно увидеть его. Вместо того чтобы задержать при входе, его арестуют при выходе, вот и все. У дверей будет готов другой экипаж — не тот, что привезет его сюда, а который доставит шевалье в Бастилию таким образом, что даже кучер не будет знать, что с ним сталось. В курсе дела будет только господин де Лонэ, а он не болтлив, ручаюсь вам.
— Делай как знаешь.
— Монсеньер знает, что я почти всегда так и поступаю.
— Наглец ты!
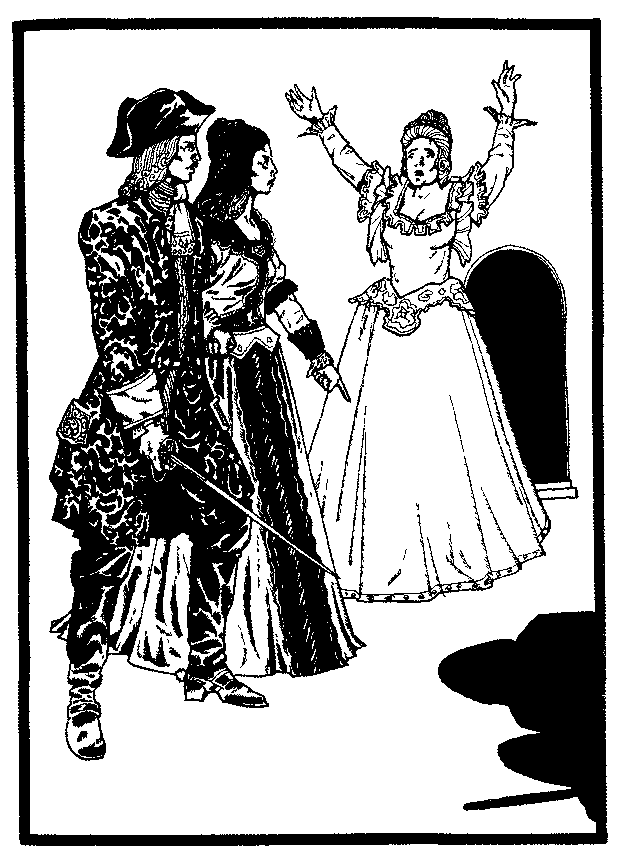
— Но, кажется, моя наглость не сделала монсеньеру ничего худого?
— О, я знаю, что ты всегда прав.
— А что с другими?
— Какими другими?
— С нашими бретонцами в провинции: с Понкалеком, Куэдиком, Талуэ и Монлуи?
— Вот несчастные! Ты знаешь их имена?
— Ну а чем, по-вашему, я занимался столько времени в гостинице «Бочка Амура»?
— Они узнают об аресте своего сообщника.
— От кого?
— Ну, увидят, что их корреспондент в Париже не отвечает, и поймут, что с ним что-то случилось.
— Ба! А разве нет капитана Ла Жонкьера, чтоб их успокоить?
— Есть-то он есть, но они, наверное, знают его почерк?
— Ну-ну, неплохо, монсеньер начинает кое-что понимать в этом, но ваше высочество проявляет напрасную заботу, как говорит Расин, в этот час господа бретонцы уже должны быть арестованы.
— А кто отправил приказ?
— Я, черт возьми! Я недаром ем хлеб министра, впрочем, вы этот приказ подписали.
— Как, я? Ты с ума сошел!
— Конечно, вы. Те господа заговорщики виновны ровно столько же, как здешний, и дав мне разрешение арестовать одного, вы, тем самым, разрешили мне арестовать и других.
— А когда ты отправил гонца с приказом? Дюбуа вынул часы.
— Ровно три часа назад, таким образом, я допустил поэтическую вольность, сказав вашему высочеству, что они уже арестованы: их арестуют только завтра утром.
— Бретань будет роптать, Дюбуа.
— Ба! Я принял меры.
— Бретонские суды не захотят судить соотечественников.
— Я это предвидел.
— Если их приговорят к смерти, не найдется палача, чтобы привести приговор в исполнение, и мы получим второе издание дела Шале. Ведь это дело тоже слушалось в Нанте, не забывай, Дюбуа. Говорю тебе, с бретонцами трудно жить.
— Скажите лучше, что их трудно заставить умереть, но это еще один пункт, который надо обговорить с нашими комиссарами, список которых я вам представляю. Трех или четырех палачей я пошлю из Парижа, это все люди, привычные к благородной работе, сохранившие добрые традиции кардинала Ришелье.
— О черт! — воскликнул регент. — Кровь в мое правление! Не люблю я этого. Ну, можно еще было пролить кровь графа Горна — он был вор, или Дюшофура — тот был подлец. Я чувствителен, Дюбуа.
— Нет, монсеньер, вы не чувствительны, вы нерешительны и слабы. Я говорил, когда вы были еще моим учеником, и повторяю сегодня, когда вы стали моим господином: при крещении феи, ваши крестные, одарили вас всем: красотой, силой, храбростью и умом, но одну фею не пригласили — она была стара, и, наверное, тогда уже было ясно, что старые женщины будут вам неприятны, — она, однако, явилась последней, преподнесла вам в дар легкость характера и все испортила.
— Кто рассказал тебе эту прелестную сказку? Перро или Сен-Симон?
— Принцесса Пфальцская, ваша матушка. Регент рассмеялся.
— И кого же мы назначим комиссарами? — спросил он.
— О, будьте спокойны, монсеньер, людей умных и решительных, совсем не провинциалов, людей слабочувствительных к семейным сценам, состарившихся в судейской пыли, заскорузлых сердцем и поднаторевших в крючкотворстве, которых не испугают страшные глаза бретонцев и не соблазнят прекрасные заплаканные глаза бретонок.
Регент молчал, он только кивал головой и покачивал ногой.
— А вообще-то, — продолжал Дюбуа, который понимал, что регент с ним не согласен, — может быть, эти люди и не так виновны, как нам кажется. Что они замышляли? Перечислим еще раз факты. Ба! Сущие пустяки! Вернуть испанцев во Францию — ну, подумаешь! Назвать Филиппа V, отступника родины, «мой король», отменить все законы государства… Уж эти мне добрые бретонцы!
— Все это хорошо, — высокомерно прервал его регент, — я не хуже вас знаю государственные законы.
— Тогда, монсеньер, если это действительно так, вам осталось только одобрить список выбранных мной комиссаров.
— Сколько их?
— Двенадцать.
— И их зовут?..
— Мабруль, Бертен, Барийон, Париссо, Брюне-д'Арси, Пагон, Фейдо-де-Бру, Мадорж, Эбэр-де-Бук, Сент-Обен, де Боссан и Обри де Вальтон.
— О, ты был прав, выбор весьма удачен. И кто же будет председателем этого милого собрания?
— Догадайтесь, монсеньер.
— Берегись! Во главе этой шайки должен стоять человек с незапятнанным именем.
— Есть, и весьма пристойный.
— Кто?
— Посол.
— Может быть, Селламаре?
— Ей-Богу, если бы вы соблаговолили выпустить его из Блуа, он ни в чем бы не смог вам отказать, даже когда понадобилось бы отрубить головы его сообщникам.
— Ему и в Блуа неплохо, пусть там и сидит. Так кто же твой президент?
— Шатонёф.
— Посол в Голландии, человек времени великого царствования! Вот черт! Дюбуа, я обычно не засыпаю тебя комплиментами, но на этот раз ты создал шедевр.
— Понимаете, монсеньер, он знает, что эти люди хотят установить республику, а он так воспитан, что привык только к султанам, он и Голландию возненавидел, потому что Людовик XIV ненавидел республики, и он, честное слово, весьма охотно согласился. Генеральным прокурором будет Арграм: он человек решительный, секретарем — Кайе. Мы это дело быстро обработаем, и кстати, потому что время не терпит.
— Но потом, Дюбуа, мы, по крайней мере, сможем жить спокойно?
— Надеюсь, нам только и остается, что спать с вечера до утра и с утра до вечера, я хочу сказать — после того, как мы кончим войну с Испанией и введем в обращение банкноты. Но в этой работе вам поможет ваш друг Ло: денежное обращение — его дело.
— Сколько беспокойства, Господи! И какого черта я где-то забыл голову, когда добивался регентства! Вот сегодня я бы мог вдоволь посмеяться, глядя, как господин дю Мен выпутывается из всех этих дел с помощью своих иезуитов и испанцев и как госпожа де Ментенон ведет политику со своими Вильруа и Вилларом, а Юмбер говорит, что раз в день смеяться полезно.
— А кстати, о госпоже Ментенон, — прервал его Дюбуа, — вы знаете, монсеньер, говорят, что бедняжка тяжело больна и не проживет и двух недель.
— Ба!
— После того, как госпожа дю Мен попала в тюрьму, а ее супруг — в изгнание, она говорит, что теперь Людовик XIV окончательно умер, и, вся в слезах, спешит последовать за ним.
— А тебе и горя мало, бессердечный ты человек!
— Честно признаюсь, я ее искренне ненавижу. Ведь это из-за нее покойный король вытаращил на меня глаза, когда я по случаю вашей свадьбы попросил у него красную шапку, и нелегко было это дело уладить, вам-то это хорошо известно, монсеньер; если бы вы не загладили передо мной вину покойного короля, эта дама окончательно погубила бы мою карьеру, так что, если бы я мог приплести ее любимого господина дю Мена к этому бретонскому делу… Но это было почти невозможно, честное слово! Бедняга почти помешался со страху и всем, кого встречает, говорит: «Да, кстати, вы знаете, что был организован заговор против правительства его величества и персоны регента? Это постыдно для Франции. Ах, если бы другие были похожи на меня!»
— Тогда бы заговора не было, — подтвердил регент, — это уж точно.
— Он отрекся от жены, — добавил, смеясь, Дюбуа.
— А она — от мужа, — подхватил регент и тоже рассмеялся.
— Не советую вам держать их в заключении вместе, они передерутся.
— Ну, потому-то я и отправил его в Дулан, а ее в Дижон.
— И они грызутся в письмах.
— Выпустим их, Дюбуа.
— Чтобы они поубивали друг друга? О монсеньер, вы просто палач, сразу видно, что вы поклялись уничтожить потомство Людовика XIV.
Эта рискованная шутка доказывала, насколько Дюбуа был уверен в своем влиянии на герцога, потому что, пошути так кто-то другой, это вызвало бы куда более мрачную тень на лице регента, чем при этих словах его министра.
Дюбуа представил список членов трибунала на подпись Филиппу Орлеанскому, и тот на этот раз поставил ее без колебаний, после чего аббат в глубине души очень обрадованный, но внешне совершенно спокойный, ушел подготавливать арест шевалье.
Гастон же, покинув дом в предместье, отправился в фиакре в гостиницу «Бочка Амура», где его, как читатель помнит, должен был ждать экипаж, чтобы отвезти на Паромную улицу. И правда, там его ждали и карета, и вчерашний провожатый. Гастон не хотел, чтобы Элен пересаживалась в карету, и потому спросил, нельзя ли ему продолжать путь в том фиакре, в котором он приехал. Таинственный незнакомец ответил, что не видит к тому никаких препятствий и, сев вместе с кучером на козлы, назвал ему адрес дома, перед которым следует остановиться.
Во время пути Гастон был грустен, сердце его разрывалось от страха и печали, которую он не хотел объяснить Элен, хотя его возлюбленная ждала его поддержки и утешения. Поэтому когда они уже въезжали на Паромную улицу, Элен в отчаянии от того, что у человека, на которого она должна была бы опереться, оказалось так мало сил, произнесла:
— О, если вы будете себя так вести каждый раз, когда я доверюсь вам…
— Скоро, — прервал ее Гастон, — вы увидите, Элен, что я действую в ваших интересах.
Они приехали, карета остановилась.
— Элен, — сказал Гастон, — тот, кто заменит вам отца, сейчас в этом доме. Позвольте, я поднимусь первым и предупрежу его о вашем посещении.
— О Боже! — воскликнула Элен, невольно вздрагивая, сама не зная почему, — так вы меня оставляете одну?
— Вам нечего бояться, Элен. Впрочем, я через минуту спущусь за вами. Девушка протянула ему руку, и Гастон прижал ее к губам. Он невольно сам почувствовал смутное беспокойство; ему тоже казалось, что покидать Элен не следует. Но тут ворота отворились, и человек, сидевший рядом с кучером, велел ему заезжать во двор; ворота за каретой затворились снова, и Гастон понял, что за такими высокими стенами Элен не угрожает никакая опасность; впрочем, и отступать было некуда. Человек, который приехал за ним в «Бочку Амура», открыл дверцу кареты. Гастон последний раз пожал своей подруге руку, вышел и поднялся на крыльцо вслед за провожатым, который, как и накануне, ввел его в коридор, показал на дверь гостиной, сказав, что Гастон может постучать, и удалился.
Гастон, знавший, что его ждет Элен и медлить нельзя, постучал тотчас же.
— Войдите, — произнес голос мнимого испанского принца.
Гастон узнал этот голос, так запомнившийся ему; он повиновался, отворил дверь и оказался с глазу на глаз с главой заговора, но на этот раз у него не было тех опасений, которые он испытывал при первом свидании; он был решителен и приблизился к герцогу Оливаресу с высоко поднятой головой и со спокойным лицом.
— Вы точны, сударь, — сказал герцог, — мы назначили свидание на полдень, и часы как раз бьют двенадцать.
И в самом деле, часы на камине, возле которого стоял регент, пробили полдень.
— Я очень спешу, монсеньер, — ответил Гастон, — данное мне поручение тяготит меня, я боюсь, что меня одолеют угрызения совести. Вас это удивляет и беспокоит, не так ли, монсеньер? Но успокойтесь, угрызения совести у такого человека, как я, опасны только для него.
— И правда, сударь, — воскликнул регент с радостью, которую ему не удалось совсем скрыть, — мне кажется, что вы готовы отступить!
— Вы ошибаетесь, монсеньер, с тех пор как жребий судил мне убить принца, я шел только вперед и остановлюсь, когда выполню свой долг.
— Сударь, я говорю так потому, что в ваших словах мне послышалось сомнение, а при определенных обстоятельствах и в устах определенных людей слова имеют большое значение.
— Монсеньер, бретонцы имеют привычку говорить то, что думают, и делать то, что говорят.
— Значит, вы по-прежнему полны решимости?
— Более чем когда-либо, ваше сиятельство.
— Дело в том, видите ли, — прервал его регент, — дело в том, что еще есть время, зло еще не свершилось, и…
— Вы называете это злом, монсеньер, — произнес, печально улыбаясь, Гастон, — как же мне тоща называть себя?
— Но я так понимаю, — живо подхватил регент, — что для вас — это зло, раз вас мучают угрызения совести.
— С вашей стороны невеликодушно, монсеньер, упрекать меня за откровенность, потому что с человеком менее достойным, чем ваше сиятельство, я бы, безусловно, от нее воздержался.
— А я, сударь, именно потому, что тоже оценил вас по достоинству, говорю вам: есть еще время остановиться; и спрашиваю, хорошо ли вы подумали и не раскаиваетесь ли вы в том, что ввязались, — тут герцог на минуту запнулся и продолжал, — ввязались в столь рискованное предприятие. Меня не бойтесь, даже если подведете нас, я все равно буду вам покровительствовать. Я видел вас всего один раз, сударь, но оценил вас, как вы того заслуживаете: храбрые люди — такая редкость, что нам останется только сожалеть о вас.
— Ваша доброта, монсеньер, повергает меня в смятение, — ответил Гастон, у которого, несмотря на все его мужество, в глубине сердца зародилась тень сомнения. — Нет, монсеньер, я не колеблюсь, только меня одолевают мысли, преследующие человека перед дуэлью: решимость убить врага и скорбь от того, что необходимость принуждает его уничтожить другого человека.
Гастон на секунду замолк; собеседник смотрел на него проницательным взглядом, казалось, он пытался в самой глубине его души отыскать следы слабости, на которую надеялся. Но молодой человек продолжал:
— Но здесь поставлены на карту столь серьезные вещи, что они не идут ни в какое сравнение с нашими природными слабостями, и я буду повиноваться своим убеждениям и чувству дружбы, если не сказать симпатиям, и буду вести себя таким образом, монсеньер, что вы зачтете мне в заслугу даже минутную слабость, на мгновение задержавшую мою руку.
— Прекрасно, — сказал регент, — но как вы собираетесь подступиться к этому делу?
— Я подожду, пока мне удастся встретиться с ним лицом к лицу, и тогда я воспользуюсь не аркебузой, как Польтро, и не пистолетом, как Витри. Я скажу ему: «Монсеньер, вы сделали Францию несчастной, и я приношу вас в жертву ее спасению» — и заколю его кинжалом.
— Как Равальяк, — сказал герцог так невозмутимо и спокойно, что молодой человек вздрогнул. — Ну что ж, отлично.
Гастон ничего не ответил и опустил голову.
— Этот план мне кажется самым надежным, и я его одобряю. Я должен все же задать вам последний вопрос. А если вас схватят и подвергнут допросу?
— Ваше сиятельство знает, что бывает в подобных случаях, Я умру, но ничего не скажу, и раз вы только что привели пример Равальяка, то, если память мне не изменяет, он как раз так и сделал, а он ведь был не дворянин.
Гордость Гастона понравилась регенту, потому что сам он был молод сердцем и преисполнен рыцарского духа; впрочем, ему, привыкшему ежедневно сталкиваться со слабыми, низкими и угодливыми людьми, такой простой и сильный характер был в новинку, а всем известно, что регент любил все новое.
Он подумал еще немного и, как бы еще не решив и желая выиграть время, спросил:
— Значит, я могу рассчитывать, что вы будете непоколебимы?
Гастон, казалось, был удивлен тем, что его собеседник вернулся снова к этой теме, и поскольку это чувство ясно отразилось в его глазах, регент заметил его.
— Да, я вижу, вы решились.
— Безусловно, — ответил шевалье, — и жду последних распоряжений вашего сиятельства.
— Моих распоряжений?
— Конечно, ваших. Вы, монсеньер, ничего не пообещали мне, а я уже предоставил себя в полное ваше распоряжение и принадлежу вам телом и душой.
Герцог встал.
— Ну что же, — сказал он, — раз это свидание должно обязательно окончиться чем-то определенным, то вы сейчас выйдете отсюда через эту дверь, пройдете через сад, который окружает дом, в глубине сада есть ворота, у них вас ждет карета, а в ней мой секретарь. Он вручит вам пропуск на свидание с регентом, ну а сверх того, я поручусь за вас своим словом.
— Это все, что я просил, монсеньер, — произнес Гастон.
— Вы хотите еще что-то мне сказать?
— Да. Прежде чем проститься с вашим сиятельством — а я, быть может, не увижу вас больше в этом мире, — я хотел бы попросить об одной милости.
— О какой, сударь? — спросил герцог. — Говорите, я слушаю.
— Монсеньер, — продолжал Гастон, — не удивляйтесь, что я медлю, дело идет не об обычной услуге или каком-то одолжении мне лично: Гастону де Шанле больше ничего не нужно, кроме кинжала, а он при мне. Но, принеся в жертву свое тело, я не хотел бы принести в жертву душу. Моя душа, монсеньер, принадлежит Господу и молодой девушке, которую я боготворю. Скорбная любовь: она взросла на краю могилы! Но как бы то ни было, покинуть без помощи это чистое и нежное дитя — это значит безрассудно искушать Господа, поскольку я вижу, что он порой жестоко испытывает и оставляет страдать даже ангелов. Итак, на этой земле я любил прелестную женщину, которую моя привязанность поддерживала и защищала от нечестивых посягательств. Если я умру или исчезну, что с ней станется? Наши головы падут, монсеньер, ведь мы простые дворяне, но вы, монсеньер, человек могущественный, и вас поддерживает могущественный король, вы сумеете одолеть злую судьбу. И, значит, я могу отдать в ваши руки сокровище души моей. И все, что вы должны мне как союзнику, как сообщнику, вы отдадите ей.
— Обещаю вам это, сударь, — сказал глубоко тронутый регент.
— Но это еще не все, монсеньер: со мной может произойти несчастье, и я не смогу служить ей опорой, поэтому я хотел бы, чтоб ей осталось и служило опорой мое имя. Если я умру, у нее не останется никаких средств, потому что она сирота, монсеньер. Когда я уезжал из Нанта, я составил завещание, в котором отказал ей все, чем владею. Монсеньер, когда я умру, пусть она будет моей вдовой. Это возможно?
— Кто же этому противится?
— Никто, но меня могут арестовать завтра, сегодня вечером или когда я буду выходить из этого дома.
Услышав это странное предчувствие, регент вздрогнул.
— Предположите, что меня отправят в Бастилию. Как вы полагаете, получу ли я разрешение обвенчаться с ней перед казнью?
— Уверен в этом.
— Вы приложите все ваше влияние, чтоб я получил эту милость? Поклянитесь мне в этом, монсеньер, чтобы я благословлял ваше имя и чтобы под пытками, если я вспомню о вас, то только с благодарственной молитвой.
— Клянусь честью, сударь, я обещаю вам, — сказал растроганный регент, — что эта девушка будет для меня священна, она унаследует всю сердечную привязанность, которую я невольно чувствую к вам.
— И еще одно слово, монсеньер.
— Говорите, сударь, я слушаю вас с глубокой симпатией.
— Эта девушка ничего не знает о моих планах, не знает о причинах, приведших меня в Париж, о катастрофе, которая нам грозит, потому что у меня не было сил ей об этом сказать. Скажите ей об этом вы, монсеньер, подготовьте ее. Я же увижу ее только для того, чтоб стать ее мужем. Если я увижу ее до того, как нанесу удар, который разлучит нас навеки, моя рука может дрогнуть, а дрогнуть она не должна.
— Слово дворянина, сударь, — сказал безмерно взволнованный регент, — повторяю вам: эта девушка не только будет священна для меня, но я сделаю для нее все, о чем вы просите.
Она унаследует всю сердечную привязанность, которую я невольно чувствую к вам.
— Теперь, монсеньер, — сказал, вставая, Гастон, — я чувствую себя сильным.
— А где же эта девушка? — спросил регент.
— Внизу, в карете. Позвольте мне уйти, монсеньер, только скажите мне, где она будет жить?
— Здесь, сударь. В этом доме никто не живет, он как нельзя больше подходит для молодой девушки, и он будет ее домом.
— Монсеньер, вашу руку.
Регент протянул Гастону руку и, вероятно, хотел предпринять еще одну попытку остановить его, но тут он услышал под окнами сухое покашливание и понял, что Дюбуа теряет терпение. Он сделал шаг вперед, чтобы показать Гастону, что аудиенция окончена.
— Еще раз, монсеньер, оберегайте это дитя. Она нежна, прекрасна и горда, она из тех благородных и одаренных натур, которые в жизни не часто встречаются. Прощайте, монсеньер, иду искать вашего секретаря.
— И я должен буду ей сказать, что вы собираетесь убить человека? — спросил регент, делая последнее усилие удержать Гастона.
— Да, монсеньер, — ответил шевалье. — Только вы добавите, что я убиваю его для блага Франции.
— Ну что же, ступайте, сударь, — сказал герцог, открывая дверь, ведущую в сад, — и идите по той аллее, которую я вам показал.
— Пожелайте мне удачи, монсеньер.
«Вот бешеный! — сказал про себя регент. — Он еще просит, чтоб я молился за удачу его покушения! Ну уж этого не будет!»
Гастон ушел. Песок, припорошенный снегом, заскрипел под его ногами. Регент из окна в коридоре некоторое время провожал его взглядом, а когда тот скрылся из виду, сказал:
— Ну что же, пусть каждый следует своим путем. Бедный малый!
И он вернулся в гостиную, где и нашел Дюбуа, вошедшего через другую дверь и поджидавшего его.
На лице Дюбуа отражалась смесь хитрости и удовлетворения, что не ускользнуло от взгляда регента. Некоторое время герцог молча смотрел на него, как бы пытаясь понять, что творится в голове этого нового Мефистофеля. И все же Дюбуа нарушил молчание первым.
— Ну вот, монсеньер, — сказал он регенту, — наконец-то, вы от него отделались, по крайней мере, я надеюсь на это.
— Да, — ответил герцог, — но способом, который мне очень не по душе. Ты знаешь, мне не нравится исполнять роли в твоих комедиях.
— Возможно; но, может быть, вам бы не худо дать мне роль в ваших.
— Как это?
— Да, они бы имели больший успех, и развязка была бы благополучнее.
— Не понимаю, что ты хочешь сказать, объяснись… Говори поскорее, а то меня ждет особа, которую я должен принять.
— О-ля-ля, монсеньер, так принимайте, потом поговорим. Развязка вашей комедии уже сыграна и не станет ни лучше ни хуже.
И при этих словах Дюбуа поклонился с тем насмешливо-почтительным выражением, которое регент обычно наблюдал на лице министра, когда в их вечной игре одного против другого последнему выпадали счастливые карты. Поэтому регента эта притворная почтительность очень сильно обеспокоила. Он удержал Дюбуа:
— Ну что там еще? Что ты еще выяснил? — спросил он его.
— Я выяснил, что вы ловкий притворщик, черт возьми!
— Тебя это удивляет?
— Нет, огорчает. Еще несколько успешных шагов в этом искусстве, и вы начнете творить чудеса. Я вам больше не нужен буду, и вы отправите меня воспитывать вашего сына, который, признаю это, нуждается в таком наставнике, как я.
— Ну же, говори побыстрей.
— И правда, монсеньер, потому что здесь речь идет не о вашем сыне, а о вашей дочери.
— О которой?
— А, верно, ведь их столько у вас. Перво-наперво, шельская аббатиса, потом герцогиня Беррийская, потом мадемуазель де Валуа; есть еще и другие, но они слишком молоды, чтобы о них говорили, и, следовательно, я о них говорить не буду. Ну и, наконец, есть еще прелестный цветок Бретани, дикий дрок, который из опасения, что он увянет, вы хотели уберечь от ядовитого дыхания Дюбуа.
— Посмей только сказать, что я был неправ!
— Да что вы! Монсеньер, вы чудесно все устроили. Не желая иметь дело с этим нечестивцем Дюбуа, в чем я вас полностью одобряю, вы, поскольку архиепископ Камбрейский уже умер, нашли вместо него доброго, достойного, чистого и правдивого Носе и одолжили у него дом.
— А, ты, оказывается, и это знаешь! — воскликнул регент.
— И какой дом! Девственно-чистый, как его хозяин. О да, монсеньер, все, что вы сделали, очень разумно и осторожно. Спрячем это дитя от тлетворного влияния света, удалим от нее все, что может замутить чистую от природы душу, а потому поселили ее в доме, где на всех стенах только и видишь то Леду, то Эригону, то Данаю, жриц разврата, поклоняющихся то лебедю, то виноградной грозди, то золотому Дождю. Святилище морали, где жрицы добродетели, наверное по причине их наивности, изображены в весьма замысловатых, но малопристойных позах.
— А этот чертов Носе заверял меня, что вся живопись там в чистейшем стиле Миньяра!
— А вы разве не знаете этот дом, монсеньер?
— Что я, рассматриваю эти мерзости, что ли?
— Да, правда, к тому же вы близоруки.
— Дюбуа!
— А что до мебели, то вашу дочь в этом доме окружают какие-то странные туалетные столики, непонятные диванчики, волшебные кровати, что же касается книг… О! Книги святого брата Носе особенно незаменимы для просвещения и образования юношества и составляют счастливое сочетание с молитвенником Бюсси-Рабютена, один экземпляр которого я вам дал в руки, монсеньер, в день, когда вам исполнилось двенадцать лет.
— Ну, ты и змея!
— Короче, в этом убежище царит строжайшая добродетель… Я выбрал его, чтобы растормошить вашего сына, но у монсеньера и у меня разные взгляды на вещи: его светлость выбрали его, чтобы сохранить чистоту своей дочери.
— Ну, знаете, Дюбуа, — сказал регент, — в конце концов вы меня утомляете.
— Я подхожу к концу, монсеньер, incedo ad finem note 5Приступаю к концу (лат.).. Впрочем, ваша дочь должна была бы найти приятным пребывание в этом доме, поскольку, как все представители вашего рода, она очень умна.
Регент вздрогнул: по этой замысловатой преамбуле, по злой и насмешливой улыбке Дюбуа он догадался, что тот хочет сообщить ему какую-то печальную новость.
— Ну так вот, монсеньер, — продолжал Дюбуа, — извольте видеть, каков дух противоречия: она осталась недовольна домом, который ей в своей отеческой заботе выбрало ваше высочество, и переезжает.
— Что это значит?
— Ошибся, уже переехала.
— Моя дочь ушла? — воскликнул регент.
— Совершенно точно.
— Каким образом?
— Да через дверь… О, это не та девушка, чтобы убегать ночью через окно. Это уж точно ваша кровь, если я в этом хоть минуту сомневался, то теперь-то уверен в этом полностью.
— А госпожа Дерош?
— Госпожа Дерош сейчас в Пале-Рояле. Я только что от нее. Она приехала сообщить эту новость вашему высочеству.
— Но она не смогла этому воспрепятствовать?
— Мадемуазель приказала ей.
— Надо было заставить слуг преградить ей путь. Слуги не знали, что это моя дочь, и не имели никаких причин ей повиноваться.
— Дебош убоялась гнева мадемуазель, а слуги — шпаги.
— Шпаги? Ты что, пьян, Дюбуа? Что ты говоришь?
— О да, со всеми этими делами у меня как раз есть время напиваться, я пью только цикорную воду. Если я и пьян, монсеньер, то от восторга перед предусмотрительностью, которую вы проявляете, когда вашему высочеству угодно самому в одиночку вести какое-нибудь дело.
— Но кто тебе рассказал о шпаге? О какой шпаге ты говорил?
— О шпаге, которой располагает мадемуазель Элен и которая принадлежит одному очаровательному молодому человеку…
— Дюбуа!
— …который ее очень любит…
— Дюбуа, ты с ума меня сведешь!
— …и который с бесконечной любезностью последовал за ней из Нанта в Рамбуйе.
— Господин де Ливри?
— Глядите-ка, вы и имя знаете! Тогда я ничего нового вам не сообщил.
— Дюбуа, я в полном отчаянии!
— И есть от чего, монсеньер, вот что такое вести свои дела самому, когда одновременно приходится заниматься делами Франции.
— Но где же она, в конце-то концов?
— А, вот оно: где она? А откуда я-то знаю?
— Дюбуа, ты сообщил мне о ее бегстве, ты же должен сообщить, где она. Дюбуа, мой дорогой Дюбуа, ты должен отыскать мою дочь.
— Ах, монсеньер, как вы похожи на мольеровских отцов, а я на Скапена. «Ах, дорогой Скапен, милый Скапенчик, разыщи мою дочь». Монсеньер, я огорчен, но и Жеронт не сказал бы лучше. Ну хорошо, так и быть, вашу дочь будут искать, вам ее найдут и ее похитителю отомстят за вас.
— Прекрасно, найди мне ее, Дюбуа, и потом проси что хочешь.
— В добрый час, вот это уже разговор!
Регент упал в кресло, схватившись за голову, Дюбуа оставил его предаваться горю, поздравляя себя с еще одной привязанностью герцога, которая удваивала его власть над ним. Он смотрел на него с обычной своей хитрой улыбкой, но вдруг кто-то тихонько поскребся в дверь.
— Кто там? — спросил Дюбуа.
— Монсеньер, — произнес из-за двери голос швейцара, — там внизу, в том же фиакре, который привез шевалье, находится молодая дама. Она просит узнать, будет ли ей позволено войти или ей следует еще подождать.
Дюбуа подскочил на месте и кинулся к двери, но слишком поздно: регент, которому слова швейцара напомнили о торжественном обещании, данном им шевалье, резко поднялся.
— Куда вы, монсеньер? — спросил Дюбуа.
— Я должен принять эту девушку, — ответил регент.
— Это мое дело, а не ваше. Вы забыли, что предоставили мне заниматься этим заговором?
— Я предоставил тебе шевалье, это так, но я обещал шевалье стать отцом для той, которую он любит. И раз уж я убиваю ее возлюбленного, я, по крайней мере, должен утешить ее.
— Я беру это на себя, — сказал Дюбуа, пытаясь прикрыть свою бледность и волнение дьявольской улыбкой, которую можно было увидеть на его лице.
— Замолчи и не выходи отсюда, — закричал на него регент, — ты опять устроишь мне какую-нибудь низость!
— Какого черта, монсеньер, дайте я хоть с ней поговорю!
— Я прекрасно сам с ней поговорю, это не твое дело, я взял личные обязательства и дал слово дворянина. Молчи и стой, где стоишь!
Дюбуа кусал себе пальцы, но, когда регент говорил таким тоном, нужно было повиноваться; аббат прислонился к камину и стал ждать. Вскоре за дверью раздалось шуршание шелкового платья.
— Да, сударыня, — сказал швейцар, — сюда, пожалуйста.
— Вот и она, — сказал герцог, — подумай вот о чем, Дюбуа: эта девушка никак не отвечает за вину своего возлюбленного, а следовательно, — слышишь ты? — оказывай ей всяческое почтение.
Потом он повернулся в сторону, откуда был слышен голос, и добавил:
— Войдите.
При этих словах портьера приподнялась, и молодая женщина сделала шаг к регенту; тот отступил, словно пораженный громом.
— Моя дочь! — прошептал он, пытаясь обрести самообладание, в то время как Элен в надежде увидеть Гастона обвела глазами комнату, потом остановилась и сделала реверанс.
Легко себе представить, какие гримасы строил при этом Дюбуа.
— Простите, сударь, — сказала Элен, — быть может, я ошиблась? Я ищу своего друга, он оставил меня внизу и должен был за мной спуститься. Видя, что он задерживается, я решилась осведомиться о нем. Меня провели сюда, быть может, швейцар ошибся?
— Нет, мадемуазель, — ответил герцог, — шевалье де Шанле только что ушел от меня, и я ждал вас.
Пока регент говорил, девушка, казалось, на мгновение забыла о Гастоне и с трудом старалась что-то вспомнить.
— О Боже, как странно! — воскликнула она неожиданно, как бы отвечая своим собственным мыслям.
— Что с вами? — спросил регент.
— О, это, конечно, так!
— Договаривайте, — произнес регент, — я не понимаю, что вы хотите сказать.
— О сударь, — произнесла, вся дрожа, Элен, — просто странно, как ваш голос напоминает мне голос одного человека…
Элен в нерешительности замолкла.
— Вашего знакомого? — заинтересовался регент.
— Человека, с которым я встречалась всего один раз, но голос его остался жить в моем сердце.
— И кто же этот человек? — спросил регент, а Дюбуа пожал плечами, глядя на эти попытки узнавания.
— Этот человек говорил, что он мой отец, — ответила Элен.
— Поздравляю себя с этим случайным совпадением, мадемуазель, — сказал регент, — поскольку сходство моего голоса с голосом человека, который, наверное, дорог вам, может быть, придает больше значимости моим словам: вы знаете, что шевалье де Шанле оказал мне честь, выбрав меня вашим покровителем.
— Во всяком случае, он дал мне понять, что везет меня к тому, кто сможет меня защитить от опасности, которая мне угрожает.
— И какая же опасность вам угрожает? — спросил регент. Элен обвела комнату глазами, и взгляд ее с беспокойством
остановился на Дюбуа. Ошибиться было нельзя: насколько, по-видимому, регент был ей приятен, настолько Дюбуа внушал подозрение.
— Монсеньер, — сказал вполголоса Дюбуа, совершенно правильно истолковавший ее взгляд, — монсеньер, мне кажется, я здесь лишний, и я удаляюсь; впрочем, думаю, что больше не нужен вам.
— Нет, ты мне сейчас понадобишься, не уходи далеко.
— Я буду ждать указаний вашего высочества. Разговор этот велся слишком тихо, чтобы Элен могла его слышать, впрочем, из скромности она отступила на шаг и с беспокойством поглядывала на двери, ожидая, из какой появится Гастон. Уходя, Дюбуа утешал себя мыслью, что та, которая сыграла с ним столь скверную шутку и нашлась сама, по крайней мере, обманется в этих ожиданиях. Когда Дюбуа, наконец, вышел из комнаты, регент и Элен вздохнули свободнее.
— Садитесь, мадемуазель, — сказал регент, — нам предстоит долгая беседа, я многое должен вам сказать.
— Сударь, сначала один вопрос, — прервала его Элен. — Шевалье Гастону де Шанле ничто не угрожает?
— Мы сейчас поговорим и о нем, мадемуазель, но сначала о вас: он привез вас ко мне как к защитнику. Так скажите же мне, от кого я должен вас защитить?
— Все, что случилось со мной за последние несколько дней, так странно, что я не знаю, кого мне бояться и кому доверять. Если бы здесь был Гастон…
— Да, понимаю, если бы он разрешил вам все мне рассказать, у вас бы не было от меня тайн. Ну а если я вам докажу, что знаю почти все о вас?
— Вы, сударь?
— Да, я! Вас зовут Элен де Шаверни. Вы воспитывались в монастыре августинок, между Клисоном и Нантом. Однажды вы получили от таинственного покровителя, который заботится о вас, приказ покинуть монастырь, где вы выросли, и вы отправились в путь в сопровождении монахини. По приезде в вознаграждение за ее труды вы дали ей сто луидоров. В Рам-буйе вас ждала женщина, которую зовут госпожа Дерош. Она вам объявила о визите вашего отца. И в тот же вечер вас посетил человек, который вас любит и который поверил, что и вы его любите.
— Да, сударь, это все так, — произнесла Элен, удивленная тем, что незнакомый ей человек так хорошо помнит все подробности этой истории.
— Потом, на следующий день, — продолжал регент, — господин де Шанле, который сопровождал вас под именем господина де Ливри, нанес вам визит, чему ваша гувернантка напрасно пыталась воспротивиться.
— Все это правда, сударь, я вижу, что Гастон вам все рассказал.
— Потом пришел приказ уезжать в Париж. Вы хотели ему воспротивиться, но пришлось подчиниться. Вас привезли в дом, что находится в предместье Сент-Антуан. Но там ваш плен стал для вас невыносим.
— Вы ошибаетесь, сударь, — ответила Элен, — это не плен, а тюрьма.
— Не понимаю вас.
— Разве Гастон не поведал вам о своих опасениях, которые я сначала отвергала, а потом разделила?
— Нет, расскажите мне, какие у вас могут быть опасения?
— Но если он вам этого не рассказал, как это могу делать я?
— Разве другу не все можно сказать?
— Он вам не рассказал, что человек, которого я сначала приняла за отца…
— Приняли за отца?
— О да, клянусь вам, сударь. Вначале, когда я слышала его голос, чувствовала, как он сжимает мою руку, у меня не было никаких сомнений, и нужны были почти очевидные доказательства, чтобы наполнявшая мое сердце дочерняя любовь сменилась страхом.
— Я не понимаю, мадемуазель, выразите до конца свою мысль. Как могли вы испугаться человека, который, по вашим же словам, проявил к вам такую нежность?
— Поймите, же, сударь, что вскоре после его посещения под каким-то пустячным предлогом меня привезли из Рамбуйе в Париж и, как вы сами сказали, поселили в Сент-Антуанском предместье, и этот дом сказал моим глазам больше, чем мог сказать Гастон. Я увидела, что погибаю. Вся эта притворная отцовская нежность прикрывала ловкие действия соблазнителя. У меня не было другого защитника, кроме Гастона. Я написала ему, и он пришел.
— Так, значит, — воскликнул донельзя обрадованный регент, — вы ушли из этого дома для того, чтобы убежать от соблазнителя, а не для того, чтоб последовать за любовником?
— Да, сударь. Если бы я верила в действительное существование этого отца, которого я и видела-то только раз и который окружил себя такой таинственностью, клянусь вам, сударь, ничто не могло бы меня заставить нарушить мой долг!
— О, дорогое дитя! — воскликнул регент с таким выражением, что Элен вздрогнула.
— Вот тогда-то Гастон и сказал мне, что есть человек, который ни в чем не может ему отказать и который возьмет на себя заботы обо мне и заменит мне отца. Он привез меня сюда и сказал, что вернется за мной. Я ждала его больше часа, но напрасно. Я испугалась, что с ним что-то случилось, и послала осведомиться о нем.
Лицо регента потемнело.
— Итак, — произнес он, пытаясь сменить тему разговора, — вас отвратило от исполнения долга влияние Гастона, и именно его подозрения возбудили ваши?
— Да, он испугался всей этой таинственности и утверждал, что тут кроется какой-то роковой для меня умысел.
— Но ведь, чтобы вас убедить, он должен был привести какие-то доказательства?
— Какие нужны были еще доказательства, кроме этого отвратительного дома?! Разве отец позволил бы себе поселить дочь в подобном жилище?
— Да, да, — пробормотал регент, — действительно, он был тут неправ. Но согласитесь, что если бы шевалье не внушил вам этих подозрений, вам, невинной душе, они бы и в голову не пришли.
— Нет, — ответила Элен, — но, к счастью, Гастон заботился обо мне.
— Вы что, мадемуазель, верите всему, что вам говорит Гастон?
— С тем, кого любишь, легко соглашаешься, — ответила Элен.
— А вы любите шевалье, мадемуазель?
— Уже около двух лет, сударь.
— Но как же вы виделись в монастыре?
— Он подплывал по ночам в лодке.
— И часто?
— Каждую неделю.
— Значит, вы любите его?
— Да, сударь, люблю.
— Но как же вы осмелились располагать вашим сердцем, зная, что не принадлежите себе?
— Шестнадцать лет я ничего не слышала о своей семье, откуда мне было знать, что она вдруг отыщется, или, точнее, что отвратительные происки вырвут меня из моего мирного обиталища мне на погибель?
— Но вы по-прежнему полагаете, что тот человек вам солгал? Вы полагаете, что это не ваш отец?
— Увы, теперь я не знаю, чему и верить, мой разум теряется в этой лихорадочной действительности, и мне все время кажется, что это сон.
— Но вам следовало слушаться не разума, Элен, а сердца, — сказал регент. — Разве когда вы были рядом с этим человеком, сердце вам ничего не сказало?
— О, напротив! — воскликнула Элен. — Пока он был рядом, я была убеждена, что это мой отец, потому что никогда раньше я не испытывала подобных чувств.
— Да, — с горечью заметил регент, — но, как только он уехал, чувство это развеялось под более сильным влиянием. Все так просто: этот человек был вам только отцом, а Гастон ваш возлюбленный!
— Сударь, — сказала Элен, отступая на несколько шагов, — вы очень странно со мной разговариваете.
— Простите, — продолжал регент уже мягче, — я вижу, что интерес, который я к вам испытываю, завлек меня дальше, чем я хотел, но что больше всего меня удивляет, мадемуазель, так это то, что при всей любви к вам господина де Шанле, — произнес он с тяжелым сердцем, — вы не смогли повлиять на него и заставить его отказаться от его планов.
— От его планов, сударь? Что вы хотите сказать?
— Как, вы не знаете, с какой целью он приехал в Париж?
— Не знаю, сударь. В тот день, когда я со слезами на глазах сообщила ему, что вынуждена покинуть Клисон, он мне сказал, что вынужден покинуть Нант, а когда я сказала, что еду в Париж, он вскрикнул от радости и ответил мне, что едет туда же.
— Значит, — воскликнул регент, от сердца которого отлегла огромная тяжесть, — значит, вы не его сообщница?
— Сообщница? — воскликнула в страхе Элен. — О, Боже мой! Что вы говорите?
— Ничего, — ответил регент, — ничего.
— О нет, сударь, слово, которое вы проронили, открыло мне глаза. Да, я задавала себе вопрос, отчего так переменился характер Гастона; почему, вот уже год, когда я заговаривала о нашем будущем, лицо его сразу омрачалось; почему он говорил мне с грустной улыбкой: «Будем думать о настоящем, Элен, будущее темно»; почему, наконец, он вдруг впадал в глубокую задумчивость и замолкал, как будто ему грозило большое горе. Ах, сударь, что это за несчастье вы мне открыли одним словом, ведь там Гастон встречался только с недовольными — с Монлуи, Понкалеком, Талуэ. Ах» Гастон приехал в Париж как заговорщик? Гастон участвует в заговоре?
— Значит, вы, — воскликнул регент, — об этом заговоре ничего не знали?
— Увы, сударь, я всего лишь женщина, и Гастон, несомненно, счел меня недостойной знать такие тайны.
— О, тем лучше, тем лучше! — прервал ее регент. — А теперь, дитя мое, послушайте меня, прислушайтесь к словам человека, который мог бы быть вашим отцом: оставьте шевалье следовать избранным им путем, поскольку вам еще можно остановиться и не идти дальше.
— Кому? Мне, сударь? — воскликнула Элен. — Мне покинуть его, когда вы сами говорите, что ему угрожает неведомая мне опасность? О нет, сударь, мы с ним одиноки в этом мире, у него есть только я, а у меня — только он. У Гастона уже нет, а у меня еще нет родных, а если и есть, то, прожив вдали от меня шестнадцать лет, они привыкли к моему отсутствию. Значит, мы можем погибнуть вместе, и никто не прольет ни слезы. О, я обманула вас, сударь: какое бы преступление Гастон ни совершил или должен совершить, я его сообщница!
— Ах, — прошептал регент упавшим голосом, — последняя моя надежда потеряна: она его любит.
Элен с удивлением посмотрела на незнакомца, который, казалось, принимал такое живое участие в ее горе. Регент взял себя в руки.
— Но, мадемуазель, — вновь заговорил он, — ведь вы почти что отказались от него? Ведь вы ему сказали тогда, в день вашего расставания, что между вами все должно быть кончено и что вы не можете располагать ни своим сердцем, ни своей особой?
— Да, я все это ему сказала, сударь, — возбужденно ответила девушка, — потому что в то время я считала его счастливым и не подозревала, что его свобода, а может быть, и жизнь, находятся под угрозой. Тогда страдало бы только мое сердце, но совесть была бы спокойна. Мне нужно было бы преодолеть в себе боль, а не угрызения совести. Но с тех пор как над ним нависла опасность и я знаю, что он несчастлив, я чувствую, что его жизнь — это моя жизнь.
— Но вы, безусловно, преувеличиваете свою любовь к нему, — прервал ее регент настойчиво, чтобы у него не осталось никаких сомнений относительно чувств своей дочери, — ваша любовь не вынесет разлуки.
— Она вынесет все, сударь! — вскричала Элен. — Родители оставили меня, и в моем одиночестве эта любовь стала моей единственной надеждой, моим счастьем, самой сутью моего существования. О сударь, Небом заклинаю, если вы имеете на Гастона какое-нибудь влияние, а вы его имеете, раз он доверил вам тайну, которую скрыл от меня, добейтесь, чтоб он отказался от этих планов, скажите ему то, что сама я сказать не смею: я люблю его больше всего на свете, его судьба — моя судьба; если он будет изгнан — я сама отправлюсь в изгнание, если он попадет в тюрьму — я приду туда сама, а если он умрет — я умру тоже. Скажите ему это, сударь, и еще добавьте… добавьте, что по моим слезам и отчаянию вы поняли: я не лгу.
— О, бедное дитя! — прошептал регент.
И в самом деле, у любого человека, а не только у него, состояние Элен вызвало бы жалость. Она так побледнела, что стало видно, как мучительно она страдает; слезы тихо, без рыданий и всхлипываний, струились по ее лицу, сопровождая слова, и не было ни одного из них, которое не шло бы от сердца, и не было ни одного обещания, которое она не готова была бы сдержать.
— Ну что же, мадемуазель, — сказал регент, — пусть будет так, я обещаю вам сделать что смогу, чтобы спасти шевалье.
Элен сделала движение, чтобы броситься к ногам герцога, настолько ее гордую душу согнул страх перед опасностью, угрожавшей Гастону. Регент подхватил ее и обнял. Элен вздрогнула всем телом. Что-то в прикосновении этого человека наполнило ее сердце надеждой и радостью. Она осталась в его объятиях, не делая попыток освободиться.
— Мадемуазель, — произнес регент, глядя на нее с выражением, которое, несомненно, выдало бы его, встреться он с Элен глазами, — перейдем сначала к самому неотложному. Да, я сказал вам, что Гастону угрожает опасность, но она не угрожает ему непосредственно сейчас, поэтому подумаем сначала о вас: вы одни, и ваше положение ложно и шатко. Вас поручили моему покровительству, и, прежде всего, я должен позаботиться о вас как следует доброму отцу семейства. Вы доверяете мне, мадемуазель?
— О да, раз Гастон привез меня к вам.
— Опять Гастон! — пробормотал вполголоса регент и, обращаясь снова к Элен, сказал: — Вы будете жить в этом доме, который никому не известен и где вы будете свободны. А обществом вам будут служить хорошие книги и я, и если оно вам приятно, то в нем недостатка не будет. Элен сделала движение.
— Впрочем, — продолжал герцог, — это даст вам возможность поговорить о шевалье.
Элен покраснела, а регент продолжал:
— Церковь соседнего монастыря будет открыта для вас в любое время, и как только у вас возникнут подозрения, подобные тем, что уже посетили вас, монастырь послужит вам убежищем: с его настоятельницей мы друзья.
— О сударь, — ответила Элен, — вы полностью успокоили меня, я принимаю ваше предложение жить в этом доме, а доброта, которой вы одарили и Гастона и меня, делают ваше присутствие бесконечно приятным.
Регент поклонился.
— Прекрасно, мадемуазель, — сказал он, — считайте здесь себя дома. Насколько я знаю, к этой гостиной примыкает спальня. Расположение комнат на первом этаже очень удобно, и нынче же вечером я пришлю вам двух монахинь. Полагаю, что они больше устроят вас, чем горничные.
— О да, сударь.
— Итак, — продолжал, несколько колеблясь, регент, — итак, от отца вы почти отказались?
— Ах, сударь, вы же понимаете, это только от страха, что он мне не отец!..
— А ведь, — продолжал регент, — у вас нет тому никаких доказательств, разве что этот дом… я знаю, это серьезный довод против него, но, может быть, он его и не видел!
— О, — прервала Элен, — это вряд ли возможно.
— Ну, наконец, если он предпримет новые попытки, если он откроет ваше убежище, если потребует вас к себе или, по крайней мере, захочет вас увидеть?..
— Сударь, мы предупредим Гастона, и если он скажет…
— Хорошо, — сказал, грустно улыбаясь, регент, он протянул девушке руку и сделал несколько шагов к двери.
— Сударь… — прошептала дрожащим голосом еле слышно Элен.
— Вы желаете еще что-нибудь? — сказал, оборачиваясь, герцог.
— А его… я смогу его увидеть?
Эти слова скорее можно было прочесть по губам, чем услышать.
— Да, — ответил герцог, — но разве не было бы пристойнее для вас видеть его как можно реже?
Элен опустила глаза.
— Впрочем, — продолжал герцог, — он уехал и вернется, может быть, только через несколько дней.
— А когда он приедет, я его увижу? — спросила Элен.
— Клянусь вам в этом, — ответил регент.
Через десять минут две молодые монахини в сопровождении послушницы пришли в дом к Элен и расположились в нем.
Выйдя от дочери, регент спросил Дюбуа, но ему ответили, что, прождав его высочество более получаса, Дюбуа вернулся в Пале-Рояль. И действительно, войдя в покои аббата, регент увидел, что тот работает с секретарями: перед ним на столе лежал портфель, набитый бумагами.
— Сто тысяч извинений вашему высочеству, — сказал Дюбуа, увидев герцога, — но так как вы задерживались и совещание грозило затянуться, я решил нарушить приказания и вернуться сюда работать.
— Ты правильно сделал, но мне нужно поговорить с тобой.
— Со мной?
— Да, с тобой.
— Наедине?
— Да, наедине.
— В таком случае, монсеньеру угодно будет вернуться к себе и подождать или он пройдет в мой кабинет?
— Пройдем в твой кабинет.
Аббат сделал почтительный жест, указывая на дверь. Регент прошел первым, а Дюбуа последовал за ним, прихватив портфель, вероятно приготовленный в ожидании его визита. Когда они вошли в кабинет, регент осмотрелся.
— Кабинет надежен? — спросил он.
— Черт возьми, все двери двойные, а стена в два фута толщиной.
Регент подошел к креслу, сел и молча погрузился в глубокую задумчивость.
— Я жду, монсеньер, — помолчав минуту, проговорил Дюбуа.
— Аббат, — сказал регент реако, как человек, решившийся не принимать никаких возражений, — шевалье в Бастилии?
— Монсеньер, — ответил Дюбуа, — думаю, он переступил ее порог с полчаса тому назад.
— Тогда напишите господину де Лонэ. Я желаю, чтобы шевалье немедленно освободили.
Дюбуа, казалось, ожидал подобного приказания. Он не вскрикнул, ничего не ответил. Он положил портфель на стол, вытащил из него досье и стал спокойно перелистывать бумаги.
— Вы меня слышали? — спросил регент после нескольких минут молчания.
— Прекрасно слышал, монсеньер, — ответил Дюбуа.
— Тогда повинуйтесь.
— Напишите сами, монсеньер, — сказал Дюбуа.
— Почему сам? — спросил регент.
— Потому что никто никогда не сможет меня принудить,
чтоб я собственной рукой подписал вашему высочеству смертный приговор.
— Опять слова! — воскликнул, выйдя из терпения, регент.
— Это не слова, а факты, монсеньер. Господин де Шанле — заговорщик или не заговорщик?
— Да, он заговорщик, но его любит моя дочь.
— Хорошенькая причина освободить его!
— Для вас, может быть, и нет, аббат, а для меня она делает де Шанле неприкосновенным. И он немедленно выйдет из Бастилии.
— Ну и поезжайте туда за ним сами, монсеньер, я вам не препятствую.
— А вы, сударь, знали эту тайну?
— Какую?
— Что господин де Ливри и шевалье — одно и то же лицо.
— Ну да, знал, так что?
— Вы хотели обмануть меня?
— Я хотел спасти вас от чувствительности, в которую вы сейчас впадаете. Что может быть хуже для регента Франции, и так слишком занятого своими удовольствиями и капризами, чем воспылать страстью, да еще какой — отцовской, а это ужасная страсть! Обычную любовь можно удовлетворить и, следовательно, изжить, отцовская любовь ненасытна и потому совершенно невыносима. Она заставит ваше высочество совершать ошибки, чему я буду пытаться помешать по той простой причине, что я-то, по счастью, не отец, с чем и не устаю себя поздравлять, видя, какие несчастья испытывают и какие глупости совершают те, у кого есть дети.
— Какая мне разница, головой больше или головой меньше, — закричал регент, — не убьет меня этот Шанле, .если узнает, что это я помиловал его!
— Нет, но и проведя несколько дней в Бастилии, он от этого не умрет, и нужно, чтоб он там остался.
— А я говорю тебе, что он сегодня же оттуда выйдет.
— Он должен остаться там ради собственной чести, — продолжал Дюбуа так, как будто регент ничего и не говорил, — потому что если, как вы хотите, он выйдет оттуда сегодня, то его сообщники, сидящие в тюрьме в Нанте, которых вы, не сомневаюсь, не собираетесь освобождать, как его, сочтут де Шанле шпионом и предателем, искупившим преступление доносом.
Регент задумался.
— Ну вот, — продолжал Дюбуа, — все вы таковы, короли и правящие особы. Довод, который я вам привел, глупый, как все доводы чести, вас убеждает и заставляет вас молчать, но настоящие, истинные, серьезные доводы государственной пользы вы воспринимать не хотите. Что мне и что Франции до того, спрашиваю я вас, что мадемуазель Элен де Шаверни, внебрачная дочь господина регента, плачет и горюет о своем возлюбленном, господине Гастоне де Шанле? Не пройдет и года, как десять тысяч матерей, десять тысяч жен, десять тысяч дочерей будут оплакивать своих сыновей, мужей и отцов, убитых на службе у вашего высочества испанцами, которые угрожают нам, принимая вашу доброту за беспомощность и наглея от безнаказанности. Мы раскрыли заговор и должны предать заговорщиков правосудию. Господин де Шанле, глава или участник заговора, прибывший в Париж, чтобы убить вас, — ведь вы не станете это отрицать, он вам, надеюсь, все рассказал в подробностях, — возлюбленный вашей дочери. Ну что же, тем хуже для вас: это несчастье, которое свалилось на голову вашего высочества. Но ведь оно не первое и не последнее. Да, я все это знал. Я знал, что она его любит. Знал, что его зовут Шанле, а не Ливри. Да, я скрыл это, я хотел, чтобы понесли заслуженную кару и он, и его сообщники, чтобы раз и навсегда всем стало понятно, что голова регента не мишень, в которую дозволено целиться из бахвальства или от скуки, и что можно мирно и безнаказанно удалиться, если в нее не попал.
— Дюбуа, Дюбуа! Я никогда не убью свою дочь, чтобы спасти себе жизнь, а отрубить голову шевалье — значит убить ее! Поэтому — ни тюрьмы, ни карцера, избавим его даже от намека на пытки, раз все равно мы не можем осудить его на то, чего он заслуживает, простим, простим полностью, не нужно нам половинчатого прощения, как и половинчатого правосудия.
— О да, простим, простим! Наконец-то мы произнесли это великое слово! И не надоело вам, монсеньер, бесконечно распевать это слово на разные лады?
— О черт! На этот раз мотив должен быть другой: нужно наказать человека, возлюбленного моей дочери, которого она любит больше, чем меня, своего отца, и который отнимает у меня мою последнюю и единственную дочь, но я остановлюсь и дальше не пойду: Шанле будет освобожден.
— Шанле будет освобожден, монсеньер, конечно, кто против? Но позже… через несколько дней. Ну какое зло мы ему этим причиним, я вас спрашиваю? Какого черта! Не умрет он оттого, что проведет в Бастилии несколько дней; вернут вам вашего зятя, успокойтесь. Но не мешайте мне и постарайтесь сделать так, чтоб над нашим игрушечным правительством не очень смеялись. Подумайте о том, что сейчас там, в Бретани, ведут следствие по делу других заговорщиков, и ведут его жестко. Так ведь у них тоже есть возлюбленные, жены, матери. Вас это хоть как-нибудь волнует? Ах нет, вы не настолько безумны! А подумайте, как над вами будут смеяться, если станет известно, что ваша дочь любит человека, который собирался заколоть вас кинжалом! Бастарды будут целый месяц веселиться. Да сама Ментенон от такой новости встанет со смертного одра и проживет еще год. Ну какого черта, наберитесь терпения, пусть шевалье поест жареных цыплят и попьет вина у господина де Лонэ. Черт побери, Ришелье же сидел прекрасненько в Бастилии, а ведь его тоже любит одна из ваших дочерей, что вам вовсе не помешало его туда засадить. И почему? Потому что он был вашим соперником у госпожи де Парабер, у госпожи де Собран и, быть может, у других дам.
— Ну хорошо, — сказал регент, прерывая Дюбуа, — ты его посадил в Бастилию, и что ты будешь с ним делать?
— Ну, черт побери! Пусть он пройдет это маленькое испытание, чтобы оказаться более достойным стать вашим зятем! Да, кстати, монсеньер, ваше высочество серьезно думает удостоить его этой чести?
— О, Боже мой, разве я способен сейчас о чем-нибудь думать, Дюбуа? Мне не хотелось бы сделать несчастной бедную Элен, вот и все, и все же я думаю, что выдавать ее за него замуж не стоило бы, хотя Шанле и хорошего рода.
— Вы знаете это семейство, монсеньер? Черт возьми! Только его нам и не хватало!
— Я слышал это имя в давние времена, но не помню, по какому поводу. Но мы еще посмотрим, и что бы ты ни говорил, твой довод меня убедил: я не хочу, чтоб этот человек прослыл трусом. Но запомни, я не хочу также, чтоб с ним дурно обращались.
— Ну, тогда у господина Лонэ ему будет хорошо, вы просто не знаете Бастилию, монсеньер. Если бы вы хоть раз там побывали, вам не захотелось бы никакой загородной виллы. При покойном короле это, действительно, была тюрьма, я с этим, видит Бог, совершенно согласен, но при правлении добрейшего Филиппа Орлеанского она стала просто загородным домом. Впрочем, там сейчас самое лучшее общество. Каждый день — балы, праздники, вокальные вечера. Там распивают шампанское за здоровье герцога дю Мена и испанского короля. А платите вы. Поэтому там во весь голос желают вашей смерти и искоренения всего вашего рода. Господом клянусь, господин де Шанле будет чувствовать там себя как дома и как рыба в воде. Ну, пожалейте же его, монсеньер, бедный юноша, действительно, достоин жалости!
— Да, поступим так, — сказал герцог, довольный тем, что нашлось решение, устраивающее обоих, — а там посмотрим, в зависимости от того, что мы узнаем от бретонцев.
Дюбуа расхохотался.
— Узнаем от бретонцев! Да Господи Боже мой, монсеньер, хотел бы я знать, что вы можете открыть для себя нового, о чем не услышали уже из уст самого шевалье? Вам еще недостаточно, монсеньер? Проклятье! Мне было бы более чем достаточно!
— Потому что ты — не я, аббат.
— Увы! К несчастью, монсеньер, потому что, если бы я был регентом герцогом Орлеанским, я бы уже сделал Дюбуа кардиналом… Не будем об этом говорить, надеюсь, со временем это все же случится. Впрочем, мне кажется, я нашел способ решить это дело, о котором вы так беспокоитесь.
— Боюсь я твоих решений, аббат, предупреждаю тебя.
— Подождите, монсеньер. Вы дорожите шевалье только потому, что ваша дочь им дорожит.
— Ну, дальше?
— Прекрасно! Но если шевалье заплатит неблагодарностью своей верной возлюбленной, что тогда? Эта юная особа горда, она сама откажется от своего бретонца, и мы окажемся в выигрыше, как я понимаю.
— Шевалье разлюбит Элен? Ее, настоящего ангела?! Немыслимо!
— Очень много ангелов прошло через это, монсеньер. Потом Бастилия так изменяет человека, там так быстро развращаются, особенно в том обществе, которое там сейчас найдет шевалье!
— Ну хорошо, посмотрим, но никаких действий без моего согласия.
— Не беспокойтесь, монсеньер, лишь бы моя милая политика шла удачно, я вам обещаю, что оставлю процветать все ваше милое семейство.
— Скверный насмешник! — сказал, улыбаясь, регент. — Клянусь честью, ты бы высмеял самого сатану.
— Вот так-то! Наконец-то вы оценили меня по справедливости, монсеньер! Не угодно ли вам будет по этому поводу просмотреть вместе со мной бумаги, которые мне прислали из Нанта? Это вас утвердит в ваших добрых намерениях.
— Хорошо, только сначала пригласи сюда госпожу Дерош.
— Ах да, верно.
Дюбуа позвонил и передал приказание регента.
Через десять минут в комнату робко вошла госпожа Дерош, но вместо бури, которой она ждала, она получила сто луидоров и улыбку в придачу.
— Ничего не понимаю, — сказала она, — и в самом деле похоже, что эта юная особа не его дочь.
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления