Онлайн чтение книги
Полеты в одиночку
Going Solo
ДОМОЙ
Я провел в Хайфе ровно четыре недели и летал по весьма напряженному графику (согласно моему бортжурналу, 15 июня я совершил пять вылетов и пробыл в воздухе в общей сложности восемь часов и десять минут), когда вдруг у меня начались страшные головные боли. Боль сжимала голову только во время полета и во время воздушного боя с врагом. Она наваливалась на меня на крутых виражах и при резкой смене направления, то есть когда тело подвергалось сильнейшей гравитационной нагрузке. Боль словно пронзала меня ножом. Несколько раз я от боли ненадолго терял сознание.
Я доложил об этом врачу эскадрильи. Он ознакомился с моей медицинской картой и мрачно покачал головой. Мое состояние, сказал он, вне всяких сомнений, является результатом тяжелых ранений головы, которые я получил, когда мой «Гладиатор» упал в Западной пустыне, и теперь мне ни в коем случае нельзя летать на истребителе. По его словам, если я его не послушаю, я могу потерять сознание в воздухе и тогда погибну сам и погублю самолет.
— И что теперь? — спросил я у врача.
— Вас спишут по инвалидности и отправят домой в Англию, — ответил он. — Мы больше не сможем использовать вас здесь.
Хайфа, Палестина
28 июня 1941 года
Дорогая мама!
Последнее время мы очень много летаем — наверное, ты слышала об этом по радио. Иногда я нахожусь в воздухе целых семь часов в день, а это для истребителя очень много. Во всяком случае, моей голове это оказалось не под силу, и вот уже три дня, как меня отстранили от полетов.
Мне, наверное, придется пройти еще одну медицинскую комиссию, и уже она решит, можно мне летать или нет. Они могут даже отправить меня в Англию, что, в общем-то, неплохо, правда?
Хотя, конечно, жалко, ведь я начинаю делать успехи. На моем счету 5 подтвержденных сбитых самолетов — четыре немца и один француз — и несколько неподтвержденных, и очень много сбитых во время атаки воздух-земля.
Мы потеряли четырех пилотов из эскадрильи за последние две недели, их сбили французы.
А во всем остальном эта страна — сплошное удовольствие и изобилие…
Я собрал вещевой мешок и попрощался со своим доблестным другом Дэвидом. Он остался в эскадрилье после окончания Сирийской кампании. Много месяцев провел он в Западной пустыне, сражаясь на своем «Харрикейне» с немцами. Ему предстояло получить награду за отвагу. А потом он погиб.
Я повел свой старый «Моррис-Оксфорд» назад в Египет, и на этот раз в Синайской пустыне было прохладнее. Я пересек пустыню за семь часов, остановившись только раз, чтобы долить бензин.
Вскоре я поднялся на борт большого французского роскошного трансатлантического лайнера «Иль-де-Франс», который теперь использовали для перевозки войск. Мы пошли на юг к Дурбану, там я пересел на другое судно для транспортировки солдат, название которого не помню. На этом корабле мы зашли в Кейптаун, а оттуда направились на север, к Фритауну в Сьерра-Леоне.
Там я сошел на берег и накупил буквально целый мешок лимонов и лаймов для родных в Англии, живущих по карточкам. Еще один мешок я доверху набил сахаром, шоколадом и банками с мармеладом — как мне было известно, дома таких вещей не достанешь.
В небольшой лавочке Фритауна я увидел отрезы роскошного довоенного французского шелка и купил всем сестрам на платья.
Путешествие из Фритауна в Ливерпуль оказалось опасным. Наше судно то и дело атаковали немецкие подводные лодки, а также дальнобойные немецкие бомбардировщики «Фокке-Вульфы», прилетавшие с запада Франции, и все военнообязанные на борту были закреплены за ручными пулеметами и зенитками «Бофорз», в изобилии рассыпанными на верхней палубе. Мы палили по тяжелым «Фокке-Вульфам», когда они проносились над нашими головами, и время от времени, если нам казалось, что из воды высовывается перископ, мы палили и по нему тоже. Каждый день на протяжении двух недель я думал, что наш корабль потопят либо бомбы, либо торпеды. Мы видели, как три другие корабля из нашего каравана пошли ко дну, и нам пришлось остановиться, чтобы подобрать уцелевших, а однажды бомба взорвалась рядом с кораблем, окатив все судно водой, и мы вымокли до нитки.
Но нам сопутствовала удача, и через две недели плавания, черной сырой ночью в начале осени, мы вошли в порт Ливерпуля. Я сразу же сбежал по трапу и помчался искать телефонную будку, которая не пострадала во время бомбежек. Когда я, наконец, нашел работающий телефон, то буквально трясся от возбуждения при одной мысли о разговоре с матерью — в последний раз мы говорили три года назад. Она не могла знать, что я еду домой. Цензор не разрешал писать такие вещи в письмах, и сам я вот уже несколько месяцев ничего не слышал о своих родных. Письма из Англии не доходили до Хайфы.
Я вызвал междугороднего оператора и попросил соединить меня с моим старым номером в Кенте. После небольшой паузы телефонистка сказала, что этот номер отключили несколько месяцев назад. Я попросил ее выяснить подробности в справочном бюро. Нет, сказала она, ни в Бексли, ни в других городах графства Кент нет никого с фамилией Даль.
Судя по голосу, телефонистка была почтенной пожилой дамой. Я рассказал ей, что три года пробыл за границей и сейчас разыскиваю мать.
— Наверное, она переехала, — сказала телефонистка. — Видимо, ее дом, как и все прочие, постоянно бомбили, и ей пришлось перебраться в другое место.
Телефонистка оказалась настолько чуткой, что не стала говорить, что мои родные могли вообще погибнуть под бомбами, но я знал, о чем она думает, а она, вероятно, догадывалась, что я думаю о том же.
Я стоял в телефонной будке, прижимая трубку к уху, и думал, что скажу матери, если мне повезет и меня с ней все-таки соединят. Через какое-то время в трубке снова раздался голос телефонистки:
— Я нашла одну миссис Даль. Миссис С. Даль, она в Грендон-Андервуде. Это она?
— Да нет, — сказал я. — Вряд ли. Но большое вам спасибо за хлопоты.
Хотя на самом деле мне следовало сказать: «Давайте попробуем, вдруг повезет», — потому что, как оказалось, это и был новый дом моей матери.
На их дом в Кенте упала бомба, как раз тогда, когда мать с двумя моими сестрами и четырьмя собаками благоразумно пряталась в погребе. Выбрались они оттуда на утро, увидели на месте дома развалины и, недолго думая, втроем вместе с собаками погрузились в маленький семейный «Хиллман-Минкс» и через северную окраину Лондона выехали в графство Бакингемшир. Там они медленно колесили по деревушкам, высматривая дом с вывеской «Продается». В крошечной деревушке Грендон-Андервуд, в шестнадцати километрах к северу от Эйлсбери, они увидели белый коттедж с соломенной крышей, и на изгороди висела дощечка, которую они искали. У матери денег на такую покупку не было, но у одной из моих сестер имелись кое-какие сбережения, она тотчас купила дом, и они переехали.
Я ничего об этом не знал тем темным промозглым вечером в ливерпульских доках.
Я вернулся на корабль, забрал свой вещевой мешок и два мешка с лимонами, лаймами и мармеладом и, шатаясь под их тяжестью, побрел на вокзал и купил билет на лондонский поезд. Все следующее утро я просидел у окна, в изумлении глядя на зеленые английские поля. Я и забыл, как они выглядят. После пыльных равнин Восточной Африки и песчаных пустынь Египта они казались неестественно зелеными.
Мой поезд добрался до Лондона только к ночи. На Юстонском вокзале я закинул свои мешки на плечо и потащился по темным разрушенным улицам в сторону Вест-Энда. На Лестер-сквер я как-то умудрился отыскать в темноте маленькую невзрачную гостиницу. Войдя, я попросил у хозяйки разрешения позвонить по телефону. Форма Королевских ВВС и крылышки на кителе открывали все двери в Англии 1941 года. Битву за Англию выиграли истребители, а теперь уже и бомбардировщики наносили серьезный ущерб Германии. Администраторша поглядела на крылышки и сказала, что, разумеется, я могу воспользоваться ее телефоном.
Когда я взял в руки телефонную книгу Лондона, меня вдруг осенило. Я нашел имя своей сводной сестры, которая была замужем за биохимиком профессором А.А.Майлзом (тем самым, что курил козий табак, как это описано у меня в книге «Мальчик»). Они жили в Лондоне. Я нашел их номер и позвонил. Сестра подняла трубку, и я сообщил ей, что это я. Когда изумленные крики, наконец, смолкли, я спросил у нее, где моя мать и сестры. Они в графстве Бакингемшир, сказала она. Она сейчас же позвонит матери и сообщит ей эту сногсшибательную новость.
— Не надо, — остановил ее я. — Дай мне ее номер. Я сам ей позвоню.
Сестра продиктовала мне номер, и я записал его. Еще она сказала мне, что я могу у нее переночевать, и я записал ее адрес в Хэмпстеде.
— Попробуй поймать такси, — сказала она. — Если у тебя нет денег, мы расплатимся с водителем, когда ты приедешь.
Я согласился.
Потом позвонил матери.
— Алло, — сказал я. — Это ты, мама?
Она сразу узнала мой голос и замолчала, пытаясь справиться со своими чувствами. Мы не виделись три года и за все это время ни разу не разговаривали.
В те времена люди не могли звонить друг другу из дальних стран, как это делают сейчас. А три года — срок немалый, если ждешь единственного сына, который летает на самолетах-истребителях в Западной пустыне и в Греции.
Восемь месяцев назад на пороге своего коттеджа она увидела деревенского почтальона с желтым конвертом в руке. Все жены и матери жили в страхе, что однажды к ним в дверь постучится почтальон с таким письмом из военного ведомства. Многие не хотели даже открывать конверт. Они боялись прочитать лаконичное послание Министерства Обороны: «С прискорбием извещаем Вас о том, что ваш муж (или сын) погиб в бою», — и так далее. Они оставляли конверт на ночном столике — пусть откроет кто-то другой. Мать отложила конверт и стала ждать, когда вернется с работы одна из ее дочерей, которая водила грузовик. Тогда они вдвоем уселись на диване, моя сестра открыла конверт и развернула лист бумаги.
« С прискорбием извещаем вас , — было написано там, — что ваш сын ранен и находится в госпитале в Александрии ».
Облегчение было невыносимым.
— Я бы что-нибудь выпила, — сказала тогда моя мать.
Сестра извлекла из буфета драгоценную бутылку, которую в те времена уже было невозможно купить, и они обе выпили по изрядной порции крепкого неразбавленного джина.
— Это действительно ты, Роальд? — прозвучал в трубке тихий голос матери.
— Я вернулся, — сказал я.
— Как ты?
— Нормально, — сказал я.
Наступила еще одна пауза, и я услышал, как она что-то шепчет одной из сестер, по-видимому, стоявшей рядом.
— Когда мы тебя увидим? — спросила она.
— Завтра, — сказал я. — Как только возьму билет на поезд. Я везу вам лимоны, лаймы и большие банки с мармеладом. — Я не знал, что еще сказать.
— Постарайся взять билет на утренний поезд.
— Так точно, — сказал я. — Саду на самый ранний поезд.
Я поблагодарил хозяйку гостиницы, которая слышала весь разговор, сидя радом с телефоном за маленьким столиком, вышел на улицу и попытался поймать такси. Я стоял в кромешной темноте у гостиницы на Лестер-сквер, и вдруг ко мне подошли пятеро солдат.
— Гляди-ка, офицер, будь он проклят! — крикнул один. — Сейчас мы его отделаем!
Меня окружили злобные пьяные физиономии, к моему лицу уже потянулись кулаки, как вдруг один заорал:
— Эй, стой! Это же ВВС! Он летчик! У него крылышки, зараза!
И они развернулись и растворились во мраке.
Меня потрясло, что толпа пьяных солдат рыщет по темным улицам Лондона в поисках офицера, которого можно избить.
Такси так и не появилось, и я снова взгромоздил свои неподъемные мешки на плечи и зашагал по направлению к Хэмпстеду. От Лестер-сквер путь неблизкий — даже без трех огромных мешков, — но я был молод, силен, возвращался домой и, если надо, готов был пройти и двести километров.
До дома сводной сестры я добрался часа через два. Она радостно встретила меня, я вручил ей в подарок немного лимонов, лаймов и мармелада, а потом с удовольствием рухнул на кровать.
Рано утром они меня отвезли на вокзал Марилебон, и я сел на поезд до Эйлсбери. Дорога заняла час с четвертью. В Эйлсбери я нашел автобус, который, как заверил меня водитель, проедет прямо через деревню Грендон-Андервуд. Всю дорогу я без конца спрашивал сидевшего рядом старика, когда мы подъедем к Грендон-Андервуду.
— Подъезжаем, — наконец сказал он. — Здесь нет ничего особенного. Несколько домиков и пивная.
Я заметил мать за сто метров. Она терпеливо стояла у калитки, дожидаясь автобуса, и я точно знал, что она стоит здесь уже часа два, с тех пор, как прошел самый первый автобус. Но что такое час или три по сравнению с трехлетним ожиданием?
Я жестом попросил водителя остановиться прямо у коттеджа и слетел со ступенек автобуса прямо в объятия матери.
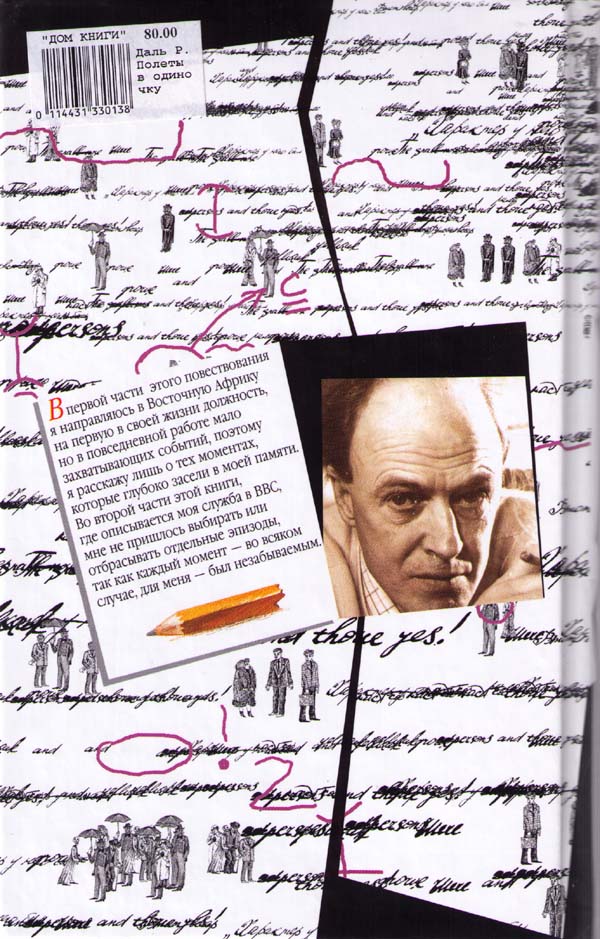
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления