Онлайн чтение книги
Герои пустынных горизонтов
Heroes of the Empty View
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
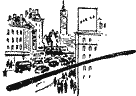
Если пустыни в ее наготе не касалась рука человека, то Лондон вобрал в себя две тысячи лет кропотливого людского труда; поколение за поколением строило, строило, строило с муравьиным упорством; орудия, выпадавшие из одних рук, тут же без раздумья подхватывались другими, и работа шла дальше — рыли землю, возводили стены, теперь уже больше повинуясь инстинкту, чем следуя намеченной цели. И то, что было создано всем этим трудом, казалось Гордону тюрьмой не только для живых, но и для мертвых. Даже те, кто еще не родился, были узниками этой тюрьмы. Одинокому маленькому человеку (задыхающемуся в четырех стенах), одинокой душе (жадно тянущейся к другим таким же непокорным душам) трудно сохранить здесь свободу.
Кроме этих унылых мыслей, грызло мелкое, но досадное ощущение своей безвестности, затерянности в людской гуще. Генерал и Фримен позаботились, чтобы Гордон приехал в Англию один и чтобы слух о его приезде не проник в газеты; Смита пока задержали в Бахразе, и он должен был приехать позднее. Быть изъятым в разгар событий из края, где он творил историю, и тихо, без шума запертым в тесной комнатке на Фулхэм-род — оказалось слишком большим испытанием и для философии Гордона и для его самолюбия. То был конец всему — не только борьбе во имя Идеи, но и всяким стремлениям, всяким чувствам, всякому осмысленному существованию.
А между тем жизненная энергия в нем не оскудевала, ее надо было куда-то деть — и вот он без цели, без надобности бродил по улицам часами, иногда целыми днями. Он просто шел туда, куда несли его усталые ноги, доводя себя до полного изнеможения. В конце концов он заболел и лежал в своей комнате разбитый, подавленный, с исхудалым лицом, весь точно ссохшийся от упадка жизненных сил, угрюмо ожидая скорбного, но почти желанного финала.
Спасло его то, что его все-таки обнаружили.
Сперва газеты, потом политические деятели, потом, наконец, знакомые и родственники, от которых он прятался. Его участие в восстании племен сделалось политической проблемой, национальной проблемой (английский герой), и проблема решалась по-разному, ибо из одних газетных небылиц выходило, что он возглавлял восстание и довел его до победного конца («Ложь!» — вне себя от гнева закричал он вслух, прочитав об этом в автобусе), а из других — что он возглавлял восстание и потерпел позорную неудачу («Ложь! Ложь! Ложь!» — застонал он, прочитав об этом у себя в комнате). Но что восстание возглавлял он — это считалось бесспорным во всех случаях. Равно как и то, что он своим авторитетом англичанина спас английские нефтяные промыслы, которые бедуины собирались разрушить.
Одного этого было достаточно, чтобы привлечь к нему симпатии одних и возбудить ненависть других. Лорд Рэвенсбрук, неутомимый охотник за выдающимися англичанами, в своей газете объявил Гордона вторым Лоуренсом. «Он похож на маленький метеор», — писал этот лорд. Дальше говорилось, что он, как и Лоуренс, был человек действия и свято хранил верность своим арабским друзьям — вплоть до измены самому себе. (Именно это и вызвало — увы! — необходимость его изгнания.) Но в то же время Гордон сумел лучше Лоуренса соблюсти жизненно важные интересы своей родины, благодаря чему нефтяные промыслы остались целы и нефтепровод невредим. Так еще один англичанин удивил мир своими высокими моральными качествами («М-да», — сказал он, глядя на снимки в газете, изображавшие его с взъерошенными, торчащими во все стороны волосами, отчего он был больше похож на Горгону Медузу, чем на человека), возглавив освободительную борьбу другого народа и при этом не поступившись своим патриотическим чувством ради чужой идеи.
Итак, герой вернулся на родину.
Как этому английскому герою существовать в Англии, к чему применить свой героизм, чтобы от этого был толк, — лорд Рэвенсбрук не объяснял. Это уже была забота самого героя.
Но эта забота могла подождать. Более неотложной была для самого Гордона необходимость внутренне приспособиться к новой обстановке, а для этого требовалось дольше побыть в тени. Гордону претило то, что о нем писали; факты были искажены, истина опошлена, и все отдавало дешевой сенсацией. Ни проблеска понимания, ни справедливого суждения о нем или о деле, которому он себя посвятил. Однажды к нему явился фотограф, который непременно хотел снять его в арабской одежде, но Гордон сказал, что всю свою арабскую одежду он сжег (это была неправда), и захлопнул дверь перед носом назойливого гостя. Все это было до того несносно, что он еще глубже зарылся в свою нору на Фулхэм-род, ставшую для него единственным прибежищем в лондонских джунглях, и старался затеряться в безвестности, что не так уж трудно в Лондоне для рядового человека, если у него есть друзья и достаточно денег, чтобы ни в чем не нуждаться.
Тут-то его и разыскал один старый знакомый, пожелавший спасти его и помочь ему вновь обрести свое героическое «я» на родной почве.
— Вы первый англичанин после Лоуренса, у которого хватило ума и трезвости взгляда, чтобы по-настоящему подойти к настоящему делу, — сказал этот знакомый Гордону. — Но если вы не хотите, подобно Лоуренсу, чувствовать себя в Англии, как рыба без воды, вы должны принять участие в нашей общественной жизни.
Совет этот был дан в завершение часового горячего спора, в котором знакомый Гордона успел проявить и раздражение, и назидательность, и восторг, и раз даже пристукнул кулаком по столу. Они сидели в грязноватом Маленьком ресторанчике близ больницы св. Стефана, и кулак сразу стал липким от холодного, сладкого чая, разлитого на покрытом клеенкой столе. Знакомый поспешил вытереть руку инстинктивным движением чистоплотного человека — движением, говорившим и об интеллигентности, и о достатке, и об увлекающейся натуре, — насколько могли передать все это бледные кончики пальцев. Во всяком случае, англичанин, о котором идет речь, обладал и тем, и другим, и третьим. Это был мужчина средних лет в добротном сером костюме, снежно-белой сорочке с мягким воротничком и галстуке неяркой расцветки; его лицо являло собой смесь самых разных выражений. Пушистая седая шевелюра имела, казалось, непосредственное отношение к общественной жизни этого джентльмена: он был известный писатель и политический деятель, а довольно солидное наследство, полученное им уже в зрелые годы, позволило ему развернуть широкую деятельность по изданию книг, брошюр и даже двухнедельного журнала, в котором он неглупо и с профессиональным уменьем развивал свои политические воззрения, и к его голосу прислушивались.
Как и Фримен, он своей ссылкой на старое знакомство в первую минуту удивил Гордона. Даже его имя — Везуби — не вызвало никаких ассоциаций, пока речь не зашла о краткой и единственной попытке Гордона принять участие в университетском политическом диспуте. Одним из его оппонентов и был этот Везуби, выступавший в Кембридже от имени Фабианского общества, по идеям которого социалистическое будущее страны зависит от просвещенного руководства. Гордон тогда утверждал, что ни образование, ни другие благоприобретенные умственные качества не могут создать вдохновенного руководителя. В любом сообществе людей, независимо от их социальных устремлений (у фабианцев, как и у ториев), во главе неизбежно окажется тот, кто от природы наделен талантом руководителя и достаточной хваткой, чтобы утвердить себя в этом качестве.
— С тех пор ваши взгляды несколько изменились, — говорил Везуби, запомнивший все подробности этого давнего спора. — Нетрудно видеть, что теперь вы считаете основным качеством вождя не природный дар, а интеллект, хотя метод остается тот же: беспощадный сверхъестественный напор сильной личности в утверждении себя над другими. В вас даже появилось уже что-то беспощадное и почти сверхъестественное. — Везуби засмеялся. — Я тут не совсем согласен с вами, Гордон, но, вообще говоря, не это главное. Главное — та идея, которая определяет цель. Что это за идея? Какова эта цель? Вот, Гордон, здесь-то и начинается политика.
Везуби все утро пытался втянуть его в политический спор, а Гордон упорно противился. У Гордона вообще не было никакого желания беседовать с Везуби. Но тот разыскал его на Фулхэм-род, и, хотя Гордон довольно бесцеремонно предложил ему убираться к черту, Везуби не ушел, заявив: — Я не допущу, чтобы вы себе сломали шею, Гордон. Никто лучше меня не знает вам цену, и я не желаю стать свидетелем вашей бессмысленной гибели. Я отсюда не уйду, пока мне не удастся убедить вас прислушаться к моим советам.
Гордон пожал плечами и не стал спорить; но сидеть в тесной комнатке вдвоем с другим человеческим существом было для него нестерпимо (он ощущал это почти как чьи-то душные объятия), и уже через две минуты он не выдержал и сорвался с места. Везуби почувствовал его состояние и тактично промолчал — только предложил прогуляться до Бэттерси-парка и там посидеть на свежем воздухе. Однако Гордон решил, что это придаст разговору чересчур интимный, доверительный тон, и предпочел отправиться в ресторанчик, надеясь, что чаепитие и убогая обстановка подействуют на него успокоительно.
Везуби очень одобрил это предложение. — Нигде так хорошо не беседуется, как в таком вот простом, невзрачном рабочем кафе, — сказал он. — Если, конечно, на тебя там не смотрят, как на чужого. К счастью, среди английских рабочих я известен как их верный, хоть и суровый друг. Точно так же, как тори считают меня своим заядлым, но культурным врагом. Я делаю все, чтобы вправить мозги и тем и другим.
— А не выходит ли это так, словно вы — тень тени? — сдержанно усмехнулся Гордон. — Что-то вроде середки наполовинку.
Везуби это неожиданно понравилось. — Так меня еще никто не называл. Обычно, причем в самых разных кругах, меня зовут «адвокатом адвокатов», потому что я больше верю в тех, кто фактически правит страной, чем в тех, кто ею формально правит. Я беззаветно верю в разумную администрацию, и политика для меня имеет смысл лишь как средство просвещать администраторов, влиять на них и даже направлять их. Вот почему я занимаюсь политикой…
Гордон недовольно засопел: ему не хотелось продолжать этот разговор — здесь, во всяком случае, потому что и это кафе уже стало для него местом, где мог происходить процесс его внутреннего приспособления к жизни. Это было важнее политики. Место было странное, и любое странное самочувствие здесь было оправдано.
Нужно сказать: все, что он чувствовал или делал после возвращения на родину, плохо вязалось с естественным и общепринятым. На всем лежал отпечаток прихотливого и глубоко личного своеобразия, даже на такой простой вещи, как одежда. Вместо арабского бурнуса он теперь носил брюки и куртку военного образца. Брюки были из плотной материи цвета хаки, прямые, узкие и хорошо отутюженные; куртка мягкая шерстяная, тоже хаки, простая и ладная. Костюм этот очень ловко сидел на его небольшой фигуре, хоть и был, пожалуй, чуть тяжеловат для нее, точно так же, как и черные ботинки были чуть грубоваты для его небольших и чувствительных ног. На первый взгляд он мог сойти за чистенького, еще необстрелянного солдатика, но лицо выдавало его. Это было не лицо простого солдата, но лицо человека незаурядного, целеустремленного и в то же время сосредоточенного в себе. При таком лице такой костюм выглядел нарочитым, а именно этого он и добивался.
— Напрасно вы стараетесь выжать из меня мое политическое кредо, Везуби, — сказал Гордон, глядя в свою чашку с чаем. — У меня его нет. — Гордон говорил по-английски так же, как и по-арабски, всегда с подковыркой; его реплики были слишком занозисты для дружеской беседы и слишком полны насмешки над самим собой, чтобы можно было принимать их всерьез. Но Везуби это, по-видимому, не смущало: в его остром, испытующем взгляде читалась готовность простить Гордону эти нервические кривлянья во внимание к тому, что перед ним — второй Лоуренс, который все же не совсем Лоуренс: человек, выбравший себе определенную роль и разработавший ее во всех деталях — от складки на брюках до язвительного тона.
Гордон сощурился, как будто ветер гнал ему в глаза песок пустыни. — А почему вам так хочется втравить меня в политику?
— Потому что я в вас вижу человека незаурядного, Гордон. Нравится вам это или нет, но вы из тех, кто переделывает мир. Вы это доказали в Аравии. Однако повторяю: вы кончите так же, как кончил Лоуренс, если не найдете своему героическому размаху применения в родной стране.
— Я не Лоуренс! И не для того я вернулся на родину, чтобы, как Лоуренс, казнить свое тело за несовершенство ума.
— А что у вас на уме? Какая ваша цель?
Гордон знал, что чем проще будет его ответ, тем сильней он ошарашит Везуби, а потому он ответил совсем просто: — Личная свобода для каждого.
Везуби рассмеялся. — Нет, вы удивительный человек. Свобода! — повторил он. — Только свобода, без всякой политики! Послушайте, спуститесь на землю! Человеку действия не пристало заниматься абстракциями.
— А тут ничего абстрактного нет, — возразил Гордон. — Если спуститься на землю, как вы выражаетесь, идея раскрывается вполне конкретно. Прежде всего это отрицание государства, потому что государство стремится к подавлению личности, оно несовместимо со свободой, оно враг свободы. Я никогда не стану поддерживать то, что полностью подавляет человека. В применении к религии это значит — ни Люцифер, ни Иегова; в применении к политике — ни капитализм, ни коммунизм. Я против всех жестоких крайностей.
— Никто из нас за них не стоит, Гордон. Но какова альтернатива?
— А это совершенно неважно. Ведь свобода — это и значит, что каждый сам по себе ищет, что лучше, и сам по себе старается поступать, как лучше. Нужно бороться со всем, что выхолащивает и глушит жизнь. А главное, пусть разум выберет путь, а потом уже нужно идти туда, куда этот путь ведет.
Везуби охотно поддавался впечатлениям — если уж что-нибудь производило на него впечатление; его политическим друзьям редко удавалось добиться этого, как они ни старались. Сейчас он пришел в неподдельный восторг. Он отхлебнул чаю. — И в Аравии вы действовали, руководствуясь этими же принципами?
— Других принципов у меня нет…
— Так, черт возьми, приятель, сумейте применить эти принципы здесь, в Англии, и вы станете истинным нашим героем. Ведь еще немного — и мы лишимся всякой свободы, даже в самых скрытых ее формах. Два голиафа теснят нас каждый со своей стороны, Гордон; все идет к тому, что мир будет принадлежать или русским или американцам. Всем же прочим останется только погибнуть — другого выхода не будет.
— Выход всегда есть…
— Вы правы, вот в этом-то все и дело. Некоторые из нас стараются лавировать посередине между той и другой стороной, найти как бы третий политический курс и уравновесить силы так, чтобы ни одна из сторон не отважилась начать наступление. Правда, пока что это нам не очень-то удается. Экономически мы слишком тесно связали себя с американцами, и вот оказывается, что мы всецело зависим от доллара — с ним и пляшем, с ним и плачем. Конечно, американцы — те же англосаксы; в этом смысле оно не так уж плохо, и с исторической точки зрения тоже они для нас более естественные союзники, чем русские со своим железным коммунизмом. Но слишком уж много в американцах авантюризма и кровожадности. И это еще одна причина, почему Англия должна искать свой особый, независимый путь, путь гуманности и самосохранения. Нам нужны люди, способные это понять, Гордон; более того — люди, у которых хватит силы, самостоятельности, отваги и пыла на то, чтобы вдохновиться нашими надеждами и осуществить их…
Гордон вытаращил глаза. — Что такое? Уж не хотите ли вы сделать из меня мессию?
— Да тут вовсе не требуется Христос, — с некоторой досадой возразил Везуби. — Нужен просто человек большой внутренней цельности. Один из многих поборников идеи, но лучше других умеющий претворить ее в жизнь. Английский герой в Англии!
— Речь идет о вашей идее, Везуби, а не о моей; расскажите, как вы ей служите.
Снова Везуби пропустил мимо ушей легкую издевку Гордона. — Я — учитель, наставник. К этому делу я лучше всего приспособлен, им я и занимаюсь. Для меня идеи разума и свободы воплощены в социализме…
— Так вы, значит, призываете меня вступить в социалистическую партию? — Гордон даже засмеялся от удовольствия, но судорожное движение его пальцев, которые все время то сжимались, то разжимались, заставляло усомниться в его искренности.
Старинный оппонент Гордона был оскорблен подобным легкомыслием. Его румяное лицо вытянулось, и он ответил подчеркнуто серьезным тоном: — В современном мире, Гордон, действующими силами являются только политические партии. Если вы вступите в одну из таких партий, она, несомненно, очень выиграет от этого. Плохо только, что при том меднолобом упрямстве, с каким вы отгораживаетесь от политики, вы очень легко можете вступить не в ту, в которую нужно. А тогда вы окажетесь опасным. Рано или поздно все партии начнут осаждать вас — так что смотрите, выбирайте именно ту, чья политика отражает в себе истинную сущность ваших идей. От этого будет зависеть, станете вы созидателем или разрушителем.
Гордон улыбнулся, подозвал официантку и заказал еще чаю.
— Не сердитесь на меня, Везуби, — сказал он. — Я вовсе не думал смеяться над вашей святыней. — И в виде компенсации он вызвался раскрыть ему собственные заветные мысли. — Да, я в самом деле ищу, к чему бы себя приложить. Ах, как это казалось просто в Аравии, где можно было не только надеяться, но и действовать для осуществления своих надежд! — Вся горечь и тоска изгнания вдруг вылились у него в чувство безграничной усталости от Аравии. Казалось, даже слово «Аравия» утомило его, когда он произнес это слово невнятной скороговоркой. — И пусть я этого лишился, нудная политическая возня тоже меня не прельщает. Я не политик и никогда политиком не стану. Меня влечет к другому…
— К чему же?
— Сам не знаю, — раздраженно буркнул Гордон и вдруг взорвался: — Поймите, Везуби! Когда я действую, мне нужно, чтобы передо мной была большая цель, смысл и устремления целой жизни.
— То есть вам нужен размах!
— Да, да. Размах! Я не желаю играть в политические бирюльки на задворках жизни. И действовать просто ради того, чтобы действовать, тоже не желаю.
— Но…
— Я хочу ощущать весь мир под лезвием моего топора, чтобы я мог расколоть его до самой сердцевины и раскрыть перед всеми истинную и сокровенную суть моих действий. Действовать, решая судьбу мира, — вот что мне нужно. Ради меньшего я действовать не стану, и меньшее не даст мне удовлетворения. А если я не найду того, что ищу, тогда я готов размозжить себе голову за эту двойную неудачу — мою и всего мира.
— Что ж, да поможет вам бог! — торжественно отозвался Везуби. И ласково пропел: — Мисс, будьте любезны, принесите нам еще по чашке вашего чудесного чая.
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления