Онлайн чтение книги
Мадлен Фера
Madeleine Férat
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
Бегство Бланш де Кавалис с Филиппом Кайолем
В последних числах мая 184… года по дороге предместья Сен-Жозеф, неподалеку от Эгалад, торопливо шел человек лет тридцати. Лошадь свою он оставил у фермера в соседней деревне, а сам направился в сторону большого, основательно и прочно сколоченного дома, своего рода сельского замка, каких немало встречается на холмах Прованса.
Минуя замок, человек свернул в сосновый лесок, что тянулся позади этого жилища. Углубившись в чащу, он спрятался за дерево и, раздвинув ветви, стал с лихорадочным беспокойством оглядываться по сторонам, словно ждал кого-то. Он поминутно вскакивал, ходил, опять садился и весь дрожал от нетерпения.
То был мужчина высокого роста, очень своеобразной внешности. Его удлиненное, резко очерченное лицо с широкими черными бакенбардами поражало силой и какой-то буйной, дерзкой красотой. Внезапно взгляд его смягчился, нежная улыбка тронула полные губы. Из ворот замка вышла молоденькая девушка и, низко нагнувшись, словно прячась от кого-то, помчалась к лесу.
Пунцовая, запыхавшаяся, вбежала она под сень деревьев. Ей было от силы шестнадцать лет. Из-под полей соломенной шляпки с голубыми бантами ее юное личико улыбалось радостно и растерянно. Белокурые волосы рассыпались по плечам. Маленькие ручки, прижатые к груди, казалось, старались сдержать бурное биение сердца.
— Я заждался вас, Бланш! — произнес с укоризной молодой человек. — Мне уже не верилось, что вы придете!
Он усадил ее рядом с собой на мох.
— Не сердитесь на меня, Филипп, — ответила девушка. — Дядюшка уехал в Экс покупать имение, но я никак не могла отделаться от гувернантки.
Девушка позволила своему милому обнять себя, и они повели разговор, в котором было мало смысла, но много прелести. Бланш, еще совсем дитя, играла в любовь, как в куклы. Филипп в молчаливом порыве обнимал молодую девушку и смотрел на нее со всем пылом честолюбия и страсти.
Долго сидели они, позабыв обо всем на свете, как вдруг заметили проходивших мимо крестьян, которые посмеивались, глядя на них. Бланш в испуге отстранилась от своего возлюбленного.
— Я погибла! — воскликнула она, побледнев. — Они донесут дядюшке. Ах, Филипп, сжальтесь, спасите меня!
Услышав ее мольбу, молодой человек одним движением встал на ноги.
— Я спасу вас, — с жаром отозвался он, — но вы должны последовать за мной. Бежим скорее! Завтра ваш дядюшка согласится на наш брак… Мы познаем радость вечной любви.
— Бежать, бежать… — повторяла девочка. — Боюсь. Я так слаба, так нерешительна…
— Я буду тебе опорой, Бланш… Мы будем жить жизнью сердца.
Бланш, глухая к словам Филиппа, молча склонила голову ему на плечо.
— Мне страшно, — прошептала она, — страшно при одной мысли о монастыре. Ты женишься на мне? Ты всегда будешь любить меня?
— Люблю тебя… Видишь, я у твоих ног…
И Бланш слепо вверилась Филиппу. Она оперлась на его руку, и они торопливо спустились с холма. Удаляясь, молодая девушка бросила прощальный взгляд на покинутый ею дом и ощутила такую щемящую боль, что глаза ее наполнились слезами.
Только минутное замешательство могло толкнуть ее, потрясенную и доверчивую, в объятия молодого человека. Бланш любила впервые, любила со всем жаром юной крови, со всем безрассудством неопытности. Подобно затворнице, вырвавшейся на долгожданную свободу, она не думала об ужасных последствиях бегства. А Филипп, опьяненный победой, увлекал девушку за собой и с трепетным чувством прислушивался к ее торопливым шагам, к ее прерывистому дыханию.
Первым его побуждением было помчаться в Марсель за фиакром. Но он не решился оставить Бланш одну на большой дороге и предпочел пешком отправиться с ней в деревню, где жила его мать. Им предстояло пройти с доброе лье до этой деревни, расположенной в предместье Сен-Жюст.
Филиппу пришлось оставить свою лошадь, и влюбленные бодро пустились в путь. Они шли быстро, напрямик, лугами, нивами, сосновыми перелесками. Было около четырех часов пополудни. Багряное солнце опускало перед ними широкие полотнища света. Теплый воздух овевал беглецов, и они неслись вперед как одержимые. Крестьяне, которых они встречали на пути, отрывались от работы и с удивлением глядели им вслед.
Меньше часу потратили они на дорогу, и вот уже Бланш, совершенно обессиленная, опустилась на скамью у входа, а молодой человек вошел в дом посмотреть, нет ли там какого-нибудь непрошеного гостя. Скоро Филипп вернулся и повел ее наверх, в свою комнату. Он упросил Эйяса, садовника, работавшего поденно у его матери, отправиться в Марсель за фиакром.
Охваченные волнением, беглецы не находили себе места. Молча, с замиранием сердца, ждали они фиакра. Филипп усадил Бланш на низенький стульчик; стоя перед ней на коленях, он не спускал с нее долгого, ободряющего взгляда и нежно целовал ее руку, которую она не отнимала.
— Ты не можешь ехать в таком легком платье, — сказал он наконец. — Не переодеться ли тебе в мужской костюм?
Бланш просияла. Мысль о подобном маскараде обрадовала ее, как ребенка.
— Мой брат небольшого роста. Его костюм будет тебе впору.
То-то был праздник! Бланш, смеясь, натянула на себя брюки. Она была очаровательна в своей неловкости, и Филипп жадно целовал ее румяные щечки. В мужском костюме она выглядела двенадцатилетним мальчуганом, каким-то игрушечным человечком. Больших трудов стоило запрятать под шляпу тяжелую копну ее волос; у Филиппа руки дрожали, когда он приглаживал непокорные кудри своей возлюбленной.
Наконец вернулся Эйяс. Он согласился приютить влюбленную парочку у себя в Сен-Барнабе. Филипп взял с собой все свои деньги, и они втроем доехали до Жаретского моста. Здесь беглецы вышли из фиакра и пешком направились к дому садовника.
Наступили сумерки. Бледное небо бросало прозрачные тени, острые запахи поднимались с земли, согретой закатными лучами солнца. И смутный страх овладел девушкой. В сладострастном сумраке надвигающейся ночи Бланш стало не по себе наедине с возлюбленным. Девичья стыдливость пробудилась в ней, и она содрогнулась от какого-то неизведанного, тягостного ощущения. Бланш верила Филиппу, она была счастлива, но его страсть пугала ее. Чувствуя, что поддается этой страсти, она пыталась оттянуть время.
— Послушай, — сказала она, — не написать ли мне аббату Шатанье, моему духовнику… может быть, он упросит дядюшку не гневаться и согласиться на наш брак… Кажется, я бы так не дрожала, будь я твоей женой.
Филипп улыбнулся, до того трогательно и наивно прозвучали ее слова.
Напиши аббату Шатанье, — отозвался он. — Я же уведомлю о нашем бегстве брата. Он завтра же приедет и отвезет твое письмо.
А потом наступила ночь, ночь жгучих наслаждений. И Бланш стала супругой Филиппа. Она отдалась ему по своей воле, без сопротивления, без единого крика; она грешила по неведению, тогда как Филипп грешил, побуждаемый честолюбием и страстью. Упоительная и роковая ночь! Ей суждено было обречь любовников на несчастье и отравить всю их жизнь мучительным сожалением.
Так ясным майским вечером Бланш де Казалис бежала с Филиппом Кайолем.
II
Мы знакомимся с героем романа Мариусом Кайолем
Мариус Кайоль, брат возлюбленного Бланш, был юноша лет двадцати пяти, маленький, худой и невзрачный. Изжелта-бледное лицо его с черными глазами-щелочками порою освещала улыбка, сиявшая самоотверженной и смиренной добротой. Он слегка сутулился и ступал по-детски неуверенно и робко. Но стоило ему загореться ненавистью к злу пли любовью к справедливости, как он весь выпрямлялся, и тогда его можно было счесть даже красивым.
Он взял на себя все самые тяжелые семейные обязанности, предоставив брату послушно следовать честолюбивым и чувственным влечениям. Сравнивая себя с ним, Мариус постоянно твердил, что он, Мариус, урод и уродом останется, и при этом добавлял: «Щегольство простительно Филиппу с его статной фигурой и красивым мужественным лицом». Впрочем, Мариусу случалось высказывать строгость в отношении старшего брата — этого взрослого мальчишки — и наставлять его подобно любящему отцу.
Их мать была бедной вдовой. Жилось ей очень тяжело. Небольшую сумму денег, уцелевшую от ее приданого, которое сильно пострадало в торговых операциях покойного мужа, она положила в банк, и это дало ей возможность воспитать двух своих сыновей. Когда дети выросли, она объявила им, что у нее нет ничего за душой и что они должны быть готовы ко всяким лишениям. Ввергнутые таким образом в борьбу за существование, братья, столь разные по характеру, избрали противоположные пути.
Филипп с его стремлением к роскоши и свободе не мог заставить себя работать. Он хотел разбогатеть сразу и мечтал о выгодном браке. В этом он видел остроумный выход, верное средство поскорее получить и состояние и красивую жену. А пока он жил словно птица небесная, заводил интрижки и мало чем отличался от завзятого жуира. Ему доставляло неизъяснимое удовольствие франтить и выставлять напоказ всему Марселю свой дешевый шик — необыкновенного покроя костюмы, томные взоры, страстные речи. Мать и брат, как могли, потакали прихотям своего баловня. Ведь в намерениях Филиппа не было ничего дурного: он сам обожал женщин и вполне допускал, что в один прекрасный день в него влюбится и завлечет его в свои сети молодая, богатая красавица аристократка.
И вот, пока старший брат только и делал, что щеголял своей великолепной внешностью, младший поступил в конторщики к г-ну Мартелли, судовладельцу с улицы Дарс. В сумраке конторы Мариус чувствовал себя как нельзя лучше; все его честолюбие исчерпывалось стремлением к скромному заработку и мирному безвестному существованию. К тому же он наслаждался в душе, помогая матери и брату. Деньги, которые он получал за свой труд, имели для него особую ценность, ибо он мог их дарить, мог приносить людям счастье, вкушая при этом радость самопожертвования. Он шел по жизни правым путем, той тернистой стезей, что ведет к миру, блаженству и величию духа.
Молодой человек уже собирался в контору, когда получил письмо, в котором брат сообщал ему о своем бегстве с мадемуазель де Казалис. В горестном изумлении Мариус мысленно измерил всю глубину пропасти, в которую низринулись влюбленные. Не теряя ни минуты, поспешил он в Сен-Барнабе.
В доме садовника Эйяса крыльцо и навес над входной дверью были так густо увиты виноградом, что образовали своеобразную беседку; широко распростертые ветви двух больших шелковиц, подстриженных в виде зонтиков, отбрасывали тень на порог. В этой беседке Мариус и нашел брата; Филипп не сводил влюбленного взгляда, с Бланш де Казалис, сидевшей подле него в грустном раздумье. Она уже устала и втайне раскаивалась во всем, что натворила. Свидание братьев было тягостным, обоим было горько и стыдно. Филипп встал.
— Ты осуждаешь меня? — спросил он, протянув руку Мариусу.
— Да, осуждаю, — твердо ответил тот. — Ты дурно поступил. Тщеславие завело тебя далеко, страсть погубила. Ты не подумал о родных, да и о самом себе.
У Филиппа вырвался жест возмущения.
— Испугался! — с горечью воскликнул он. — Мне было не до рассуждений. Я полюбил Бланш, а Бланш — меня. Я спросил ее «Пойдешь со мной?»
И она пошла. Вот и вся наша повесть. Никто из нас не виноват, ни она, ни я.
— Зачем ты лжешь? — снова заговорил Мариус, еще более сурово. — Ты не ребенок и отлично понимаешь, что долг повелевал тебе бережно отнестись к молодой девушке; ты обязан был удержать ее от ложного шага и воспротивиться ее желанию следовать за тобой. Ах, не говори мне о страсти! Мне знакомо лишь одно чувство, чувство справедливости и долга.
Филипп презрительно усмехнулся. Он привлек к себе Бланш.
— Бедный мой Мариус, — сказал он. — Ты славный малый, но ты никогда не любил, тебя никогда не томил любовный жар… Вот мое оправдание!
И он позволил Бланш обнять себя; бедная девочка трепетно припала к его груди, отлично сознавая, что Филипп — ее единственная опора. Она предалась ему, ему принадлежала и теперь любила его благоговейно и робко, как раба.
Мариус понял, что ему не урезонить любовников. Отчаявшись, он дал себе слово действовать по своему усмотрению. Он хотел знать все подробности этого прискорбного события. Филипп послушно отвечал на его расспросы.
— Мы знакомы уже месяцев восемь, — рассказывал он. — Впервые встретились на народном празднестве. Бланш улыбалась толпе, а я воображал, что мне одному шлет она свою улыбку. С того дня я полюбил ее, стал искать случая познакомиться, заговорить с ней.
— Ты ей писал? — спросил Мариус.
— Да, и не раз.
— Где твои письма?
— Она сожгла их… Обычно я вкладывал письмо в букет, купленный на бульваре Сен-Луи у цветочницы Фины. Марта, молочница, относила букеты Бланш.
— Она отвечала тебе?
— Вначале Бланш наотрез отказывалась от цветов, потом стала их принимать; в конце концов она ответила на мое послание. Тут я потерял голову, мечтал жениться на ней, любить ее вечно.
Мариус пожал плечами. Он отвел Филиппа в сторону и продолжал разговор в беспощадном и жестком тоне.
— Ты либо глупец, либо лгун, — спокойно заявил он. — Будто ты не знаешь, что господин де Казалис — депутат, миллионер, полноправный хозяин Марселя — никогда бы не согласился на брак своей племянницы с Филиппом Кайолем, безродным бедняком и — верх пошлости! — республиканцем. Сознайся, ты рассчитывал, что после вашего скандального бегства дядюшка отдаст тебе руку девушки.
— А хотя бы и так! — запальчиво ответил Филипп. — Бланш любит меня. Я ее не неволил. Она была свободна в своем выборе.
— Да, да, все понятно. Ты так много об этом толкуешь, что я вполне уяснил себе, что здесь правда, что ложь. Но ты не подумал о господние де Казалисе, чей жестокий гнев обрушится на тебя и твою семью. Я знаю, с каким человеком нам придется иметь дело, он сегодня же вечером раструбит на весь Марсель, что его гордости нанесено оскорбление. Отправил бы ты лучше девушку обратно в Сен-Жозеф.
— Нет, не хочу, да и не могу… Бланш ни за что не осмелится вернуться домой… Ту неделю, что она провела в деревне, мы каждый день, иногда по два раза, встречались с ней в сосновой роще. Дядюшка ее ни о чем не догадывался, и такая неожиданность для него, полагаю, тяжелый удар… Сейчас нам лучше не попадаться ему на глаза.
— Как знаешь! Тогда дай мне письмо к аббату Шатанье. Я повидаю этого священника. А если придется — пойду вместе с ним к господину де Казалису. Необходимо замять скандал. На мне лежит долг искупить твою вину. Обещай, что никуда отсюда не уйдешь и будешь ждать моих распоряжений.
— Обещаю, если только не возникнет какая-нибудь опасность.
Мариус взял Филиппа за руку и посмотрел ему в глаза честным, открытым взглядом.
— Люби ее крепко, — проникновенно сказал он, указывая на Бланш. — Тебе никогда не смыть позора, каким ты запятнал это дитя.
Он уже собрался было уходить, когда мадемуазель де Казалис подошла к нему. Она умоляюще сложила руки, едва сдерживая слезы.
— Сударь, — пролепетала она, — если вы увидите дядюшку, скажите ему, что я люблю его по-прежнему… Сама не понимаю, что произошло… Я хотела бы остаться женой Филиппа и вернуться домой вместе с ним.
Мариус слегка поклонился.
Надейтесь, — сказал он и ушел, растроганный и смущенный своей заведомой ложью, ибо знал, что это несбыточная надежда.
III
И у церкви есть свои лакеи
Приехав в Марсель, Мариус тотчас же отправился в церковь св. Виктора, где служил аббат Шатанье. Церковь эта была одна из древнейших в Марселе; почерневшие от времени высокие зубчатые стены придают ей вид крепости. Особенно чтит ее трудовой портовый люд.
Молодой человек нашел аббата Шатанье в ризнице. То был высокий старец с длинным, иссохшим, желтым, как воск, лицом; у него был печальный, остановившийся взгляд страдальца и неудачника. Священник только что вернулся с похорон и медленно снимал с себя стихарь.
Повесть его жизни была короткой и скорбной. Крестьянин по происхождению, детски незлобивый и наивный, он постригся в монахи, ибо такова была воля его благочестивой матушки. Для него стать священником значило вступить на стезю человеколюбия и самопожертвования. В простоте сердечной он верил, что священнослужитель должен сосредоточить все свои помыслы на безграничной любви божией и, отрешившись от честолюбивых устремлений и козней суетного мира, проводить жизнь в глубине храма, одной рукой отпуская грехи, другой — творя подаяние.
Бедный аббат! Ему сразу дали почувствовать, — да еще как! — что страдать в безвестности — удел простых душ. Он не замедлил узнать, что молодые священники зачастую любят бога лишь за те земные блага, какими их оделяет церковь. Он видел, как его товарищи по семинарии пускают в ход зубы и когти. Он был свидетелем тех внутренних распрей, тайных происков, что превращают любую епархию в маленькое беспокойное государство. А так как он смиренно пребывал коленопреклоненным, так как он не старался нравиться дамам, так как он ничего не домогался и проявлял бессмысленную набожность, то ему бросили, словно кость собаке, какой-то захудалый приход.
Итак, свыше сорока лет провел он в маленькой деревушке, между Обанью и Касси. Церковь его напоминала побеленный известью амбар; от ее голых стен веяло леденящим холодом, и если случалось, что в зимнюю стужу ветром разбивало стекло, то господу богу приходилось зябнуть не одну неделю, потому что бедный кюре не всегда имел несколько су, чтобы снова застеклить окно. Однако аббат Шатанье никогда не жаловался и пребывал в мире, нужде и одиночестве. Он даже испытывал глубокую радость, чувствуя себя братом всех нищих своего прихода.
Ему уже исполнилось шестьдесят лет, когда одна из его сестер — работница на фабрике в Марселе — получила увечье. Она написала брату, умоляя приехать. В своем самопожертвовании старый священник дошел до того, что даже обратился к епископу с просьбой дать ему местечко в какой-нибудь городской церкви. Его заставили несколько месяцев ждать и в конце концов назначили в церковь св. Виктора. Там на него свалили всю, если можно так выразиться, черную работу, все требы, не приносящие ни славы, ни денег. Он отпевал и провожал на кладбище одних только бедняков; нередко исполнял он и обязанности ризничего.
Вот тогда-то и начались его подлинные мучения. Покуда он жил отшельником, ему не возбранялось быть простым, бедным и старым. Теперь же он чувствовал, что ему ставится в вину его бедность и старость, его доброта и простодушие. У него чуть сердце не разорвалось, когда он понял, что и у церкви могут быть лакеи. Старый аббат прекрасно понимал, что над ним смеются, что на него смотрят с оскорбительной жалостью, и он еще ниже, еще смиреннее опускал голову, оплакивая свою веру, поколебленную суетными речами и деяниями окружавших его священников.
К счастью, по вечерам на его долю выпадало несколько хороших часов. Он ухаживал за больной сестрой и утешался на свой лад, жертвуя собою. Он окружал несчастную калеку множеством мелких знаков внимания. Затем его посетила еще одна радость: г-н де Казалис, не доверявший молодым аббатам, выбрал его в духовники для своей племянницы. Не в обычае старого священника было учинять допрос кающейся душе; он ждал, чтобы она сама исповедалась ему в своих грехах, однако же, тронутый до слез предложением депутата, он вопрошал Бланш, как родное, любимое дитя.
Вручив письмо, Мариус старался по лицу священника понять, какие чувства оно в нем возбуждает. Он уловил выражение мучительной боли. Однако же старик не выказал того изумления, какое вызывает неожиданная весть, и Мариус подумал, что Бланш, вероятно, призналась ему в своей близости с Филиппом.
— Вы не ошиблись, сударь, рассчитывая на меня, — обратился к Мариусу аббат Шатанье. — Но я человек очень слабый, очень неприспособленный… А в таком деле нужны твердость и решимость.
Голова и руки у бедняги тряслись по-стариковски трогательно и печально.
— Располагайте мной, сударь, — продолжал он. — Чем я могу помочь бедной девочке?
— Сударь, — ответил Мариус, — юный безумец, бежавший с мадемуазель де Казалис, — мой брат. Я дал себе клятву загладить его вину, замять скандал. Сделайте милость, присоединитесь ко мне… Честь этой девушки погибла, если дядя ее уже успел передать дело в руки правосудия. Пойдите к этому человеку, постарайтесь унять его гнев, скажите, что ему вернут его племянницу.
— Почему вы не привезли девочку с собой? Я знаю горячность господина де Казалиса. Он не поверит на слово.
— Вот этой горячности и побоялся мой брат… Впрочем, что теперь рассуждать! Сделанного не воротишь. Поверьте, я не меньше вашего негодую и понимаю, как дурно поступил Филипп… Но, ради бога, поспешим!
— Хорошо, — коротко ответил аббат. Я пойду, куда скажете.
Они прошли по бульвару Кордери до аллеи Бонапарта, где стоял дом депутата. Раздираемый гневом и отчаянием после бегства Бланш, г-н де Казалис на следующее же утро, чуть свет, примчался в Марсель.
Аббат Шатанье не пустил Мариуса дальше порога.
— Останьтесь внизу, — сказал он. — Ваш приход может показаться оскорбительным. Положитесь на меня и ждите моего возвращения.
В волнении Мариус битый час ходил взад и вперед по тротуару. Он бы дорого дал, чтобы подняться наверх, все объяснить, извиниться за Филиппа. Но в то время как в этом доме обсуждалось несчастье его семьи, он был вынужден томиться в бездействии, в тоске ожидания.
Наконец аббат Шатанье спустился вниз; он, видимо, плакал: глаза у него покраснели, губы дрожали.
— Господин де Казалис ничего не хочет слушать, — произнес он с тревогой в голосе. — Я застал его в припадке слепой ярости. Он уже побывал у королевского прокурора.
Бедный священник умолчал о том, как грубо встретил его г-н де Казалис, как упрекал его и, срывая на нем гнев, в пылу раздражения кричал, что он дурно наставлял его племянницу. Аббат безропотно принял все обвинения; он чуть ли не на коленях умолял депутата сжалиться, умолял не за себя, а за других.
— Расскажите мне все! — воскликнул Мариус в полном отчаянии.
— Оказывается, — начал священник, — господина де Казалиса навел на след крестьянин, у которого ваш брат оставил лошадь. Сегодня утром была подана жалоба и произведен обыск у вас дома на улице Сент и у вашей матери в предместье Сен-Жюст.
— Боже, боже мой! — вздохнул Мариус.
— Господин де Казалис клянется уничтожить всю вашу семью. Тщетно старался я смягчить его гнев. Он сказал, что отдаст под суд вашу матушку…
— Матушку?.. За что?..
— Он считает, что она соучастница вашего брата и помогала ему в похищении мадемуазель Бланш.
— Что делать? Как доказать, что это ложь?.. Ах, злосчастный Филипп! Он погубит матушку!
И, закрыв лицо руками, Мариус разрыдался. Растроганный аббат Шатанье с жалостью смотрел на этот взрыв отчаяния. Он угадывал доброту и прямодушие бедного юноши, который плакал без стеснения, вот так, прямо на улице.
— Полно, сын мой, мужайтесь!
— Вы правы, святой отец! — вскричал Мариус. — Мужество — вот что мне необходимо прежде всего. Сегодня утром я выказал малодушие. Мне надо было вырвать девушку из рук Филиппа и отвезти ее к дяде. Какой-то внутренний голос побуждал меня совершить это благое дело; я не послушался — и теперь наказан… Они болтали о любви, о страсти, о бракосочетании, и я расчувствовался.
Наступило минутное молчание.
— Послушайте, — сказал вдруг Мариус очень решительно, — пойдемте со мной. Вместе мы найдем в себе силы разлучить их.
— Согласен! — отозвался аббат Шатанье.
Ни одному из них не пришло в голову нанять фиакр, и они пошли сначала по улице Бретей и набережной канала, потом по Наполеоновской набережной до Канебьер. Оба шагали быстро, не произнося ни слова.
На бульваре Сен-Луи чей-то звонкий голосок окликнул Мариуса и заставил их оглянуться. Это была Фина, цветочница.
Жозефина Кугурдан, она же Фина, как запросто и ласково звал ее весь город, была одной из тех маленьких, пышных смуглянок, истых дочерей Марселя, чьи тонкие черты хранят во всей чистоте изящество эллинской расы. Ее хорошенькая головка покоилась на покатых плечах; выражение ее бледного лица, обрамленного черными, причесанными на прямой пробор волосами, было насмешливо и неприступно; страстная настойчивость, порой смягчавшаяся улыбкой, читалась в ее больших темных глазах. Ей можно было дать двадцать два — двадцать четыре года.
Пятнадцати лет осталась она круглой сиротой с десятилетним братишкой на руках. Фина мужественно взялась за ремесло своей матери и спустя три дня после ее похорон, все еще в слезах, уже сидела в киоске на бульваре Сен-Луи и, тяжко вздыхая, составляла букеты на продажу.
Маленькая цветочница вскоре стала любимицей всего Марселя. Свежесть и миловидность привлекали к ней сердца. По словам покупателей, ни у кого не было таких душистых цветов, как у Фины. У ее киоска всегда стоял хвост поклонников; она продавала им розы, фиалки, гвоздики, и ничего больше. Так вырастила она своего брата Каде, а когда ему исполнилось восемнадцать лет, определила его учеником в одну погрузочную контору.
Брат и сестра жили на Яичной площади, в самой гуще рабочего квартала. Каде, теперь уже рослый парень, работал в порту; Фина расцвела и стала красавицей со всеми повадками пылких и беспечно-ленивых жительниц Марселя.
Фина знала братьев Кайоль — они покупали у нее цветы — и болтала с ними с той непринужденной сердечностью, какую придают словам теплый воздух и мягкий провансальский говор. К тому же, если говорить начистоту, Филипп за последнее время так часто покупал у нее розы, что в его присутствии она начала ощущать легкий трепет. Молодой человек, прирожденный волокита, шутил с ней, смотрел на нее так, что вгонял ее в краску, мимоходом бросал ей полупризнание, и все это только для того, чтобы не утратить любовного навыка. А бедная девочка, которая до сих пор держала своих воздыхателей в черном теле, приняла эту игру за чистую монету. По ночам ей снился Филипп, и она с тоской задумывалась над тем, кому предназначаются цветы, которые он у нее покупает.
Подойдя поближе, Мариус заметил, что Фина раскраснелась, что она чем-то расстроена. Ее почти не было видно за букетами. Личико девушки под широкой оборкой кружевного чепчика пленяло своей свежестью.
— Господин Мариус, — произнесла она не без колебания, — верно ли то, о чем с раннего утра все только и говорят кругом?.. Ваш брат бежал с какой-то барышней?
— Кто это говорит? — с живостью откликнулся Мариус.
— Да все… Идут толки…
И, увидев, что молодой человек взволнован не меньше ее и, казалось, лишился дара речи, Фина прибавила с оттенком горечи:
— Недаром мне все твердили, что господин Филипп ветреник. Речи его чересчур приятны, чтобы быть правдивыми.
Она чуть не заплакала, но сдержала слезы. Затем, смягчившись, произнесла со скорбью и смирением:
— Я вижу, вам тяжело, Коли понадоблюсь, позовите меня.
Мариус посмотрел ей в лицо и, казалось, понял, что творится у нее на сердце.
— Славная вы девушка! — воскликнул он. — Благодарю вас; пожалуй, я прибегну к вашей помощи.
Он крепко, дружески, пожал ей руку и быстро направился к аббату Шатанье, который ждал его на тротуаре.
— Нельзя терять ни минуты, — сказал Мариус, — молва распространяется по всему городу… Возьмем фиакр.
Уже наступила ночь, когда они прибыли в Сен-Барнабе. В доме садовника не было никого, кроме его жены, которая сидела в комнате с низким потолком и вязала. Женщина эта преспокойно сказала им, что г-н Филипп и барышня побоялись дольше оставаться здесь и ушли пешком в сторону Экса. Она прибавила, что они взяли в проводники ее сына, чтобы не заблудиться среди холмов.
Итак, рухнула последняя надежда. Совершенно подавленный, вернулся Мариус в Марсель. Не слушая, что говорил ему в утешение аббат Шатанье, он с возмущением думал о преступном легкомыслии Филиппа, которое будет иметь роковые последствия для всей семьи.
— Сын мой, — сказал ему на прощание священник, — я человек маленький, но вы располагайте мною, Я буду молить бога, чтоб он помог вам.
IV
Месть господина де Казалиса
Любовники бежали в среду. А в пятницу весь Марсель уже знал о случившемся. Об этом захватывающем событии кумушки судачили у каждой двери: дворяне негодовали, буржуа потешались. Г-н де Казалис в запальчивости не побрезговал ничем, чтобы поднять невероятный шум вокруг бегства своей племянницы и придать ему как можно более широкую огласку.
Люди проницательные легко догадывались о причине такого гнева. Г-н де Казалис — депутат от оппозиции — был избран в Марселе большинством, состоявшим из либералов, нескольких священников и дворян. Ему, приверженцу легитимистов, представителю одного из стариннейших родов Прованса, смиренному слуге всемогущей церкви, было глубоко противно улещивать либералов и принимать их голоса. Он считал этих людей мужланами, холопами, которых приказал бы публично высечь на площади, будь на то его воля. Бешеная гордость этого аристократа возмущалась при одной мысли, что ему придется опуститься до них.
Однако он был вынужден смириться. Либералы раструбили во все концы о своей услуге; был такой момент, когда они, заметив, что их помощь, по-видимому, неугодна, заговорили о том, чтобы приостановить выборы и назначить кого-нибудь из своих. Обстоятельства заставили г-на де Казалиса затаить свою ненависть, и он дал себе слово в один прекрасный день отомстить. И тогда были пущены в ход тайные пружины; не обошлось здесь и без духовенства; тысячи расшаркиваний перед правыми, тысячи посул левым, и голоса были завоеваны. Г-н де Казалис стал депутатом.
И вот теперь ему в руки попался Филипп Кайоль, один из вожаков либеральной партии. Наконец-то можно будет отыграться на ком-то из этих мужланов, которые чуть было не отказались его избрать. Этот расплатится за всех; семья его будет разорена и повергнута в отчаяние; а его самого арестуют, и с облаков, куда занесли его любовные грезы, он упадет на тюремную солому.
Как! Чтобы какой-то проходимец посмел увлечь, посмел увезти племянницу самого де Казалиса! А теперь влюбленные носятся по дорогам, словно вырвавшиеся на свободу школьники! Такой скандал нельзя было не разгласить. Человек не именитый, пожалуй, предпочел бы замять дело и по возможности скрыть столь плачевное происшествие; но у дворянина из рода де Казалисов, депутата, миллионера, хватит влияния и гордости, чтобы не бояться огласки и, не краснея, кричать о позоре одного из членов своей семьи.
Честь девушки? Велика важность! Пусть все знают, что Бланш де Казалис была любовницей Филиппа Кайоля, только бы никто не мог сказать, что она была его женой, что она состояла в неравном браке с безродным бедняком. Дворянская спесь допускала, чтобы девушка, почти подросток, навеки лишилась доброго имени, чтобы о ее бесчестии марсельцы узнали из листков, расклеенных по городу.
Господин де Казалис велел повесить на всех перекрестках объявления, в которых сообщалось, что награда в десять тысяч франков ждет того, кто привезет его племянницу и ее соблазнителя связанными по рукам и ногам. Так оповещают о пропаже породистого пса.
В высших сферах скандал разразился с еще большей силой. Г-н де Казалис всюду носился со своей яростью. Он прибегал к помощи влиятельных друзей — священников и аристократов. В качестве опекуна Бланш — она была сиротой, и г-н де Казалис управлял ее состоянием — он побуждал правосудие начать энергичные поиски. Можно было подумать, что он почитает своим долгом привлечь внимание всего города к бесплатному представлению, которое собирался дать.
Прежде всего он потребовал ареста г-жи Кайоль. На все вопросы королевского прокурора бедная женщина сбивчиво отвечала, что ничего не знает о сыне. Замешательство, материнская тревога и опасения, несомненно, послужили уликой против нее. Старушка была заключена в тюрьму как заложница: вероятно, ожидали, что ради спасения матери сын отдаст себя в руки правосудия.
Узнав об аресте матушки, Мариус чуть с ума не сошел. Он знал, как она слаба здоровьем, и с ужасом представлял ее себе в пустой и холодной камере; она умрет, изведется там в мучительной тоске и отчаянии.
Самого Мариуса тоже пытались допрашивать. Но его уверенные ответы и готовность судовладельца Мартелли поручиться за него спасли молодого человека от заключения. Ему нужно было во что бы то ни стало сохранить свободу, он должен был спасти семью.
Постепенно своим здравым умом он разобрался во всем, что произошло. В первую минуту вина Филиппа так удручила Мариуса, что он ничего не видел, кроме непоправимой оплошности брата. И он готов был на любые унижения, готов был на все, лишь бы утихомирить г-на де Казалиса. Но неумолимая жестокость депутата, затеянный им скандал возмутили молодого человека. Мариус видел беглецов, он знал, что Бланш добровольно последовала за Филиппом, и ему было обидно слышать, как брата обвиняют в насильственном увозе девушки. В бранных словах недостатка не было: Филиппа обзывали извергом, подлецом; матушку и ту не пожалели. Из чувства справедливости Мариус стал защищать любовников и перешел на сторону обвиняемого против правосудия. К тому же ему опротивели громогласные сетования г-на де Казалиса. Мариус считал, что истинная скорбь нема и что дело, в котором поставлена на карту честь девушки, не должно стать достоянием улицы. Он думал так не потому, что хотел выгородить брата, а потому, что был оскорблен в лучших чувствах, видя, как трезвонят о позоре этого ребенка. Впрочем, он знал, почему так разбушевался г-н де Казалис: метя в Филиппа, депутат метил не столько в соблазнителя, сколько в республиканца.
Итак, Мариус почувствовал, что в нем тоже закипает гнев. Он оскорбился за свою семью: мать его держали в заключении, брата травили, как дикого зверя, все, что ему, Мариусу, было дорого, смешивали с грязью, близких ему людей обвиняли ложно и пристрастно. И тут он поднял голову. Виновником был не только влюбленный честолюбец, бежавший с богатой девушкой, но и тот, кто всполошил весь Марсель, кто собирался воспользоваться своим могуществом для удовлетворения родовой спеси. Поскольку правосудие бралось наказать первого преступника, Мариус поклялся рано или поздно покарать второго, а пока он будет расстраивать его замыслы и постарается подорвать влияние этого титулованного и богатого человека.
С той минуты он развернул лихорадочную деятельность и посвятил всего себя одной цели — спасению матери и брата. На беду, ему не удавалось ничего разузнать о Филиппе. Через два дня после его бегства Мариус получил письмо, в котором брат умолял прислать ему тысячу франков на дорожные расходы. На письме стоял почтовый штемпель города Ламбеска.
Филипп на несколько дней остановился в этом городе под гостеприимным кровом г-на де Жируса, старинного друга семьи Кайоль. Г-н де Жирус, сын бывшего члена парламента Экса, родился в разгар революции. С первым вздохом втянул он в себя раскаленный воздух 89-го года, и в крови этого человека навсегда сохранилась частица революционного жара. Ему было не по себе в особняке, расположенном на бульваре, в Эксе; он так строго порицал безмерную надменность и жалкую косность местного дворянства, что предпочитал жить вдали от него. Трезвый ум, склонность к логическому мышлению заставили его примириться с неизбежным ходом истории; охотно протянув руку народу, он приноравливался к новым веяниям современного общества. Г-н де Жирус даже мечтал одно время открыть завод и, отбросив свой графский титул, стать промышленником: он понимал, что в нынешнее время есть только одна аристократия — аристократия труда и таланта. А так как он предпочитал жить один, подальше от равных себе, то проводил большую часть года в своем поместье близ городка Ламбеск. Там он и приютил беглецов.
Просьба Филиппа огорчила Мариуса. Все его сбережения не превышали шестисот франков. Он предпринял кое-какие шаги и два дня искал, у кого бы одолжить недостающую сумму.
В то утро, когда он уже потерял надежду достать деньги, к нему пришла Фина. Накануне он поделился своим огорчением с этой девушкой, которая со дня бегства Филиппа то и дело попадалась ему на глаза. Она неустанно справлялась, нет ли у него вестей от брата; и больше всего ее, казалось, занимал вопрос, по-прежнему ли барышня эта следует за Филиппом.
Фина положила на стол пятьсот франков.
— Вот, возьмите, — сказала она, краснея. — Отдадите потом… Это я сберегла для брата, чтобы он мог откупиться от солдатчины, если вытянет жребии.
Мариус не захотел брать деньги.
— Не заставляйте меня попусту терять время, — настаивала девушка с милой грубоватостью. — Я должна поскорее вернуться к своим цветам. Позвольте только приходить к вам каждое утро за новостями.
И она убежала.
Мариус послал брату тысячу франков. Ответа не последовало, и в течение двух недель он не знал, как развиваются события. Филиппа упорно преследуют — вот все, что ему было известно. Однако он ни за что не хотел верить тем до смешного нелепым пли чудовищным слухам, какие ходили в народе. У него было довольно своих страхов, чтобы еще прислушиваться ко всяким ужасам, какие способны нагородить досужие сплетники. Никогда прежде бедняга так не страдал. От мучительного ожидания и беспокойства нервы у него были предельно напряжены; малейший шум пугал его, и он все время к чему-то прислушивался, словно ждал дурных вестей. Шли слухи, будто бы Филипп отправился в Тулон и там чуть было не попал в руки преследователей. Поговаривали, что потом беглецы вернулись в Экс. Здесь следы их терялись. Может быть, они пытались перейти границу? Или нашли убежище среди холмов? Никто ничего не знал.
Молодой человек лишился покоя, тем более что сильно запустил дела судовладельца Мартелли. Если бы Мариуса не удерживало чувство долга, он бросил бы контору, полетел бы на выручку Филиппу, сам взялся бы за его спасение. Но он не смел оставить дом, где в нем нуждались. Г-н Мартелли питал к Мариусу чисто отеческую привязанность. Овдовев несколько лет тому назад, он взял к себе одну из своих сестер, молодую двадцатитрехлетнюю девушку; он любил ее как дочь. А Мариус был для него все равно что сын.
На следующий день после того, как разразился скандал, учиненный г-ном де Казалисом, судовладелец позвал Мариуса в свой кабинет.
— Ах, друг мой, — сказал он, — скверная история! Ваш брат погиб. Нам никогда не спасти Филиппа от ужасных последствий его легкомыслия, для этого мы слишком слабы.
Господин Мартелли принадлежал к либеральной партии и даже выделялся там чисто южной энергией. У него были свои счеты с г-ном де Казалисом, судовладелец знал ему цену. Безупречная честность, огромное состояние делали г-на Мартелли неуязвимым для всяких нападок; но он гордился своим либерализмом и достаточно уважал себя, чтобы пользоваться своей силой. Он посоветовал Мариусу спокойно ждать, во что выльется дело, и обещал, в случае если завяжется борьба, помочь, чем только сможет.
Однажды утром, когда Мариус, который все это время был как на угольях, уже совсем было решился попросить отпуск, к нему с плачем вбежала Фина.
— Господин Филипп арестован! — рыдая, крикнула она. — Его и барышню схватили на мызе в предместье Труа-бон-Дье, в одном лье от Экса.
И так как Мариус, в полном смятении, поторопился спуститься вниз, чтобы удостовериться в справедливости этой вести, цветочница, улыбнувшись сквозь слезы, тихонько прошептала:
— Будь что будет, а барышня больше не с ним!
V
Бланш делает шесть лье пешком, чтобы увидеть крестный ход
Бланш и Филипп покинули дом садовника под вечер, уже в седьмом часу. Еще днем они заметили на дороге жандармов, и все в доме были уверены, что вечером беглецов арестуют; страх выгнал их из первого убежища. Филипп надел крестьянскую рубаху, Бланш одолжила у жены садовника деревенский наряд — красное ситцевое платье в цветочек и черный передник; плечи она повязала желтой клетчатой косынкой, а голову покрыла широкополой шляпой из грубой соломки. Виктор, хозяйский сын, — подросток лет пятнадцати, — пошел с ними, чтобы коротким путем вывести их на дорогу в Экс.
Стоял теплый, трепетный вечер. Горячие испарения, подымавшиеся от земли, смягчали порывистое дыхание свежего морского ветра. На западе медленно догорало зарево заката; вся остальная часть неба, фиолетово-синяя, постепенно бледнела, и звезды одна за другой зажигались во тьме, подобно мерцающим огонькам далекого города.
Любовники, понурые и безмолвные, торопились поскорее очутиться среди пустынных холмов. Пока они шли пригородом Марселя, им навстречу попадались редкие прохожие, на которых они недоверчиво косились. Но потом, на широко раскинувшейся равнине, беглецы лишь кое-где, на краю дороги, наталкивались на одинокого пастуха, сурового и неподвижного посреди своего стада.
И под спасительным покровом темноты, в безмятежной тишине ночи влюбленные продолжали свой неустанный бег. Им чудились какие-то неясные вздохи; из-под ног с тревожным шумом выкатывались камни. Уснувшая равнина ширилась и нарушала своей чернотой однообразие сумрака. Бланш боязливо жалась к Филиппу и ускоряла свои мелкие шажки, стараясь не отстать; с тяжелым вздохом вспоминала она, каким мирным был ее девичий сон.
Затем пошли холмы, глубокие ущелья, которые приходилось преодолевать. Дороги вокруг Марселя легки и удобны; но в глубине края гребни скал делят всю центральную часть Прованса на узкие бесплодные долины. Невозделанные пустоши, каменистые холмы со скудной порослью тмина и лаванды расстилались теперь перед беглецами во всем своем мрачном запустении. Вдоль холмов то поднимались, то сбегали вниз тропинки; дороги были загромождены глыбами обвалившихся скал; под прозрачным синеватым небом они казались морем, окаменевшим в разгаре бури, океаном, волны которого навеки застыли в неподвижности.
Виктор шел первым. Тихонько насвистывая какой-то провансальский напев, он прыгал по скалам с ловкостью серны; мальчик вырос в этой пустыне, знал в ней каждый, даже самый глухой уголок. Бланш и Филипп с трудом поспевали за ним; молодой человек почти нес свою возлюбленную, ее ноги были изранены об острые дорожные камни. Она не жаловалась и, когда в темноте Филипп заглядывал ей в лицо, улыбалась ему кротко и грустно.
Но вот скалы Септема остались позади, и Бланш в изнеможении опустилась на землю. Луна, медленно восходившая на небо, осветила ее лицо, залитое слезами. Филипп в тоске и тревоге склонился над ней.
— Ты плачешь! — воскликнул он. — Ты страдаешь, моя бедная любимая девочка!.. Ах, видно, я и впрямь негодяй, что увлек тебя за собой!
— Не говорите так, Филипп, — возразила Бланш. — Мне горько, что я такая несчастливица… Видите, я едва хожу. Лучше бы мы пали на колени перед дядюшкой и с мольбой протянули к нему руки.
Сделав усилие над собой, она встала, и они продолжали свой путь по этой адской равнине. То была отнюдь не беспечная и веселая прогулка влюбленных, то было мрачное бегство, исполненное смертельной тревоги, бегство двух безмолвных и дрожащих преступников.
Пересекая Гарданну, они битых пять часов преодолевали всевозможные препятствия. Наконец беглецы отважились спуститься на большую дорогу, по которой было бы легко идти, если бы не пыль, слепившая глаза.
Виктора они отправили назад, как только взобрались на высоты Арк. Меньше чем за шесть часов Бланш прошла по кремнистым дорогам шесть лье; она упала на каменную скамью у ворот города и заявила, что не может двинуться с места. Филипп, опасаясь, что его арестуют, если он останется в Эксе, стал искать какой-нибудь экипаж; он нашел женщину, которая согласилась довезти их в своей двуколке до Ламбеска, благо сама туда направлялась.
Несмотря на тряску, Бланш крепко уснула и проснулась только у самых ворот городка. Возбуждение ее улеглось; она почувствовала себя спокойнее и бодрее. Любовники спрыгнули с двуколки. Занималась заря, румяная и сияющая; она вселила в них надежду. Ночные кошмары улетучились, беглецы забыли Септем и шли рядышком по росистой траве, опьяненные своей юностью и любовью.
Не застав дома г-на де Жируса, у которого Филипп рассчитывал найти приют, беглецы отправились на постоялый двор. Наконец-то они могли насладиться покоем, наедине со своей любовью. Когда вечером содержательница постоялого двора, которая приняла их за брата и сестру, собиралась приготовить две постели, Бланш усмехнулась: теперь уже страсть не пугала ее.
— Постелите нам вместе, — сказала она, — этот господин мой муж.
На другой день Филипп пошел к г-ну де Жирусу, который уже вернулся. Он рассказал ему все как было и попросил совета.
— Черт возьми! — воскликнул старый дворянин. — Тяжелое у вас положение! Ведь вы же простолюдин, поймите это, друг мой! Сто лет тому назад господин де Казалис повесил бы вас за то, что вы посмели коснуться его племянницы; сегодня он может только бросить вас в тюрьму. И поверьте, он не преминет это сделать.
— Но как же теперь быть?
— Как быть? Вернуть девушку дяде и поскорее добраться до границы.
— Вы знаете, что я на это не пойду.
— В таком случае ждите спокойно, пока вас арестуют… Ничего другого не могу вам посоветовать. Вот так-то!
За дружеской резкостью г-н де Жирус прятал добрейшее в мире сердце. Когда Филипп, смущенный сухостью приема, готов был уже уйти, он окликнул его и взял за руку.
— Мой долг задержать вас, — продолжал он не без горечи. — Я принадлежу к аристократическому сословию, которое вы оскорбили… Слушайте, у меня по ту сторону Ламбеска пустует домик, вот вам ключ Спрячьтесь там, но не говорите мне, что вы туда идете. А то я подошлю к вам жандармов.
Вот как получилось, что любовники провели около недели в Ламбеске. Они жили в мирном уединении, нарушаемом ежеминутными приступами страха. Филипп получил от Мариуса тысячу франков; Бланш разыгрывала хозяюшку, и влюбленные с наслаждением ели из одной тарелки.
Новая жизнь казалась Бланш каким-то сном. Бывали минуты, когда она переставала понимать, почему она любовница Филиппа; в ней подымался протест, и она была не прочь вернуться к дяде, но не смела заявить об этом напрямик.
Все это происходило в восьмидневный праздник тела господня. Однажды в полдень, подойдя к окну, Бланш увидела крестный ход. Она преклонила колени и молитвенно сложила руки. Ей казалось, что она видит себя в белом платье, поющей в хоре, и сердце у нее разрывалось от горя.
В тот же вечер Филипп получил анонимную записку. Кто-то предупреждал его, что на следующий день их должны арестовать. Ему показалось, что он узнает почерк г-на де Жируса. И бегство возобновилось, еще более тяжелое и мучительное.
VI
Погоня за влюбленными
Итак, это было настоящее бегство, отступление без отдыха и срока. Шарахаясь в испуге то вправо, то влево, поминутно прислушиваясь к воображаемому стуку лошадиных копыт, ночи напролет шагая по большим дорогам, целыми днями отсиживаясь в грязных комнатах постоялых дворов, беглецы несколько раз пересекли весь Прованс, то уходя вперед, то возвращаясь назад, не зная, где, в какой пустыне, отыскать тайное и глухое убежище.
В одну бурную ночь, когда свирепствовал мистраль, беглецы вышли из Ламбеска и направились в сторону Авиньона. Они наняли маленькую тележку; дул сильный ветер; лошадь шла вслепую. Бланш в своем ситцевом платьишке дрожала всем телом. В довершение всех бед им издали показалось, что у городских ворот стоят жандармы и засматривают в лицо каждому проходящему. Перепуганные беглецы повернули назад, в Ламбеск, откуда только что выехали.
Прибыв в Экс, они не посмели там оставаться и решили любой ценой добраться до границы, где надеялись раздобыть себе паспорт и укрыться в каком-нибудь безопасном месте. Филипп знал одного аптекаря в Тулоне и склонялся к тому, чтобы заехать в этот город. Он надеялся, что приятель поможет им перейти границу.
Аптекарь, веселый толстяк по имени Журдан, принял их на редкость радушно. Он спрятал беглецов в своей комнате и сказал, что сию же минуту пойдет раздобывать паспорт.
Не успел Журдан уйти, как в аптеку ввалились двое жандармов.
Бланш чуть не лишилась чувств. Она сидела в углу, вся бледная, с трудом удерживая слезы. Филипп сдавленным голосом спросил у жандармов, что им угодно.
— Не вы ли будете аптекарь Журдан? — спросил один из них с резкостью, не предвещавшей ничего хорошего.
— Нет, — ответил молодой человек. — Господин Журдан ушел, но он скоро вернется.
— Ладно, — сухо произнес жандарм и тяжело опустился на стул.
Бедные влюбленные не смели взглянуть друг на Друга; они замирали от страха, не сомневаясь, что полицейские пришли за ними. Целых полчаса длилась эта пытка. Наконец вернулся Журдан. Увидев жандармов, он страшно побледнел и отвечал им с неописуемым волнением.
Извольте следовать за нами! — приказал один из жандармов.
— Но почему? — спросил Журдан. — Что я сделал?
— Вас обвиняют в шулерстве, вчера вечером в клубе вы вели нечестную игру. Объяснения дадите следователю.
Журдан весь затрясся; с минуту он стоял как пораженный громом, а затем послушно, словно ребенок, побрел за жандармами, которые вышли, даже не удостоив взглядом полумертвых от страха Филиппа и Бланш.
Дело Журдана в те времена очень нашумело в Тулоне, по никто не знал, какая глубокая, мучительная драма разыгралась в аптеке в день ареста ее владельца.
Эта драма озадачила Филиппа, который понял, что слишком слаб, чтобы ускользнуть от преследований полиции. К тому же рухнула единственная надежда достать паспорт и перейти границу. И Бланш, — он это хорошо видел, — тяготилась такой жизнью. Поэтому он решил обосноваться где-нибудь в окрестностях Марселя, пока г-н де Казалис не сменит гнев на милость. Как все люди, потерявшие последнюю надежду, он лелеял нелепую мечту добиться прощения и счастья.
У Филиппа в Эксе был родственник по имени Иснар — владелец галантерейной лавки. Беглецы, не зная, в какую дверь им постучаться, вернулись в Экс, чтобы попросить у Иснара ключ от его мызы. Злой рок преследовал беглецов: они не застали галантерейщика дома и были вынуждены отправиться к двоюродной сестре фермера г-на де Жируса, проживавшей в старом доме на проспекте Секстиус. Женщина эта наотрез отказалась приютить их: она боялась, как бы не пришлось отвечать за укрывательство преступников; она сдалась лишь после того, как Филипп поклялся освободить ее сына от военной службы. Несомненно, в эту минуту молодой человек был окрылен надеждой; он уже видел себя племянником депутата, широко пользующимся всемогуществом своего влиятельного дядюшки.
Вечером пришел Иснар и принес влюбленным ключ от своего загородного дома, расположенного на Пюирикарской равнине. У него было еще два таких дома, один в Толон е, другой в предместье Труа-бон-Дье. Ключи от тех двух владений были спрятаны под большим камнем, который он им точно описал. Иснар посоветовал беглецам не ночевать два раза подряд под одной и той же крышей и обещал приложить все усилия, чтобы сбить с толку полицию.
Молодые люди ушли по дороге, что ведет мимо Госпиталя.
Загородный дом Иснара был расположен вправо от Пюирикара, между деревней и Венельской дорогой. Красная черепичная крыша оживляла это уродливое строение, сложенное из голого камня и извести; весь дом состоял из одной комнаты, напоминавшей запущенную конюшню; на полу валялись остатки соломы, с потолка бахромой свисала паутина.
К счастью, у любовников было с собой одеяло. Они собрали всю солому в один угол, поверх разостлали одеяло и заснули в этом сыром, отдающем плесенью помещении.
Весь следующий день Филипп и Бланш провели в русле высохшего потока Тулубры, а к вечеру снова вышли на Венельскую дорогу и, сделав крюк в обход Экса, добрались до Толоне. В одиннадцать часов ночи беглецы пришли в дом галантерейщика, где жилым был только низ, а наверху помещалась молельня иезуитов.
Этот дом выглядел поприличнее. Он состоял из кухни и столовой, в которой стояла складная кровать; на стенах висели карикатуры, вырезанные из сатирического журнала, а к выбеленным потолочным балкам были подвешены связки лука. Любовникам все это должно было показаться настоящим дворцом.
Утром, едва проснувшись, беглецы почувствовали новый приступ страха; они поднялись на холм и до самой ночи не выходили из ущелий Инферне. В те времена бездны Жомегарда не утратили еще своей чудовищной мрачности, канал Золя еще не пробуравил гору, и гуляющие еще не отваживались спускаться в зловещие, как могилы, воронки меж красноватых скал. Среди этой пустыни Бланш и Филипп вкусили глубокий покой; они долго отдыхали у прозрачного родника, который, журча, вытекал из какой-то каменной глыбы. Но вот вернулась ночь, а с ней мучительная забота о ночлеге. Бланш еле передвигала ноги, до крови израненные об острые, колючие камни. Филипп понимал, что нельзя идти с ней дальше. Поддерживая ее, он медленно поднялся на плоскогорье, возвышавшееся над Инферне. Необозримые равнины, обширные каменистые поля, невозделанные пустоши, то тут, то там изрытые заброшенными каменоломнями, простирались до самого горизонта. Вряд ли есть на свете что-либо более причудливое и дикое, чем эта голая местность, испещренная там и сям низкой, темной, почти черной зеленью; скалы, похожие на вывернутые конечности, пробивались на поверхность тощей земли; равнина походила на горбунью, скончавшуюся в ужасных предсмертных судорогах.
Филипп надеялся найти какую-нибудь расселину или пещеру. Ему повезло: он наткнулся на сторожку, в каких охотники подстерегают перелетных птиц. Без зазрения совести вышиб он дверь и усадил Бланш на низкую скамью, которую нащупал в темноте. Затем он нарвал огромную охапку тмина; плоскогорье сплошь покрыто этим скромным серым растением, сильный запах которого поднимается со всех холмов Прованса. Филипп устлал тмином пол шалаша и покрыл этот импровизированный матрац одеялом. Постель была готова. И на этом жалком ложе любовники на сон грядущий обменялись поцелуем. Ах! Сколько в этом поцелуе было сладостной муки и горького наслаждения! Они сжимали друг друга в объятиях со всем пылом страсти и гневом отчаяния.
У Филиппа любовь породила дикую ярость. Беспощадный закон вынуждал его все время скрываться, ставил под удар его мечту о богатстве, грозил ему тяжкой. карой; преступник бунтовал и давал исход своему бунту, обнимая Бланш с такой силой, словно хотел задушить ее. Отдавшись ему, девочка эта стала для него орудием мести; он обладал ею как гневный повелитель, он подчинял ее себе поцелуями, торопясь отвести душу, пока еще был на свободе. Гордость его черпала силу в нескончаемом наслаждении. Он, сын народа, прижимал к своему сердцу дочь тех могущественных и надменных господ, чей экипаж, случалось, забрызгивал ему лицо грязью. Он вспоминал местные сказания о притеснениях, чинимых знатью, о муках народа, о том рабском унижении, которое испытывали его предки из-за жестоких прихотей аристократов. И тогда он душил Бланш своими неистовыми ласками. Кончилось тем, что он стал испытывать горькую радость, заставляя ее бежать по кремнистым дорогам. Любовница, измученная тоской и усталостью, была ему еще дороже и желаннее. Он не любил бы ее так сильно в безмятежной обстановке гостиной. Когда по вечерам она, совершенно разбитая, падала на постель рядом с ним, он любил ее бешено.
Любовники провели безумную ночь в запущенном пюирикарском доме. Там, на соломенном ложе, среди грязи и паутины, они были совершенно отторгнуты от всего мира. Вокруг, с уснувших небес, нисходило великое безмолвие. Здесь любовь их не знала помех, здесь она была свободна от тревог и опасений, и они совершенно растворились в своем чувстве. Филипп не променял бы это соломенное ложе на королевскую постель; в порыве гордости он хвастал перед самим собой, что держит в конюшне урожденную де Казалис. И так будет завтра и во все последующие дни; какое острое блаженство тащить за собой это дитя по глубокому безлюдию Жомегарда! Он увлекал ее за собой с нежностью отца, со свирепостью хищного зверя.
Филиппу не спалось в шалаше, сильный запах тмина, на котором он лежал, сводил его с ума. Ему грезилось наяву, что г-н де Казалис принимает его с любовью, как племянника, и что его, Филиппа, избирают в депутаты на место дядюшки. Время от времени ему слышался жалобный вздох Бланш, которая забылась беспокойным лихорадочным сном.
Для мадемуазель де Казалис бегство уже превратилось в кошмар, исполненный жгучих наслаждений. Весь день она не чувствовала ничего, кроме тупой усталости. Неопытность заставила ее согласиться на побег, малодушие мешало ей потребовать возвращения. Телом и душой она принадлежала этому человеку, который уносил ее в своих объятиях, и хотела она лишь одного — чтобы наступил конец этому бегству; Бланш продолжала верить, что ей можно будет обвенчаться о Филиппом, как только дядюшка перестанет сердиться.
С восходом солнца беглецы покинули свое ложе из тмина. Одежда их превратилась в лохмотья, башмаки продырявились. На свежем утреннем холодке, среди терпких ароматов этой пустоши они на час забыли о своей беде и со смехом признались друг другу, что ужасно проголодались.
Тогда Филипп отвел Бланш обратно в шалаш, а сам побежал в Толоне за провизией. Когда он вернулся, Бланш, дрожа от страха, уверяла, что мимо шалаша пробежала стая волков.
Широкая каменная плита служила столом для наших влюбленных, которых можно было принять за чету цыган, завтракающих на открытом воздухе. Подкрепившись, беглецы добрались до середины плоскогорья, где и провели весь день. Тут они пережили, пожалуй, лучшие часы своей любви.
Но с наступлением сумерек им стало жутко, и они не захотели ни одной секунды оставаться ночью в этом пустынном месте. Теплый и чистый воздух вселил в них надежду; мысли их стали отраднее.
— Ты устала, бедняжечка моя? — спросил Филипп.
— О да, — ответила Бланш.
— Послушай, нам осталось пройти совсем немного. Дойдем до дома Иснара, что в предместье Труа-бон-Дье, и останемся там до тех пор, пока твой дядя либо простит нас, либо выдаст меня полиции.
— Дядя простит.
— Не смею верить… Во всяком случае, я больше не хочу бежать, тебе нужно отдохнуть. Идем, мы не будем торопиться.
Они пересекли плоскогорье и, удаляясь от Инферне, оставили справа замок Сен-Марк, высившийся перед ними. Через час они были уже на месте.
Владение Иснара стояло на холме, что тянулся по левую сторону от Вовенаргской дороги, сразу же за долиной Репентанс. Это был маленький одноэтажный домик; в единственной комнате стоял колченогий стол и три стула с прорванными соломенными сиденьями. Лестница вела в совершенно пустое чердачное помещение, где любовники нашли один только худой тюфяк, брошенный на кучу соломы. Иснар — добрая душа — положил в ногах свернутую простыню.
Филипп собирался на другой день отправиться в Экс, чтобы разузнать о намерениях г-на де Казалиса. Молодой человек понимал, что не может дольше скрываться. Он лег спать почти умиротворенный, успокоенный словами Бланш, которая смотрела на все сквозь призму своих девичьих упований.
Уже три недели носились беглецы с места на место. Уже три недели рыскали повсюду жандармы, преследуя их по пятам; каждый раз, когда преследователи теряли из виду свою добычу, какое-нибудь незначительное обстоятельство снова наводило их на верный след. Все эти проволочки еще больше разжигали гнев г-на де Казалиса. Каждое новое препятствие являлось ударом по его самолюбию. В Ламбеск жандармы прибыли с опозданием на несколько часов; известие о появлении беглецов было получено в Тулоне только на другой день по их возвращении в Экс; каждый раз им каким-то чудом удавалось ускользнуть. Кончилось тем, что депутат обвинил полицию в умышленном попустительстве.
Наконец его заверили, что теперь, когда стало известно о пребывании любовников в окрестностях Экса, их не замедлят арестовать. Г-н де Казалис помчался в Экс, чтобы лично присутствовать при розыске.
Женщина с проспекта Секстиус, та, что всего на несколько часов приютила беглецов, страшно перепугалась, как бы ее не обвинили в соучастии, и довела до сведения полиции, что беглецы, должно быть, скрываются на одной из трех мыз Иснара.
На допросе галантерейщик преспокойно все отрицал. По его словам, он уже забыл, когда видел своего родственника. А в этот самый час Филипп и Бланш входили в дом, расположенный в предместье Труа-бон-Дье. Иснар никак не мог ночью предупредить молодых людей. А на следующее утро в пять часов полицейский комиссар уже был у галантерейщика с обыском и объявил, что обыщет и его мызы.
Господин де Казалис остался в Эксе. По его собственному признанию, он боялся встретиться лицом к лицу с соблазнителем своей племянницы, чтобы не стать убийцей. Полицейские, которые отправились с обыском в пюирикарский дом, нашли гнездо пустым. Иснар любезно предложил проводить двоих жандармов на свою дачу в Толоне, надеясь, что они только зря прогуляются. Комиссар в сопровождении двух других жандармов отправился в Труа-бон-Дье. Он взял с собой слесаря, ибо Иснар весьма туманно сказал, что ключ от дома спрятан под каким-то камнем, направо от двери.
Было около шести часов, когда комиссар прибыл на мызу. Все окна были закрыты, ни один звук не доносился изнутри. Подойдя к дому, комиссар ударил кулаком в дверь и громко крикнул:
— Именем закона, отоприте!
Только эхо ответило ему. Ничто не шелохнулось. Выждав несколько минут, комиссар обратился к слесарю.
— Взломайте дверь! — приказал он.
Тот принялся за дело. Тишину нарушал лишь скрежет железа. Вдруг ставни резко распахнулись, и в окне, позлащенном первыми лучами восходящего солнца, показался Филипп Кайоль с обнаженными руками и шеей.
— Что вам нужно? — презрительно и зло спросил он, облокотись на подоконник.
С первым ударом в дверь влюбленные открыли глаза. Их знобило спросонья, и, сидя на тюфяке, они с замиранием сердца прислушивались к шуму голосов.
«Именем закона!» — возглас, который звучит угрозой в ушах преступников, поразил молодого человека в самое сердце. Он встал, дрожащий, растерянный, не зная, что ему делать. Бланш, еще совсем сонная, сидела на корточках и, завернувшись в простыню, плакала от стыда и отчаяния.
Филипп понимал, что все кончено, что ему остается только сдаться. В нем нарастал глухой протест. Итак, рушились все его надежды, ему никогда не быть мужем Бланш, он похитил богатую наследницу лишь затем, чтобы попасть в тюрьму; в результате, вместо счастливой жизни, о которой он страстно мечтал, его ждет тюрьма. И у него мелькнула предательская мысль: не убежать ли ему в сторону Вовенаргов, в ущелье Сент-Виктуар, оставив здесь свою возлюбленную? Нельзя ли удрать через окно, выходящее на задворки? Он нагнулся к Бланш и прерывистым шепотом поведал ей о своем плане. Задыхаясь от рыданий, она ничего не расслышала, ничего не поняла. С тоской увидел он, что она не в состоянии способствовать его побегу.
Тут до него донесся сухой звук отмычки, которую слесарь ввел в замок. Душераздирающая драма, которая только что разыгралась в этой пустой комнате, продолжалась самое большее с минуту.
Филипп чувствовал всю безвыходность положения; уязвленная гордость вернула ему мужество. Будь у него оружие, он бы защищался. Затем он подумал, что ему нечего беспокоиться, — никто не может назвать его похитителем, раз Бланш последовала за ним добровольно, да и позор-то в конце концов падет не на него. И тогда он распахнул ставни и спросил, что от него хотят.
— Отоприте дверь, — приказал комиссар. — А потом узнаете, чего мы от вас хотим.
Филипп спустился вниз и отпер дверь.
— Вы господин Филипп Кайоль? — последовал вопрос.
— Да, — не колеблясь, ответил молодой человек.
— В таком случае я арестую вас, как виновного в похищении молодой девушки, не достигшей еще шестнадцати лет. Где вы ее прячете?
Филипп усмехнулся.
— Мадемуазель Бланш де Казалис наверху, — сказал он. — Пусть она скажет, было ли над нею совершено насилие. Не знаю, что вы имеете в виду, говоря о похищении. Я собирался сегодня же отправиться к господину де Казалису и на коленях просить у него руки его племянницы.
В эту минуту с лестницы спустилась Бланш, бледная и дрожащая. Впопыхах она оделась кое-как.
— Мадемуазель, — обратился к ней комиссар, — мне приказано отвезти вас в Экс, к вашему дядюшке. Он не осушает глаз.
— Мне очень жаль, что я вызвала неудовольствие дядюшки, — отозвалась Бланш с несвойственной ей твердостью в голосе. — Но не следует сваливать всю вину на господина Кайоля, за которым я последовала по своей воле.
Затем она повернулась к молодому человеку и взволнованно проговорила сквозь душившие ее слезы:
— Не теряйте надежды, Филипп! Я люблю вас и умолю дядюшку не причинять нам зла. Разлука наша продлится не более двух, трех дней.
Филипп смотрел на нее, грустно качая головой.
— Вы слабое и робкое дитя, — медленно проронил он. — И тут же резко прибавил: — Не забывайте, что вы были моею… Если вы оставите меня, то не будет ни одного часа в вашей жизни, когда бы вы всем своим существом не чувствовали мою близость, не ощущали на своих губах моих поцелуев. Да будет это вам карой!
Она плакала.
— Любите меня так же сильно, как я люблю вас, — прибавил он, смягчившись.
Комиссар усадил Бланш в карету, за которой успел послать, и они отправились в Экс, а в это время Филиппа уводили под конвоем в местную тюрьму.
VII
Бланш следует примеру апостола Петра
Весть об аресте пришла в Марсель только на другой день. Поистине это было целое событие. Все видели, как после полудня г-н де Казалис с племянницей проехали в экипаже по Канебьер. Молва не унималась; сплетники обсуждали победоносный вид депутата, смущение и краску стыда на лице Бланш. Г-н де Казалис готов был возить свою племянницу по всему городу, дабы доказать марсельцам, что она снова в его власти и что в его роду не опускаются до неравного брака.
Мариус, уведомленный Финой, весь день бегал по городу. Глас народный подтвердил ему весть об аресте брата; по дороге он узнал все подробности. За несколько часов новость эта превратилась в легенду; на всех перекрестках лавочники и всякие праздношатающиеся передавали ее друг другу, словно чудесную повесть былых времен. Молодой человек, не в силах слушать все эти россказни, отправился в контору; голова у него шла кругом, он не знал, что предпринять.
Как назло г-н Мартелли был в отъезде, его ждали только в понедельник вечером. Мариус, чувствуя, что медлить нельзя, хотел, не откладывая, предпринять шаги, которые успокоили бы его относительно судьбы брата. Впрочем, первая тревога его улеглась. Он подумал, что в конце концов никто не может обвинить Филиппа в похищении, что Бланш всегда защитит его. В своей наивности Мариус дошел до того, что счел себя обязанным от имени брата просить у г-на де Казалиса руки его племянницы.
На следующее утро, одетый во все черное, он уже спускался по лестнице, как вдруг увидел пришедшую, по обыкновению, Фину. Бедняжка вся побелела, когда узнала, куда и зачем он собрался.
— Позвольте мне пойти с вами, — взмолилась она. — Я подожду внизу, мне хочется знать, что ответят вам дядя и племянница.
Она последовала за Мариусом. Придя в аллею Бонапарта, молодой человек твердой поступью вошел в дом депутата и велел доложить о себе.
Слепая ярость, охватившая г-на де Казалиса, немного улеглась. Ведь месть его осуществлялась. Он уничтожит одного из этих презренных республиканцев и тем докажет свое могущество. А сейчас он был бы рад жестоко поглумиться над своей жертвой. Поэтому он приказал ввести г-на Мариуса Кайоля. Он ждал слез, горячих молений.
Мариус увидел его стоящим в высокомерной позе посреди большой гостиной. Молодой человек подошел к нему и, не дав произнести ни слова, спокойно и учтиво произнес:
— Сударь, имею честь от имени моего брата господина Филиппа Кайоля просить у вас руки вашей племянницы, мадемуазель Бланш де Казалис.
Депутат был буквально сражен. Он даже не рассердился, до того смехотворным и нелепым показалось ему предложение Мариуса. Отступив на шаг, он презрительно расхохотался прямо в лицо молодому человеку.
— Вы не в своем уме, сударь! — ответил он. — Я приказал бы выставить вас за дверь, если бы не знал, что вы трудолюбивый и честный малый… Брат ваш — мерзавец и плут, он понесет заслуженное наказание… Что вам от меня нужно?
Услышав, как г-н де Казалис поносит Филиппа, Мариусу очень захотелось наброситься на этого аристократа с кулаками, как и подобает плебею. Он сдержался и продолжал дрогнувшим от волнения голосом:
— Я уже сказал вам, сударь, что пришел сюда предложить мадемуазель де Казалис единственно возможное удовлетворение — замужество. Так будет смыта нанесенная ей кровная обида.
— Мы стоим выше обид! — презрительно закричал депутат. — Девушку из рода де Казалисов не может запятнать связь с каким-то Филиппом Кайолем, ее может запятнать брак с человеком вашего круга.
— Люди нашего круга иначе смотрят на такие вещи… Впрочем, я не настаиваю; только чувство долга обязало меня предложить выход, который вы отклонили… Позвольте лишь добавить, что ваша племянница, безусловно, приняла бы мое предложение, когда бы я имел честь обратиться к ней.
— Вы думаете? — насмешливо спросил г-н де Казалис.
Он позвонил и приказал немедленно позвать племянницу. Бланш вошла бледная, с покрасневшими веками; казалось, она была надломлена чересчур тяжелыми переживаниями. Увидев Мариуса, девушка вздрогнула.
— Мадемуазель, — холодно обратился к ней дядя. — Этот господин просит вашей руки от имени мерзавца, которого я не хочу называть в вашем присутствии…
 Повторите этому господину то, что вы сказали мне вчера.
Повторите этому господину то, что вы сказали мне вчера.
Бланш пошатнулась. Она не смела взглянуть на Мариуса. Не спуская глаз с дяди, дрожа всем телом, она слабым, прерывистым голосам прошептала:
— Я сказала вам, что меня увезли против воли и что я приложу все силы, чтобы виновник гнусного покушения, жертвой которого я стала, был наказан.
 Слова эти звучали как заученный урок. По примеру апостола Петра Бланш отрекалась от своего бога.
Слова эти звучали как заученный урок. По примеру апостола Петра Бланш отрекалась от своего бога.
Как видно, г-н де Казалис не потерял времени зря. Лишь только племянница оказалась в его власти, он всем своим упорством, всей своей гордыней подавил ее. Только Бланш могла помочь ему победить. Нужно было заставить ее солгать, чтобы, заглушив порывы своего сердца, она стала послушным и податливым орудием в его, г-на де Казалиса, руках.
Целых четыре часа обрушивался на нее поток холодных и резких слов. Дядюшка не совершил оплошности, не вспылил. Похваляясь своей властью и богатством, он с уничтожающей надменностью напомнил ей о древности их рода, очень тонко нарисовал, с одной стороны, картину неравного брака, смешного и пошлого, с другой — возвышенные радости богатого и пышного замужества. Он играл на ее тщеславии и, сокрушая, утомляя, одурманивая, сделал ее такой, какой ему было нужно, — сговорчивой и равнодушной.
После столь долгой беседы, после столь долгой пытки Бланш была сломлена. Возможно, что под гнетущим воздействием дядиных слов она почувствовала, как вся ее кровь, кровь патрицианки, закипает от возмущения при воспоминании о грубых ласках Филиппа. Возможно, что напоминание о роскошных туалетах, почестях, светском этикете пробудили в ее душе давно забытые детские грезы. Впрочем, ум ее был слишком утомлен, сердце слишком слабо, чтобы она могла устоять перед таким грозным натиском. Каждая фраза г-на де Казалиса, ударяя по ней, сокрушала ее и наполняла мучительной тоской. Бланш потеряла последние остатки воли. Несмотря на всю свою любовь к Филиппу, она только по слабохарактерности последовала за ним и только по слабохарактерности отвернулась от него; и тогда и теперь это была все та же робкая душа. Она покорно все принимала, покорно все обещала, лишь бы поскорее сбросить с себя гнетущее бремя дядюшкиных речей.
Услышав такое ни с чем не сообразное заявление, Мариус оцепенел от ужаса. Он вспомнил, как вела себя эта девушка в доме у садовника Эйяса, он снова видел, как доверчиво, не помня себя от любви, повисла она на шее Филиппа.
— Ах, мадемуазель! — с горечью воскликнул он. — Гнусное покушение, жертвой которого вы стали, вас, кажется, так не возмущало в тот день, когда вы слезно просили меня умолить дядюшку простить вас и согласиться на ваш брак… Подумали бы вы хоть о том, что своею ложью губите человека, которого, может быть, и сейчас любите, человека, который был вашим супругом?
Бланш, твердо сжав губы, смотрела перед собой блуждающим взглядом.
— Не знаю, сударь, что вы хотите этим сказать, — запинаясь, возразила она. — Я не лгу… Я уступила силе… Этот человек меня оскорбил, и дядюшка отомстит за честь нашей семьи.
Мариус выпрямился. Благородный гнев сделал его выше и стройнее, а худое лицо его стало вдруг прекрасным, словно оно озарилось изнутри светом правды и справедливости. Оглядевшись вокруг, он сделал презрительный жест.
— И подумать только, что я нахожусь в доме де Казалисов, — медленно проговорил он, — в доме потомков знаменитого рода, служившего некогда украшением Прованса… Не знал я, что ложь живет в этом доме, не ожидал я найти здесь клевету и подлость… О, вам придется выслушать меня до конца. Слуга сумеет швырнуть свое достоинство в недостойное лицо господ.
Затем, повернувшись к депутату, он продолжал, указав на дрожавшую Бланш:
— Эта девочка не виновата, ей простительна слабость… С вас другой спрос, сударь: оберегая девичью честь, вы ловко заражаете юные сердца трусливой ложью… Теперь я сам не хотел бы, чтобы брат мой женился на мадемуазель Бланш де Казалис, ибо тому, кто никогда не лгал, никогда не совершал подлостей, зазорно родниться с такими людьми, как вы.
Господин де Казалис не устоял перед гневным порывом молодого человека. С первых же оскорбительных слов он позвал слугу — рослого детину, — и тот замер на пороге. Заметив, что депутат подает слуге знак выставить его за дверь, Мариус произнес громовым голосом:
— Клянусь, если этот человек сделает хоть один шаг, я позову на помощь… Пропустите меня… Быть может, настанет день, сударь, когда мне можно будет на людях бросить вам в лицо всю правду, как я это сделал сейчас в вашей гостиной.
И он вышел, ступая медленно и твердо. Он уже больше не считал Филиппа виновным, брат в его глазах стал жертвой, которую он хотел любой ценой спасти и за которую готов был отомстить. Малейшая ложь, малейшая несправедливость вызывала в этой прямой и честной душе целую бурю. Скандал, с первой же минуты бегства учиненный г-ном де Казалисом, заставил его взять любовников под свою защиту; теперь, когда Бланш лгала, а депутат клеветал, он хотел бы быть всесильным, чтобы весь город узнал правду.
Фина ждала его внизу, снедаемая беспокойством.
— Ну что? — спросила девушка, как только увидела Мариуса.
Ну что! — ответил он ей в тон. — Эти люди — жалкие лгуны и спесивые безумцы.
Фина облегченно вздохнула. Кровь прилила к ее щекам.
— Значит, господин Филипп не женится на мадемуазель? — снова спросила она.
— Мадемуазель утверждает, что Филипп мерзавец, что он увез ее силой… — произнес Мариус с горечью. — Брат мой погиб.
Фина не поняла. Она опустила голову, удивляясь, как могла барышня считать своего возлюбленного злодеем. И подумала, какое было бы счастье, если бы Филипп увез ее, пусть даже силой. То, что разгневало Мариуса, девушку привело в восторг: свадьба расстроилась.
— Нет, брат ваш не погиб, — прошептала она с лаской и нежностью в голосе, — мы с вами спасем его!
VIII
Горшок железный и горшок глиняный
Когда Мариус вечером рассказал г-ну Мартелли о своем свидании с депутатом, судовладелец, покачав головой, сказал:
— Не знаю, друг мой, что вам посоветовать. Я не смею лишать вас надежды, но уверен, что вы потерпите поражение. Ввязаться в борьбу — ваш долг, и я всеми силами помогу вам. Но, между нами говоря, мы слабы и безоружны против врага, на чьей стороне дворянство и духовенство. Марсель и Экс отнюдь не в восторге от Июльской монархии, оба города целиком преданны некоему депутату от оппозиции, который ведет ужасную войну с господином Тьером. Города эти помогут господину де Казалису в его мщении; я говорю о важных шишках. Народ готов нам служить, если народ вообще в состоянии служить кому-нибудь. Лучше всего было бы привлечь к нашему делу влиятельное духовное лицо. Нет ли у вас знакомого священника, к которому благоволит епископ?
Мариус ответил, что знает только аббата Шатанье, но этот бедный старик вряд ли имеет какой-либо вес.
— Все равно сходите к нему, — посоветовал судовладелец. — Буржуа не могут быть нам полезными; знать выставит нас за дверь, если мы к ней обратимся. Остается духовенство. Вот куда надо стучаться. Начните действовать, а за мной дело не станет.
Мариус на другой же день отправился в церковь св. Виктора. Аббат Шатанье принял его с каким-то боязливым смущением.
— Не спрашивайте меня ни о чем! — воскликнул он при первых же словах молодого человека. — Здесь стало известно, что я уже занимался этим делом, и мне крепко досталось. Я же вам говорил, что аббат Шатанье — человек маленький, он умеет только молиться.
Кротость, с какой это было сказано, растрогала Мариуса. Он собрался было уйти, но священник задержал его и, понизив голос, сказал:
— Послушайте, есть тут один человек, который мог бы вам пригодиться, — это аббат Донадеи. Утверждают, что он в хороших отношениях с его преосвященством. Этот иностранец, — он, кажется, из Италии, — сумел за несколько месяцев стать всеобщим любимцем…
Аббат Шатанье помолчал в нерешительности, словно советуясь с самим собой. Достопочтенный человек хоть и боялся неприятностей, но не мог отказать себе в удовольствии помочь ближнему своему.
— Хотите, я провожу вас к нему? — спросил вдруг священник.
Заметив его минутное колебание, Мариус пытался отказаться, но старик настоял на своем; он уже не думал о собственном спокойствии, а прислушивался к голосу сердца.
— Идемте, — сказал он, — аббат Донадеи живет в двух шагах от бульвара Кордери.
Несколько минут спустя аббат Шатанье остановился перед одноэтажным домиком. Это было одно из тех настороженно-непроницаемых жилищ, в которых постоянно присутствует еле уловимый запах исповедальни.
Тут, — сказал аббат.
Дверь им открыла старуха служанка; она ввела их в узкий, обитый темными обоями кабинет, нечто вроде строгого, лишенного украшений будуара.
Аббат Донадеи принял их снисходительно и непринужденно. Его бледное, тонкое лицо, в котором сквозила хитрость, не выразило ни малейшего удивления. Мягким движением он с полуулыбкой, с полупоклоном пододвинул кресла, щеголяя своим кабинетом, как женщина — гостиной.
Аббат был одет в длинную, свободную в талии, черную сутану. В этом суровом одеянии он выглядел кокетливо; его белые холеные руки, выглядывавшие из широких рукавов, казались совсем маленькими. Обрамленное завитками каштановых волос лицо его, бритое, с нежной гладкой кожей, не потеряло еще юношеской свежести. Ему было около тридцати лет.
Опустившись в кресло, аббат слушал Мариуса с горделивой улыбкой. Он заставил его повторить все рискованные подробности бегства Филиппа и Бланш; казалось, происшествие это его чрезвычайно занимало.
Аббат Донадеи — уроженец Рима — был племянником какого-то кардинала. В один прекрасный день дядя неожиданно послал его во Францию, а зачем — никто хорошенько не знал. По приезде красавец аббат был вынужден поступить преподавателем новых языков в захудалую семинарию Экса. Такое ничтожное положение показалось ему столь унизительным, что он заболел.
Кардинал растрогался и написал о своем племяннике марсельскому епископу. Удовлетворенное честолюбие тотчас же исцелило Донадеи. Он поступил в церковь св. Виктора и, как простодушно рассказывал аббат Шатанье, в несколько месяцев снискал всеобщую любовь. Благодаря своей чисто итальянской вкрадчивости и нежному розовому лицу исусика он стал кумиром елейно-благочестивых святош здешнего прихода. Но наиболее шумный успех имел он, всходя на кафедру: легкий акцент придавал особенную прелесть его проповедям; а когда он раскрывал объятия и руки его дрожали от искусно разыгранного волнения, то доводил свою паству до слез.
Как почти все итальянцы, он был прирожденным интриганом. Донадеи пользовался, и даже злоупотреблял, заступничеством своего дяди перед марсельским епископом. Вскоре Донадеи стал таинственной силой и, действуя скрытно, рыл яму каждому, от кого хотел избавиться. Вступив в члены всемогущего в Марселе религиозного клуба, он, улыбаясь, низкопоклонничая и незаметно навязывая собратьям свою волю, сделался вождем клерикальной партии. Тогда он начал вмешиваться во все события, влезать во все дела; именно он и протолкнул г-на де Казалиса в депутаты и выжидал удобного случая, чтобы потребовать у него мзду за свои услуги. Замысел его был таков: он работает на пользу богачей, с расчетом, что те в знак признательности помогут ему потом сколотить состояние.
Аббат снисходительным тоном задал Мариусу несколько вопросов; и по тому, как внимательно он его слушал, как сочувственно его принял, можно было подумать, что он целиком расположен посодействовать ему. Поддавшись прелести его любезного обхождения, молодой человек излил перед ним всю душу, поведал ему свои планы и сознался, что в деле брата он полагается только на сочувствие духовенства. Под конец Мариус попросил замолвить слово перед его преосвященством.
Аббат Донадеи встал и полушутя, полусерьезно сказал с оттенком холодной насмешки в голосе:
— Сударь, сан мой запрещает мне вмешиваться в подобные прискорбные и скандальные происшествия. Слишком уж часто враги церкви обрушиваются на священников, когда те выходят за пределы ризниц. Только бога одного могу я просить за вашего брата.
Огорошенный таким ответом, Мариус тоже поднялся. Поняв, что Донадеи обвел его вокруг пальца, он хотел выказать твердость.
— Благодарю вас, — ответил юноша, — молитва — весьма сладостное подаяние для обездоленных людей.
Просите бога, чтобы закон человеческий был справедлив к нам.
Он направился к двери, а за ним, поникнув головой, шел аббат Шатанье. Донадеи старался не смотреть на старого священника. У порога красавец аббат, к которому вернулась его непринужденная любезность, на миг задержал Мариуса.
— Вы, кажется, служите у господина Мартелли? — спросил он.
— Да, сударь, — удивленно ответил юноша.
— Это весьма почтенный человек, хотя я знаю, что его нельзя считать нашим другом… И все же я питаю к нему глубочайшее уважение. Мадемуазель Клер, его сестра, духовником которой я имею честь состоять, одна из достойнейших наших прихожанок.
И так как Мариус смотрел на него в упор, не зная, что ответить, Донадеи слегка покраснел и прибавил:
— Очаровательная особа эта — пример благочестия.
Он поклонился с изысканной учтивостью и тихонько закрыл дверь. На улице аббат Шатанье и Мариус, оставшись вдвоем, переглянулись; молодой человек не сдержался и пожал плечами. Старому священнику было стыдно, что на его глазах служитель церкви разыграл такую комедию. Обернувшись к своему спутнику, он, запинаясь, сказал:
— Друг мой, не следует пенять на бога, что служители его не всегда такие, какими им надлежит быть. Молодой человек, которого мы только что видели, если в чем и повинен, то только в честолюбии…
Долго еще продолжал он в том же духе, оправдывая Донадеи. Мариус, растроганный его добротой, смотрел на него и невольно сравнивал этого бедного старика с могущественным аббатом, чьи улыбки правили всей епархией. И он подумал, что церковь относится к своим чадам по-разному. Мать эта балует своих розовощеких сынов и отворачивается от тех, у кого нежная душа, кто, жертвуя собой, остается в тени.
Посетители медленно удалялись, когда, оглянувшись, Мариус увидел, что к жилищу аббата Донадеи подъехала карета, из нее вышел г-н де Казалис и живо юркнул в дверь настороженно-непроницаемого домика.
— Смотрите-ка, отец мой! — воскликнул молодой человек. — Бьюсь об заклад, что священный сан не помешает этому церковнослужителю содействовать господину де Казалису в его мести.
У него было поползновение вернуться в этот дом, где господа бога заставляют играть столь жалкую роль. Но он умерил свой пыл и, поблагодарив аббата Шатанье, ушел; с чувством полной безнадежности думал он о том, что перед ним закрылась последняя спасительная дверь, ключ от которой находился в руках высшего духовенства.
Назавтра г-н Мартелли дал ему полный отчет о предпринятой им вылазке в отношении г-на Дугласа, первого нотариуса в Марселе; этот богобоязненный человек за каких-нибудь восемь лет стал одним из сильных мира сего, а все благодаря богатой клиентуре и своей широкой благотворительности. Имя нотариуса произносилось почтительно и с любовью. Добродетели этого труженика, его неподкупность и воздержанность внушали уважение.
Господин Мартелли вел все денежные дела через Мариуса — своего уполномоченного. Поэтому он надеялся, что Дуглас не откажет молодому человеку в поддержке и тем самым привлечет на его сторону клерикальную партию. Судовладелец отправился к нотариусу и попросил его помочь Мариусу. Дуглас, по-видимому, чем-то сильно озабоченный, ответил невразумительно и уклончиво: он, мол, перегружен работой, и ему ли бороться с г-ном де Казалисом.
— Я не настаивал, — сказал Мариусу г-н Мартелли, — поняв, что противник опередил вас… Однако же удивляюсь господину Дугласу, — такой честный человек и позволил связать себя по рукам… Теперь, бедный мой дружок, полагаю дело ваше окончательно проигранным.
Целый месяц бегал Мариус по всему Марселю, стараясь привлечь на свою сторону хоть какое-нибудь влиятельное лицо. Повсюду его принимали с холодной и насмешливой учтивостью. Г-ну Мартелли везло не больше. Депутат сплотил вокруг себя всю аристократию и духовенство. Купечество посмеивалось исподтишка, оно не хотело выступать открыто, до смерти боясь поставить себя в невыгодное положение. А народ — народ вышучивал в песнях г-на де Казалиса и его племянницу, бессильный чем-нибудь иным помочь Филиппу Наполю.
Дни текли, следствие быстро подвигалось, а молодой человек, защищая брата от ненависти г-на де Казалиса и угодливых наветов Бланш, был так же одинок, как и в первые дни. Одна только Фина была постоянно с ним, но ее пылкие речи находили отклик лишь у простых девушек, горячо сочувствовавших Филиппу.
Однажды утром Мариус узнал, что его брат и садовник Эйяс предстанут перед судом: один — по обвинению в насильственном увозе Бланш де Казалис, второй — как соучастник. Г-жа Кайоль, за отсутствием улик, была освобождена.
Мариус побежал обнять матушку. Бедная женщина много перестрадала в тюрьме, ее и без того шаткое здоровье было окончательно подорвано. Через несколько дней она тихо угасла на руках сына, который, рыдая, поклялся отомстить за ее смерть. Похороны матери Филиппа превратились в народную демонстрацию. На кладбище Сен-Шарль ее провожала огромная толпа женщин, которые, не стесняясь, громко обвиняли г-на де Казалиса в смерти г-жи Кайоль. Еще немного — и камни полетели бы в окна депутатского дома.
Вернувшись после похорон в свою маленькую квартирку на улице Сент, Мариус почувствовал себя так сиротливо, что горько зарыдал. Слезы облегчили его, он ясно увидел перед собою уготованный ему путь. Несчастья, свалившиеся на него, усилили в нем любовь к правде и ненависть к злу. Он знал, что отныне вся жизнь его будет отдана служению священному долгу.
Мариусу больше нечего было делать в Марселе. Драма разыгрывалась теперь в другом месте. Согласно всем перипетиям процесса действие должно было развернуться в Эксе. Мариус хотел быть там, чтобы, следя за различными стадиями дела, воспользоваться любым благоприятным случаем, если таковой представится. Он попросил месячный отпуск, который хозяин не замедлил предоставить ему.
В день отъезда Мариус увидел в дилижансе Фину.
— Я еду с вами, — спокойно заявила девушка.
— Это безумие! — воскликнул он. — Вы не настолько богаты, чтобы поступаться своими интересами. А кто будет продавать цветы?
— Подруга, которая живет в одном доме со мной, на Яичной площади… «Сейчас мое место там», — подумала я, надела свое лучшее платье и явилась сюда.
— Большое вам спасибо, — просто ответил Мариус с неподдельным волнением в голосе.
IX
Господин де Жирус сплетничает
Мариус остановился в Эксе у Иснара, проживавшего на Итальянской улице. Галантерейщика не беспокоили, — должно быть, пренебрегали такой ничтожной величиной.
Фина направилась прямо к смотрителю тюрьмы — мужу своей покойной тетки. Она преподнесла ему большой букет роз, который был принят с восторгом. За каких-нибудь два часа она своими милыми улыбками и ласковой шаловливостью сумела очаровать дядюшку. Он был вдовец с двумя маленькими дочурками, к которым Фина с первой же минуты отнеслась по-матерински.
Дело должно было слушаться только в начале следующей недели. Мариус, связанный по рукам, больше не решался ничего предпринимать и с замиранием сердца ждал открытия судебного заседания. По временам он все еще безрассудно надеялся, что Филиппа оправдают.
Как-то вечером, бродя по бульвару, он встретил г-на де Жируса, который приехал из Ламбеска, чтобы присутствовать на суде. Старый дворянин взял Мариуса за руку и, не говоря ни слова, повел его в свой особняк.
Ну вот, друг мой, — сказал он, запершись с ним в большой гостиной, — здесь мы одни, и я — обыкновенный смертный.
Мариуса забавляли сердитые выходки этого чудаковатого ворчуна.
— Ну-с, — продолжал граф, — вы не просите меня сослужить вам службу и защитить вас от де Казалиса?.. Что значит умный человек! Вы понимаете, что я ничего не могу поделать с этой упрямой и тщеславной аристократией, к которой сам принадлежу. Эх! Хорошую штуку сыграл с ней ваш брат!
Господин де Жирус большими шагами ходил по гостиной. Вдруг, подойдя к Мариусу вплотную, он остановился.
— Слушайте внимательно нашу историю, — громко произнес он. — Нас в этом славном городе пятьдесят таких вот дряхлых стариков, как я, которые, живя в стороне от общества, целиком ушли в навеки умершее прошлое. Мы называем себя цветом Прованса и думаем, что это дает нам право сидеть сложа руки, в постоянном бездействии… А между тем мы, дворяне, рыцарские сердца, благоговейно ждем возвращения своих законных государей. Да, нам придется еще долго ждать, так долго, что, клянусь богом, одиночество и лень убьют нас прежде, чем появится какой-нибудь законный государь. Будь у нас немножко прозорливости, мы увидели бы ход событий. Мы кричим фактам: «Ни с места!», а факты спокойно проходят по нашим телам и давят нас. Меня бесит, что мы замкнулись в своем упорстве, столь же смешном, сколь и героическом. Подумать только, что все мы, за редким исключением, богаты, что любой из нас способен стать промышленником и работать на благо страны, а мы предпочитаем плесневеть в четырех стенах своих особняков, как обветшалые обломки прошлого века!
Он перевел дыхание и продолжал с еще большей силой:
И мы гордимся своим пустым существованием. Мы не работаем, ибо презираем труд. Простолюдины, с их черными заскорузлыми руками, внушают нам мистический ужас… Ага! Ваш брат коснулся одной из наших дочерей! Ему наглядно докажут, что в его жилах течет совсем другая кровь! Мы сплотимся и дадим такой урок деревенщине, что у него навсегда отпадет охота влюблять в себя наших девушек. Нам поможет кое-кто из влиятельных церковников; они роковым образом связаны с нами — легитимистами. Будет где развернуться нашему тщеславию.
Помолчав с минуту, г-н де Жирус продолжал со смешком:
— Наше тщеславие… В нем не одна прореха. Меня еще не было на свете, когда по соседству с особняком моих родителей произошло кровавое событие. Господин д’Антрекасто, председатель парламента, убил в постели свою жену, перерезав ей горло бритвой. Говорят, на преступление его толкнула садистическая страсть. Бритва была найдена только через двадцать пять дней в глубине сада. Были обнаружены и драгоценности покойной: д’Антрекасто бросил их в колодец, чтобы полиция думала, что убийство совершено с целью грабежа. Председатель парламента бежал, кажется, в Португалию и там умер в нищете. Он был заочно приговорен к колесованию… Как видите, у нас есть свои разбойники, народ и знать могут не завидовать друг другу. Подлая жестокость одного из наших в свое время сильно подорвала влияние аристократии. Это мрачное и кровавое злодейство могло бы послужить темой для захватывающего романа.
— И низкопоклонничать мы умеем, — продолжал г-н де Жирус, снова принимаясь ходить. — Когда около тысяча восемьсот десятого года цареубийца Фуше, тогда герцог Отрантский, был на время изгнан из нашего города, все дворянство ползало у его ног. Я вспоминаю анекдот, который показывает, до какого пошлого раболепства мы тогда опустились. Первого января тысяча восемьсот одиннадцатого года мы собрались в приемной бывшего члена Конвента, чтобы поздравить его с Новым годом. В приемной только и разговоров было, что о страшной стуже, которая стояла в те дни; один из посетителей выразил тревогу за судьбу оливковых деревьев. «Э, что нам за дело до олив! — воскликнула одна знатная особа. — Был бы здоров господин герцог!..»
Вот каковы мы ныне, друг мой: смиренны с сильными, высокомерны со слабыми. Бывают, конечно, исключения, но крайне редко… Теперь вы видите, что брат ваш будет осужден. Наша гордость смиряется перед Фуше, но никогда не смирится перед Кайолем. Это закономерно… Прощайте.
И граф внезапно покинул Мариуса. Собственные слова привели его в сильнейшее раздражение. Он боялся, как бы под влиянием гнева не наговорить лишнего.
На другой день молодой человек снова повстречался с ним. Так же как и накануне, г-н де Жирус затащил его к себе. Он показал ему напечатанный в газете список присяжных заседателей, которые должны были судить Филиппа.
Граф с силой щелкнул пальцем по газете.
— Так вот они, судьи вашего брата! — воскликнул он. — Хотите, я кое-что расскажу вам о них? Для вас это будет и любопытно и поучительно.
Господин де Жирус сел. Пробежав глазами газету, он пожал плечами.
— Да они тут как на подбор, — произнес он наконец, — одни только богачи, которым выгодно служить делу господина де Казалиса… Все они, за редким исключением, церковные старосты, все завсегдатаи аристократических салонов, все приятели тех, кто по утрам торчит в церкви, а в остальное время дня обкрадывает своих клиентов.
Затем, называя по очереди каждого из присяжных, он с бешеным негодованием рассказывал об их ближайшем окружении.
— Эмбер, — начал он, — брат марсельского купца, торгующего оливковым маслом; как честный человек, он первенствует в городе, и ему кланяется каждый бедняк. Двадцать лет тому назад Эмбер-отец был мелким служащим. Сыновья, ловкие спекулянты, сейчас — миллионеры. Был такой год, когда марсельский Эмбер запродал по существовавшей тогда рыночной цене огромное количество масла будущего урожая. Несколько недель спустя холод погубил оливы, урожай пропал, ему осталось либо разориться, либо провести своих клиентов. Но купцу легче обмануть, нежели разориться. Пока его конкуренты себе в убыток отпускают доброкачественный товар, он скупает все прогорклое масло, какое только попадается ему под руку, и производит обещанную выдачу. Клиенты жалуются, сердятся. Спекулянт хладнокровно возражает, что он строго выполняет свои обязательства и никаких претензий слушать не станет. Шутка сыграна. Весь Марсель, бывший в курсе этого дела, не перестает ломать шапку перед таким пронырой.
Готье… другой марсельский купец. У этого есть племянник Поль Бертран, прехитрая бестия. Этот Бертран работал в компании с неким Обером из Нью-Йорка, который посылал ему товары наложенным платежом. В прибылях они участвовали на равных началах. Наш марселец много зарабатывал на этих операциях, тем более что при каждой дележке не забывал обставлять своего компаньона. В один прекрасный день купцы понесли убыток. Бертран продолжает ежедневно получать товары из-за моря, но отказывается платить по накладным, которые Обер выписывает на его имя; Бертран оправдывается тем, что торговля идет плохо и он стеснен в деньгах. Накладные возвращаются, потом снова приходят с огромными проторями. Тогда Бертран преспокойно заявляет, что не желает платить, что не обязан всю жизнь быть компаньоном Обера и что он ничего никому не должен. Новый возврат накладных, новые протори, — нью-йоркский купец, вне себя от удивления и гнева, вынужден оплатить все сполна и остается в накладе. Он подает в суд на Бертрана, требует возместить убытки, но так как не может сам присутствовать на суде, а поручает это доверенному лицу, то проигрывает тяжбу; меня уверяли, что две трети его капитала — двенадцать тысяч франков — погибли в этой катастрофе… Бертран остался честнейшим человеком в мире; он состоит членом всех товариществ, многих церковных конгрегаций; ему завидуют, его уважают.
Дютайи… торговец зерном. Некогда с одним из его зятьев, Жоржем Фуком, приключилась неприятность; друзья поспешили замять скандал. Фук всегда подстраивал дело так, что при таможенном досмотре его груз, который приходил морем, неизменно считался попорченным. Согласно показаниям экспертизы страховым обществам приходилось платить. Наконец это им надоело, и они поручили досмотр одному честному человеку, какому-то булочнику, которого Фук не замедлил навестить. Ведя с ним отвлеченный разговор, Фук сунул ему в руку несколько золотых. Бросив монеты на пол, булочник отшвырнул их ногой на середину комнаты. При этом присутствовало несколько посторонних лиц. Фук не потерял кредита.
Делорм… этот живет в соседнем городке, неподалеку от Марселя. Он давно уже отошел от дел. Послушайте, какую подлость совершил его двоюродный брат Милль. Лет тридцать тому назад мать Милля держала галантерейную лавку. Удалившись на покой, престарелая дама уступила свое предприятие одному из приказчиков, умному, энергичному малому, к которому она относилась по-родственному. Молодой человек по имени Мишель быстро рассчитался со своим долгом и так расширил торговлю, что был вынужден подыскать себе компаньона. Выбор его пал на одного молодого марсельца, Жана Мартена, с виду честного работягу, у которого водились деньжата. Мишель вложил в дело обеспеченный капитал. Вначале все шло как по маслу. Доходы из года в год увеличивались, и оба компаньона каждые двенадцать месяцев откладывали по кругленькой сумме. Но Жан Мартен, алчный и жадный, мечтал быстро разбогатеть и в конце концов решил, что один заработает вдвое больше. Однако сделать это было не так-то просто. В сущности, Мишель облагодетельствовал его, к тому же он являлся другом сына госпожи Милль. Хоть последний был не слишком честен, низкий замысел Жана Мартена, казалось, неминуемо обречен на провал. Все же он пошел к Миллю и нашел в нем то, что искал: бессовестного мошенника. Мартен предложил ему изрядную сумму, чтобы тот перезаключил контракт на его имя; он даже удвоил, утроил эту сумму. Милль, хам и скряга, постарался продать себя как можно дороже. Сделка была заключена. Тогда Жан Мартен разыграл перед Мишелем комедию: он сказал ему, что хотел бы расторгнуть товарищеский договор, чтобы переехать в другое место, и даже указал помещение, которое якобы снял. Мишель удивился, но, не подозревая, что станет жертвой подлости, счел себя не вправе удерживать своего компаньона. Договор был расторгнут. Немного времени спустя у него кончился срок аренды, и Жан Мартен с новым контрактом в руках победоносно выставил Мишеля за дверь… Мишель буквально обезумел от такого предательства и поехал устраиваться подальше от Марселя; но, оставшись без клиентуры, он потерял состояние, нажитое тридцатилетиям трудом. Его разбил паралич, и он умер в ужасных мучениях, обвиняя Милля и Мартена в гнусном предательстве и призывая своих сыновей отомстить за него… Ныне сыновья из кожи вон лезут, чтобы создать себе положение. А Милль связан с лучшими домами города, его дети богаты и катаются как сыр в масле, окруженные всеобщим почетом и уважением.
Февр… Мать его была вторично замужем за неким Шабраном, судовладельцем и дискантером. Под предлогом неудачных спекуляций Шабран в один прекрасный день пишет своим многочисленным кредиторам, что вынужден прекратить платежи. Кое-кто согласен подождать. Большинство же намерено предъявить иск. Тогда Шабран нанимает двух юношей и целую неделю обучает их; затем, прикрываемый с флангов этими двумя прекрасно выдрессированными молодчиками, он по очереди обходит всех своих кредиторов и, сетуя на свое разорение, молит сжалиться над его сыновьями, которые, лишившись куска хлеба, вынуждены ходить по миру… Проделка удалась на славу. Все кредиторы порвали свои векселя… Назавтра Шабран был на бирже спокойнее и наглее, чем всегда. Какой-то маклер, не будучи в курсе дела, предложил ему учесть три процентных бумаги, подписанные как раз теми купцами, которые накануне простили ему долги. «С подобными типами не якшаюсь», — надменно ответил он. В настоящее время Шабран почти совсем отошел от дел. Он живет на своей вилле и по воскресеньям задает там пышные обеды.
Жеромино… председатель клуба, проводит там все вечера, ростовщик худшего толка. Говорят, он сколотил на этом занятии миллиончик, благодаря чему выдал дочь за финансового туза. Фамилия его Пертиньи. Но он стал называться Феликсом, после того как объявил себя несостоятельным и заграбастал капитал в триста тысяч франков. Сорок лет тому назад этот ловкий мошенник впервые обанкротился, что позволило ему купить дом. Кредиторы получили пятнадцать процентов. Спустя десять лет второе банкротство дало ему возможность приобрести загородный дом. Кредиторы получили десять процентов. Не прошло и пятнадцати лет, как третье банкротство принесло ему триста тысяч франков, и он предложил кредиторам пять процентов. Те не согласились, а он, доказав, что весь капитал его принадлежит жене, не дал им ни сантима.
Мариусу стало противно. У него вырвался жест отвращения, казалось, он хотел прервать поток этих гнусностей.
— Вы, я вижу, мне не верите, — продолжал неумолимый граф. — Вы простофиля, друг мой. Я еще не кончил и заставлю вас выслушать меня до конца.
Господин де Жирус насмехался над всеми этими людьми со страшным воодушевлением. Он кричал, шипел, слова его со щелканьем бича обрушивались на тех, о чьих грязных проделках он рассказывал. Называя одного присяжного за другим, граф копался в их личной жизни и в жизни их семей, разоблачал ничтожество и подлость этих людей. Вряд ли он кого-нибудь пощадил. Затем, упав со всего размаха в кресло, старик резко продолжал:
— Неужели у вас хватает наивности думать, что все эти миллионеры, все эти выскочки и сильные мира сего, которые властвуют над вами и подавляют вас, что все они святые и праведники, а жизнь их безгрешна? Негодяи эти не скрывают ни своего тщеславия, ни своей наглости, особенно в Марселе; они ударились в благочестие и ханжество, они настолько ввели всех в заблуждение, что даже самые порядочные люди низко кланяются им и относятся к ним почтительно. Одним словом, они являются аристократией своего круга; прошлое забыто, на виду только их богатство и свежеиспеченная честность. Итак, я срываю маски! Слушайте… Чтобы нажить состояние один предал друга; другой — торговал живым товаром; третий — продал жену и дочь; четвертый — спекулировал на нищете своих кредиторов; пятый — скупал по низкой цене им самим ловко дискредитированные акции компании, которой он же и управлял. Ради наживы один потопил корабль, груженный камнями вместо товаров, и получил страховку за этот странный груз; другой — подвел своего компаньона, отказавшись, вопреки данному слову, участвовать в одной сделке, когда убедился, что она не выгодна; третий — скрыл свой актив и два или три раза объявлял себя банкротом, что не мешало ему вести жизнь добропорядочного человека; четвертый — разбавлял вино соком кампешевого дерева или бычьей кровью; пятый — в голодные годы скупал все зерно на кораблях, еще находившихся в открытом море. В погоне за деньгами один крупно обворовывал казначейство, давая взятки чиновникам и обманывая администрацию; другой ставил на чеках поддельную подпись родных и друзей, которым в день платежа приходилось подтверждать ее и платить, дабы не осрамить мошенника; этот — собственноручно поджег не то свой завод, не то свои корабли, застрахованные выше фактической стоимости; тот — разорвал и бросил в огонь векселя, выхватив их из рук кредитора, который пришел получить по ним; нашелся и такой, что играл на бирже, заведомо зная, что не заплатит, а через неделю обогатился за счет какого-то простофили…
Господину де Жирусу не хватило дыхания. Он долго молчал, выжидая, пока уляжется гнев. Наконец губы его снова приоткрылись, и он улыбнулся уже не так горько.
— Я несколько мизантроп, — тихо обратился он к Мариусу, который слушал его с болью и изумлением, — и вижу все в черном свете. А все потому, что праздность, на которую обрекает меня мой титул, позволяет мне изучать постыдные нравы этого края. Но знайте, есть между нами порядочные люди. Вся беда в том, что они боятся этих мошенников и гнушаются ими.
Мариус вышил от г-на де Жируса сам не свой, так потрясла его горячая обличительная речь старого графа. Молодой человек предвидел, что брат его будет безжалостно осужден. Процесс должен был начаться на следующий день.
X
Скандальный процесс
Весь Экс был охвачен волнением. В маленьких мирных городках, где любопытство бездельников не всякий день находит себе пищу, скандал разражается с особой силой. Повсюду только и разговору было, что о Филиппе и Бланш; люди на улицах рассказывали друг другу приключения любовников; на всех перекрестках говорили вслух, что обвиняемый заранее осужден, что г-н де Казалис лично или через своих друзей просил каждого присяжного в отдельности вынести ему обвинительный приговор.
Духовенство Экса оказывало депутату поддержку, правда, очень слабую, — в то время среди духовенства были люди, которым претила несправедливость. Однако кое-кто из священников поддался влиянию, исходившему из марсельского религиозного клуба, так сказать, хозяином которого являлся аббат Донадеи. Эти церковнослужители пытались личными посещениями и разными ловкими маневрами связать руки судейским чинам. Им удалось убедить присяжных в святости дела г-на де Казалиса.
В этой задаче духовенству очень помогла знать. Она почитала своей обязанностью, делом чести уничтожение Филиппа Кайоля. Она видела в нем личного врага, посмевшего посягнуть на достоинство одного из них и тем самым оскорбившего все сословие в целом. Все эти графы и маркизы волновались, сердились, объединялись так, словно к воротам города подступил враг. Дело же шло попросту о том, чтобы осудить бедняка, повинного лишь в одном: что он был ловеласом и честолюбцем.
У Филиппа тоже были свои друзья и защитники. Весь народ открыто стал на его сторону. Низшие классы порицали его поступок, осуждали средства, к которым он прибегнул, говорили, что лучше бы он увлек простую мещаночку под стать себе и спокойно женился на ней; но, осуждая Филиппа, они яростно защищали его против высокомерной ненависти г-на де Казалиса. Весь город знал, что на допросе у следователя Бланш отказалась от своей любви; и девушки из народа, истые провансалки, самоотверженные и мужественные, относились к ней с оскорбительным презрением. Они называли ее «отступницей», выискивали в ее поведении постыдные мотивы и на всех площадях громко, не церемонясь, выразительным языком улицы, говорили то, что думали.
Шум этот особенно вредил делу Филиппа. Весь город был посвящен в подноготную драмы, которой предстояло разыграться. Заинтересованные в осуждении преступника не брали на себя труда скрывать свои действия, настолько они были уверены в успехе; те, кто хотел бы его спасти, но чувствовал себя слабым и безоружным, тешили себя криком и, не надеясь восторжествовать над власть имущими, были рады хотя бы позлить их.
Господин де Казалис без зазрения совести тащил за собой свою племянницу до самого Экса. В первые дни его словно гордыня обуяла: ему доставляло удовольствие показываться с ней на бульваре. Тем самым он как бы отрицал самое понятие позора, с каким чернь связывает бегство девушки; казалось, он говорил всем: «Видите, не родился еще на свет простолюдин, который мог бы запятнать урожденную де Казалис. Моя племянница по-прежнему властвует над вами с высоты своей знатности и богатства».
Но подобные прогулки не могли продолжаться до бесконечности. Этот вызов раздражал толпу, она поносила Бланш, и еще немного — побила бы камнями и дядю и племянницу. Особенное ожесточение выказывали женщины; они не понимали, что зло заключается не в Бланш, что она просто-напросто орудие железной воли.
Мадемуазель де Казалис страшилась народного гнева. Она опускала взгляд, чтобы не видеть горящих глаз этих женщин. Она угадывала за своей спиной презрительные жесты, она слышала ужасные, непонятные ей слова; у нее подкашивались ноги, и, чтобы не упасть, она держалась за дядю. Бледная, дрожащая, вернулась она однажды домой и заявила, что больше не выйдет на улицу.
Бедная девочка готовилась стать матерью.
Наконец процесс начался. Уже с утра толпы народа осаждали Дворец правосудия. Кучки жестикулировавших, громко разговаривавших людей собирались на площади Доминиканцев. Толковали о возможном исходе дела, спорили о виновности Филиппа, обсуждали поведение г-на де Казалиса и Бланш.
Зал заседания постепенно наполнялся. Прибавили несколько рядов стульев для тех, кто получил пригласительные билеты; но таких лиц было столько, что почти всем пришлось стоять. Здесь был цвет аристократии, адвокаты, чиновники, именитые особы Экса. Никогда еще ни один подсудимый не выступал перед такой публикой. Когда же широко открыли дверь для всех, то лишь немногим любопытным удалось протиснуться в зал. Остальные были вынуждены стоять в коридоре и даже на ступенях дворца. Временами в толпе подымался и нарастал глухой ропот и гул, которые, проникая в зал, нарушали величавый покой этого храма.
Дамы заполнили хоры. Их взволнованно улыбавшиеся лица снизу казались слитыми воедино. Сидевшие в первом ряду обмахивались веерами, перегибались через перила, клали затянутые в перчатки руки на красный бархат балюстрады. Сзади, в полутьме, один над другим поднимались тесные ряды розовых лиц, — тела утопали в кружевах, лентах, тканях. Из этой болтливой толпы, слитой в одно алеющее пятно, жемчугом рассыпался смех, доносился шепот, легкие звонкие вскрики. Дамы чувствовали себя здесь, как в театре.
Но вот ввели Филиппа Кайоля, и в зале воцарилась полная тишина. Дамы пожирали его глазами; некоторые, направив на него лорнеты, рассматривали его с головы до ног. Этот рослый парень, сильное лицо которого выдавало бурю страстей, имел успех. Женщины пришли сюда, чтобы судить о вкусе Бланш, и, увидев статную фигуру и ясный взор ее любовника, вероятно, сочли ее не столь уж виновной.
Филипп держал себя спокойно, с достоинством. Он был одет во все черное. Подсудимый, казалось, не видел двух стоявших по бокам жандармов; он вставал, садился с изяществом светского человека, смотрел на толпу без волнения, однако и без бравады, и, подымая глаза к хорам, всякий раз невольно улыбался; даже здесь давали себя знать его потребность любить и желание правиться.
Зачитали обвинительный акт.
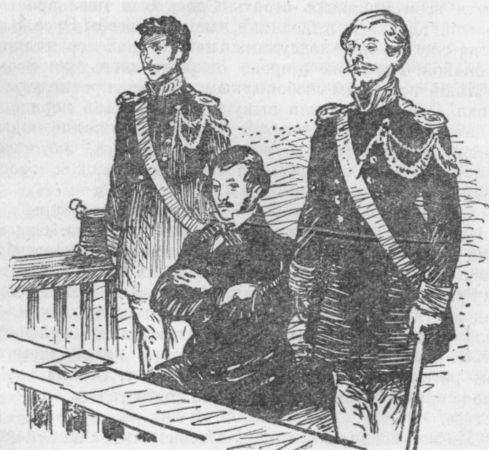 Акт этот был убийственным для обвиняемого. Изложенные в нем, согласно показаниям г-на де Казалиса и его племянницы, обстоятельства были так ловко повернуты, что получили странное толкование. В нем было сказано, что Филипп совратил Бланш с помощью вредных книг, — на самом деле речь шла о двух совершенно невинных романах г-жи де Жанлис. Кроме того, в обвинительном акте говорилось, что, по словам Бланш, обвиняемый увез ее насильно, что, сопротивляясь ему, она цеплялась за миндальное дерево, а во время бегства похитителю все время приходилось угрозами заставлять свою жертву следовать за собой. Наконец, самое отягчающее вину обстоятельство: мадемуазель де Казалис утверждала, что никогда не писала Филиппу и что два письма, представленные обвиняемым, он якобы предусмотрительно заставил ее написать в Ламбеске, пометив их задним числом.
Акт этот был убийственным для обвиняемого. Изложенные в нем, согласно показаниям г-на де Казалиса и его племянницы, обстоятельства были так ловко повернуты, что получили странное толкование. В нем было сказано, что Филипп совратил Бланш с помощью вредных книг, — на самом деле речь шла о двух совершенно невинных романах г-жи де Жанлис. Кроме того, в обвинительном акте говорилось, что, по словам Бланш, обвиняемый увез ее насильно, что, сопротивляясь ему, она цеплялась за миндальное дерево, а во время бегства похитителю все время приходилось угрозами заставлять свою жертву следовать за собой. Наконец, самое отягчающее вину обстоятельство: мадемуазель де Казалис утверждала, что никогда не писала Филиппу и что два письма, представленные обвиняемым, он якобы предусмотрительно заставил ее написать в Ламбеске, пометив их задним числом.
Когда обвинительный акт был прочитан, зал наполнился шумом. Придя во дворец со своим заранее составленным мнением, каждый громким шепотом обсуждал официальную версию. Толпа на улице кричала уже не на шутку. Тишина окончательно водворилась лишь после того, как председатель пригрозил, что заставит публику очистить зал.
Начался допрос Филиппа Кайоля.
Судья задал ему обычные вопросы и повторил, в чем он обвиняется; молодой человек, не отвечая ему, внятно сказал:
— Я обвиняюсь в том, что был похищен девушкой.
Слова эти вызвали смех всего зала. Дамы закрыли лица веерами, чтобы вволю посмеяться. А между тем слова Филиппа, при всей их кажущейся нелепости, таили в себе зерно истины. Председатель вполне резонно заметил, что где же это видано, чтобы шестнадцатилетняя девушка похитила тридцатилетнего мужчину.
— А где же это видано, — спокойно возразил Филипп, — чтобы шестнадцатилетняя девушка, бегая по большим дорогам, пересекая города, встречая на своем пути сотни людей, не догадалась попросить первого встречного освободить ее от похитителя, от тюремщика?
Он старался доказать физическую невозможность насилия и шантажа, в которых его обвиняли. Бланш в любое время была вольна покинуть его, она могла обратиться к кому угодно за помощью и спасением; она следовала за ним, потому что любила его, потому что согласилась бежать с ним. Впрочем, Филипп выказывал величайшую нежность к молодой девушке и величайшую почтительность к г-ну де Казалису. Он признал свою ошибку и просил только об одном — не делать из него презренного соблазнителя.
Судебное заседание закончилось, допрос свидетелей назначили на следующий день. Вечером весь город был взбудоражен; дамы говорили о Филиппе с притворным возмущением, люди степенные относились к нему более или менее сурово, простолюдины решительно защищали его.
На другой день толпа, собравшаяся у Дворца правосудия, была еще многолюднее. Почти все свидетели были со стороны обвинения. Г-на де Жируса не вызвали, во-первых, опасаясь обычного для него приступа откровенности, во-вторых, никто не был уверен, что его не придется арестовать за соучастие. Мариус сам пошел просить его не являться в суд; его тоже пугали резкие суждения старого графа: еще, того гляди, испортит все дело.
Одно только свидетельство было в пользу Филиппа — свидетельство содержательницы постоялого двора в Ламбеске, которая заявила, что Бланш называла своего спутника мужем. Это показание было как бы перечеркнуто другими. Маргарита, молочница, запинаясь, сказала, что она уже не помнит, передавала ли она когда-нибудь обвиняемому письма от мадемуазель де Казалис. Каждый свидетель служил таким образом интересам депутата, одни из боязни, другие по глупости и забывчивости.
Защитник начал свою речь с просьбы перенести заседание на другой день. Адвокат Филиппа защищал его с благородной простотой. Не стараясь оправдать то, что в его поведении было предосудительным, он обрисовал его как человека пылкого и честолюбивого, которого ввели в соблазн деньги и страсть. Но в то же время он доказал, что обвиняемый не может быть осужден как похититель и что дело это по самой своей сути исключает всякую мысль о насилии и шантаже.
Обвинительная речь была грозной. Если раньше не исключалась возможность некоторого снисхождения, то речь прокурора произвела гибельное действие: суд подтвердил виновность Филиппа Кайоля и приговорил его к пяти годам тюремного заключения с предварительным выставлением к позорному столбу на одной из марсельских площадей.
XI
Бланш и Фина встречаются лицом к лицу
Бланш присутствовала при чтении приговора, спрятавшись на хорах. Она пришла сюда по приказанию дяди: он хотел окончательно убить в ней любовь к человеку, которого жандармы стерегут как вора. Старая родственница вызвалась проводить ее на это назидательное зрелище.
После приговора обе женщины, стоя на ступеньках Дворца правосудия, ждали экипажа, когда рванувшаяся вперед толпа внезапно разъединила их. Течением Бланш отнесло на середину площади Доминиканцев, где рыночные торговки узнали ее и засыпали насмешками и оскорблениями.
— Это она! Это она! — кричали женщины. — Отступница! Отступница!
Бедняжка, растерявшись, не знала, куда бежать, и умирала от стыда и страха, когда какая-то девушка, властно растолкав кучку горланивших баб, стала рядом с ней.
То была Фина.
Цветочница тоже слушала приговор. За те три часа, без малого, что Фина провела в зале суда, она прошла через все муки надежды и отчаяния. Речь королевского прокурора окончательно убила ее, а приговор довел до слез. Страшно возбужденная, вышла она из Дворца правосудия, как вдруг услышала гиканье торговок. Она поняла, что там Бланш, что сейчас она может свести с ней счеты и отругать ее; сжав кулаки, еле сдерживая рвавшиеся с уст оскорбления, цветочница подбежала к мадемуазель де Казалис, которая в ее глазах была величайшей преступницей: она солгала, совершила подлость, нарушила клятву. От таких мыслей вся кровь, вся плебейская кровь Фины бросилась ей в голову, побуждая ее кричать и драться.
Девушка, протиснувшись сквозь толпу, ринулась вперед, чтобы принять участие в расправе. Но, очутившись лицом к лицу с Бланш, увидев, как та вся съежилась от страха, она почувствовала жалость к этой слабой дрожащей девочке. Фина увидела, какая она маленькая, нежная, хрупкая, и в ней из самых тайников сердца поднялось благородное желание простить. Силой растолкав торговок, которые грозили барышне кулаками, она выпрямилась и крикнула во весь голос:
— Эй, вы, как вам не стыдно?.. Она одна, а вас целая сотня. Бог накажет ее и без ваших воплей… А ну-ка пропустите нас!
Фина взяла Бланш за руку и, стоя прямо перед толпой, которая с ропотом смыкалась все тесней и тесней, ждала. Побелевшие губы ее дрожали. Бросив ободряющий взгляд на мадемуазель де Казалис, она увидела, что та беременна. Цветочница побледнела и сделала шаг по направлению к окружавшим их женщинам.
— Пропустите нас! — крикнула она еще громче. — Разве вы не видите, что бедняжка беременна?! Вы убьете ее дитя!
Она оттолкнула какую-то толстую, скалившую зубы тетку, и толпа расступилась.
Слова цветочницы заставили женщин сочувственно умолкнуть. Фине и Бланш удалось уйти. Мадемуазель де Казалис, красная от стыда, боязливо жалась к своей спутнице и лихорадочно ускоряла шаг.
Минуя улицу Пон-Моро, в ту пору очень людную и шумную, цветочница свернула на маленькую улочку Сен-Жан. Выйдя на бульвар, она проводила мадемуазель де Казалис до самого особняка, дверь которого оказалась незапертой. За всю дорогу она не проронила ни слова.
Бланш заставила ее войти в переднюю и, прикрыв дверь, взволнованно сказала:
— Ах, мадемуазель, как я вам благодарна, что вы пришли мне на помощь!.. Эти злые бабы готовы были меня убить.
— Не благодарите меня, — резко ответила Фина. — Я тоже прибежала отругать вас и поколотить.
— Вы!
— Да, я ненавижу вас и жалею, что вы не умерли еще в колыбели.
Бланш удивленно посмотрела на цветочницу. Теперь она тоже выпрямилась, врожденный аристократизм ее возмутился, в изгибе губ залегла легкая презрительная складка. Обе женщины стояли лицом к лицу, одна во всем своем хрупком изяществе, другая во всей своей полнокровной красоте. Молча разглядывали они друг друга, чувствуя, как между ними растет грозное соперничество их сословий и сердец.
— Вы красивы, вы богаты, — продолжала Фина с горечью. — Зачем же понадобилось вам отнять у меня возлюбленного, раз вы не питаете к нему ничего, кроме презрения и гнева? Вы бы поискали себе друга в своем кругу и нашли бы бледного, трусливого мальчика, под стать вам; он ответил бы худосочной любовью на вашу кукольную любовь… Не смейте отбирать у нас наших парней, а то мы исцарапаем ваши розовые щечки!
— Не понимаю вас, — пролепетала Бланш, снова почувствовав страх.
— Не понимаете… так слушайте. Я любила Филиппа. По утрам он покупал у меня розы, и мое сердце рвалось на части, когда я подавала ему букет. Теперь-то я знаю, кому шли эти цветы. Когда мне сказали, что он бежал с вами, я заплакала, но подумала, что, верно, вы очень его любите и что он будет счастлив. А вы упрятали его в тюрьму… Лучше не будем говорить об этом, а то я снова разозлюсь и ударю вас.
Она замолчала, потом, тяжело дыша, подошла к Бланш так близко, что своим горячим дыханием обожгла ее похолодевшее лицо, и продолжала:
— Вы, видно, не знаете, как любят бедные девушки. Мы любим всем существом, всем мужеством своего сердца: убежав из дома, мы не говорим потом, что любимый воспользовался нашей слабостью. Защищая своего милого, мы изо всех сил прижимаем его к груди… Ах, если бы Филипп любил меня! Но я несчастна, бедна, некрасива…
И Фина, такая же слабая, как мадемуазель де Казалис, разрыдалась; Бланш взяла ее за руку и сказала прерывающимся от слез голосом:
— Ради бога, не вините меня. Хотите быть моей подругой? Хотите, я открою вам свое сердце?.. Если б вы знали, как я страдаю!.. И ничего не могу поделать, я игрушка в железных руках дяди. Знаю, я малодушна, но у меня нет сил побороть свое малодушие… Я люблю Филиппа, он всегда неотступно со мною. Он мне сказал: «Если ты предашь меня, то в наказание будешь любить меня вечно, будешь непрестанно хранить меня в сердце своем…» Он здесь, он жжет меня, он меня убивает. В ту минуту, когда его осудили, во мне что-то дрогнуло и перевернулось… Смотрите, я со слезами прошу у вас прощения.
Гнев Фины утих. Она поддержала Бланш, которая еле держалась на ногах.
— Вы правы, — продолжала бедняжка, — я не заслуживаю сострадания. Я сразила того, кого люблю и кто никогда больше не будет меня любить… Ах! Сжальтесь, если когда-нибудь он станет вашим мужем, расскажите ему о моих слезах, попросите простить меня. Я схожу с ума, оттого что не могу сказать, как обожаю его: он рассмеется, ему будет непонятно такое малодушие… Нет, не говорите обо мне, лучше пусть он забудет меня: тогда только я одна буду лить слезы.
Наступило горестное молчание.
— А ваше дитя? — спросила Фина.
— Мое дитя, — растерянно повторила Бланш, — не знаю… Вероятно, дядюшка отберет его у меня.
— Хотите, я заменю ему мать?
Цветочница произнесла эти слова серьезно, с нежностью в голосе. Мадемуазель де Казалис горячо обняла ее.
— Как вы добры, как умеете любить!.. Постарайтесь увидеться со мной в Марселе, Когда пробьет мой час, я доверюсь вам.
В эту минуту вернулась старуха родственница, которая долго и тщетно искала Бланш в толпе. Фина проворно выскользнула за дверь и снова направилась к проспекту. Дойдя до площади Кармелитов, она издали заметила Мариуса, разговаривавшего с защитником Филиппа.
Молодой человек окончательно пал духом. Он никогда бы не поверил, что Филиппу вынесут такой суровый приговор. Если пять лет тюрьмы пугали его, то, пожалуй, еще тяжелее и мучительнее было думать о позорном столбе на одной из марсельских площадей. В этой каре он узнавал руку депутата: г-н де Казалис хотел прежде всего заклеймить Филиппа, навсегда сделать его недостойным женской любви.
Толпа вокруг кричала о несправедливости. Все как один были против возмутительного приговора.
Доведенный до отчаяния, Мариус громко выражал адвокату свое возмущение и гнев, когда чья-то нежная ручка легла на его руку. Он с живостью обернулся и увидел рядом с собой спокойно улыбавшуюся Фину.
— Надейтесь и следуйте за мной, — тихо проговорила она. — Ваш брат спасен.
XII
И у тюремщика сердце не камень
Пока Мариус, не дожидаясь начала процесса, безуспешно рыскал по городу, Фина со своей стороны старалась для пользы их общего дела. Она предприняла совершенно продуманное и правильное наступление на сердце своего дядюшки, тюремщика Ревертега.
Она поселилась у него и проводила все дни в тюрьме. С утра до вечера она стремилась быть ему полезной, заслужить любовь своего родственника, который жил один, как бирюк, с двумя дочурками. Фина взяла под обстрел его отцовские чувства; лаской и нежностью она совершенно обворожила девочек, тратила все свои деньги на сладости, игрушки, нарядные платьица.
Малютки не были приучены к баловству и воспылали шумной любовью к своей взрослой кузине, которая высоко подбрасывала их на коленях и щедро оделяла подарками. Растроганный отец сердечно благодарил Фину.
Тюремщик невольно поддался неотразимому обаянию молодой девушки. Он досадовал, когда ему приходилось уходить из дому. Казалось, она принесла с собой сладкий аромат своих цветов, свежесть роз и фиалок. В жилище тюремщика все благоухало с тех пор, как она, легкая, смеющаяся, поселилась там. В складках ее светлых платьев словно притаились солнце, воздух, радость. Все теперь смеялось в мрачной комнате, и Ревертега с грубоватым хохотком говаривал, что в доме у него поселилась весна. Добрый человек забывался под ласковым дуновением этой весны; сердце его смягчалось, он сбрасывал с себя профессиональную суровость и жесткость.
Плутовка Фина играла свою роль мягко, без нажима. Не сделав ни одного опрометчивого шага, она исподволь довела тюремщика до того, что в нем проснулись сострадание и доброта. Как-то раз она вслух пожалела о судьбе Филиппа и заставила его признать, что бедняга терпит напраслину. Почувствовав, что дядюшка у нее в руках, что он потерял бдительность и готов ей повиноваться, она спросила, нельзя ли ей посетить бедного узника. Тюремщик, не решаясь сказать «нет», сам проводил племянницу и, впустив ее в камеру, остался караулить за дверью.
Фина стояла перед Филиппом как дурочка. Она смотрела на него смущенная, краснеющая, позабыв, что хотела сказать. Узнав ее, молодой человек, умиленный и обрадованный, поспешил ей навстречу.
— Вы здесь, дорогое дитя! — воскликнул он. — Ах, как это мило, что вы пришли… Позвольте мне поцеловать вашу ручку.
Филипп, по-видимому, вообразил, что находится в своей маленькой квартирке на улице Сент, и, пожалуй, не прочь был завязать новую интрижку. Цветочница, удивленная, почти оскорбленная, отняла руку и сурово посмотрела на любовника Бланш.
Вы не в своем уме, господин Филипп, — ответила она. — Знайте, что для меня теперь вы человек женатый… Поговорим о серьезных вещах.
Понизив голос, она торопливо прибавила:
— Тюремщик — мой дядя, и я уже целую неделю прилагаю все усилия, чтобы освободить вас. Мне хотелось увидеться с вами и сказать, что друзья помнят о вас… Надейтесь.
Услыхав эту благую весть, Филипп пожалел, что встретил ее как влюбленный.
— Дайте мне руку, — сказал он растроганным голосом. — Прошу вас как друг, как давнишний приятель… Вы прощаете меня?
Цветочница только улыбнулась в ответ.
— Я уверена, — сказала она, — что в ближайшее время мне удастся распахнуть перед вами двери тюрьмы… Какой день намечаете вы для побега?
— Для побега?.. Но меня оправдают! Зачем же бежать? Если я скроюсь, то тем самым признаю себя виновным.
Подобный довод не приходил в голову Фине: она считала Филиппа заранее осужденным, а в сущности он был прав, надо дождаться суда. В раздумье и нерешительности она так долго молчала, что Ревертега два раза легонько постучал в дверь, напоминая, что пора уходить.
— Ну что ж, — произнесла она, обратившись к заключенному, — будьте наготове в любое время. Если вас осудят, мы, ваш брат и я, подготовим побег… Доверьтесь нам.
Она вышла, оставив Филиппа почти влюбленным. Теперь у нее было достаточно времени, чтобы уговорить дядюшку. Она прибегала к своему испытанному приему: ошеломляла милого дядюшку добротой и изяществом и подогревала в нем чувство жалости к узнику. В конце концов она вовлекла в заговор даже своих маленьких сестричек, которые ради нее готовы были забыть родного отца. Как-то вечером, умилив Ревертега всеми нежностями, на какие она была большая мастерица, Фина наконец напрямик потребовала, чтобы он освободил Филиппа.
— Разрази меня гром! — воскликнул тюремщик. — Будь моя власть, я бы тут же отпер дверь.
— Но это же в ваших руках, дядюшка, — наивно возразила Фина.
— Это ты так думаешь… Меня на другой же день вышвырнут на улицу, и я подохну с голоду со своими девчонками.
Слова эти заставили цветочницу призадуматься.
— А что, если я дам вам денег, — продолжала она через секунду, — если скажу вам, что люблю этого парня, если на коленях буду молить вас вернуть мне его?
— Ты? Ты? — с удивлением повторял тюремщик.
Он встал, пристально посмотрел на племянницу, словно желая убедиться, не смеется ли она над ним, и, увидев, что она серьезна и взволнованна, покорился. Побежденный, усмиренный, он знаком выразил согласие.
— Клянусь честью, — прибавил он, — для тебя я готов на все… Чего не сделаешь для такой доброй и красивой девушки, как ты!..
Фина поцеловала его и заговорила о другом. Теперь она не сомневалась в победе. Время от времени она возобновляла разговор, приучая Ревертега к мысли, что он должен содействовать побегу Филиппа. Цветочница не хотела обрекать своего родственника на нищету и первая предложила ему, в виде вознаграждения, пятнадцать тысяч франков. Такой щедрый дар ослепил тюремщика, который с той поры был предан ей душой и телом.
Вот что дало Фине право сказать Мариусу с лукавой усмешкой: «Следуйте за мной… ваш брат спасен».
Цветочница привела юношу в тюрьму. По дороге она рассказала ему обо всем, о своей военной хитрости, о том, как она постепенно уламывала дядюшку. Мариус — эта правдивая душа — сперва возмутился всей этой комедией. Но, подумав о кознях г-на де Казалиса, он рассудил, что в конце концов пользуется тем же оружием, что и противник, и успокоился.
В трогательных выражениях поблагодарил он Фину, не зная, как выказать ей свою признательность. Молодая девушка, счастливая его волнением и радостью, почти не слышала его заверений.
Увидеться с Ревертега им довелось только вечером. С первых же слов тюремщик указал Мариусу на своих дочурок, игравших в углу.
Сударь, — без обиняков сказал он, — вот мое оправдание… Я бы не взял ни одного су, если бы не должен был кормить детей.
Мариуса тяготил этот разговор. Он старался по возможности сократить его. Зная, что тюремщиком в одинаковой мере владели расчет и преданность, он не мог презирать его, но ему было неприятно входить с ним в подобную сделку.
Тем не менее все было решено в несколько минут. Мариус заявил, что завтра утром отправится в Марсель и привезет обещанные пятнадцать тысяч франков. Он рассчитывал обратиться к банкиру, у которого г-жа Кайоль оставила около пятидесяти тысяч. Они лежали в банкирском доме г-на Берара, одном из самых солидных и известных в городе. Цветочница должна была подождать Мариуса в Эксе.
Он уехал, исполненный надежд, видя брата своего уже на свободе. Не успел он приехать в Марсель и выйти из дилижанса, как узнал ужасную, убийственную для него новость — банкира Берара только что объявили несостоятельным.
XIII
Банкротство, каких не мало
Мариус побежал к банкиру Берару. Он усомнился в справедливости зловещих слухов: бедняга был доверчив, как все, у кого чистая совесть. По дороге он успокаивал себя, что распространившийся слух, безусловно, клевета, и в нем снова просыпалась безумная надежда. Гибель состояния в такой момент была бы равносильна гибели Филиппа. Молодому человеку казалось, что судьба не может быть до такой степени жестокой: люди ошибаются, сейчас Берар вернет ему деньги.
Но когда он вошел в банкирский дом, сердце у него сжалось от тоски. Он воочию убедился в печальном, но неоспоримом факте. Все комнаты были пусты; и эти большие помещения, безлюдные и тихие, с запертыми решетками и голыми столами, показались ему вымершими. Богатство, когда оно рушится, оставляет на своем пути какое-то мрачное запустение. От папок, бумаг, кассы шел особый, еле уловимый запах развала. Повсюду валялись полосы белой бумаги с большими сургучными печатями — следы описи.
Мариус прошел по всем трем комнатам, не встретив ни души. Наконец он наткнулся на одного служащего, который явился сюда за своими личными вещами, лежавшими в его конторке. Служащий резко сказал ему, что г-н Берар у себя в кабинете.
Молодой человек так волновался, входя в кабинет, что забыл закрыть за собой дверь. Банкир мирно работал: писал письма, приводил в порядок бумаги, подводил счета. Это был еще не старый человек, высокого роста, с красивым и умным лицом; изысканный костюм, сверкающие перстни придавали ему нарядный, богатый вид. Можно было подумать, что он приоделся, чтобы принять своих клиентов и объявить им о постигшем его банкротстве.
Впрочем, во всей его позе проглядывало мужество. Человек этот был либо безропотной жертвой обстоятельств, либо отъявленным мошенником, который расплачивался за свою дерзость.
Увидев входившего Мариуса, он посмотрел ему прямо в лицо с выражением неподдельной печали.
— Я ждал вас, милостивый государь, — произнес он взволнованным голосом. — Как видите, я жду всех, кого довел до разорения. У меня хватит духа выдержать до конца, я хочу, чтобы каждый убедился, что мне нечего стыдиться.
Он взял с письменного стола реестр и несколько нарочитым жестом открыл его.
— Вот счета — продолжал он. — Пассив мой составляет миллион, актив — полтора миллиона… Суд все упорядочит, и думаю, что мои кредиторы ничего не потеряют… Если кто пострадал, так это я, я лишился состояния и кредита, позволив несостоятельным должникам подло обворовать себя.
Мариус еще не проронил ни слова. Перед безнадежно печальным спокойствием Берара, перед этим зрелищем сдержанного горя он не находил в душе ни одной укоризны, ни одного слова возмущения. Он был готов пожалеть этого человека, такого стойкого в беде.
— Сударь, — обратился наконец к нему Мариус, — почему вы не предупредили меня, как только увидели, что ваши запутанные дела обернулись плохо? Матери наши были подругами. В память старинной дружбы вы обязаны были заставить меня забрать деньги, прежде чем по вашей милости от них ничего не осталось… Сегодня своим банкротством вы меня совершенно разорили и привели в полное отчаяние.
Берар с живостью подошел к Мариусу и взял его за руки.
— Не говорите так! — воскликнул он слезливо. — Не вините меня. Ах, вы не знаете, как жестоко я терзаюсь угрызениями совести… Я как утопающий хватался за соломинку, боролся до последней минуты, в надежде спасти доверенные мне капиталы. Вы не знаете, каким ужасным случайностям подвергаются дельцы.
Мариус не нашел нужных слов. Что мог он сказать человеку, который, оправдываясь, обвинял самого себя? Не имея никаких доказательств, он не смел назвать Берара мошенником, и ему оставалось только уйти. Банкир говорил с такой грустью в голосе, так проникновенно и чистосердечно, что молодой человек поспешил оставить его в покое. Ему было тяжело смотреть на такое горе.
Проходя снова по пустым кабинетам, Мариус увидел все того же конторщика, который уже упаковал свои вещи; взяв сверток и шляпу, служащий пошел следом за ним. Человек этот на каждом шагу как-то странно поглядывал на юношу, посмеивался сквозь зубы и пожимал плечами. На улице он вдруг подошел к нему.
— Ну-с! — сказал он. — Что вы думаете об этом Бераре? Шут, каких свет не видывал, не правда ли?.. Вы забыли закрыть дверь кабинета, ну и смеялся же я, покуда он корчил плаксивые рожи. Он чуть что не рыдал, этот добропорядочный человек! Позволю себе сказать вам, сударь, что вы только что любезнейшим образом позволили обвести себя вокруг пальца.
— Не понимаю вас, — возразил Мариус.
— Тем лучше. Значит, вы честный парень… Сам я с глубокой радостью покидаю этот балаган. Для меня такой ход не является неожиданностью: давным-давно предвидел я развязку этой высокой комедии воровства. У меня на этот счет совершенно особый нюх. Сразу чую, если в банкирском доме завелись темные делишки.
— Объяснитесь.
— О! История простая. Могу изложить ее вам в двух словах. Десять лет тому назад Берар открыл банкирский дом. Сегодня я не сомневаюсь, что он с первого же дня подготовлял свое банкротство. Руководствовался он следующими соображениями: «Хочу быть богатым, потому что у меня большие аппетиты; хочу разбогатеть как можно скорее, потому что спешу удовлетворить эти аппетиты. Так как прямой путь тернист и долог, предпочту ему стезю мошенничества и в десять лет сколочу себе миллион. Сделаюсь банкиром, заведу кассу — ловушку для общественных ценностей. Стану ежегодно прибирать к рукам кругленькую сумму. Так будет продолжаться до тех пор, пока не набью карман до отказа. Тогда преспокойно прекращу платежи; из двух доверенных мне миллионов великодушно верну моим кредиторам двести, самое большее триста тысяч франков. Остальная сумма, спрятанная в укромном уголке, даст мне возможность жить по моему вкусу, в праздности и неге». Понятно вам, сударь мой?
Мариус с изумлением слушал конторщика.
И все-таки, — вскричал он наконец, — в том, что вы здесь наговорили, нет ни одного слова правды. Берар только что сказал мне, что пассив его — миллион, актив — полтора миллиона франков. Всем нам будет уплачено сполна.
Конторщик расхохотался.
— Боже ты мой, какая наивность! — снова заговорил он. — Вы и впрямь поверили в этот полуторамиллионный актив?.. Прежде всего из этой суммы вычтут приданое госпожи Берар. Госпожа Берар принесла своему супругу пятьдесят тысяч франков, а тот в брачном договоре переделал эту цифру на пятьсот тысяч. Как видите, небольшая кража на весьма кругленькую сумму в четыреста пятьдесят тысяч франков. Остается миллион, и этот миллион почти целиком представлен в сомнительных долгах… Подумайте, до чего просто? В Марселе имеются люди, которые за сто су продают свою подпись; они живут весьма неплохо, промышляя таким легким и доходным ремеслом. У Берара куча подобных векселей, подписанных подставными лицами, и он прикарманивает деньги, которыми, как он нынче утверждает, ссудил несостоятельных должников. Если вам отдадут десять процентов, считайте, что вам повезло. И то не раньше чем через полтора-два года, когда синдик закончит свою работу.
Мариус был потрясен. Итак, пятьдесят тысяч франков, оставленные ему матерью, превратятся в жалкие гроши, на которые он ничего не сможет сделать. Деньги нужны ему сейчас, а ему говорят: «Подожди два года». Злодею показалось мало, что он своими руками разорил, обездолил его, ему нужно было еще и надсмеяться над ним.
— Берар — мошенник, — веско произнес он. — Его подвергнут жестокому преследованию. Нужно избавить общество от подобных жуликов, что обогащаются, разоряя других.
Конторщик так и покатился со смеху.
— Берар, — снова заговорил он, — отделается какими-нибудь двумя неделями тюрьмы. Вот и все. Вы опять ничего не поняли?.. Слушайте меня.
Молодые люди не могли больше стоять на тротуаре, где их толкали со всех сторон. Они снова вошли в вестибюль банкирского дома.
— Вы говорите, что Берара ждет каторга, — продолжал конторщик. — Каторга — удел несмышленых людей. За десять лет, что он вынашивал и лелеял свое банкротство, мошенник наш принял все меры предосторожности; подобная подлость — это же настоящее произведение искусства. Счета его в порядке, закон он привлек на свою сторону. Ему наперед известно, насколько незначительна опасность, которой он подвергается. Самый серьезный иск, какой может предъявить ему суд, — это его чересчур большие личные траты; да он еще ответит за то, что пустил в обращение большое количество векселей, — разорительный способ обеспечить себя деньгами. Подобные оплошности влекут за собой смехотворное наказание. Говорю вам, Берар получит две недели тюрьмы, от силы месяц.
— В таком случае пусть все узнают о подлости этого человека! — воскликнул Мариус. — Разве нельзя доказать всему свету его виновность и отдать его под суд?
— Ну нет, этого сделать нельзя. Я же вам говорю, что нет доказательств. К тому же Берар зря времени не терял, он все предусмотрел, обзавелся в Марселе всесильными друзьями, предвидя, что в один прекрасный день ему, пожалуй, понадобится их влияние. В этом городе он теперь, в своем роде, неприкосновенное лицо: стоит волосу упасть с его головы, как все приятели завопят от горя и гнева. Его можно лишь для виду немного подержать в тюрьме. Выйдя оттуда, он найдет на месте свой миллиончик, снова окружит себя роскошью и легко восстановит былой престиж. В один прекрасный день вы увидите, как, развалясь на подушках, он промчится в экипаже, колеса которого забрызгают вас грязью; вы увидите, как он, беспечный и праздный, роскошествует и наслаждается жизнью. И, достойно венчая успех этой кражи, его будут приветствовать, будут любить, ему откроют новый кредит почета и уважения.
Мариус угрюмо молчал. Уходя, конторщик отвесил ему легкий поклон.
— Вот так-то и разыгрывается фарс, — прибавил он на прощание. — Все это лежало у меня на сердце, и я рад, что встретил вас и излил душу… Теперь еще один хороший совет: держите про себя все, что я только что вам рассказал, распрощайтесь со своими деньгами и не думайте больше об этом прискорбном деле. Поразмыслите — и увидите, что я прав… Приветствую вас.
Мариус остался один. Его охватило бешеное желание подняться к Берару и надавать ему пощечин. Честность и врожденное чувство справедливости бушевали в нем, побуждая его вытащить банкира из дома и закричать на всю улицу о его преступлениях. Затем порыв этот сменился чувством гадливости, он вспомнил о бедной своей матушке, гнусно обманутой этим человеком, и с той минуты в нем осталось одно лишь уничтожающее презрение. Он последовал совету конторщика и пошел прочь от этого дома, стараясь забыть, что у него были деньги и что какой-то негодяй их украл.
Все предсказания конторщика сбылись точь-в-точь. Берар был приговорен в тюремному заключению сроком на один месяц, как полагается за обыкновенное банкротство. Ровно через год, цветущий и развязный, он на удивление всему Марселю прожигал жизнь с наглой беспечностью богача. Он сорил деньгами в клубах, ресторанах, театрах, повсюду, где продавались удовольствия, и всегда находил на своем пути льстецов и простофиль, которые широким жестом снимали перед ним шляпу.
XIV
Мариус узнает, как можно тратить в год тридцать тысяч франков, зарабатывая только тысячу восемьсот
Мариус машинально спустился в порт. Он шел, не сознавая, куда несут его ноги, тупо глядя перед собой. Единственная мысль билась в его опустошенном мозгу, билась тревожно и неумолчно, как набат: «Нужно немедленно достать пятнадцать тысяч франков». Он смотрел в землю блуждающим взглядом отчаявшегося человека, словно рассчитывал найти у себя под ногами нужную ему сумму.
Жажда богатства овладела им в порту. Груды товаров, нагроможденных вдоль набережных, корабли, привозившие целые состояния, шум, движение люден, наживавшихся здесь, раздражали его. Никогда еще он не чувствовал себя таким нищим. На один миг он поддался чувству зависти, возмущения, ревнивой горечи. Он спрашивал себя, почему он беден, а другие богаты.
В ушах его по-прежнему раздавался все тот же неумолкающий гул набата: «Пятнадцать тысяч франков! Пятнадцать тысяч франков!» От этой мысли разламывался череп. Он не мог вернуться с пустыми руками. Брат ждал. Для спасения его у Мариуса оставались считанные часы. А он ничего не мог придумать, его утомленный мозг не подсказывал выхода. Как ни бился Мариус, как ни ломал голову — все было тщетно: тоска и бессильный гнев душили его.
Ни за что не осмелится он попросить пятнадцать тысяч франков у своего хозяина. Жалованье Мариуса было слишком незначительным, чтобы под него можно было взять ссуду. Кроме того, зная твердые правила судовладельца, молодой человек боялся нареканий с его стороны; как только он скажет г-ну Мартелли, на что предназначаются эти деньги, тот не даст ему ни одного су.
Вдруг Мариуса словно осенило. Недолго думая поспешил он домой на улицу Сент.
Там на одной лестничной площадке с ним жил молодой человек по имени Шарль Блетри — инкассатор на мыловаренном заводе Даста и Дегана. Живя рядом, молодые люди незаметно сблизились. Мариуса подкупила доброта Шарля; юноша этот ревностно посещал церковь, вел примерный образ жизни и казался высоконравственным человеком. Однако за последние два года он потратил много денег и обставил свою маленькую квартирку с подлинной роскошью: накупил ковры, драпировки, зеркала, красивую мебель. Домой он возвращался теперь гораздо позднее, чем прежде, жил более широко, но по-прежнему оставался кротким и добропорядочным, спокойным и богобоязненным.
Вначале Мариуса удивляла расточительность соседа, он не мог понять, как может служащий, получающий тысячу восемьсот франков, приобретать такие дорогие вещи. Но Шарль сказал ему, что недавно получил наследство и что рассчитывает вскоре оставить службу и начать независимый образ жизни. При этом он добавил, что кошелек его всегда к услугам соседа. Мариус отказался.
Сегодня ему на память пришло это любезное предложение. Он постучится к Шарлю и попросит его спасти Филиппа. Ссуда в пятнадцать тысяч франков, пожалуй, не стеснит этого малого, который, по-видимому, сорит деньгами. Мариус рассчитывал вернуть ему этот долг по частям и был уверен, что сосед согласится ждать сколько угодно.
Мариус не застал инкассатора дома, на улице Сент, а так как у него не было времени ждать, то он отправился на завод Даста и Дегана. Мыловарня эта была расположена на бульваре Дам.
Придя туда, он спросил Шарля Блетри, причем ему показалось, что присутствующие посмотрели на него как-то косо. Рабочие с раздражением посоветовали ему обратиться к самому г-ну Дасту. Удивленный таким приемом, Мариус решил пройти к фабриканту. Он застал у него в кабинете трех мужчин, с которыми г-н Даст о чем-то совещался; при появлении Мариуса все умолкли.
— Не можете ли вы мне сказать, сударь, — спросил молодой человек, — здесь ли господин Шарль Блетри?
Господин Даст быстро переглянулся с одним из посетителей, очень бледным и суровым на вид толстяком.
— Шарль Блетри сейчас вернется, — ответил фабрикант. — Будьте любезны обождать… Вы его приятель?
— Да, — простодушно ответил Мариус. — Он живет в одном доме со мной… Я знаю его вот уже скоро три года.
Наступило минутное молчание. Молодой человек, подумав, что стесняет своим присутствием этих господ, поклонился и направился к двери.
— Благодарю вас… — сказал он. — Я подожду на улице.
Тут толстяк наклонился к фабриканту и что-то ему шепнул. Движением руки г-н Даст остановил Мариуса.
— Не уходите, пожалуйста! — крикнул он. — Ваше присутствие может оказаться для нас полезным… Вы должны знать привычки Блетри и, конечно, могли бы дать нам кое-какие сведения о нем.
Мариус, в недоумении, слегка замялся. Он ничего не понимал.
— Извините, — снова заговорил г-н Даст чрезвычайно учтиво, — я вижу, что слова мои вас удивляют.
Указав на толстяка, он продолжал:
— Этот господин — полицейский комиссар нашего округа, и я призвал его, чтобы арестовать Шарля Блетри, который за два года присвоил себе шестьдесят тысяч франков.
Услышав, что Шарля обвиняют в воровстве, Мариусу сразу все стало ясно. Этим объяснялась безумная расточительность соседа, и юношу проняла дрожь при мысли, что он как раз готовился прибегнуть к его услугам. Ему не верилось, что Блетри был способен на такую низость. Он отлично знал, что в Марселе, как во всяком большом промышленном центре, немало служащих обворовывают хозяев, чтобы удовлетворить свои порочные наклонности и стремление к роскоши; ему не раз приходилось слышать о приказчиках, которые, зарабатывая сто — сто пятьдесят франков в месяц, проигрывают в клубах огромные суммы, швыряют двадцатифранковики девицам легкого поведения, проводят время в кафе и ресторанах. Но Шарль казался таким набожным, таким скромным и честным, он играл свою двойственную роль с таким искусством, что Мариус уверовал в эту мнимую добропорядочность и даже усомнился в справедливости обвинений, столь категорично выдвигаемых г-ном Дастом.
Он сел в ожидании развязки этой драмы. Впрочем, ничего другого ему и не оставалось. В течение получаса в кабинета царила мрачная тишина. Фабрикант принялся что-то писать. Комиссар и двое полицейских сидели молча и, словно спросонья, осоловело уставились в одну точку с таким железным упорством, что, глядя на них, Мариус закаялся бы совершать преступления, если бы он и был способен их совершать.
Послышался шум шагов. Дверь медленно отворилась.
— Вот и наш молодчик, — произнес г-н Даст, вставая.
Вошел ничего не подозревавший Шарль Блетри. Он даже не заметил, кто тут был.
— Вы спрашивали меня, сударь? — спросил он тем угодливым тоном, каким обыкновенно подчиненные разговаривают с хозяином.
Так как г-н Даст смотрел на него в упор, он отвернулся и увидел комиссара, которого знал в лицо.
Шарль страшно побледнел, поняв, что все кончено, и весь затрясся. Он как бы сам себя привел на расправу и опустил голову, словно ожидая удара. Чувствуя, что испуг выдает его, Шарль старался казаться спокойным, старался найти в себе хоть каплю хладнокровия и дерзости.
— Да, я посылал за вами! — в бешенстве закричал г-н Даст. — И вы знаете зачем, не правда ли?.. Ах, презренный, больше вы не будете меня обкрадывать!
— Не знаю, что вы хотите этим оказать, — пробормотал Блетри. — Я ничего у вас не крал… В чем вы меня обвиняете?
Комиссар сел за письменный стол фабриканта, чтобы составить протокол. Двое полицейских охраняли дверь.
— Сударь, — обратился комиссар к г-ну Дасту, — будьте любезны сказать, при каких обстоятельствах обнаружились хищения, совершенные, по вашим словам, ответчиком Блетри?
Господин Даст изложил всю историю. Он сказал, что инкассатор порой чрезвычайно оттягивал сбор взносов. Но так как молодой человек пользовался его безграничным доверием, то он объяснял эту оттяжку тем, что должники увиливают от платежей. Хищения, по всей вероятности, начались года полтора тому назад, а то и раньше. Но вот, как раз накануне, один из клиентов г-на Даста обанкротился, и фабрикант лично пошел к нему потребовать уплаты причитавшихся с него пяти тысяч. И тут он узнал, что Блетри уже несколько недель как получил этот долг. Испугавшись, г-н Даст поспешил вернуться на фабрику и, проверив кассовую книгу, обнаружил недочет примерно в шестьдесят тысяч франков.
Затем комиссар приступил к допросу Блетри. Захваченный врасплох, малый этот не смог ничего отрицать и придумал какую-то нелепую историю.
— Однажды, — сказал он, — я потерял портфель с сорока тысячами франков. Не смея признаться господину Дасту в потере такой значительной суммы, я стал утаивать некоторые ценности и играть на бирже в надежде выиграть и возместить убыток, понесенный фирмой.
Комиссар подробными расспросами сбил его с толку и заставил противоречить самому себе. Блетри попытался прибегнуть к другой выдумке.
— Вы правы, — снова заговорил он, — портфеля я не терял. Скажу все как было. По правде говоря, меня самого обокрали. Я приютил одного юношу, у которого не было куска хлеба. Однажды ночью он скрылся и унес с собой мешок с вкладами. В мешке была солидная сумма.
— Послушайте, не усугубляйте свою вину ложью, — сказал комиссар с тем устрашающим терпением, какое отличает полицейских. — Вы же сами понимаете, что мы не можем вам поверить. Все ваши россказни — сущий вздор.
Он обернулся к Мариусу.
— Я попросил господина Даста задержать вас, сударь, — сказал он, — чтобы вы помогли нам разобраться в этом деле… Обвиняемый — ваш сосед, сказали вы. Известен ли вам его образ жизни? Не можете ли вы заставить его сказать нам всю правду?
Мариус был в чрезвычайном затруднении. Блетри вызывал в нем жалость; он шатался как пьяный и смотрел на него умоляющими глазами. Юноша этот не был закоренелым мошенником, — по-видимому, он поддался соблазну по слабости ума и характера.
Однако в Мариусе громко говорила совесть, приказывая ему рассказать все, что он знает. Он не стал отвечать комиссару, а обратился к самому Блетри.
— Послушайте, Шарль, — сказал он ему, — я не могу сказать, виновны вы или нет. Я всегда считал вас добрым и тихим малым. Мне известно, что вы домотаете матери, что вы любимы всеми, кто вас знает. Если вы совершили оплошность, признайтесь в своей ошибке: не заставляйте страдать тех, кто питает к вам уважение и дружбу, скажите всю правду, покайтесь чистосердечно.
Мариус говорил мягко и убедительно. Обвиняемый, в котором сухие слова комиссара вызывали одно лишь глухое и молчаливое озлобление, был покорен снисходительностью того, кто столько лет был его другом. Блетри вспомнил свою матушку, подумал о своих близких, чью дружбу и привязанность он потеряет, и комок подступил ему к горлу. Он залился слезами.
Закрыв лицо руками, Шарль горько плакал; несколько минут были слышны одни лишь душераздирающие рыдания. Преступник молча во всем признавался. Никто не проронил ни слова.
— Ну что ж! — воскликнул наконец Блетри сквозь слезы. — Да, я — негодяй и вор… Сам не знал, что делал… Сначала мне понадобилось несколько сот франков, потом тысяча, две, пять, десять тысяч сразу… Казалось, кто-то подталкивает меня… И мои потребности, желания все росли…
— Куда вы дели эти деньги? — спросил комиссар.
— Не знаю… роздал, проел, проиграл… Вы понятия не имеете, что это такое… Покуда я жил в бедности, душа моя не знала волнений, не было у меня греховных помыслов, я любил ходить в церковь, вел праведную жизнь, как подобает честному человеку… Но вот я познал роскошь и порок, завел себе любовниц, купил дорогую мебель… словом, безумствовал…
— Можете вы назвать девушек, с которыми вы гуляли на краденые деньги?
— Как я могу знать их имена? Я брал их где придется: на улицах, на публичных балах. Они приходили, потому что у меня были полные карманы денег, и уходили, когда карманы мои пустели… К тому же я много проиграл по клубам в баккара… Видите ли, вором я сделался, когда насмотрелся, как некоторые богатые сынки швыряют деньги на ветер, — бездельники эти утопали в роскоши. Мне тоже захотелось иметь женщин, играть и кутить по ночам. Мне нужно было тридцать тысяч франков в год, а я зарабатывал только тысячу восемьсот… И тогда я стал вором.
Несчастный задыхался, горе душило его; он упал на стул. Мариус подошел к г-ну Дасту, тоже очень взволнованному, и умолял его быть снисходительным. Затем он поспешил уйти, чтобы не видеть этого зрелища, от которого сердце его обливалось кровью. Он оставил Блетри оцепенелым, в каком-то нервном столбняке. Несколько месяцев спустя он узнал, что юноша этот был приговорен к пяти годам тюрьмы.
Очутившись на улице, Мариус почувствовал большое облегчение. Он понял, что жизнь дала ему хороший урок, сделав его случайным свидетелем ареста Шарля. За несколько часов до того, в порту, ему приходили в голову предосудительные мысли о богатстве. Он увидел, до чего могут довести подобные мысли.
И тут он сразу вспомнил, зачем пришел на мыловаренную фабрику. У него оставался только один час, чтобы достать пятнадцать тысяч франков для выкупа брата.
XV
Филипп отказывается бежать
Мариус должен был признаться в собственном бессилии. Он больше не знал, к кому обратиться. Одолжить за один час пятнадцать тысяч франков не так-то просто, особенно если ты простой конторщик.
Медленно шел он по Экской улице, голова у него напряженно работала, но мысль дремала, и он ничего не мог придумать. Денежные затруднения — ужасная вещь! Лучше бороться с убийцей, чем с неуловимым и удручающим призраком нищеты. До сих пор никто еще не изобрел ни одной такой монеты, пусть даже в сто су, которая сама плыла бы в руки.
Придя на бульвар Бельзенса, молодой человек, загнанный в тупик, доведенный нуждою до отчаяния, решил с пустыми руками вернуться в Экс. Дилижанс уже отъезжал, на империале пустовало одно место. Он с радостью занял его, предпочитая оставаться на воздухе, ибо задыхался от тревоги и надеялся, что широкие сельские просторы успокоят лихорадочный жар в его крови.
Грустное это было путешествие. Утром он проезжал мимо тех же деревьев, тех же холмов, но тогда надежда, которая заставляла его улыбаться, освещала радостным светом поля и косогоры. Теперь, снова глядя на этот край, он передавал ему всю печаль своей души. Тяжелая колымага катила безостановочно; по обочине дороги тянулись пахоты, сосновые леса, деревушки. А Мариуса каждая новая картина природы все больше и больше повергала в мрачное уныние, сердце у него щемило. Наступила ночь, и бедняге показалось, что весь край подернулся траурным крепом.
Приехав в Экс, он медленно побрел к тюрьме, думая про себя, что дурная весть никогда не приходит с опозданием. Было уже девять часов вечера, когда он вошел в тюремную сторожку. Ревертега и Фина коротали время за игрой в карты.
Цветочница радостно вскочила и побежала навстречу Мариусу.
— Ну как? — спросила она с ясной улыбкой, кокетливо откинув головку.
Мариус не посмел ответить. Он сел, совершенно подавленный.
— Говорите же! — воскликнула Фина. — Вы привезли деньги?
— Нет, — коротко ответил юноша.
Он тяжело вздохнул и рассказал о банкротстве Берара, об аресте Блетри, обо всех неудачах, постигших его в Марселе. В заключение он сказал:
— Теперь у меня уже действительно нет ни гроша за душой… Брат мой останется в тюрьме.
Цветочница замерла в горестном изумлении. Молитвенно сложив руки, приняв трогательную позу, столь свойственную женщинам Прованса, она повторяла со слезами в голосе: «Бедные мы, бедные!» И при этом поглядывала на дядю, словно побуждала его что-то сказать. Ревертега сочувственно смотрел на молодых людей. Видно было, что в нем происходит борьба. Наконец он решился.
— Послушайте, сударь, — обратился он к Мариусу, — несмотря на мое ремесло, я еще не настолько очерствел, чтобы не сочувствовать горю добрых людей… Вы уже знаете, что заставляет меня брать деньги за освобождение вашего брата. Но боюсь, не подумаете ли вы, что мною движет одна только корысть… Если тяжелые обстоятельства мешают вам сейчас оградить меня от нищеты, это не значит, что я не освобожу господина Филиппа… Вы расплатитесь со мной постепенно, когда сможете.
При этих словах Фина захлопала в ладоши. Она бросилась на шею дядюшке и от всего сердца расцеловала его. Мариус стал серьезным.
— Я не могу принять такую жертву, — возразил он. — И так уже совесть не дает мне покоя, что из-за меня вы изменяете долгу, я не хочу брать еще на себя тяжелую ответственность, оставляя вас без куска хлеба.
Цветочница, еле сдерживая гнев, резко повернулась к молодому человеку.
— Хватит вам! — воскликнула она. — Нужно спасти господина Филиппа… Я так хочу… Впрочем, мы и без вас откроем двери тюрьмы… Идемте, дядюшка. Если господин Филипп согласится, то брату его ничего не поможет.
Мариус побрел за девушкой и тюремщиком в камеру заключенного. Они взяли с собой потайной фонарь и постарались как можно тише проскользнуть в коридор, чтобы не привлечь внимания.
Все трое вошли в камеру и заперли за собою дверь. Филипп спал. Ревертега, тронутый слезами племянницы, по возможности смягчал для молодого человека суровые тюремные порядки: он приносил ему завтрак и обед, приготовленные Финой, снабжал его книгами и даже выдал ему добавочное одеяло. Камера стала обжитой, и заключенный не слишком томился в ней. К тому же он знал о готовящемся побеге.
Проснувшись, Филипп в порыве радости протянул руки брату и цветочнице.
— Вы пришли за мной? — спросил он с улыбкой.
— Да, — ответила Фина. — Одевайтесь поскорее.
Мариус молчал. Сердце у него колотилось. Он опасался, как бы острое желание свободы не заставило брата согласиться на побег, от которого, по его мнению, он обязан был отказаться.
— Итак, видно, все решено и устроено, — снова заговорил Филипп. — Я могу скрыться без тревог и угрызений совести… Вы заплатили обещанную сумму?.. Ты не отвечаешь, Мариус?
Фина поспешила вмешаться.
— Вот тебе раз! Кому же я велела поторопиться? — прикрикнула она. — Все остальное — не ваша забота!
Схватив платье молодого человека, она швырнула его на постель, прибавив, что подождет в коридоре.
Мариус знаком остановил ее.
— Извините, — сказал он, — я не могу оставить брата в неведении о постигшем нас несчастье.
И, невзирая на нетерпение Фины, он рассказал Филиппу о своей поездке в Марсель. Однако он не давал никаких советов, предоставляя брату полную свободу действий.
 У заключенного, казалось, отнялся язык. Не помышляя больше о побеге, Филипп думал о том, что теперь он нищий, и представлял себе, как жалко он будет выглядеть на гуляньях: прощайте изящные костюмы, беспечные прогулки, любовные интриги. Впрочем, молодой человек был по лишен благородных чувств и высоких помыслов, что не позволило ему принять жертву Ревертега. Он снова улегся в свою убогую постель, натянул одеяло до самого подбородка и преспокойно заявил:
У заключенного, казалось, отнялся язык. Не помышляя больше о побеге, Филипп думал о том, что теперь он нищий, и представлял себе, как жалко он будет выглядеть на гуляньях: прощайте изящные костюмы, беспечные прогулки, любовные интриги. Впрочем, молодой человек был по лишен благородных чувств и высоких помыслов, что не позволило ему принять жертву Ревертега. Он снова улегся в свою убогую постель, натянул одеяло до самого подбородка и преспокойно заявил:
— Ладно, остаюсь.
Мариус просиял. Фина остолбенела.
Потом она стала доказывать необходимость бегства, говорила, что его привяжут к позорному столбу всем на поругание. Она горячилась и была бесподобна в своем гневе; Филипп смотрел на нее с восхищением.
— Красавица моя, — отозвался он, — вы могли бы, пожалуй, заставить меня согласиться на побег, если бы я не ослеп и не одурел в этой камере… Но, право же, хватит с меня всего того, что я уже натворил, чтобы больше ничем не отягчать свою совесть… Да свершится все по воле всевышнего… Впрочем, еще не все погибло. Мариус освободит меня; он раздобудет деньги, вот увидите… Приходите за мною, когда уплатите выкуп. Мы убежим все вместе, и я вас расцелую…
Он говорил почти весело.
Мариус взял его за руку.
— Спасибо, брат, — сказал он. — Доверься мне.
Фина и Ревертега вышли, оставив Филиппа и Мариуса на несколько минут одних. Беседа их была серьезной и взволнованной: они говорили о Бланш и ее будущем ребенке.
Когда все трое вернулись в сторожку, цветочница в полном отчаянии спросила Мариуса, что он собирается предпринять.
— Думаю начать все сначала, — ответил он. — Вся беда в том, что у нас впереди мало времени, а я не знаю, где искать тугую мошну.
— Могу дать вам совет, — сказал Ревертега. — У нас в городе, в двух шагах отсюда, живет банкир, господин Ростан. Возможно, он согласился бы ссудить вас крупной суммой… Но предупреждаю, говорят, что Ростан ростовщик…
У Мариуса не было выбора.
— Благодарствуйте, — сказал он. — Завтра утром я схожу к этому человеку.
XVI
Господа ростовщики
Ростовщик Ростан был человеком ловким. Совершенно невозмутимо занимался он своими темными делами. Чтобы скрыть за приличной вывеской постыдный промысел, Ростан открыл банкирский дом, оплачивал патент, чтобы все было как полагается, по закону. Ростовщик этот умел при случае выказать даже некоторую честность и брал такие же проценты, как его собратья, городские банкиры. Но в его конторе была, так сказать, «задняя лавка», где он любовно обделывал свои махинации.
Через полгода после открытия банкирского дома Ростан стал управлять обществом ростовщиков, «черной шайкой» [1]Сообщество эксплуататоров-спекулянтов, скупавшее большие имения для распродажи их по частям. (Прим. ред.) , доверившей ему свои капиталы. Комбинация эта была предельно проста. Люди, склонные к ростовщичеству и не смевшие промышлять этим ремеслом на свой страх и риск, приносили Ростану деньги, чтобы он пустил их в дело. Таким образом, через его руки проходили значительные оборотные суммы, и он мог наживаться на нужде заемщиков. Вкладчики оставались в тени. Ростан торжественно обязался давать ссуду по баснословной норме, в пятьдесят, шестьдесят и даже восемьдесят процентов. Каждый месяц негласные участники предприятия собирались у него, он представлял им счета, а потом начинался дележ. Однако Ростан устраивался так, что львиная доля прибыли оставалась у него, — вор обворовывал воров.
Главным образом наседал он на мелких торговцев. Когда к нему накануне платежа приходил какой-нибудь купец, он ставил ему непомерно тяжелые условия. Купец неизменно принимал их; таким образом, за десять лет Ростан разорил свыше пятидесяти человек. Впрочем, он ничем не брезговал и так же охотно ссужал сто су зеленщице, как тысячу франков скотопромышленнику; Ростан систематически грабил город и не упускал случая одолжить десять франков, чтобы назавтра получить двенадцать. Ростовщик подстерегал маменькиных сынков, молодых кутил, соривших деньгами; давал им полные пригоршни золота, чтобы они побольше швыряли его, а он мог бы подбирать то, что упадет. Обходил он и деревни, сам отправлялся искушать крестьян, а в неурожайный год по куску вырывал у них земли.
Таким образом, дом его стал чем-то вроде люка, куда проваливались состояния. Называли отдельных людей и целые семьи, разоренные им. Не было человека, который бы не знал тайных пружин его ремесла. Все пальцами указывали на богачей, его поставщиков, бывших министерских чиновников, купцов и даже рабочих. Но доказательств не было. Он прикрывался промысловым свидетельством банкира и был слишком хитер, чтобы попасться с поличным.
За все годы, что он высасывал соки из города, Ростан только один-единственный раз подвергся опасности. Это была нашумевшая история. Одна дама, принадлежавшая к богатой семье, заняла у него довольно крупную сумму; она была очень набожна и растратила свое состояние, щедро раздавая милостыню. Зная плачевное состояние ее дел, Ростан потребовал, чтобы она подписала векселя именем своего брата: подложные расписки казались ему надежной гарантией, и он был уверен, что из боязни огласки брат ее погасит задолженность. Бедная женщина подписала. Любовь к ближнему разорила ее, доброта и слабохарактерность привели к падению. Расчеты Ростана оправдались: первый вексель был оплачен; но так как все время появлялись новые и новые заемные письма, брату надоело, и он захотел внести ясность в это дело. Он пошел к ростовщику и пригрозил ему судебным преследованием; он сказал, что скорее поступится добрым именем своей сестры, нежели позволит безнаказанно обирать себя этакому прохвосту. Перепугавшись насмерть, Ростан вернул все расписки, какие у него еще оставались. Впрочем, старый живодер не потерял ни гроша: он ссудил сто на сто.
С того дня Ростан стал чрезвычайно осторожным. Он управлял капиталами «черной шайки» с искусством, которое снискало ему восхищение и доверие, с позволения сказать, господ ростовщиков. В то время как его вкладчики — эти обиралы — с видом честных людей грелись на солнышке, он запирался в своем большом и мрачном кабинете, где разрасталось и плодоносило золото всей шайки. В конце концов Ростан полюбил свое ремесло — надувательства и кражи — истинной любовью. Некоторым членам сообщества прибыль давала возможность жить согласно своим порочным наклонностям, в роскоши и разгуле. А ему ничто не доставляло такой радости, как сознавать, что он ловкий мошенник; каждая операция была для него увлекательной драмой или комедией; когда замыслы его осуществлялись, он рукоплескал самому себе, в нем говорило тогда удовлетворенное самолюбие признанного художника; а потом, расставив на столе стопки наворованных денег, он со сладострастием скупца погружался в их созерцание.
И к подобному человеку направил Мариуса простодушный Ревертега!
На следующее утро, часов в восемь, Мариус постучался в дверь Ростана. Дом был крепкий, основательный. Жалюзи на всех окнах были закрыты, что придавало зданию какую-то холодную обнаженность, таинственный и настороженный вид. Старая беззубая служанка, закутанная в грязную ситцевую ветошь, приоткрыла дверь.
— Господин Ростан дома? — спросил Мариус.
— Дома-то дома, да занят, — ответила старуха, продолжая держать дверь полузакрытой.
Молодой человек нетерпеливо толкнул створки и вошел в переднюю.
— Хорошо, — сказал он, — я подожду.
Служанка в изумлении нерешительно помялась, но, поняв, что ей не избавиться от этого посетителя, проводила его наверх и оставила в каком-то помещении вроде прихожей. Маленькая темная комнатка была оклеена выцветшими зеленоватыми обоями в расплывшихся пятнах сырости. Соломенный стул составлял всю меблировку. Мариус присел на этот стул.
Открытая напротив дверь позволила ему заглянуть внутрь конторы, где какой-то приказчик писал ужасно скрипучим гусиным пером. Другая дверь, слева, по-видимому, вела в кабинет банкира.
Мариус ждал долго. Его обдавало терпким запахом старых бумаг. В квартире было отвратительно грязно, а голые стены придавали ей мрачный и унылый вид. Углы обросли пылью, пауки на потолке плели свою паутину. Молодой человек задыхался, его раздражал скрип гусиного пера, становившийся все громче и громче.
Вдруг он услышал в соседней комнате разговор, и так как слова доносились четко и ясно, то из скромности он хотел было пересесть подальше, но некоторые фразы пригвоздили его к месту. Бывают такие беседы, которые подслушивать не зазорно, — бережное отношение к личным делам людей определенного сорта — излишняя щепетильность.
Чей-то голос, сухой, лишенный живых интонаций, очевидно, голос хозяина дома, произнес с дружеской грубоватостью:
— Господа, мы собрались здесь в полном составе, чтобы побеседовать о важных делах… Заседание открыто… Я хочу дать точный отчет о проведенных мною за этот месяц операциях, а затем мы приступим к разделу прибыли.
Послышался легкий шум, звуки отдельных голосов, потом все стало постепенно затихать. Мариус все еще ничего не понимал, однако чувствовал, что его охватывает жгучее любопытство; он догадывался, что за дверью происходит нечто из ряда вон выходящее.
И впрямь лихоимец Ростан принимал своих достойных компаньонов из «черной шайки». Молодой человек явился сюда как раз в тот час, когда шло заседание, именно в ту минуту, когда управляющий показывал свои книги, отчитывался в своих махинациях, делил барыши.
Все тот же сухой голос продолжал:
— Прежде чем войти в подробности, я должен признаться, что итоги этого месяца не так хороши, как итоги предыдущего, когда мы имели в среднем шестьдесят процентов. Нынче у нас только пятьдесят пять.
Послышались возгласы. Можно было подумать, что целая толпа неодобрительным шепотом выражает свое неудовольствие. А между тем там могло быть не более полутора десятка человек.
— Господа, — продолжал Ростан с насмешкой и горечью, — я сделал все, что мог, вам следовало бы поблагодарить меня… Работать становится с каждым днем все труднее… Впрочем, вот мои счета, я немедленно ознакомлю вас с некоторыми делами, которые я тут провернул…
На несколько секунд воцарилось глубокое молчание. Затем послышался шорох бумаг, легкий хруст листаемого реестра. Мариус начал понимать, в чем дело, и весь обратился в слух.
И тут Ростан крикливым и гнусавым тоном судебного пристава перечислил все свои сделки, давая кое-какие пояснения относительно каждой из них.
— Я ссудил, — сказал он, — десять тысяч франков молодому графу де Сальви, двадцатипятилетнему шалопаю, который через девять месяцев достигнет совершеннолетня. Он проигрался, а любовница его, по-видимому, требует от него крупную сумму. Он подписал мне векселей на восемнадцать тысяч франков, сроком на три месяца. Векселя эти датированы, согласно договору, днем его совершеннолетия. Род Сальви владеет большими поместьями… Это отменное дельце.
Слова ростовщика были встречены одобрительным шепотом.
— На другой день, — продолжал он, — ко мне пришла содержанка графа, которая рвала и метала, потому что любовник дал ей только два пли три векселя по тысяче франков. Она поклялась мне, что заставит Сальви заключить новый заем… Мы можем еще девять месяцев обирать этого дурачка, которому мать не дает денег.
Ростан листал реестр. После короткой паузы он снова заговорил:
— Журдье… торговец сукном, которому из месяца в месяц не хватает нескольких сот франков, чтобы расплатиться с кредиторами. Ныне его торговое заведение почти полностью принадлежит нам. На этот раз он получил еще от меня пятьсот франков под шестьдесят процентов. В следующий месяц я не дам ни одного су, объявлю его несостоятельным, и мы завладеем его товарами.
Марианна… рыночная торговка. Каждое утро она берет у меня десять франков, а вечером отдает пятнадцать. Мне кажется, она пьет… Мелкое дельце, но верная прибыль, — ежедневно пять франков устойчивой ренты.
Лоран… крестьянин из предместья Рокфавур. Кусок за куском передал он мне свой земельный участок близ Арка. Эта земля стоит пять тысяч франков; мы заплатили за нее две. Я выжил этого молодца из его владения. Жена и дети его явились ко мне плакаться на свою бедность… Вы, верно, вознаградите меня за всю эту докуку, не правда ли?
Андре… мельник, был нам должен восемьсот франков. Я пригрозил наложить арест на его имущество. Тогда он прибежал ко мне с мольбой не губить его, не предавать гласности его несостоятельность. Я согласился лично, не прибегая к помощи пристава, наложить запрет на его имущество и принудил его отдать мне мебель и белье, всего на тысячу двести с лишним франков… Четыреста франков эти я заработал своим человеколюбием.
Легкий одобрительный гул пробежал в толпе слушателей. Мариус услышал приглушенный смех этих людей: их потешала ловкость Ростана. А тот продолжал:
— Теперь пойдут обычные дела: три тысячи франков под сорок процентов купцу Симону; полторы тысячи франков под пятьдесят процентов скотопромышленнику Шарансону; две тысячи франков под восемьдесят процентов маркизу де Кантарель; сто франков под тридцать пять процентов сыну нотариуса Тенгри…
И Ростан, с трудом разбирая написанное, целых четверть часа читал имена и цифры, перечислял ссуды от десяти до десяти тысяч франков и разнообразные проценты от двадцати до ста. Когда он кончил, кто-то густым, хриплым голосом произнес:
— Так за каким же чертом, друг мой, вы сами на себя наговаривали? Вы чудесно поработали этот месяц. Ведь все это превосходные кредиторы. Не может быть, чтобы прибыль в среднем не возросла до пятидесяти пяти процентов, а то и выше. Вы, наверное, ошиблись, объявив нам такую цифру?
— Я никогда не ошибаюсь, — сухо возразил ростовщик.
Мариусу, который почти вплотную приложил ухо к двери, показалось, что он уловил какую-то нерешительность в голосе подлеца.
— Дело в том, что я еще не все сказал, — продолжал Ростан несколько растерянно. — Мы потеряли на той неделе двенадцать тысяч франков.
При этих словах послышались грозные выкрики. Мариус на какой-то миг понадеялся, что мошенники сейчас съедят друг друга.
— Ну вас к черту! Выслушайте меня! — крикнул банкир, перекрывая стоявший в комнате шум. — Я достаточно приношу вам денег, чтобы вы могли простить мне убыток, который потерпели из-за меня один-единственный раз, и то случайно. Тем более что это произошло не по моей вине. Меня обокрали.
Он произнес эти слова с негодованием честного человека. Когда шум понемногу улегся, он продолжал:
— История такова: Монье, торговец зерном, человек состоятельный, — я был о нем прекрасно осведомлен, — пришел ко мне с просьбой дать ему взаймы двенадцать тысяч франков. Я ответил, что у меня таких денег нет, но что я знаю одного старого скрягу, который, пожалуй, ссудит его, но только под чудовищные проценты. На другой день Монье опять пришел и сказал, что готов на любые условия. Я предупредил его, что ему придется уплатить пять тысяч франков одних процентов. Он согласился. Как видите, дельце было золотое… Пока я ходил за деньгами, он сел за мой письменный стол и подписал семнадцать векселей по тысяче франков каждый. Я ознакомился с ними и положил их на угол своей конторки. Затем, перекинувшись со мной несколькими словами, Монье спрятал деньги в карман и вышел… После его ухода я хотел запереть бумаги, взял их в руки… Представьте себе, что жулик этот подменил расписки очень похожей по объему связкой переводных векселей на смехотворную сумму, векселей, закапанных чернилами, без подписи, неизвестно на чье имя… Меня обокрали. Со мной чуть не приключился удар, я побежал вдогонку за вором, который преспокойно гулял по залитому солнцем проспекту… Я еще рта не раскрыл, как он уже обозвал меня лихоимцем и пригрозил мне полицией. Этот Монье пользуется славой честного и неподкупного человека, и я, по правде говоря, предпочел смолчать.
Слушатели несколько раз прерывали рассказ сердитыми замечаниями.
— Признайтесь, Ростан, что вы спасовали, — снова заговорил хриплый голос. — Одним словом, деньги потеряны, прибыли у нас только пятьдесят пять процентов… В следующий раз вы будете строже блюсти наши интересы… А теперь — за дележ!
Несмотря на тревогу и негодование, Мариус не сдержал улыбки. Проделка этого Монье показалась ему в высшей степени забавной, и в глубине души он восхищался плутом, который перехитрил плута.
Теперь он знал, чем промышлял Ростан. Он не пропустил ни одного слова из того, что говорилось в соседней комнате, и представлял себе всю эту сцену так ясно, словно присутствовал при ней. Полуоткинувшись на стуле, он напряженно прислушивался и мысленно видел перед собой ссорившихся ростовщиков, видел их алчные взгляды, их лица, сведенные судорогой низменных страстей.
Он испытал нечто вроде горькой радости, когда вспомнил, зачем пришел в этот вертеп. Какая наивность, боже милостивый! Где он надеялся найти пятнадцать тысяч франков для выкупа Филиппа! Целый час ждал он банкира, чтобы тот в конце концов выставил его за дверь, как последнего попрошайку; в лучшем случае заломил бы пятьдесят процентов и содрал бы их без зазрения совести. При этой мысли, при мысли, что тут же рядом находится сборище мошенников, которым на руку все беды и пороки города, он вскочил и взялся за ручку двери.
В комнате тонко позвякивало золото. Ростовщики делили добычу. Каждый получал мзду за месяц плутней. Звон пересчитываемых монет щекотал им нервы, а между тем в этой упоительной для них музыке порою слышался отзвук рыданий. Тревожную тишину прерывал только жесткий, как металл, голос банкира, называвшего цифры.
Тут Мариус повернул дверную ручку. Безмолвно простоял он несколько секунд на пороге; лицо его было бледно, взгляд тверд.
Глазам молодого человека открылось странное зрелище. Ростан стоял у письменного стола, спиной к открытой кассе, откуда он черпал пригоршни золота. Вокруг стола сидели члены «черной шайки», одни ждали своей доли, другие — набивали карманы только что полученными деньгами. Банкир поминутно заглядывал в счета, низко пригибаясь к самому реестру; он выдавал деньги с большой осторожностью. Компаньоны не сводили глаз с его рук.
На шум распахнувшейся двери все головы резко и испуганно повернулись. Увидев Мариуса, сурового и негодующего, каждый из присутствовавших безотчетным движением прикрыл всей пятерней свою кучку золота. Наступила минута замешательства и оцепенения.
Молодой человек сразу же узнал негодяев. Он не раз встречал их на улице; исполненные достоинства, они проходили мимо него с высоко поднятой головой. Кое-кого из них он даже приветствовал: ведь при желании они могли бы спасти его брата. Чиновники в отставке, помещики, завсегдатаи церкви и городских салонов, они были богаты, уважаемы, влиятельны. Теперь под его взглядом они униженно бледнели; у него вырвался жест отвращения.
Ростан бросился вперед. Глаза его лихорадочно мигали, толстые бледные губы тряслись, вся его красноватая, сморщенная личина скупца выражала смешанное чувство изумления и ужаса.
Что вам нужно? — запинаясь, спросил он Мариуса. — Почему вы врываетесь в чужой дом?
— Мне нужно было пятнадцать тысяч франков, — ответил молодой человек с холодной насмешкой в голосе.
— У меня нет денег, — поспешил ответить ростовщик и бросился к своей кассе.
— О, не беспокойтесь, я отказался от мысли обворовывать самого себя… Не скрою, целый час провел я под этой дверью и тайно присутствовал на вашем заседании.
Заявление это как обухом ударило по склоненным головам членов «черной шайки». Эти люди еще дорожили своим добрым именем и не совсем потеряли стыд. Кое-кто закрыл лицо руками. Ростану нечего было терять; он понемногу приходил в себя. Приблизившись вплотную к Мариусу, он повысил голос.
— Кто вы такой? — закричал он. — По какому праву явились сюда подслушивать под дверью? Зачем пролезли до самого кабинета, раз вам ничего от меня не нужно?
— Кто я? — переспросил молодой человек тихо и спокойно. — Честный малый, а вы мошенники. По какому праву я подслушивал под дверью? По праву порядочного человека изобличать подлецов. Зачем я проник к вам? Да просто-напросто, чтобы сказать вам, что вы мерзавец.
Ростан дрожал от бешенства. Он не мог понять, откуда взялся этот мститель, который бросал ему правду в лицо. Он раскричался, ринулся вперед на Мариуса, но тот сильным движением удержал его.
— Замолчите вы! — продолжал он. — Я и сам уйду, мне здесь душно. Но прежде чем уйти, я хотел бы высказаться. Ах! Господа, у вас волчий аппетит. Вы алчно делите между собой слезы и отчаяние целых семей; вы наедаетесь до отвалу кражами и обманом… Я очень доволен, что мне удалось хоть немного помешать вашему насыщению и вызвать у вас трепет беспокойства.
Ростан попытался прервать его, но Мариус продолжал с дрожью в голосе:
— Разбойники с большой дороги по крайней мере обладают смелостью, они дерутся, они подвергают себя опасности. Вы же, господа, воруете, стыдливо оставаясь в тени. И подумать только, что у вас нет необходимости красть из-за куска хлеба! Ведь вы все богаты. Для вас злодеяние, господи прости, одно удовольствие.
Кое-кто из ростовщиков с угрожающим видом поднялся.
— Вам никогда не приходилось испытывать на себе гнев честного человека, не так ли? — прибавил Мариус с насмешкой. — Правда вас раздражает и пугает. Вы привыкли к почтительному обращению, какое подобает порядочным людям, а так как вы, наловчившись прятать свою подлость, пользуетесь всеобщим уважением, то в конце концов сами поверили в справедливость почестей, воздаваемых вашему лицемерию. Что ж!
Мне хотелось, чтобы вы хоть один раз в жизни получили по заслугам, вот зачем я и вошел сюда.
Молодой человек увидел, что еще немного, и они убьют его. Шаг за шагом стал он отходить к двери, сдерживая ростовщиков взглядом. На пороге он снова остановился.
— Я отлично знаю, господа, — сказал он, — что не могу потащить вас на суд людской. Богатство, влияние и изворотливость делают вас неприкосновенными. Имей я наивность бороться против вас, уничтожен был бы, несомненно, я… Но мне не придется по крайней мере упрекать себя за то, что, очутившись рядом с такими людьми, как вы, я не изрыгнул им в лицо свое презрение. Мне хотелось бы, чтобы слова мои были раскаленным железом, которое выжгло бы клеймо на ваших лбах. Толпа с тиканьем гналась бы за вами, и, может быть, это послужило бы вам уроком. Делите свое золото: если в вас еще осталась хоть капля честности, оно обожжет вам руки.
Мариус закрыл дверь и ушел. Выйдя на улицу, он грустно усмехнулся. Жизнь открылась ему во всей своей грязи и язвах, и он подумал, что ему, с его честностью и справедливостью, самой судьбой уготована смешная и благородная роль Дон-Кихота.
XVII
Два гнусных портрета
Когда Мариус рассказал о своей рискованной выходке тюремщику и цветочнице, Фина воскликнула:
— Здорово вы подвинули дело! И чего было так петушиться? Человек этот, может статься, ссудил бы вас деньгами.
Женщины обладают упорством, которое придает их совести известную гибкость; так и Фина: при всей своей честности, она на месте Мариуса, вероятно, притворилась бы, что ей ничего не известно, и даже при случае воспользовалась бы подслушанной тайной.
Ревертега был несколько смущен тем, что посоветовал Мариусу обратиться к банкиру.
— Я предупредил вас, сударь, — сказал он, — до меня доходили кое-какие слухи об этом человеке, но я счел это клеветой. Знай я всю правду, никогда бы не направил вас к нему.
Мариус и Фина все послеобеденное время строили планы один другого нелепее и тщетно ломали голову, где бы раздобыть пятнадцать тысяч, необходимых для бегства Филиппа.
— Как же так, — воскликнула девушка, — чтобы во всем городе не нашлось ни одной доброй души, которая вывела бы нас из затруднения! Разве нет у нас богатых людей, ссужающих деньги под умеренные проценты? Ну же, дядюшка, подумайте-ка вместе с нами. Назовите мне услужливого человека, и я брошусь к его ногам.
Ревертега покачал головой.
— Да, конечно! — ответил он. — Здесь есть отзывчивые люди с деньгами, они, пожалуй, пошли бы вам навстречу. Только у вас нет никакого права на их доброту, вы же с места в карьер не попросите у них денег. Вам бы нужно было обратиться к заимодавцам-дискантерам, но так как вы не можете дать надежного поручительства, то вынуждены обращаться к ростовщикам… О, я знаю таких старых скряг, жуликов, которые либо с восторгом заграбастали бы вас в свои лапы, либо вышвырнули бы на улицу, как опасного попрошайку.
Фина прислушивалась к словам дяди. Все эти денежные вопросы не укладывались в ее юной головке. Душа девушки была так открыта, так чиста, что ей казалось совершенно естественным и нисколько не затруднительным, побегав часок-другой, раздобыть крупную сумму: на свете столько миллионеров, для которых несколько тысяч франков ничего не значат.
Она стояла на своем.
— Да ну же, подумайте хорошенько, — снова обратилась она к тюремщику. — Неужели вы и впрямь не знаете никого, кто бы нам помог?
Ревертега с волнением посмотрел на ее измученное тревогой лицо. Ему не хотелось показывать грубую изнанку жизни этому ребенку, полному юных надежд.
— Нет, — ответил он, — я и в самом деле не вижу никого… Я говорил вам о старых мошенниках, которые постыдно нажили громадные состояния. Они, как и Ростан, ссужают сто франков, чтобы через три месяца получить сто пятьдесят…
Он поколебался, затем продолжал, понизив голос:
— Хотите, я расскажу вам историю одного из них… Зовут его Румье; он бывший министерский чиновник, теперь — охотник за наследствами. Пролезая в богатые дома, где он в силу своих обязанностей играл роль поверенного и друга, Румье зондировал почву и умело расставлял ловушки. Когда ему попадался завещатель мягкосердечный и слабовольный, он становился его любимцем, оплетал его своими сетями, постепенно привлекал на свою сторону низкопоклонством, лестью, искусно разыгранным вниманием и сыновней нежностью. О, это ловкач! Надо было видеть, как он усыплял бдительность своей жертвы, с какой вкрадчивой гибкостью втирался в доверие старика! Постепенно он вытеснял настоящих наследников, всяких племянников и двоюродных братьев, затем собственноручно составлял новое завещание, которое лишало их права на имущество родственника и назначало его единственным и законным наследником. Однако Румье не торопил событий, десятилетиями добивался он своей цели, вынашивал свой план до полного созревания; он действовал с кошачьей осторожностью, ползая в тени, и прыгал на свою жертву лишь тогда, когда она уже была парализована его взглядами и ласками. Он охотился за наследством так же кровожадно, как свирепый тигр за зайцем: бесшумно и пряча когти.
Фине казалось, что она слушает сказку из «Тысячи и одной ночи». Она смотрела на дядюшку широко раскрытыми от удивления глазами. Мариус начинал уже осваиваться со всякого рода злодействами.
— Вы говорите, что человек этот нажил большое состояние? — спросил он тюремщика.
— Да, — продолжал тот. — Приводят диковинные примеры, подтверждающие удивительную ловкость Румье… Так лет десять, пятнадцать тому назад он снискал благосклонность одной престарелой дамы — владелицы почти полумиллионного состояния. То была настоящая страсть. Старуха до такой степени превратилась в его рабу, что отказывала себе в куске хлеба, только бы не прикасаться к богатству, которое она хотела оставить этому дьяволу-искусителю, что вертел ею как хотел. Она была в полном смысле слова одержимой; святой воды всех церквей не хватило бы, чтобы изгнать из нее беса. Посещения Румье приводили ее в экстаз. Каждый раз, когда при встрече на улице он отвешивал ей поклон, это ее потрясало так, что от радости вся кровь бросалась ей в лицо. Для всех оставалось загадкой, какой лестью, каким ловким ходом сумел нотариус столь глубоко проникнуть в это сердце, которое до сих пор находилось под замком чрезмерной благочестивости. Старая дама, обобрав своих прямых наследников, завещала Румье пятьсот тысяч франков. Все были подготовлены к подобной развязке.
Наступила пауза.
— А вот слушайте, — вновь заговорил Ревертега, — я могу привести вам еще один пример… Забавная история — настоящая жестокая комедия, в которой Румье дает доказательство редкой изворотливости… Некто по имени Ришар, коммерсант, скопивший несколько сот франков, ушел от дел и поселился в одной порядочной семье, которая покоила и тешила его старость. За такую подкупающую дружбу старый купец обещал своим хозяевам сделать их своими наследниками. Те твердо на это надеялись; у них было много детей, и они рассчитывали устроить их достойным образом. Но Румье стал им поперек дороги; вскоре он сделался близким другом Ришара и частенько увозил его в деревню, где завершил в глубокой тайне свое захватническое дело. Семья, в которой жил бывший коммерсант, ничего не подозревала; продолжала ухаживать за своим постояльцем и ждала наследства. Пятнадцать лет прожили эти люди в сладостном душевном покое, пятнадцать лет строили они планы на будущее, уверенные в грядущем счастье и богатстве. Ришар умер, а на следующий день наследником стал Румье, к великому изумлению и разочарованию этой семьи, у которой он украл и привязанность и деньги покойного… Вот каков этот охотник за наследствами. Неслышно крадется он, пряча когти; его прыжки чересчур стремительны, чтобы от них можно было уклониться, он успевает высосать всю кровь из своей жертвы, прежде чем кто-то заметит, что он впился в нее.
Фина возмутилась.
— Нет, нет, — сказала она, — я ни за что не обращусь за деньгами к подобному человеку… Не знаете ли вы, дядюшка, какого-нибудь другого заимодавца?
— Э-хе-хе, бедная моя девочка, — ответил тюремщик, — все ростовщики на один покрой; у кого из них совесть чиста и безупречна? Знаю я одного старого выжигу, у него миллионное состояние, а живет он одни в грязном, запущенном доме. Гийом глубоко схоронился в своем смрадном вертепе. Сырость разъедает стены его погреба; даже пол не мощен, под ногами какая-то омерзительная дрянь из мусора и обломков; с потолка свисает паутина, на всем лежит пыль; тусклый и мрачный свет пробивается сквозь мутные, давно не мытые стекла. Наш скопидом кажется неподвижным на своем гноище, словно паук, дремлющий в паутине. Когда жертва попадается в расставленные им сети, он притягивает ее к себе и высасывает всю кровь из ее жил… Человек этот питается только отварными овощами и потому всегда голоден. Он одевается в лохмотья и ведет жизнь нищего, прокаженного. А все для того, чтобы сберечь накопленные деньги и бесконечно приумножать свои сокровища… Он ссужает только сто на сто.
Фина бледнела перед отвратительной картиной, которую рисовал ее дядя.
— Однако же, — продолжал тюремщик, — у Гийома есть друзья, которые превозносят его благочестие. Он же не верит ни в бога, ни в черта и, кабы мог, продал бы Христа вторично; но он сумел ловко прикинуться очень набожным, чем и заслужил уважение некоторых не слишком умных людей. Его можно видеть на всех богослужениях, нет церкви, где бы он не ковылял от колонны к колонне, преклоняя колена и опустошая кропильницы. Расспросите весь город, выведайте, что хорошего сделал этот святоша? Он, говорят, любит бога, но при этом обирает ближнего своего. Нет такого человека, которому бы он пришел на помощь. Он ссужает в рост и не дает ни одного су обездоленным. Умри кто-нибудь голодной смертью на пороге его дома, он не дал бы ни куска хлеба, ни глотка воды. Если он и пользуется каким-то уважением, то оно такое же краденое, как все, чем он обладает…
Ревертега осекся, глядя на племянницу, не решаясь продолжать.
— Неужели у вас хватит наивности обратиться к подобному человеку? — спросил он наконец. — Я не могу рассказать все, я не могу говорить о пороках Гийома. Это грязный старик; временами он забывает скупость ради удовлетворения своей похоти. Все кругом шепчутся о постыдных торгах, о возмутительных случаях растления…
— Довольно! — громко вскрикнул Мариус.
Фина, вся красная, потрясенная, поникла головой, она не находила в себе больше ни мужества, ни надежды.
— Я вижу, что деньги обходятся слишком дорого, — заговорил молодой человек, — чтобы купить их, нужно продать себя. Ах, если бы у меня было время честно заработать нужную нам сумму!
Все трое умолкли, не зная, что придумать для спасения Филиппа.
XVIII
Проблеск надежды
На следующее утро Мариус, уступая настоятельной необходимости, решил попросить помощи у г-на де Жируса. С тех пор как он начал тщетные поиски денег, его не оставляла мысль обратиться к старому графу. Но он никак не мог решиться на это; его отпугивала резкость чудаковатого дворянина, он не смел признаться в своей беде и краснел, когда думал, что придется рассказать, зачем ему понадобились пятнадцать тысяч франков. Для него было истинной мукой посвящать третье лицо в план бегства Филиппа, а г-на де Жируса он стеснялся больше, чем кого-либо.
Молодой человек не застал графа дома, тот только что уехал в Ламбеск. Мариус даже обрадовался — так тяготил его этот шаг. Он постоял немного, не зная, как ему быть; отправиться в Ламбеск было свыше его сил, а вынужденное бездействие угнетало его.
Он повернул назад и, удрученный, с блуждающим взглядом побрел по бульвару, как вдруг в одной из аллей увидел Фину. Цветочница, в нарядном платье, с саквояжем в руке, вся светилась улыбкой и казалась олицетворением решимости.
— Куда это вы? — с удивлением спросил он.
— В Марсель, — ответила она.
Он посмотрел на нее с любопытством, как бы вопрошая взглядом.
— Не могу вам ничего сказать, — продолжала она. — Есть у меня один план, но боюсь, как бы он не сорвался. Я вернусь вечером… Ну, ну, не падайте духом.
Мариус проводил Фину до дилижанса. Когда тяжелая колымага тронулась в путь, он долго провожал ее глазами; она увозила его последнюю надежду, и кто знает, что она привезет ему вскоре — горе или радость.
До самого вечера бродил он вокруг прибывавших дилижансов. Уже ждали последнего, а Фина все не появлялась. Молодой человек, снедаемый нетерпением, лихорадочно ходил взад и вперед и весь дрожал при мысли, что цветочница задержится до следующего дня. Не зная, в чем состояла ее последняя попытка, он чувствовал, что не в силах провести целую ночь в неведении, тревоге и сомнениях. Его знобило, и он бродил по проспекту словно в каком-то кошмаре.
Наконец он еще издали, посреди площади Ротонды, увидел дилижанс. Грохот колес о мостовую вызвал у него ужасное сердцебиение. Прислонясь к дереву, он смотрел, как пассажиры с приводившей в отчаяние медлительностью, один за другим, высаживаются из кареты. Вдруг он словно прирос к земле. Против него в открытой дверце мелькнула высокая фигура и бледное, печальное лицо аббата Шатанье. Выйдя из дилижанса, он протянул руку и помог спуститься на тротуар какой-то молодой женщине. То была мадемуазель Бланш де Казалис.
За ней, минуя подножку, спрыгнула Фина. Она сияла.
Приезжие в сопровождении цветочницы направились в «Гостиницу принцев». Под покровом сгущавшейся тьмы Мариус машинально плелся за ними, ничего не понимая, как совершеннейший тупица.
Фина пробыла в гостинице не больше десяти минут. Выйдя оттуда, она увидела Мариуса и в приливе безудержной радости бросилась к нему.
— Мне удалось привезти их! — крикнула она, хлопая в ладоши. — Теперь, надеюсь, они добьются того, чего я хочу… Завтра все выяснится.
И, взяв Мариуса под руку, она рассказала ему весь свой день.
Накануне ее поразило вырвавшееся у молодого человека сожаление о том, что он не успеет честно заработать нужную сумму. С другой стороны, из всего рассказанного дядюшкой видно было, что найти заимодавца, ростовщика с умеренным аппетитом, почти невозможно. Следовательно, вопрос сводился к тому, чтобы выиграть время и постараться, насколько возможно, отдалить тот час, когда Филиппа привяжут к позорному столбу. Больше всего их ужасала эта казнь, отдававшая осужденного на поругание толпы. У девушки созрел план, план смелый и, пожалуй, выполнимый только благодаря своей дерзости. Она отправится прямо в дом г-на де Казалиса, проникнет в комнату его племянницы и нарисует ей яркую картину того, что ждет осужденного; не поскупившись на подробности, она докажет Бланш, что позор падет не только на Филиппа, но и на нее. Заставив таким образом мадемуазель де Казалис стать на защиту возлюбленного, она пойдет вместе с барышней к ее дяде, и они вдвоем умолят его вмешаться. Если депутат не согласится просить о помиловании, пусть хотя бы добьется отсрочки.
Впрочем, у Фины не было ясного представления, как ей следует действовать. Она не допускала мысли, что г-н де Казалис устоит перед слезами племянницы. Она верила, что он предан Бланш.
Бедняжка Фина грезила наяву, когда надеялась, что г-н де Казалис в последнюю минуту смягчится. Этот надменный упрямец хотел надругаться над Филиппом, и ничто в мире не могло помешать ему осуществить свою месть. Если бы Фине довелось встретиться с ним, все ее мечты пошли бы прахом, напрасно стала бы она расточать самые нежные улыбки, проливать самые трогательные слезы.
На ее счастье, обстоятельства благоприятствовали ей. Когда она явилась в особняк депутата, расположенный в аллее Бонапарта, ей сказали, что г-н де Казалис только что отбыл в Париж, куда его вызвали по делам, связанным с его общественной деятельностью. На ее вопрос, может ли она видеть барышню, последовал уклончивый ответ: мадемуазель де Казалис в отъезде.
Цветочнице оставалось только покинуть особняк; на улице Фина стала думать, как выйти из затруднительного положения, в которое она попала. Все ее замыслы оказались расстроенными, отъезд дяди и племянницы лишал ее поддержки, на какую, по ее мнению, она могла рассчитывать; у нее не было здесь ни одного друга, ей не на кого было опереться. Однако она не хотела отказаться от последней надежды и вернуться в Экс в таком же отчаянии, в каком была накануне, после безрезультатной поездки Мариуса.
Вдруг она вспомнила об аббате Шатанье. Мариус часто говорил ей о старом священнике. Она много наслышалась о его доброте и самоотверженности. Не даст ли он ей каких-нибудь ценных сведений?
Она нашла священника в доме у его сестры-калеки. Фина излила перед ним душу и в нескольких словах рассказала о причине своего приезда в Марсель. Старик слушал ее с большим волнением.
— Само небо привело вас сюда, — ответил он. — Думаю, что при таких обстоятельствах я вправе нарушить доверенную мне тайну. Мадемуазель Бланш никуда не уезжала. Господин де Казалис, желая скрыть беременность своей племянницы и не имея возможности взять ее с собой в Париж, снял для нее домик в деревне Сент-Анри. Она живет там с гувернанткой. Господин де Казалис, который снова оказал мне доверие, просил меня почаще навещать ее и дал мне довольно большие полномочия… Если хотите, я провожу вас к бедной девочке, которая, как вы сами убедитесь, сильно изменилась и очень удручена.
Фина с радостью приняла это предложение.
При виде цветочницы Бланш побледнела и горько расплакалась. Желтое, как воск, лицо с бесцветными губами, глаза, окруженные легкой синевой, выдавали, чего ей стоило сдерживать страшный вопль признания, который рвался из ее груди с такой силой, что она шаталась.
Когда Фина, тронутая ее слезами, объяснила, что она могла бы скорее чем кто-либо избавить Филиппа от величайшего позора, Бланш встала и, выпрямившись во весь рост, произнесла надтреснутым голосом:
— Я готова, располагайте мною… дитя в чреве моем непрестанно твердит мне о своем отце. Я хотела бы успокоить гнев этого бедного, еще не родившегося существа.
— За чем же дело стало! — с жаром воскликнула Фина. — Помогите мне освободить Филиппа… Я уверена, что вы добьетесь хотя бы отсрочки, попытайтесь же.
— Мадемуазель Бланш не может поехать одна в Экс, — вмешался аббат Шатанье. — Я должен сопровождать ее… Не сомневаюсь, что, узнав об этой поездке, господин де Казалис самым суровым образом осудит меня. И, тем не менее, я согласен ответить за это, ибо уверен, что именно так в данном случае и должен поступить честный христианин.
Заручившись согласием, цветочница не дала ни Бланш, ни ее почтенному спутнику как следует собраться в дорогу. Вернувшись вместе с ними в Марсель, она втолкнула их в дилижанс и торжественно привезла в Экс. На другой день мадемуазель де Казалис собиралась пойти к председателю суда, того самого суда, который вынес приговор Филиппу.
Когда Фина кончила свой рассказ, Мариус горячо расцеловал ее в обе щечки, отчего лицо девушки слегка порозовело.
XIX
Отсрочка
На следующее утро Фина пришла за Бланш и аббатом Шатанье. Она хотела проводить их до самого дома председателя, чтобы сразу же узнать о результате их попытки. Мариус, понимая, что своим присутствием стеснит мадемуазель де Казалис, стал как неприкаянный бродить по проспекту, не упуская из виду обеих женщин и священника. Когда просителей пригласили подняться наверх, цветочница, увидев Мариуса, знаком подозвала его. Они стали ждать вместе, молча, с волнением и тревогой.
Председатель суда принял Бланш весьма участливо. Он понимал, что в этом злополучном деле самый жестокий удар обрушился на нее. Бедняжка не могла говорить; с первых же слов она разрыдалась, и все ее существо безмолвно взывало к состраданию. Эти немые слезы были убедительнее самых красноречивых просьб. Объяснить цель их визита и подать прошение пришлось аббату Шатанье.
— Сударь, — обратился он к председателю, — мы пришли к вам с просьбой. Мадемуазель де Казалис уже и так надломлена всеми обрушившимися на нее бедами. Она умоляет вас, ради всего святого, избавить ее от нового унижения.
— Чего же вы хотите от меня? — спросил председатель с волнением в голосе.
— Мы хотим по возможности не возобновлять скандала… По приговору суда господин Филипп Кайоль должен быть выставлен на поругание, и притом в самое ближайшее время. Но заклеймят не одного его; к позорному столбу будет пригвожден не только осужденный, но и бедное страждущее дитя, которое молит вас о сострадании. Вы слышите, не правда ли, крики толпы, оскорбления, что падут и на мадемуазель де Казалис? Чернь, которая окружит позорный столб, смешает ее с грязью и будет трепать ее имя под злобные насмешки и грязные шутки…
Председатель, казалось, был тронут до слез. С минуту он молчал, затем его словно осенила внезапная мысль.
— Скажите, — спросил он, — не господин ли Казалис направил вас ко мне? Знает ли он о предпринятых вами шагах?
— Нет, — ответил священник с благородной прямотой, — господину де Казалису неизвестно, что мы здесь… Люди бывают до такой степени одержимы своекорыстными страстями, что подчас не могут судить, насколько правильна или неправильна их точка зрения. Обращаясь к вам с просьбой, мы поступаем, возможно, против воли дяди мадемуазель Бланш… Но над людскими делами и страстями стоят доброта и справедливость. Поэтому я не боюсь запятнать святость своего сана, прося вас быть добрым и справедливым.
— Вы правы, сударь, — сказал председатель. — Я понимаю, что привело вас ко мне, и, как видите, ваши слова глубоко меня тронули. К несчастью, я не могу отменить приговор, не в моей власти изменить решение суда присяжных.
Бланш умоляюще сложила руки.
— Сударь, — пролепетала она, — я не знаю, что вы в силах сделать для меня, но, прошу вас, будьте милосердны, как будто это я осуждена, и постарайтесь облегчить мою пытку.
Председатель, взяв ее руки в свои, ответил с отеческой мягкостью:
— Бедняжка вы моя, мне все понятно; я очень тяготился своей ролью в этом деле… Сегодня я в отчаянии, что не могу сказать вам: «Не бойтесь ничего, в моей власти опрокинуть позорный столб, вас не привяжут к нему вместе с осужденным».
— Итак, — снова заговорил священник, упав духом, — в ближайшие дни приговор будет приведен в исполнение… Неужели вы не вправе хотя бы отсрочить это плачевное зрелище?
Председатель встал.
— Министр юстиции может по просьбе генерального прокурора отодвинуть этот срок, ну хотя бы до конца декабря, — живо откликнулся он. — Как вы смотрите на это? Я буду счастлив доказать вам свое полное сочувствие и мои самые добрые намерения.
— Да, да! — с жаром воскликнула Бланш. — Оттяните, насколько возможно, эту ужасную минуту… Быть может, я почувствую себя более стойкой.
Аббат Шатанье, которому были известны планы Мариуса, рассудил, что теперь, когда они заручились обещанием председателя, им следует уйти, не настаивая на большем. Он присоединился к Бланш, которая приняла предложение.
— Ну что ж, решено, — сказал председатель, прощаясь с ними. — Я попрошу и, безусловно, добьюсь, чтобы исполнение приговора было отложено на четыре месяца… А до той поры, мадемуазель, живите спокойно. Уповайте на милость неба, и да ниспошлет оно облегчение вашим страданиям.
Просители спустились вниз.
Завидев их, Фина побежала им навстречу.
— Ну что? — спросила она, с трудом переводя дыхание.
— Как я и говорил, — ответил аббат Шатанье, — председатель не может помешать исполнению приговора.
Цветочница побледнела.
— Но он обещал вмешаться и добиться отсрочки… — поспешил прибавить старый священник. — В вашем распоряжении четыре месяца, чтобы спасти заключенного.
Мариус помимо воли подошел к группе, которую образовали обе женщины и аббат. Улица, безлюдная и тихая, белела под палящими лучами полуденного солнца; между растрескавшимися камнями мостовой пробивалась трава, и только какой-то тощий пес одиноко плелся в узкой полосе тени, отбрасываемой домами. Услыхав слова аббата Шатанье, молодой человек стремительно подошел к нему и горячо, от всего сердца пожал ему руку.
— Ах, отец мой, — произнес он дрожащим голосом, — вы возвращаете мне надежду и веру. Вчера вечером я усомнился в существовании бога. Как вас благодарить, чем доказать вам свою признательность? Теперь я чувствую в себе непоколебимое мужество и уверен, что спасу брата.
При виде Мариуса Бланш потупилась, щеки ее зарделись. Она стояла смущенная и растерянная, ужасно страдая от присутствия этого юноши, который знал ее вероломство и которого она и ее дядя ввергли в отчаяние. Когда прошла первая минута радости, молодой человек пожалел, что подошел. Скорбная поза мадемуазель де Казалис вызывала в нем жалость.
— Мой брат очень виноват перед вами, — наконец обратился он к ней. — Простите его, пожалуйста, как я прощаю вас.
Это все, что он мог ей сказать. Он хотел бы поговорить с ней о ее будущем ребенке, спросить о судьбе, уготованной этому бедному существу, вступиться за него от имени Филиппа. Но, видя, как она удручена, он больше не решился ее мучить.
Фина, несомненно, поняла, что происходило в его душе. Воспользовавшись тем, что Мариус и аббат прошли немного вперед, она произнесла скороговоркой:
— Помните, что я предложила заменить ребенку мать… Теперь я люблю вас, вы добрая душа… По первому вашему зову прибегу на помощь. Впрочем, буду начеку, не допущу, чтобы бедная крошка страдала из-за безрассудства родителей.
Вместо ответа Бланш тихонько пожала цветочнице руку. Крупные слезы катились по ее щекам.
Мадемуазель де Казалис и аббат Шатанье тотчас же уехали обратно в Марсель. Фина и Мариус побежали к Ревертега. Они рассказали тюремщику, что в их распоряжении четыре месяца для подготовки побега, и тот поклялся сдержать свое слово в любой день и час, при первом напоминании.
Молодые люди хотели перед отъездом из Экса повидать Филиппа, чтобы рассказать ему, как обстоит дело, и вдохнуть в него надежду. В одиннадцать часов вечера Ревертега снова ввел их в камеру. Филипп, который уже начал свыкаться с тюремными порядками, показался им не слишком удрученным.
— Я согласен на все, — сказал он, — только бы избавиться от позорного столба… Лучше размозжить себе голову о стену, чем быть выставленным на поругание.
А на следующий день дилижанс привез Мариуса и Фину в Марсель. Послушные голосу сердца, они собирались продолжать борьбу теперь уже на более обширной арене; им предстояло заглянуть в самую глубь человеческих слабостей и увидеть во всей наготе язвы большого города, вовлеченного в бешеный водоворот современной промышленности.
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления