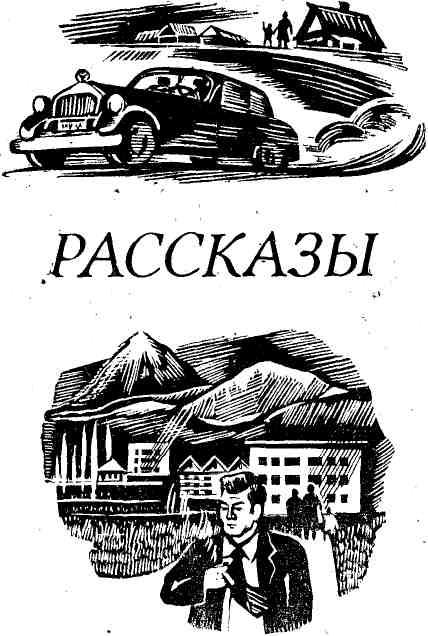Онлайн чтение книги
Неоконченный полет
РАССКАЗЫ
СТРОГОСТЬ
Над аэродромом кружился самолет. Он то молниеносно снижался, увеличиваясь и как бы шире раскидывая свои крылья, то, ударив в землю сильным грохотом, стремительно, почти под прямым углом мчался в высоту, таял на глазах в голубом небе.
На старте, чуть в стороне от того места, откуда машины начинали взлет, стоял столик: на нем телефон, репродуктор, микрофон, то есть все то, что необходимо для управления учебными полетами. Возле столика находились командир полка, молодой, заметно полнеющий, человек, майор Гусин, несколько штабных офицеров и командир авиатехнической части подполковник Лысенко, старший среди всех по возрасту и званию, с седыми жесткими волосами на висках, мокрыми от пота.
В один из тех моментов, когда истребитель, набирая высоту, достигал, как говорят, «потолка», когда все затаив дыхание, прищурив глаза, следили за ним, майор Гусин, который тоже смотрел вверх, вдруг крикнул неведомо кому:
— Ну-ка, задержите его! Побыстрее задержите!
Все удивленно оглянулись и только теперь увидели, что в противоположном конце аэродрома кто-то спокойно переходил летное поле, где каждую минуту мог взлетать или приземляться истребитель. Такие вещи не разрешаются вообще, а при полетах тем более.
Нарушителя-сержанта привели тотчас. Майор передал по радио свои замечания пилоту и некоторое время не обращал внимания на провинившегося. Тот стоял здесь же. Был он, как и все штабные сержанты и ефрейторы, в пригнанном по фигуре, почти новом обмундировании, бравый, даже несколько самонадеянный. Выражение его лица и то, как он стоял перед столькими офицерами — переминался с ноги на ногу, вертел головой, — никак не говорили о его озабоченности своей провинностью. Чаще всего сержант посматривал на подполковника, стараясь перехватить его взгляд, но тот как бы уклонялся.
Когда самолет скрылся вдали, майор неожиданно для сержанта остановил на нем свои глаза.
— Сколько служишь в авиации? — спросил ровным голосом.
— Третий год, товарищ майор! — выпалил сержант, прижав руки по швам и пошевелив при этом пальцами, как бы говоря: «Какое это имеет значение?»
Майор долго и внимательно рассматривал удостоверение личности сержанта. Сержант понимал, что момент, в который обычно обрушиваются на провинившегося с крепкими словами, уже прошел, и он даже позволил себе еле уловимо улыбнуться подполковнику, все-таки поймав его взгляд.
Взрыв гнева в душе майора уже действительно погас. Но вот он еще раз окинул взглядом сержанта с головы до ног и вдруг заметил, что на его гимнастерке, застегнутой, очевидно, в спешке, были перепутаны пуговицы.
Майор приказал отвести сержанта на сутки на гауптвахту.
Подполковник, услышав это, сделал какое-то непонятное движение рукой, точно хотел задержать майора на полуслове, потом отвернулся и как-то возбужденно прошелся около стола.
Сержанта под охраной повели на гауптвахту.
Офицеры проводили его взглядами.
Майор тоже посмотрел на тех, что удалялись, и на тех, что были около него.
Все почувствовали, что вот сейчас произошло что-то важное, и оно напомнило всем о суровой воинской дисциплине. Уловив перемену в поведении присутствующих, майор тоже подумал о том, что он совершил что-то важное. Взглядом он искал самолет, а в мыслях взвешивал провинность и меру наказания.
Самолет заходил на посадку. Тихо, казалось с выключенным мотором, он проплыл над леском, потом над зеленым лугом. С выпущенным шасси самолет был похож на большую птицу, которая очень утомлена и отыскивала место, где бы можно было присесть отдохнуть. Взбив небольшую тучку пыли, он пробежал и свернул на стоянку.
А на старт уже вышла пара истребителей. Как только освободилось летное поле, они вместе по сигналу взяли короткий разбег и тут же начали подниматься выше и выше. Наступили минуты расслабленного ожидания под палящим солнцем. Хотелось укрыться в тени или прилечь на прохладную землю.
Подполковник и майор отошли вместе в сторонку, присели на траву. Подполковник молча снял фуражку, вытер седые виски, изнанку околыша, затем достал папиросы, угостил майора и, прикурив, сказал:
— Учишь, значит, и своих, и чужих...
— Вы о сержанте?.. Да, я его вижу впервые, он не из нашего полка. Сейчас прибегут: за что, мол, арестовали? Шуму будет!
Подполковник вздохнул и, еще раз вытерев на лице обильный пот, как-то равнодушно промолвил:
— Возможно, и не прибегут...
Голос подполковника и то, как он при разговоре смотрел на свои сапоги, хлеща по носкам травинкой, дали понять майору, что собеседник не одобряет его строгости.
Оба они командиры соседних частей, но в их отношениях пока не было простоты и товарищеской откровенности. Майор Гусин недавно принял полк. У него было достаточно знаний, опыта и способностей, чтобы занимать эту должность. Став командиром полка, майор постепенно подтягивал людей до уровня, который казался ему необходимым, и больше всего боялся быть похожим на тех командиров, которые в такие моменты сразу хотят показать свою строгость. После слов подполковника арест сержанта показался майору несколько поспешным. Он ведь даже не спросил и не посмотрел в книжке, из какой части, не поинтересовался, куда и зачем так торопится. Эта мысль вызвала в нем желание оправдать свой поступок перед старшим командиром или убедить самого себя в своей правоте.
— Не знаю, как оно так получается, товарищ подполковник, — заговорил майор, вырвав и себе травинку. — Но я, понимаете, убедился в том, что стоит только оставить без внимания нарушение или перехвалить человека, как с ним обязательно случится что-то плохое. — Подполковник поддакнул. Майор продолжал: — Перед войной в наш полк прибыл молодой летчик. Я был тогда заместителем командира эскадрильи. Полетел с новичком в одной машине. Присматриваюсь к нему — будто бы все в порядке: ориентируется хорошо, машиной владеет. Приказал сделать боевой разворот. Самолет набрал скорость, пошел вверх. Идет выше, выше. Скорость падает. Вы, надеюсь, знаете, есть такой критический момент полета, когда необходимо вовремя вывести машину из набора высоты, выровнять ее. Иначе от своей собственной тяжести она загремит камнем вниз. Ну вот, ему бы уже пора выравнивать машину, а он тянет ее дальше вверх. У меня мороз прошел по спине. Сколько часов я провел в воздухе и сам, и с молодыми пилотами, но ничего подобного не видел. Я резко перехватил управление машиной... Летим на аэродром. Размышляю над случившимся. Начинаю сомневаться: неужели пилот не почувствовал положения своей машины? А может быть, я побоялся полностью положиться на него?
Приземлились. «Понял, почему я взял управление на себя?» — спрашиваю. «Нет, — говорит. — У меня все было в порядке». Я, знаете, даже растерялся. Пошел к командиру и попросил разрешения полететь с молодым авиатором вторично. И что бы вы думали? На том же месте фигуры все повторилось. Мне снова пришлось взять управление. Приказал идти на посадку. Мне было понятно, что юноша плохо чувствовал положение машины и ему этого до сих пор никто не говорил. Среди пилотов такие встречаются. В подобных случаях их переводят из авиации. Когда я сказал ему о допущенных им ошибках, его это нисколько не встревожило. Вижу, кроме всего он еще и самонадеянный.
В тот день я не рассказал командиру о своих впечатлениях от полетов. А назавтра как-то поспешно выехал в местный дом отдыха...
Над лесом, из-за тучи, молниеносно вынеслись два самолета. Они летели прямо на аэродром. Все, кто сидели, вскочили. Машины пронеслись, и оглушительный рев моторов стих так же быстро, как и возник. Самолеты заходили на посадку. Майор взял в руки микрофон.
Обернувшись к подполковнику, он поспешно закончил свой рассказ:
— Через неделю в дом отдыха приехали люди из нашего полка. Они тотчас же разыскали меня и объявили, что у нас несчастье: разбился летчик. Я даже не стал спрашивать кто. Он, думаю, он, кто же еще. Так и есть. Он! Я глубоко пережил это происшествие. Я, только я был виновен в том, что случилось. Вот какая история, подполковник. Вам, вижу, не понравилось, что я наказал сержанта гауптвахтой?
— Вы действовали правильно, майор! Может быть, даже слишком правильно. Но это уже нюансы строгости. Я согласен с вами. Посмотрите — самолет садится!..
Майор улыбнулся, довольный, и включил микрофон.
Подполковник снял фуражку и снова начал аккуратно вытирать виски и тыльную сторону околыша. Перед его глазами все еще стоял наказанный сержант, а рядом с ним солдат с автоматом.
Присутствующие на старте офицеры, кроме майора, хорошо понимали подполковника. Сержант был его родным сыном.
СТАРИННАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ ПЕСЕНКА
Головач вернулся после лечебных ванн умиротворенный, в состоянии приятной усталости. Он повесил на балконе для просушки полотенце, приготовил постель и, прежде чем опустить штору, еще раз посмотрел за окно.
Там был Кавказ. За сизыми волнами предгорья, на фоне прозрачного неба чуть заметно прорисовывался белой сияющей вершиной Эльбрус. От самых окон санатория по долине клубились пожелтевшие кроны, возвышались над ними зеленые острые шпили кипарисов.
— Благодатна земля твоя, Кавказ! И плоды, и источники, — прошептал Головач; у него было так легко на душе, словно все прекрасное на земле подкатывало к нему близко-близко и овевало свежестью и чистотой.
Постоял минутку перед окном и,опустил легкую штору, в которой с лета золотился теплый день.
Теперь приходили мысли о самом дорогом. О том, что ненадолго забывалось и неудержимо к нему возвращалось. На отдыхе, под хрустальным небом, в этой долине, окруженной каменными холмами, налитой горным воздухом и тишиной, Головач всегда ощущал полное обновление, уносился над вершинами гор в неоглядные просторы жизни. Прошлое, пройденное за шесть десятков лет, откликалось незатихающим эхом.
Он вспомнил родной дом, семью, друзей и погрузился уже в сладкую дремоту, когда послышалась музыка.
Так было и вчера. В это же самое время в салоне санатория кто-то тихо играл — вкрадчиво, робко, раздумчиво.
Головач отряхнул дремоту без сожаления — мелодия была хорошо знакомая, близкая. И чем дольше слушал ее, тем больше она волновала его. Головач не увлекался музыкой, песни запоминал лишь те, какие связывались с какими-то близкими ему событиями и людьми. Музыка, которую Головач слушал сейчас, тоже как будто шла от чего-то волнующе знакомого.
Играй, дружище, играй! Это так прекрасно, что ты любишь эту песню. Возможно, мы только вдвоем знаем ее. Я слышал эту мелодию много раз. Для того, кто исполнял ее, она была молитвой. Увы, его уже нет. Не исключено, что ты запомнил эту мелодию одновременно со мной. Тот, кто уже больше не споет этой песни, нами никогда не забудется. Он был и останется человеком-звездой.
Вообще-то говоря, Филипп де Сейн был скромным французским летчиком и, если бы услышал мои высокопарные о нем слова, наверное, возразил бы:
— Коллега, ты забыл, что звезды очень далеки от земли, а я кроме неба любил и девушек, и вино, и друзей.
Это было зимой 1944 года. Февральским днем, когда ветер буквально сметал обледеневший снег, к нам на аэродром «в открытой всем ветрам России» (по выражению французских летчиков) грузовой машине привезли каких-то странных людей. Их было человек двадцать пять. Не то гражданских, не то военных. Машина остановилась перед нашей заваленной до половины снегом аэродромной «хижиной». Прибывшие сбились у бортов, как будто колебались: выпрыгивать ли им с грузовика или нет? Еще вчера в московской гостинице «Савойя» они запивали обед вином, спали под теплыми одеялами, давали интервью журналистам, а сегодня их уже терзал мороз и ветер.
Их маршрут начался где-то в Алжире, пролегал через Каир, Багдад, Тегеран, Баку, Москву и заканчивался здесь, у нас, на степном аэродроме. Они пробились сюда с окраин второй мировой войны, где только перекрещивались ее отголоски, чтобы броситься в бушевавшую русскую зиму и битву.
— Алле-оп! — И из машины полетел первый саквояж, а за ним юноша, другой, третий.
Худощавые, выбритые, с заботливо ухоженными усиками, в городских модных ботинках, куртках на «молниях». Переводчик еле успевал передавать нам их остроты.
— Друзья, вы уж не так много сбивайте фашистов, а то скоро оставите нас безработными!
— А нечего было вам так долго путешествовать.
— О, конечно, для нас это было настоящее свадебное путешествие.
— Медовый месяц...
— ...с ветерком Сахары.
Новички узнавали своих товарищей среди ветеранов «Нормандии»:
— Ты, Бертран?
— Франсуа!
— Заговори же со мной, черт возьми, по-русски!
— Пожалуйста. Но я за целый год выучил лишь одно слово.
— Я его уже сам знаю. Хо-ро-шо!
— Нет.
— Де-вуш-ка?
— Нет. Вот-ка!
Кое-кто расспрашивал, есть ли поблизости ресторан, бильярдная или хотя бы уютное бистро.
— Хочу станцевать танго с дамой в,валенках.
— А это намного приятнее, чем топтаться на снегу в твоих парижских мокасинах.
В водовороте знакомства я очутился рядом с молодым, высоким, элегантным летчиком. В его черных улыбчивых глазах светилась радость, которую он почему-то устремил на меня.
— Филипп де Сейн
Я подал ему руку, назвал свое имя:
— Семен.
— Семйон? О, Симон! Семион — Филипп, товарищи! Хорошо-о! — Он гордо коснулся рукавичкой темного шнурка своих усиков.
Мы дружески обнялись.
Филипп говорил охотно, много, увлеченно. Мой коллега-истребитель оставил в Париже одинокую старенькую мать, еще не женат, любовь отложил на потом, мечтаете штурвале боевого «яка» и еще сегодня непременно должен отправить письмо. Он очертил в воздухе пальцами квадратик — ему нужен вот такой небольшой листик бумаги. Листок, пахнущий фронтом и Россией.
Я достал ему бумагу, конверт, и это положило начало нашей дружбе. Иначе, пожалуй, нельзя назвать взаимоотношения двух мужчин, исполненные доверия, сердечности и уважения
Мне поручили обучать французов на учебном «яке». К каждому из них приходилось подбирать «ключик», а ребята были впечатлительные, какие-то горячие, стремились овладеть всей военной премудростью немедленно, сегодня, чтобы завтра обрушиться с оружием на фрицев. Все они стали для меня товарищами, но Филипп де Сейн... Нет, чувство человеческой дружбы выбирает человека само, оно, если хотите, нам не подвластно. Французский летчик требовал от меня многого, и я отдавал все силы, время, учил летать на советском самолете, помогал освоить наш язык, — словом, был для него тем, кто умел выслушивать, развлекаться с ним и оставаться самим собой.
Я работал со всеми «нормандцами», но к каждому слову, обращенному к Филиппу, добавлял еще одну каплю своей души. Его отношение ко мне, его всегда ласковые и жадные к знаниям и жизни глаза, его честность сами невольно вызывали мое особенное отношение к нему.
Зима, весна. Полеты, вечера в Доме Красной Армии, разговоры и песни. Французы любили нашу «Землянку», так поэтично и глубоко душевно произносили: «Темная ночь, только пули свистят по степи», а еще танго «Таня», песню «Катюша» — ведь это были имена наших девушек.
У Филиппа была и своя песня. Он играл на фортепиано, и когда оно нам попадалось, лейтенант никогда его не обходил. Сияющий, он бежал к инструменту, будто боялся, что кто-то нарушит его вдохновенное увлечение, — играл, играл, и все для товарищей, все новое. Называл такие минуты «концерт проездом». Но под самый финал у него была своя коронная, медленного темпа, какая-то задумчивая, немного грустная песня. Она заставляла самых веселых умолкать, задуматься, она переносила нас к нашим матерям, к родным домам, в ней отзывалась сама человеческая жизнь.
Не знаю, были ли в этой песне слова. Я сам подобрал к ней те, какие знал и какие совпадали с ее ритмом. Когда их-переводили для Филиппа, он смеялся и шутил: «Казак, который упился, на гриву склонился, потом зажурился. Это мне очень нравится». Когда же на этот мотив мы пели, что казак готов был продать своего коня за мед, за горилку, за хорошу жинку, Филипп прекращал петь и хлопал в ладоши:
— Браво!
Так в нашей фронтовой жизни переплеталось все, что мы знали и умели, и это объединяло нас и вдохновляло на бои, к которым мы упорно готовились. Тем временем прибыла еще одна группа новичков, стремившихся как можно скорее отомстить врагу за Францию. Мы с восхищением оглядывали их, чем-то похожих на птиц, преждевременно прилетевших из теплых африканских стран в нашу хмурую весну. Теперь новых добровольцев «Нормандии» обучали на земле и в воздухе свои ветераны Пуйяд, Лефевр, Муанэ, и вскоре все эскадрильи были укомплектованы, и они уже вылетали в бой.
Вот уже и «носы» самолетов разрисованы в три цвета французского знамени, и «яки» были переданы французским летчикам. В воздухе с каждым днем становилось теплее, чувствовалась весна, а разлука, даже короткая, с друзьями обжигала морозом. Филипп каждую свободную минутку около меня, я — с ним. Я натолкал в сумку Филиппа конвертов и бумаги, чтобы хватило ему до самой победы, он записал мне свой адрес, я ему свой. Разлука друзей вещь серьезная.
И вдруг — ура! — наш полк отправляется на передовые рубежи вместе с французским, а своих механиков, бывалых гвардейцев, мы передаем «Нормандии». Я с Филиппом пережил это так радостно, словно встретился через десять лет после разлуки. Когда же стали распределять наших механиков, я попросил у своего командира полка прикрепить механика моего самолета, чудесного толстячка Володю Белозуба, к машине Филиппа де Сейна. Сержант Белозуб никогда не подводил меня, и я был уверен, что поможет моему другу побеждать врага.
Кто мог предвидеть беду? На войне все бурно меняется, самый добродушный поступок может привести к совершенно неожиданному, у фактов своя логика развития и превращений. Дорогой Филипп, почему ты так доверчиво принимал все, что я делал для тебя? Ведь если бы не это, все было бы по-иному.
Все это произошло потом, позже, когда французские ребята натешились пылающими «юнкерсами» и «мессершмиттами», после того, как пронизали атаками все небо задымленной Белоруссии и перелетали на зеленые литовские раздолья. Французские истребители крепко били воспитанников Геринга! Недаром поблекшие в боевых неудачах гитлеровские асы научились молниеносно распознавать в воздухе не только, трехцветные «яки», но и их четкие вензеля высшего пилотажа. «Осторожно! В воздухе французы!» — вопили они в эфире. О, нормандцы, парижане, руанцы преодолели пустыни и опасности на пути в Советский Союз не только для того, чтобы показать нам, какие они остроумные, как любят девушек (Лоран все-таки вывез с собой тулячку, красавицу Риту), но и для того, чтобы продемонстрировать высокую преданность воинскому долгу и дружбе. Кто хочет узнать об атом подробнее, пусть прочитает записки летчика Франсуа де Жоффра «Нормандия — Неман», роман Мартини Моно, и он поймет этих прекрасных ребят, мое восхищение Филиппом, и мое горе тех дней, и эти мои хаотичные воспоминания, вызванные услышанной песней.
...Фронт наступал. Мы перелетали на новый, отвоеванный аэродром. Перелетали — это звучит поэтично, но это касалось лишь тех, кто имел крылья. Механики и радисты не все могли поместиться в «Дуглас», который дарил полку один-два рейса. Когда летчик видел, как механик снаряжает самолет на новую базу, прилаживая в фюзеляж инструмент, запасные детальки, ключи и молотки вместе с личными вещами, то не в силах был разлучиться с механиком и брал его на «свои крылья».
Филипп де Сейн усвоил способ «залезай — долетим» как выражение высшей дружбы, еще когда французские пилоты после оккупации вермахтом их страны по одному и группами удирали со своих аэродромов «на волю» — за Гибралтар, в Африку. Парижанин Филипп де Сейн очень высоко ценил руки и прилежание Володи, чтобы оставить его на старой стоянке, на которую летчики больше не возвращаются. Как же он завтра утром запустит мотор, не услышав от Володи, одетого в мешковатый комбинезон, просто, спокойно и уверенно сказанного: «Лейтенант, ваш самолет к вылету готов! Мотор, пушка и радио в порядке!»?
Так рапортовали механики своим французским пилотам и в тот день, когда с московского аэродрома полк «Нормандия — Неман» на подаренных Франции «яках» поднимался в последний полет — домой. С этими словами ребята вручили летчикам цветы, свои фотографии и сработанные напильничком плексигласовые сувенирчики. Но в тот полный радости и счастья день уже не было ни лейтенанта де Сейна, ни сержанта Белозуба. Их уже не было среди нас...
Перелетали из Дубровки в Микунтани. Две точки были на карте. Между ними леса и озера. И низкие облака. А фронт гудит, гремит и ждет самолетов. Уже из квартир взяты саквояжи, уже произнесены самые теплые слова дубровским хозяйкам.
Мы с Филиппом стояли около КП, ожидая, когда поднимется и освободит поле первая эскадрилья. Лейтенант, готовый к вылету, как-то торжественно держал перед собой легкий шлем. Он медлил надевать шлем на тщательно причесанную, с пробором, голову, ему, видно, жаль было портить свою исключительно аккуратную прическу.
— Володя! — Лейтенант увидел его еще издали. — Сюда!
Сержант приковылял к нам с вещевым мешком за плечами, весь в поту и каплях теплого летнего дождика.
Механика, оказывается, не взяли на «Дуглас». Второй рейс, возможно, будет только завтра.
— Завтра? Нехорошо завтра. Полетим оба! Хорошо, Да?
Мы переглянулись. Между нами пронеслось молчаливое согласие. Так было, так будет... И они направились к своему «яку». Один — высокий, гибкий, разговорчивый, другой — приземистый, солидный, сдержанный. Звонкий, светлый, переменчивый, как звук в небе; молчаливый, тяжелый, уверенный, как земля, на которой замирает самолет, набираясь сил.
«Яки» де Сейна и его напарника Лебра взлетели одновременно. Я помню этот разбег и легкое отделение от. земли. Самолет Филиппа ничем не обнаружил своей перегрузки, и я, проводив его взором до облачного горизонта, пожелал успешного приземления.
Небо и самолет. Как они бывают жестоки по отношению к нам!
Почему два «яка» возвращаются? На низкой высоте... Уже можно читать номера де Сейна и Лебра. Что случилось?
Один из них легко сделал «горку», развернулся и пошел на посадку. Это была машина Лебра. Вторая... Но за ней тянется какая-то странная полоса! Дыма или бензина?.. Бензина. Он, видимо, попадает в кабину самолета и заливает глаза, забивает дыхание...
На земле командиры и пилоты сбились тесной кучкой. Командир полка посылает в эфир слова мольбы:
— Де Сейн! Прыгайте! Де Сейн, прыгайте!
Кто-то подбегает к нему:
— Мой командир, в самолете де Сейна, в хвостовом отсеке фюзеляжа, его механик, сержант Белозуб.
Услышав это, я понял, что происходит. В небе над нами идет борьба одного человека за жизнь двоих. Трагедия верности. Я не думал о том, что привело к беде. Может, пару этих самолетов обстреляли заблудшие гитлеровские воздушные «охотники», может, причина чисто техническая. Я вообразил себя в кабине рядом с Филиппом, я видел его, все переживал вместе с ним.
Он пробовал сесть, но не попадал на укатанную полосу. Возможно, де Сейн еще найдет в себе силы справиться с бедой... Но самолет внезапно изменил положение, задрав «нос», оглушительно взревел.
Командир снова прижал ко рту микрофон. Он всего себя вложил в слова:
— Де Сейн, прыгайте! Я приказываю!
Слышит ли он этот приказ? Кто знает? Но если слышит, все равно не выпустит из рук штурвал самолета, пока бьется его сердце. Он понимает — его жизнь принадлежит обоим. Его спасение означало бы неминуемую гибель Володи Белозуба.
Он пытался овладеть самолетом, но тот не покорялся ему. Воля, усилия де Сейна кажутся неисчерпаемыми, они гонят машину ввысь, они стремятся одолеть стихию.
Еще один заход на посадку.
Но де Сейн уже ослеплен холодным пламенем бензина. Оно заполнило кабину, въедается в его черные юношеские глаза.
«Як» над самой землей. Он проносится наискось через поле, ревущий, сильный, ослепленный.
Люди на земле следят за ним с обескровленными лицами. Чужая смерть витает над ними. Самолет, словно обезумев, вдруг взбирается вверх, потом переворачивается и падает, как брошенная игрушка.
Удар. Взрыв пламени.
Седая мать потеряла единственного сына, Франция — героя.
В степном селе на Заднепровье еще одна семья получит похоронку.
Французский летчик, вынимая из кармана белый платок, сказал:
— Я с Филиппом учился в лицее Сен-Луи. Мы только что вместе с ним позавтракали...
Все моторы, запущенные к взлету, заглушены. Люди и самолеты замолкли. Небо гнало серые тяжелые облака.
Звуки песни оборвались.
Головач ходил по комнате, обхватив руками седую голову.
Песня, давно не слышанная, вспыхнула тяжелым воспоминанием. Головач быстро оделся.
Кто ее играл?
Кто?
В салоне перед большим, во всю стену, окном, на фоне гор, за роялем сидел мальчик. Рядом с ним старенькая женщина вязала на спицах. Увидев Головача, женщина испуганно встала.
— Мы вам мешаем? — спокойно спросила женщина. — Извините! Мы только в предобеденный час. Это мой внук. Простите...
Головач смотрел в встревоженные, внимательные глаза женщины, в широко раскрытые, глубокие, спокойные и доверчивые глаза мальчика.
— Старинная французская песенка... Играй, мальчик, играй...
ШАНДОР
Наша туристическая группа в Дебрецене пересела с поезда на автобус. Перед отъездом на Мишкольц нам представили гида — юношу в больших очках, которые мешали разглядеть его лицо (он смотрел на нас сквозь толстые стекла, как школьник на только что выписанную на доске алгебраическую задачу), представили и шофера — широкие плечи делали его ниже, чем он был на самом деле. «Шандор, Шандор я, Александр, Саша... Немношка разумю по-руську», — добродушно рассмеялся он, прищурив ласковые черные глаза.
Я был в Венгрии в сорок пятом году, сразу после войны. Тогда Шандор, понятно, еще бегал мальчишкой. Таких, как он, мы нарочито строго прогоняли от машин, чтобы они не набедокурили, а иногда, наоборот, подзывали, чтобы показали нам дорогу. Шандор мог быть одним из тех. Образ человека держится в памяти какой-то черточкой довольно долго...
Автобус проглатывал сотни километров дорог в живописных просторах страны. Шандор сидел передо мной ежедневно в свежей рубашке и зеленой, ручной вязки жилетке. Когда мы готовились к новому маршруту, Шандор принимал от нас чемоданы и задвигал их во внутрь автобуса. По приезде он вынимал багаж и перекладывал на автокар. Делал это аккуратно, точными движениями. Когда кто-то хотел взять у него чемодан, шофер не опускал багаж на землю, пока чья-то рука не перехватывала чемодан из его крепкой руки.
Как-то на одной из вечерних остановок «икаруса» (в городе, на улице, где огни, движение, люди) Шандор выбирал багаж, и вдруг не хватило одного чемодана. (Ага, Шандор нашел пропажу и так завоевал твои симпатии?) Нет, растяпа получил свой чемодан в гостинице следующего города, уплатив форинтами за телефонные переговоры по этому случаю. Я помнил это происшествие потому только, что наблюдал за Шандором в те неприятные минуты. Густые черные брови венгра сдвинулись над глазами. Водитель, наверное, подумал, что это он не уложил чемодан в автобус. Но его лицо сразу повеселело — этого не могло случиться! — его руки помнили, за какую поклажу брался он сегодня, а за какую нет. Шандор усмехнулся от догадки: в каждой группе найдется раззява, который, забыв в гостинице свои вещи, может целый день спокойно ехать в автобусе и беззаботно распевать песни.
Я выбросил из головы это приключение, как, должно быть, выкинул его из памяти Шандор, — путешествие быстро мчало нас вперед. Мы ехали, останавливались, осматривали города, памятники, старинные замки. Тяжелый «икарус» снова и снова выпутывался из тесных переулков, вырываясь к автострадам.
Дорога открывала новые и новые просторы земли, а мы всматривались в пейзажи, поля, дома, людей. В чужой стране замечаешь прежде всего знакомое тебе. Я, например, прежде всего видел баштан с куренем, участки подсолнухов, кукурузы, пастбище с колодцем и журавлем, трактор в поле. А еще русых девушек с большими глазами, высоких смуглых парней.
Я смотрел на все это и слушал музыку — Шандор почти не выключал приемник. Нас сближали и живописная трасса, красочные дома, и полет мощного «икаруса», который умело вел Шандор.
Человек, сохранившись в нашей памяти, соединяет разные страны и не похожие между собой годы. Шандор, сидя за рулем могучего «икаруса», такой простой, в шерстяной вязанке, возвращал меня к воспоминаниям, к той давней, незабываемой Венгрии.
Из штаба, расположенного вблизи Вены, мы ехали в Будапешт. На границе, за Винер-Нейштадтом, пейзаж контрастно менялся — с горного австрийского на равнинный, степной, венгерский, — мы предъявили пропуска, получили почтительно разрешение (рука к козырьку, выразительный стук сапогами, улыбка из-под черных, лихих, молодецки закрученных усиков) и покатили по усыпанной галькой прямой дороге.
Домики под соломой, крестьянские возы в одноконной упряжке, люди в белой полотняной одежде на клочках земли — все было отмечено бедностью и вызывало в нас сочувствие.
Проехав сотню километров, мы убедились в том, что наш трофейный «адлер» (на его радиаторе металлический орел распростер крылья, а спереди серая приземистая машина напоминала чем-то лягушку) не отличался скоростью. К пункту назначения прибудем только в полночь... Заговорили о ночлеге и ужине. Бывшие фронтовики, мы просто разрешали подобные вопросы: сворачивали в первый попавшийся двор, просили воды помыться, постель для старшего из нас, сена для всех и тащили в дом или на столик под деревья истрепанные вещевые мешки с несколькими буханками-«кирпичиками» и консервными банками.
Въехали в село. Насупленные старые дома прятались в глубине дворов. Никто из нас не решался сказать: «Вот тут!» Жилье встречалось все реже и реже. Уже миновали последние строения. Внезапно у крайнего увидели мальчишку. Он стоял посреди бурьяна, и мы все трое, находившиеся в машине, обрадованно переглянулись между собой.
Наш водитель, офицер-политработник, стал притормаживать «адлер». Неожиданный удар по боковому стеклу оглушил нас. Звон стекла, пыль, тревога смели ваше благодушие. «Адлер» остановился. Мы повыскакивали из машины. Водитель держал в руке камень. Майор, сидевший рядом, утирал на щеке кровь от мелких осколков. А где же мальчишка, которого только что видели?
Он что есть духу бежал к дому.
— Заночуем здесь, — сказал старший среди нас, полковник...
Шандор неожиданно обернулся. Я вздрогнул от его взгляда, брошенного в мою сторону.
Моя соседка, серьезная, средних лет женщина, наверное, среагировала на этот взгляд раньше, чем я. Она поднялась с места и подала какой-то знак рукой. Шандор кивнул ей головой и тут же, притормозив разбежавшийся «икарус», повернул с добротной дороги на проселок. Я успел прочитать надпись на дорожном указателе: «Сольнок — 50 км».
То, что произошло сейчас, прервало мои воспоминания. В Кечкемете я видел, как Шандор и моя соседка о чем-то разговаривали. Руководитель группы, гид и несколько ее земляков-волгоградцев, как могли, помогали разноязыким людям объясняться. Речь шла о чем-то важном и волнующем. Все, понял я, ждали решающего слова от Шандора. А он чего-то колебался...
— Мы, кажется, отклонились от нашего маршрута? — обратился я к женщине, которая почему-то продолжала стоять и не садилась на свое место.
Она охотно отозвалась:
— Да. Какой добрый человек Шандор!
— Вы знаете, куда мы едем?
— Я упросила его свернуть на Сольнок.
— Вы были тут раньше?
— Мой отец был.
— Вы намерены проведать его знакомых?
— Его солдатскую могилу.
Волгоградка вздохнула, дрожащими руками открыла сумочку.
Крайние дома во всех селах мира, наверное, принадлежат беднякам: им достаются песчаный грунт, бурьян, рвы. Это был убогий двор с покосившимся тыном из лозы. Мы вошли сюда с тяжелым предчувствием и остановились перед открытой дверью, в которой исчез перепуганный хулиганишка.
В первый миг казалось, что мы попали в западню. Но посреди дома в серых сумерках стояла высокая худая женщина с желтым лицом. Она смотрела на нас, заломив руки, и ожидала, видимо, расправы.
Запыхавшийся мальчишка с взлохмаченной головой выглянул из-за печки, сверлил нас глазами. Было похоже — он готов броситься на нас из засады, как только мы приблизимся к его матери.
Нам повезло с переводчиком — среди нас был мариец. Несколько венгерских слов, сказанных женщиной, открыли ему родство их народов. Наш товарищ точно забыл неприятное происшествие, приведшее нас в этот дом, спокойно заговорил с женщиной, напуганной появлением военных и поступком сына-сорванца. Она поняла некоторые слова, обращенные к ней, и у нее, наверное, отлегло от сердца. Даже пригласила сесть, расположиться. Мальчишка тем временем затаенно затих на печи, на той самой крестьянской печи, какую знает простой люд от Дуная до Волги...
Нет, это был не ты, Шандор, если так равнодушно сидишь в кресле за рулем, если не чувствуешь, как я перелистываю в памяти тот далекий день из жизни венгерской семьи. Припоминая мать и мальчика, я думаю и о тебе. Ты больше не озираешься, и хорошо. Не отвлекайся от «икаруса» Я еще уловлю минутку, когда будешь свободным, и расспрошу, есть ли у тебя отец. Жив ли он?..
В тот вечер в венгерском доме, когда насупившийся мальчишка наконец слез с печи — мы долго звали его к себе по имени, подсказанному матерью, звали Шандором, потом Александром, Сашей, — мы услышали печальную историю о его отце.
Кто соберет по всей планете зерна боли, жгучие слезы, посеянные войной? Хозяин этого дома, молодой мадьяр, солдат гитлеровской армии, пал в бою на Украине. Его товарищи не переслали сыну даже окровавленной, пробитой осколком шапки. Комья мерзлой земли упали на грудь черноусого мадьяра, похороненного без гроба и почестей. Когда в сорок пятом через село прошли советские освободительные войска, Шандор несколько дней метался по бурьянам, высматривал из зарослей советские машины. Его руки сжимали камни. И вот он избрал нашу.
Мы наложили мальчику полную пригоршню кускового сахара, подарили звездочку. Детское сердце отходило и теплело медленно, а глубоко посаженные черные глазенки никак не отваживались посмотреть доверчиво. Утром Шандор сам принес из колодца воды, полил на руки майору, у которого вспухла щека. Потом все пошли к машине.
— Вот у нас стекло разбито, — показал я Шандору.
— Ой! — ужаснулся мальчик и обеими ладонями прикрыл отверстие. Виновато-жалобно перебежал глазами по нашим лицам.
Мы уселись на свои места. Мальчик не отступал от машины, прижимался к ней, похоже было — хотел что-то сказать. Мать стояла в стороне, все видела, украдкой вытирала слезы.
Мы двинулись. Шандор быстро-быстро что-то сказал марийцу. Мы отъехали — мать и сын стояли над дорогой.
— Что он тебе сказал? — спросил я марийца.
— Просил привезти с войны его папу.
Мы взяли из того бедного крестьянского дома частицу большой печали и оставили там что-то от нашего сердца...
С того времени прошло больше четверти века. Теперь нас роднила с Венгрией дружба. Естественно, что, путешествуя по этой стране, я стремился обнаружить конкретный, живой образ обновления.
Искал бывшего мальчишку Шандора.
И на узкой дороге «икарус» не сбавлял скорости. Вихрем влетал в сельские улицы, разбивая ветки вишен и слив. Гуси разметались в разные стороны, как перья на ветру.
Туристы переглядывались между собой. Моя соседка сосредоточенно смотрела на дорогу. Иногда кто-то наклонялся к ней, говорил что-то в утешение, но волгоградка уставилась взглядом в даль.
Наконец заговорил в микрофон наш гид:
— Таким образом, наш «икарус» приближается к городу Сольнок. Его основали в пятом столетии римские Легионеры...
Сольнок начался разноцветными домиками, живописными усадьбами, а вскоре дорогу обступили высокие строения города. В центре высился белой колонной монумент.
Мы остановились у памятника.
Туристы еще сидели на местах, когда Шандор взял в руки обернутый в целлофан букет цветов и встал. Гид говорил об эклектическом стиле домов, стоявших вокруг площади. Шандор подошел к нашему ряду и подал моей соседке цветы. Женщина заплакала. Ее взяли под руки, и мы, выйдя из автобуса, группой направились к памятнику. Цоколь был испещрен надписями фамилий на русском языке.
Замерли у памятника молодые и седые люди. Ветер шелестел пожелтевшей листвой.
Шандор стоял задумчиво в стороне, один, склонив голову. Его пальцы механически перебирали ключи автобуса.
Руководитель нашей группы сказала несколько слов о Советской Армии, принесшей освобождение Венгрии от фашистских оккупантов, о Сольноке, об отце нашей попутчицы.
Волгоградка на прощание поцеловала мрамор с фамилией отца.
Наш «икарус» помчался по знакомой дороге назад.
Солнце нависло над горным горизонтом, слепило. Шандор опустил щиток на переднем стекле, включил приемник. Теперь мы сообразили, что Сольнок отнял у нас два часа, что мы намного запаздываем с прибытием на базу. Никто, понятно, не думал упрекать за отклонение от маршрута. Удобно устроившись в креслах, мы чувствовали, что Шандор нажимает на скорость. Действовал несколько странный комплекс чувств: мы все были за то, чтобы свернуть на Сольнок, и Шандор согласился сделать крюк километров на сто, но наверстать потерянное надлежало водителю.
Когда промелькнул, знакомый нам путеуказатель на Сольнок, туристы стали считать километры до места нашего отдыха, «Икарус» обгонял грузовые и легковые машины — они, отставая, проплывали за окнами, где-то ниже, и казались совсем маленькими. Шандора охватил азарт скорости. Его внимание и взор безошибочно отмечали сантиметры расстояния при разъездах.
Я понимал, Шандора и сочувствовал ему. Одобрял его резкое торможение и порывистые броски тяжелой машины вперед. Его высокое мастерство вождения «икаруса» успокоило туристов.
Солнце уже скрылось за горизонт, небо мягко освещало землю.
Шандор пошел на обгон «газика». Сквозь окно я рассмотрел эту машину с венгерскими знаками. Ее шофер не желал уступить дорогу «икарусу» и держал скорость, равную нашей. Массивный мужчина за рулем «газика» поворачивал в нашу сторону красное лицо и выглядел победителем.
Впереди на приличном расстоянии ехал велосипедист. Машинам предстояло немедленно решить свой поединок. Автобус уже обходил «газик», тот оставался на полкорпуса сзади. Велосипедист упрямо держался середины дороги. В этом месте неожиданно кончился асфальт, и под колеса бросилась дорога, усыпанная камушками. Угрожающе затарахтело под крыльями. Послышался удар, треск, завизжали колеса.
Шандор испуганно посмотрел на боковое стекло и нажал на тормоза. Кто-то из женщин вскрикнул. Шандор открыл дверцу и прыгнул, словно провалился вниз. Его взлохмаченная черная голова промелькнула мимо окна. Происшествие было логическим следствием неразумных перегонов, нахальства водителя «газика» и неосмотрительности велосипедиста. Я выскочил вслед за нашим водителем.
«Газик» стоял поперек дороги. Шандор, перепуганный, заглянул в кабину. Я тоже подбежал сюда. Неужели произошло что-то страшное?
Первое, что я заметил, было разбитое стекло, «газика».
Шандор помогал шоферу вылезть из кабины. Тот, к счастью, оказался невредимым.
— Разбито стекло, — сказал я сам себе.
Шандор, оправившись, посмотрел на меня радостно-удивленными глазами.
— Раз-би-тое стекло... — словно что-то припоминая, прошептал он.
Я подошел поближе. Шандор перехватил мой взгляд, брошенный на тронутое изморосью трещин смотровое стекло, и сразу положил на дыру обе ладони.
— Шандор! Саша! — вырвалось у меня из самой души.
Водитель непонимающе смотрел на меня.
Молча возвращались к автобусу. Верилось и не верилось, что наши тропы уже перекрещивались, что в нашей жизни уже был такой же самый венгерский вечер с таким же происшествием.
Шандор сел за руль. «Икарус» легко покатил вниз, на огни города. Я не сводил с Шандора глаз. Ждал, что он вот-вот обернется и приветливо улыбнется мне... Ведь хорошие человеческие чувства, раз родившись в сердце, остаются в нем навсегда.
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления