Онлайн чтение книги
Однорогая жирафа
ГОЛОС МОРЯ
Флаг на мачте повис, точно изнемогая от зноя. Был полный штиль.
Галька так накалилась, что те, кто не догадался захватить мохнатую простыню, устраивались на низких деревянных лежаках, своей решетчатой поверхностью напоминающих детские санки. Некоторые отдыхающие забрались под навес, и там, в густой тени, такой плотной и синей, что она издали казалась осязаемой, принимали воздушные ванны.
С Петром Ивановичем Смородиновым, ленинградским профессором физики, моим соседом по комнате в санатории, мы расположились у самой воды. Здесь галька сменялась узкой полоской мягкого, намытого морем песка, и было чудесно лежать и болтать о том, о сем, лениво шевеля ногой в теплой соленой воде.
Подальше, за пляжем, на морском берегу виднелось несколько человек. Они склонились над серыми рулонами, похожими на огромные скатанные ковры. Это рыбаки готовили к наступавшему сезону свои «рогожи».
Когда один из рыбаков проходил мимо низкой ограды, окружавшей пляж, я окликнул его:
— Ну, как, собираетесь на ловлю?
Мне давно хотелось принять участие в этой удивительной ловле хотя бы в качестве зрителя.
Из всех способов добычи рыбы лов кефали с помощью рогожи, вероятно, самый удивительный. «Рогожу» — мат из тростника — расстилают, как плавучий ковер, на воде. Плывущая кефаль принимает тень от рогожи за подводное препятствие: стремясь перепрыгнуть через него, она выскакивает из воды и оказывается на тростниковом плоту. Рыбакам остается только подбирать эту чересчур впечатлительную рыбку.
— Какая нынче ловля, — сказал рыбак. Это был высокий и худощавый человек, чуть сутулый, со спокойным взглядом карих глаз. — Надо ждать непогоды…
Я невольно посмотрел в сторону моря, но не увидел ничего, кроме безбрежной водной глади и безоблачного голубого неба.
— Не видите? — усмехнулся рыбак.
Я вглядывался в горизонт, ожидая увидеть легкое облачко, о котором читал столько раз в книгах и по которому опытные капитаны, герои морских романов и рассказов, всегда так уверенно и заблаговременно предсказывали шторм. Облачко обычно быстро вырастало в тучу, а туча закрывает все небо и так далее. Но на ясном небе ничего не было.
— Не вижу, — признался я.
— Не сюда смотрите, — сказал рыбак. — В воду нужно глядеть.
— В воду?
— В воду.
Но вода была такой, какой она всегда бывает на Черном море, то есть не поддающейся описанию в своих оттенках, уловимых только глазом художника.
— Медуз-то нет! — воскликнул рыбак. — Неужели не замечаете?
Действительно, сколько ни вглядывался я в прозрачную зеленоватую воду, не мог обнаружить ни одного из этих существ, так удивительно похожих на старинные ламповые абажуры. Эти странные животные, только что во множестве плававшие в теплой воде у берега, раскрыв свои зонтики, куда-то вдруг исчезли.
— Вглубь ушли, — пояснил рыбак. — Чтобы их во время бури волнами не выбросило на берег. Уж они-то знают, что непогода будет.
— Откуда же они знают? — ворчливо произнес Смородинов, молчавший во время всего разговора.
— А это уж люди науки должны доискаться, — ответил наш собеседник. — Это ваше дело. А только наша рыбацкая примета верная. Еще деды наши ее знали, хотя, конечно, люди были темные и неграмотные, не то, что теперь.
Рыбак кивнул нам и пошел дальше.
— Гм… — фыркнул Петр Иванович, с кряхтением поднимаясь на ноги.
Небольшого роста, щуплый на вид, в трусиках, с золотыми очками на вздернутом носу, с седой, торчащей клинышком бородкой, он был похож на доброго гнома из детской сказки.
По всему виду Петра Ивановича я чувствовал, что он чем-то очень недоволен.
— Деды… Приметы… — проворчал он.
Профессор Смородинов подошел к берегу и презрительно, как мне показалось, посмотрел в воду. Я присоединился к нему. В воде не было ни одной медузы! Точно по какой-то команде, они ушли в глубь моря, как и уверял нас только что рыбак.
— Те-е-екс… — протянул Смородинов — Изволили убыть!
— Ну, вот что, — добавил он вдруг, — позагорали, и хватит. Долго лежать вредно. Пойдем на метеостанцию.
За короткое знакомство с Петром Ивановичем я успел уже привыкнуть к резким переменам его настроения. А неожиданные предложения, которые он часто вносил, нарушая установленный распорядок санаторной жизни, мне даже нравились.
Одевшись пижамы, мы зашагали к метеостанции, которая находилась на пути к санаторию. Это была крохотная станция, обслуживающая колхозы прилегающей к морю долины. Размещалась она в маленьком домике с выбеленными стенами — таком же, как и все дома в этой местности.
* * *
— Ну, — сказал Петр Иванович, критически оглядев скромное оборудование станции, находившееся, впрочем, в образцовом состоянии. — Что слышно? Как ваш буреметр? Падает?
Светловолосый молодой человек в шелковой рубашке-безрукавке и легких брюках подошел к барометру-анероиду, постучал ногтем по стеклу и сообщил:
— На одной точке. С самого утра.
— А известно ли вам, — спросил Петр Иванович, в упор рассматривая молодого метеоролога, — что приближается шторм?
— Шторм? — забеспокоился метеоролог. — Штормового предупреждения мы не получали.
— Предупреждения? — удивился в свою очередь Петр Иванович. — А я-то думал, что это вы предупреждаете других.
— И мы предупреждаем, и нас предупреждают, — ответил молодой человек. — Кто успеет первый.
— Гм… Кто же вас предупреждает?
— Областное управление. У них ведь район наблюдений больше, чем у нас. А случается, что область получает сигналы и от других областей.
С лица молодого человека не сходило выражение озабоченности, но отвечал он твердо.
— Гм-да-а… — покрутил головой Смородинов. — Вот какие дела.
Он подошел к стене и постучал по стеклу анероида. Стрелка не сдвинулась ни на волос, точно прилипла.
— А вот медузы уверяют, что будет буря!
— Медузы? — удивился метеоролог.
— Да, медузы. Они ушли вглубь моря. Что это значит, по-вашему?
— Я — человек сухопутный, — сконфузился юноша. — Откровенно говоря, совсем недавно на море.
— Так вот есть такая примета. Рыбацкая… Когда медузы уходят от берега, жди непогоды.
— Кто это вам сказал?
Мы описали внешний вид рыбака.
— Терехов, — сказал наш собеседник уверенно. — Бригадир рыбацкого колхоза «Черноморец». Николай Терехов. Лучшая стахановская бригада на всем берегу. Этот не станет зря говорить.
Он задумался. Затем присел к столу, включил стоявшую на нем небольшую рацию и, надев наушники, застучал ключом.
— Область предупреждаете? — спросил я, когда он закончил передачу.
— Предупреждать-то вроде и нет оснований, — ответил он. — Но все-таки передал сигнал внимания. Терехов — человек серьезный…
Я удивился, что приметам вообще придается какое-то значение в метеорологии. Мне казалось, что это противоречит научной постановке дела, которая должна быть присуща метеорологии, как и всякой другой науке. Я высказал эти свои соображения.
— Напрасно вы так думаете, — возразил Никитин, так звали нашего собеседника. — Метеорология не отрицает вообще примет. Ведь во многих приметах зафиксирован вековой опыт народа. Поэтому перечень испытанных примет вы найдете в любом учебнике метеорологии. Странно только, что барометр не подтверждает предсказания Терехова.
Молодой метеоролог еще раз взглянул на анероид и пожал плечами.
— Вот, — сказал он, — есть такая народная примета, — он достал клеенчатую тетрадь и пояснил: — Я ведь записываю эти приметы и как они подтверждаются. Пригодится, знаете. Тут на море примет, как камней на берегу. Вот, например, такая: морская блоха перед штормом уходит из сырых мест в сухие! Не проверял, правда, ее еще… Ведь, бывает, другой раз и зря говорят …А про медуз от вас впервые слышу. Надо будет записать…
Он взял ручку-самописку и открыл тетрадь на чистой странице.
Делать нам здесь было больше нечего. Мы вышли.
Ровная гладь моря без малейшей морщинки простиралась до горизонта. Глаз утомлялся глядеть на отблески солнца. На чистом небе не было ни одного белого пятнышка. В воздухе не ощущалось ни малейшего ветерка.
— А может быть, вся эта история с медузами — вообще бред? — проворчал Смородинов.
Он сердито фыркнул и решительно зашагал, но не к санаторию, как я ожидал, а снова к морю.
Мы вышли к устью реки. Здесь кончили чинить свои рогожи рыбаки. Когда мы подошли к ним, они привязывали свернутые в рулоны рогожи к кольям, вбитым в землю.
— Чтобы ветром не унесло, — объяснил нам пожилой рыбак с черной бородой.
— А что, разве будет буря? — спросил я с невинным видом.
— Разумеется, — ответил он. — Уже первый сигнал был.
— С метеостанции?
— Нет. У нас свои приметы.
— Медузы? — иронически спросил Смородинов.
— Медузы, — спокойно подтвердил рыбак. — Дело верное. Терехов пошел радиограмму давать.
— Кому?
— Капитану дельфинера «Победа» Безрученко.
— Гм… А почему ему?
— Он просил предупредить, если что.
— А разве не метеостанция его предупреждает?
— Станция станцией, а это он просил особо. У нас ведь тут бывает: шторм как с горы свалится — сразу, станция не успевает предупредить…
— Ну, а медузы, те, конечно, успевают?
— Медузы успевают, — уверенно сказал рыбак. — Те заранее знают…
— Черт знает что такое, — пробормотал Смородинов, рассерженно роя палкой в сырой гальке. — Медузам больше веры, чем барометру… А это что такое? — воскликнул он вдруг. — Вот это…
Я посмотрел на сырую гальку и ничего не увидел.
— Морская блоха, — сказал рыбак хладнокровно.
— Я сам вижу, что морская блоха, — рассердился профессор, но почему она сидит в сыром месте и не спешит уйти отсюда? Ведь перед штормом она уходит? Есть такая примета?
— Есть, — рыбак с удивлением посмотрел на профессора. — Только время-то ведь не пришло ей, блохе, двигаться…
Но тут же он с уважением в голосе добавил: — Ваша правда: пора! Смотрите — тронулась.
Он указал на гальку, покрывающую пологий берег.
Опять я не увидел ничего там, где опытный глаз рыбака различал что-то важное. Галька была как галька, — такая же, как и по всему побережью: разноцветные камешки, гладко обточенные водой.
— Смотрите, — сказал рыбак. — Удирают!
Тут, наконец, и я увидел, в чем дело: по гальке кое-где двигались какие-то темные точки.
Присмотревшись, можно было заметить, что морские блохи двигались от моря по направлению к траве, покрывавшей берег за полосой прибоя.
— От шторма улепетывают, — сказал рыбак. — Здесь, у воды, их перемелет галькой, — ведь она начнет перекатываться и тереться, что твои жернова! Вот и думают, как бы подальше от воды уйти.
— Ну, насчет «думают» это, конечно, вздор, — пробормотал Смородинов, становясь на колени и с интересом рассматривая крошечных ракообразных. — Такая тля не обладает способностью соображать. Но вот то, что они так дружно удирают, — это интересно. Значит, они каким-то образом чуют непогоду.
— Да уж они знают, — подтвердил рыбак. — Это кого хотите спросите.
— Откуда же у них такие сведения? — спросил Петр Иванович. — Ведь барометр еще не падает. Что же у них, у блох, своя метеослужба, что ли?
Рыбак пожал плечами.
— Этого уж я не могу сказать. Для этого ученые люди есть.
Профессор встал на ноги. Он держал на ладони маленькое ракообразное и смотрел на него с выражением недоумения и в то же время некоторого невольного уважения.
— Позвольте, — воскликнул он немного погодя, — но ведь медузы, раньше приняли свои меры безопасности! А блоха только сейчас тронулась в путь…
— Медузы, и правда, раньше узнают о шторме, — засмеялся рыбак, — а блоха уже потом. Медуза, она хитрее. У нас так и считается: медуза ушла вглубь — первый сигнал, морские блохи полезли на берег — второй. Ну, а там, дальше, жди уже самого шторма.
— Что же у них — разные метеослужбы или разная система оповещения? — сказал задумчиво Петр Иванович, выпуская своего пленника на свободу и вытирая руку о штаны пижамы — этот рассеянный жест подчеркивал, что профессор серьезно углубился в какие-то мысли.
— Впрочем, — воскликнул он через минуту, — ведь шторма-то нет! А может быть и не будет вовсе!
— Как не будет! — возразил рыбак. — А это что такое?
И он показал в сторону пляжа. На мачте, стоявшей на берегу возле навеса, поднимали рывками штормовой флаг. На лодке, плававшей вдоль берега, кто-то в матросской полосатой тельняшке кричал в рупор купальщикам, заплывшим слишком далеко. Некоторые пловцы уже начали возвращаться к берегу.
Погода была такая же ясная, как и все утро. Но что-то тревожное чувствовалось в этой картине нарушенного мирного отдыха.
— Так, — сказал я. — Значит, барометр откликнулся наконец! Или предупреждение пришло из области?
— Сейчас узнаем!
Смородинов круто повернулся и направился к санаторию. Я едва поспевал за ним. Проходя мимо метеостанции, мы увидели в дверях белого домика нашего молодого знакомого.
— Пришло сообщение с дельфинера «Отважный». — крикнул он, — а сейчас начал падать и барометр. Сразу на двадцать делений скакнул! Хорошо, что сигнал внимания я раньше передал…
* * *
Не успели мы дойти до санатория, как из-за горизонта показались тучи. Они спешили к берегу, словно воздушная армада. Задул ветер.
Последние купальщики прибежали с пляжа уже под первыми каплями дождя. В воздухе потемнело.
Обедали не на веранде, как обычно, а в столовой, где были зарыты все окна и двери. Но ветер проникал сквозь щели, колыхал портьеры, надувал, как паруса, занавески… Со звоном посыпалось стекло на паркет в дальнем углу. Кто-то плохо закрыл окно, и ветер сорвал раму с крючков. Несколько человек бросилось закрывать окно.
Нашим соседом по столу был добродушный старичок, отличавшийся на редкость терпеливым характером. Он заслужил общее уважение тем, что стоически переносил досаждавший ему хронический ревматизм.
— Ну, как ваша нога, — спросил я сочувственно, — наверное, дает себя знать?
— Представьте себе, нога — ничего… — ответил он, к моему удивлению. Но вот в ушах боль чувствовал сегодня утром довольно сильную. И знаете, — обратился он ко всем, — эту боль я ощущаю каждый раз перед штормом. Врачи ничего не могут по этому поводу сказать.
Он развел руками.
Все выразили ему свое соболезнование. А я невольно подумал, что в природе много предвестников шторма, мало или совсем неизвестных науке.
Должно быть нечто в том же роде подумал и Смородинов, потому что он бросил быстрый взгляд на старичка-ревматика, нацарапал что-то черенком вилки на скатерти и нахмурился.
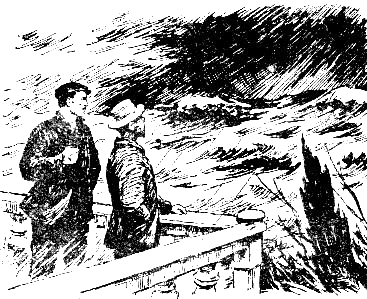
После обеда мы вышли на балкон. Ветер набросился на нас, точно поджидал нашего появления. Торопливо застегивая пиджак на все пуговицы и нагнув голову навстречу буре, я посмотрел в сторону моря. По небу быстро неслись тучи. Вал за валом катился от горизонта, и все море было покрыто пенящимися гребнями. На обезлюдевшем пляже громко шуршала галька.
В санаторном саду с глухим стуком падали на землю яблоки.
Силуэт какого-то судна мелькнул среди волн в сумеречном свете. Я успел различить вытянутый нос и низкий корпус, нырнувший в провал между гребнями.
Всю ночь завывала буря, крепкое здание санатория по временам вздрагивало и сотрясалось, а крыша гремела, словно кто-то, неистовый и безумный, пытался отодрать ее.
* * *
К утру солнце выглянуло из разорванных туч и осветило темно-синее море с белыми барашками. Шторм стихал, но крупные волны еще накатывались на берег.
Купаться было нельзя. Отдыхающие, выбитые из привычной колеи, заполнили читальный зал и бильярдную или слонялись по веранде без всякого дела. Петр Иванович предложил устроить экскурсию на научно-исследовательскую станцию, расположенную километрах в пятидесяти от санатория — на берегу моря. Многие согласились.
Подали автобус.
— Не может быть, — сказал мне Смородинов, когда автобус тронулся в путь, — чтобы на этой станции не знали про медуз и блох и про их метеорологические способности. Эта станция как раз изучает ту область природы, где вопросы биологии находятся на стыке с физикой. Не могли там не обратить внимания на эти вещи.
По тону Петра Ивановича чувствовалось, что он уязвлен. Еще бы! Была затронута честь науки…
К моему удивлению, в автобусе оказался и Костя Никитин — молодой метеоролог, с которым мы познакомились накануне. Костя уверял, что ему совсем не хочется спать, хотя он только утром сменился после суточного дежурства на метеостанции. На его лице я прочел жадную любознательность и нетерпение, которые встречаются у людей, одержимых какой-нибудь идеей. Такое выражение бывает у рыболова, спешащего к облюбованному, но еще не испытанному местечку на берегу реки, у коллекционера, вскрывающего посылку с редкой находкой, или у человека, который ожидает решения сильно мучающей его задачи.
Автобус мчался по узкому шоссе с бесконечными подъемами, спусками и поворотами. Вдоль асфальта мелькали грушевые и сливовые деревья; медленно проплывали долины с фруктовыми садами и полями, засаженными табаком, уступая место лесам на горных склонах.
Станция была расположена на самом берегу моря. Это было красивое светлое здание, неподалеку от которого, в густой зелени сада, ютились домики сотрудников. Некоторые лаборатории, расположенные ниже уровня моря, были отделены от него только стенкой из стекла, которая позволяла вести наблюдения за жизнью морских глубин. Другие лаборатории большой трубой соединялись с морем, оно входило в них, как в искусственную лагуну.
В лабораториях и в кабинетах в верхнем этаже здания мы увидели много интересного. Мне запомнился макет дельфина в натуральную величину; это животное, похожее на рыбу, изучалось здесь с точки зрения техники его движения. Оказалось, что дельфин, как это было видно из фотографий, сделанных советскими учеными, двигался благодаря винтообразному изгибанию туловища. У этого живого винта даже морда закручена по винтовой линии, но в обратном к движению тела направлении, — своеобразный гидродинамический компенсатор, препятствующий переворачиванию животного, пока оно плывет в воде. Компенсатор этот выключается, когда дельфин выскакивает из воды, — вот почему, оказывается, дельфин валится набок, когда он проделывает в воздухе свой курбет. Я много раз наблюдал резвящихся дельфинов, и мне казалось, что этот красивый крен при кувыркании — проявление своеобразной лихости чудесного пловца, в совершенстве освоившего водную стихию. Но оказалось, что «характер» животного тут ни при чем — в действие вступали законы гидродинамики, и дельфина переворачивала простая механическая сила, которой он не мог управлять.
Немало было здесь и других занимательных вещей, описание которых могло бы занять целую книгу.
Да, мы попали в нужное место! Здесь можно было надеяться найти ответы на вопросы, поставленные перед наукой рыбаками.
Нас познакомили с одним из крупнейших специалистов по физике моря, профессором Шавровым, худеньким человеком среднего роста, со спокойными манерами, седыми височками и ясным взглядом больших глаз.
Когда Смородинов с обычной своей непосредственностью рассказал негодующим тоном о том, как метеостанция оказалась не в состоянии предсказать заблаговременно шторм, в то время как «несчастный комок слизи» — медуза — и «дрянь, едва различимая глазом», — морская блоха — отличнейшим образом все «знали», а из людей о предстоящей буре догадывался только больной ревматик, не имеющий никакого отношения к метеорологии, Шавров тихо улыбнулся.
Он попросил одного из своих помощников принести радиозонд — прибор для исследования верхних слоев атмосферы.
На веранду, куда нас пригласили, был доставлен тонкостенный резиновый шар, наполненный водородом.
Я думал, его сейчас запустят в воздух, но Шавров взял шар за веревочку, поднес близко к уху Петра Ивановича и вопросительно посмотрел на него.
Тот резко отдернул голову. Затем взял в руку веревочку от шара и несколько раз поднес радиозонд к своему уху. На лице Петра Ивановича появилось выражение заинтересованности. После этого Смородинов передал шар мне и стал ждать, какое впечатление произведет опыт на меня. Я поднес шар вплотную к уху и ощутил тупую боль, точно кто-то давил мне на барабанную перепонку.
Невольно я отодвинул голову.
Шавров улыбнулся.
— Голос моря, — сказал он. — Это и есть тот предвестник шторма, который почувствовал ваш больной-ревматик. Человеческое ухо в нормальных условиях не улавливает этого голоса. Море разговаривает на слишком низких тонах. Это инфразвуковые волны, они лежат за порогом слышимости для нас с вами. Некоторые животные, — добавил он, — обладают способностью ощущать инфразвуки. К их числу относятся медузы и морские блохи.
— И поэтому-то они заранее «знают» о приближении шторма? — воскликнул я.
— Совершенно верно. Вокруг района шторма распространяются инфразвуковые волны. Вот этот голос моря, неслышный для человеческого уха, и предупреждает медуз.
Петр Иванович весь расцвел от радости.
— Ну, конечно, — заговорил он, взволнованно теребя меня за рукав, — я так и думал, иначе и не могло быть. Невозможно, чтобы никто из здешних ученых не заинтересовался этим явлением, не начал бы работу и не достиг бы уже чего-то! Вот это молодцы… Ну, где он? — обратился он уже к Шаврову. — Показывайте, не томите.
— Кто он? — с улыбкой произнес Шавров.
— Бросьте, батенька, притворяться. Прибор, разумеется. Прибор, предсказывающий штормы. И не пытайтесь уверять, что у вас нет такого прибора или вы над ним не работаете. Ни за что не поверю!
— Прибор, действительно, есть, — сказал Шавров уже серьезно. — Но хвастать, откровенно говоря, еще нечем. Поэтому мы о нем особенно не шумим. Но вам показать можно.
Он провел нас в комнату, посредине которой стоял большой лабораторный стол. На столе возвышалось неуклюжее сооружение из нескольких ящиков, стойки и металлического шара с отходящим от него коротким горлышком.
— Вот, — сказал Шавров, — прибор, о котором вы спрашивали. Радиозонд заменен здесь, как видите, металлическим резонатором. Резиновый шар с водородом улавливает инфразвуковые колебания и отражает их вследствие того, что акустические свойства водорода и атмосферного воздуха различны. Резиновая оболочка, резонируя, усиливает отражаемые колебания и делает их ощутимыми для нашего уха, хотя и не в виде звука, а как давление на барабанную перепонку. Колебания эти порядка десяти в секунду, следовательно, они лежат за порогом восприимчивости нашего уха. Металлический резонатор настроен на те же десять колебаний в секунду. В горлышке прибора, когда он резонирует, возникают сильные колебания воздушных частиц. Мы поместили в этом месте тонкую платиновую нить, которая накаляется постоянным током от аккумуляторной батареи. Колебания воздуха при резонансе образуют в горлышке сильный воздушный поток, настоящий ветер. Он охлаждает нить, сопротивление ее изменяется, — и соответствующее измерительное приспособление сигнализирует нам об этом. Вот, в сущности, и все устройство прибора. Что же еще добавить? Однажды этот прибор предсказал появление шторма, когда барометры еще не подавали никаких вестей. Был такой случай. Он записан в дневниках станции.
— Однажды? — удивился я.
— Да. Была очень тихая погода. Полный штиль. И в этой тишине донесся голос моря, который это металлическое ухо уловило. Так было, к сожалению, только один раз.
— Почему же прибор не действовал в других случаях? — спросил я.
— Он действовал и во всех других случаях. Так мы, по крайней мере, полагаем. Но уловить его сигналы оказалось невозможным.
— Почему?
— Из-за местных помех. Небольшого ветра на берегу достаточно, чтобы показания прибора спутались. Полный же штиль перед штормом бывает очень редко.
— И поэтому вы держите его здесь в запертой комнате, а не снаружи, где он мог бы улавливать инфразвуки? — спросил я.
— Он улавливает их и здесь, — возразил Шавров. — Инфразвуковые волны способны проходить даже через крупные щели, а тем более в открытое окно, как здесь.
— И какую вы ставите перед собой задачу? — спросил Смородинов, с серьезным видом слушавший объяснения Шаврова.
— Борьбу с помехами, — Шавров пожал узкими плечами. — Что же еще? Если удастся устранить местные помехи, прибор будет действовать.
— Гм, — Петр Иванович произнес это свое любимое междометие как-то вопросительно.
Время наше подходило к концу. Автобус уже подавал призывные гудки.
* * *
К вечеру в бухту откуда-то приплыли дельфины. То тут, то там мелькали их проворные, сильные тела. Дельфины пригнали к берегу массу рыбы, и наши любители-рыболовы, промышлявшие до того бычками да барабульками, на этот раз взялись за удочки с надеждами на более солидный улов. Рыбаки с побережья готовились к выходу в море.
Из-за мыса, вдающегося в море, показалось небольшое низко сидящее судно с вытянутым носом. Оно бросило якорь метрах в ста от берега. От судна отвалила шлюпка.
— Дельфинер «Победа», — сказал кто-то. — А вот и его капитан Безрученко.
Шлюпка с ходу врезалась в скрипучую гальку, на берег вышел невысокий, крепкий человек в полотняном кителе.
Почти вся команда дельфинера и сам Безрученко были из селения, расположенного в приморской долине. В погоне за дельфинами они прибыли к родным берегам и решили заночевать здесь, чтобы с утра продолжать промысел.
Однако Безрученко пошел не прямо домой, а зашагал по тропинке в гору, где была расположена метеостанция.
Мы с Петром Ивановичем тоже направлялись туда по другой дорожке, со стороны санатория. Смородинов весь вечер был задумчив, и на лице его было выражение неудовлетворенности. Несколько раз он досадливо встряхивал плечами, точно отгонял какую-то докучливую мысль.
Костя Никитин, в течение утренней экскурсии с почтительным вниманием прислушивавшийся к разговору двух профессоров, а сам почти не раскрывавший рта, сейчас, вечером, был очень оживлен.
— Вот, — сказал он нам, указывая на Безрученко, — пришел благодарить за предупреждение, переданное ему по радио.
Он познакомил нас с прославленным зверобоем.
Безрученко приветливо улыбнулся и радушно пожал наши руки.
— Только заслуга нашей станции здесь небольшая, — продолжал Костя, — я передал ему по радио рыбацкую примету. Станция радировала сигнал внимания, но ведь и он был основан все на той же примете. Вы подумайте только, какое сочетание: современная радиотехника и примета погоды, которой, может быть, не одна сотня лет.
— Хорошо бы, — сказал Безрученко, — прямо на борту судна иметь прибор, предупреждающий о шторме. Как вы думаете, современная наука в состоянии создать такой прибор?
Он посмотрел на нас вопросительно. Видно было, что эта мысль занимала его давно.
— Вот, — Костя как-то по-детски мотнул головой в нашу сторону. — Сегодня мы были на станции, где работают над этим.
— Гм, да-а… — протянул Петр Иванович, — работают… Такой прибор, — вдруг твердо сказал он, поворачиваясь всем корпусом к Безрученко, — можно сделать.
— Я тоже считаю, — сказал убежденно Костя, — что такой прибор можно создать. Сегодня на станции я окончательно понял это.
— Окончательно?
В голосе Смородинова мне послышалась вопросительная нотка.
— Да, окончательно, — сказал Костя, твердо глядя в глаза Смородинову. — Хотя я, как и вы, считаю, что Шавров идет не совсем тем путем.
— А откуда вы, молодой человек, знаете, что я считаю? — оборвал его Петр Иванович и, повернувшись к нам спиной, стал смотреть в окно на море. Однако и по напряженной спине, и по пальцам профессора, судорожно шевелящимся за спиной, было видно, что Костя задел в нем какую-то чувствительную струну.
Никитин почти не реагировал на эту профессорскую выходку. Он тепло посмотрел на сердитого Смородинова, улыбнулся светлой улыбкой и, схватив спокойно наблюдавшего эту сцену Безрученко за рукав кителя, горячо сказал:
— Будет прибор.
— Будет? — задумчиво переспросил Смородинов. — Не такая это простая штука, как вам кажется. Да. То, что природа вырабатывала на протяжении, может быть, тысяч веков, нужно сделать, и притом в гораздо лучшем виде, в течение нескольких…
— Лет, — подсказал я, памятуя, что работа над резонатором, который мы видели сегодня утром, продолжалась, как пояснил нам Шавров, уже четыре года.
— Месяцев! — резко сказал Смородинов. Он нетерпеливо толкнул ногой дверь, поспешно вышел из комнаты и, размахивая руками, зашагал по тропинке к морю. В окно была видна его маленькая фигура на фоне дальнего неба.
* * *
Удивительно, до чего бывают навязчивы некоторые идеи! Неугомонный Петр Иванович, мечтательный и увлекающийся Костя Никитин и спокойный, уравновешенный Безрученко с его твердой верой в науку заразили меня. Понемногу и я стал задумываться над уловителем голоса моря.
Загорая на пляже или совершая прогулки по окрестностям, я часто ловил себя на том, что думаю о конструкции резонатора, который я видел на Черноморской станции. Сначала я пытался отогнать от себя эти мысли. В конце концов, я приехал в этот благословенный уголок природы, чтобы отдыхать, а не для того, чтобы ломать голову над усовершенствованием изобретения, которым и без меня занималось уже столько людей! Но со мной произошло нечто вроде того, что приключилось со сказочным героем, который должен был думать о чем угодно, только не о серой лошади. Как известно, герой не выдержал испытания: словно назло ему все время лезла в голову запрещенная мысль.
То же получилось и со мной. Сидя где-нибудь в тени под мощной кроной грецкого ореха и глядя на залитую солнцем дорожку, я размышлял о том, что это за капризная стихия — море и какая на самом деле заманчивая задача — заставить ее предупреждать человека о своих капризах.
Наконец, я не выдержал. Махнув рукой на все соображения о том, что не следует путать отдых с работой, я решил заняться усовершенствованиями того прибора, что нам показали на станции.
«Играют же люди в карты, — рассуждал я, оправдывая себя, — ломают голову над каким-нибудь преферансным ходом, забивают ее черт знает чем, разным хламом, вроде запоминания всех вышедших из игры карт (я не играю в карты, не люблю и не понимаю этого занятия), почему же мне не заняться этим прибором, так сказать, на свободе, в этой приятной обстановке, чтобы дать какое-нибудь дело мозгам…»
Достав из чемодана лист чистой бумаги и вооружившись шариковой ручкой, я расположился, за одним из круглых столиков на веранде.
И как только я занялся вплотную интересовавшим меня делом, у меня сразу стало спокойно на душе.
Работал я часа полтора-два в день, а в остальные часы с азартом включался в общую жизнь санатория. И, эта размеренная, жизнь, изрядно надоевшая мне прежде, теперь показалась особенно интересной. Правда, человеческий мозг — капризная штука и в этом отношении подчас не уступает Черному морю. Случалось, заплывешь далеко в море, и вдруг приходят в голову интересные соображения, тогда спешишь к берегу, чтобы, лежа на горячей гальке или на деревянном лежаке и подставляя солнцу то спину, то грудь, тщательно обдумывать со всех сторон какой-нибудь вопрос. Но зато теперь незаметно пролетали самые бездеятельные часы — на пляже, когда не хочется читать, потому что книга загораживает от тебя море, а говорить тоже не хочется — слишком красиво море и ты к нему еще не привык, или обязательный мертвый час — настоящая пытка для людей вроде меня, не привыкших спать после обеда.
Работал я над конструированием сигнализирующего устройства к уловителю голоса моря.
Еще когда я впервые увидел резонатор инфразвуков, меня поразила некоторая примитивность записи его показаний. По специальности я инженер-электроник и, может быть, именно поэтому обратил особое внимание на эту часть устройства прибора. Ученые, работавшие на станции, несомненно гораздо больше меня разбирались в физике моря, о которой я имел самое общее представление, но они были довольно далеки от вопросов прикладной электротехники. Поэтому, когда им потребовалось перевести показания резонатора на язык электрических сигналов, они выбрали самую простую, но не лучшую схему. В этом и заключалась их ошибка. В самом деле, раз прибор резонирует на инфразвуки, сигнализирующие о приближении шторма, значит главная задача решена! Прибор фактически создан, вернее, — создана самая главная его часть. То, что творцы прибора не могли читать его показаний из-за местных помех в виде ветра, я относил целиком за счет техники, которую они применили для этой цели. Нагретая током платиновая нить слишком чувствительна к любому дуновению воздуха и поэтому не годится.
В изобретательской деятельности бывает очень важно заставить себя отбросить один путь исканий, чтобы посмотреть, нет ли рядом другого пути, более пригодного.
Так случилось и со мной. Начав думать о резонаторе, я пришел к решению настолько простому, что эта простота заставила меня усомниться в правильности вывода и повторить весь ход моих рассуждений заново.
Нужно, рассуждал я, к стенке резонатора припаять железный стерженек. Свободный его конец должен входить в катушку самоиндукции. Стержень будет колебаться в одном ритме со стенками резонатора и вызывать в катушке электрический ток той же частоты. Конечно, ток будет ничтожным, но это не играет никакой роли, так как современная электронная техника позволяет усиливать любые слабые токи до нужной степени. Вот и все. Прибор будет отзываться только на те колебания, на которые настроен резонатор, то есть на приходящие издали, а местные дуновения ветра не вызовут в нем отклика.
Мне хотелось, чтобы голос моря и после того, как он будет уловлен прибором, звучал бы как голос.
Разумеется, легко можно было сделать так, чтобы пойманный сигнал или, вернее, вызванный им электрический ток включал записанную на пленку речь диктора.
Я питал надежду, что со временем, когда штормовые инфразвуки будут хорошо изучены, можно будет по ряду признаков судить и о силе шторма и о времени, через которое он ожидается.
И тогда предупреждение, автоматически включаемое самим морем, будет звучать примерно так:
— Внимание! Внимание! Приближается шторм. Силой девять баллов. Ожидается через двадцать минут.
Пока же этого еще нет, речь диктора придется сократить:
— Внимание! Шторм.
Но, с другой стороны, раз дело идет только о простом предупреждении, без каких-либо дополнительных данных, то было бы интересно заставить звучать не патефонную пластинку, а сам голос моря. Не знаю, может быть, здесь во мне говорил романтик, а не техник. Но мне очень хотелось добиться этого.
Я решил добавить к прибору приспособление, умножающее в определенное число раз частоту тех колебаний, которые возникают в его цепи. Голос моря, подвергшийся такой обработке, будет звучать, если подключить к прибору обыкновенный громкоговоритель.
Самых резонаторов — этих металлических кувшинов с короткими горлышками — следовало, по-моему, взять не один, а несколько. От размеров резонатора, его объема, ширины и длины горлышка зависело, на какие инфразвуки он будет отзываться. К счастью, диапазон инфразвуков вообще очень невелик, так что практически вполне должно было хватить полдюжины резонаторов. Ведь голос моря не держится все время на одной ноте, а, очевидно, варьируется по частоте и достаточно, чтобы его уловила хотя бы одна из ловушек-резонаторов.
Я рассказываю все эти подробности, потому что с ними в дальнейшем были связаны все успехи и неудачи моего изобретения.
В последний день работы над проектом я сидел часов пять не отрываясь.
Петр Иванович мне не мешал. Он вообще стал куда-то исчезать, и я его мало видел. Я отчасти был этому рад, так как делал всю работу потихоньку, чтобы приготовить ему сюрприз.
«Вот, — хотелось мне сказать, кладя на стол перед ним чертеж, — вот прибор, о котором вы мечтали. Не через четыре года и не через шесть месяцев, а хоть сейчас отдавайте заказывать в мастерскую».
Я не поленился и, раздобыв чертежные принадлежности, изобразил схему на ватмане по всем правилам.
Вызвав Петра Ивановича из бильярдной, где он с рассеянным видом, совершенно явно не вникая в игру, смотрел на летающие по зеленому сукну шары, я пригласил его к себе в комнату и подвел к столу, на котором уже лежала аккуратно вычерченная схема.
— Вот, — сказал я деланно равнодушным тоном, — я попробовал тут… Посмотрите!
— Гм, — сказал Петр Иванович и, вынув очки, погрузился в изучение проекта.
Он сидел за столом, барабаня пальцами по ручке кресла и разглядывая схему минут двадцать, и я ничего не мог прочесть на его лице, с которого не сходило выражение сосредоточенности.
Во всяком случае я не видел радостного оживления, на которое рассчитывал.
— Так, — протянул он наконец, в течение этого томительного ожидания я ерзал на стуле и никак не мог заставить себя успокоиться. — Ну, что ж… — Петр Иванович помедлил, — делайте!
— Так вы считаете, что прибор будет работать? — обнадежено спросил я.
— Кто же его знает, — ответил он. — Вы лучше меня знаете, что при практических испытаниях бывают всякие неожиданности, трудно все предвидеть. Тем более в таком новом деле. Откровенно говоря, мне кажется, прибор не будет обладать достаточной избирательностью. Ведь местные дуновения ветра отражаются не только в горлышке прибора, а заставляют резонировать и его стенки. Правда, ваш магнитный стерженек гораздо лучше платиновой нити, там все явления слишком уж смешиваются. Но одного стерженька недостаточно. Нужна система стерженьков, раз уж вы остановились на этом принципе. Тогда избирательность прибора будет гораздо выше.
Я стоял смущенный. Как же это я в самом деле не сообразил такой простой вещи? Конечно, нужна система стерженьков, чтобы случайные ошибки в их показаниях взаимно устранялись.
Но как расположить стерженьки наивыгоднейшим образом на колбе резонатора? Тут требовалась помощь физика.
— Расположить их нужно, — словно отвечая на мой вопрос, сказал Смородинов, — следующим образом…
Он взял карандаш и стал набрасывать маленькие схемки прямо на моем чертеже.
— Вот, — заключил он, наметив места на чертеже. — Лучше этого, пожалуй, не придумаешь. Ну, что ж, — добавил он уже несколько более энергично, чем в начале беседы, — действуйте!
Я видел, что он все же чем-то недоволен.
Мы вяло поговорили о том, о сем и пошли ужинать.
Перед сном я не утерпел и забежал на метеостанцию. Мне хотелось сообщить о своем проекте, хотя и очень сдержанно, но, можно считать, все-таки одобренном Смородиновым, другому энтузиасту этого дела — Косте Никитину.
— Так какое ваше мнение об этом проекте? — спросил я его, показав чертеж.
— Ну, что ж, — сказал Костя уклончиво, — проект, по-видимому, хороший. Во всяком случае прибор, наверное, будет действовать, — добавил он, как бы утешая меня.
Ничего себе утешение! «Прибор будет действовать»… А что еще требуется от прибора?
Я несколько обиженно свернул чертеж в рулон.
— А как у вас вообще дела? — спросил я, чтобы отвлечься от темы, обсуждение которой становилось для меня неприятным.
Из рассказа Кости выяснилось, что Смородинов продолжает интересоваться проблемой штормового предупреждения.
По словам Кости, Петр Иванович ездил еще раз на исследовательскую станцию, уже один, беседовал о чем-то с Шавровым и просил предоставить в его распоряжение все данные о медузах — абсолютно все, что о них известно. На метеостанции был довольно приличный микроскоп, и Смородинов изучал здесь строение отдельных частей этих обитателей моря.
Я заметил, что медузы, вероятно, уже досконально изучены поколениями ученых и вряд ли Петр Иванович откроет здесь что-нибудь новое.
— Не говорите! — возразил Никитин. — Вот летучая мышь тоже казалась хорошо изученной. Все в ее строении и повадках объяснили биологи, кроме одной загадки: как она ориентируется в темноте. И раскрыли ее физики. Оказалось, что мышь ориентируется с помощью ультразвуков. В в организме медузы, тоже есть некий приемник инфразвуков. Может быть, самое тело медузы, является резонатором.
— Но мне казалось, — сказал я, — что на той же научно-исследовательской станции изучают медузу и с точки зрения физики…
— Да, ее там изучали, — подтвердил Костя. — Но недостаточно. Петр Иванович считает, что медуза заслуживает большего внимания, чем ей уделяют сотрудники станции.
Вот как! Смородинов, оказывается, работал над собственным проектом уловителя голоса моря или, во всяком случае, собирал предварительные материалы к его проектированию. Костя со своей чисто студенческой влюбленностью в профессора был, разумеется, всецело на его стороне. А я, увлеченный своим проектом, и не подозревал об этом.
«Неужели, — подумал я, — поэтому он так холодно отнесся к моему предложению?»
Признаюсь, этот вывод противоречил тому представлению о Петре Ивановиче, которое сложилось у меня.
«Но… чего только не делает больное самолюбие, — подумал я. — Ведь вот, кажется, человек, широко мыслящий, горячо к сердцу принимает общественные нужды, а затронь эту струну, — и вот просыпается в человеке то мелкое, от чего нам всем давно пора избавиться».
Я тогда ошибался, как это выяснилось гораздо позже, но мне в то время казалось, что я имел право так строго судить Петра Ивановича. Ведь, работая над своим проектом усовершенствования резонатора, я не искал ничего для себя лично — ни славы, ни признания своих заслуг: я заранее решил, что передам чертеж исследовательской станции и на этом свою миссию буду считать законченной.
Разочарованный и неудовлетворенный, лег я спать в эту ночь и долго не мог заснуть.
После завтрака я попросил машину и помчался на станцию.
Предупрежденные по телефону, сотрудники лаборатории немедленно по моем приезде собрались для обсуждения проекта. Не было только Шаврова. Он куда-то уехал.
Моя схема в общем встретила одобрение, хотя вокруг нее развернулась довольно оживленная дискуссия. Было высказано много замечаний, в том числе и весьма дельных. Так, мне справедливо указывали на то, что прибор получается слишком громоздким.
— Вы морскую блоху, — заметил один из оппонентов, — превратили в бегемота.
— Но ведь он не прыгать должен, — попробовал отшутиться я, — а предсказывать шторм.
— Блоха тоже предсказывает шторм, — возразил этот скептик, — но, кроме того… она если и не прыгает, то во всяком случае подвижна.
— Мне кажется, — сказал я искренне, — что прибор, созданный нашими общими усилиями, будет несравненно более совершенен, чем блоха. Ведь он не просто сознает ощущение каких-то изменений в атмосфере — вряд ли что-нибудь большее чувствует блоха, а дает возможность анализировать их, определяет частоту и амплитуду колебаний.
— Это, разумеется, правильно, — не успокаивался упрямец, — Но не следует блохе уступать ни в чем. А по габаритам-то она ведь вас бьет!
В конце концов решили изготовить пробный экземпляр прибора с учетом тех замечаний, которые были сделаны на совещании. Я обещал подумать над монтажной схемой, с тем чтобы попытаться сократить размеры прибора, хотя, конечно, довести его до величины блохи не брался.
Должен сказать, что в лаборатории были несколько смущены тем, что человек, не имеющий к ней никакого отношения, так горячо заинтересовался прибором, с которым давно и не спеша здесь работали. То, что я представил готовый вариант реконструкции прибора, произвело сильное впечатление.
Заведующий лабораторией, доцент Горбунов, низенький человек с лысиной со вздохом говорил мне, пожимая руку:
— Спасибо! Большое спасибо за помощь.
А мой главный оппонент, тот, что корил меня преимуществами морской блохи по части габаритов, догнав при выходе, сказал:
— Это хорошо, что вы их встряхнули. У нас вся станция как станция, а эта пятая лаборатория — предмет наших внутренних споров. Здесь собрались все какие-то созерцатели… И дело знают, и науку любят, и люди в общем неплохие, но вот дуновения жизни по-настоящему не ощущают! Знаете, такая тихая заводь на берегу моря… Ну, что же, — добавил он, — ваш проект, по существу говоря, является лучшей формой критики работы пятой лаборатории. Они это, конечно, почувствовали. Это очень хорошо. Главное — действовать!
Из этого я мог заключить, что он не в сильном восторге от моего проекта.
Странная судьба постигла это мое начинание, которому я отдал столько бессонных ночей. О том, как реагировали Петр Ивановия и Костя на мою идею, я уже рассказывал. А этот мой оппонент на станции основной моей заслугой признает критику делом работы лаборатории, которую здесь считают отстающей!
Ну, а сам-то проект, черт, возьми! Ведь прибор, предсказывающий шторм, создан, если только мои расчеты правильны и никто их не опроверг. Такое непонятно холодное отношение к конкретным результатам моего труда этих трех разных людей меня удивляло.
Вот уж поистине на всех не угодишь! Но я ловил себя на мысли, что мне особенно хотелось угодить именно этим людям. Это были, как я чувствовал, по-настоящему ищущие, требовательные к себе и к другим, искренне заинтересованные в успехе дела люди.
Возвратившись в санаторий, я прошел на метеостанцию. Мне хотелось рассказать Косте Никитину о результатах совещания.
Я застал у него Безрученко. Узнав, что прибор, о котором он уже слышал, сдается на изготовление, этот обычно спокойный и сдержанный человек взял мою руку обеими своими руками и так горячо ее пожал, что я был утешен за все свои огорчения.
«В конце концов я сделал все, что мог, — облегченно думал я, укладываясь спать в эту ночь. — Что еще можно от меня требовать?»
И я заснул со спокойной душой.
* * *
Я переработал чертежи и отравил их на станцию. Съездить туда сам я не успел, потому что подошел конец моему пребыванию в санатории. Петр Иванович, оставшийся еще на несколько дней, вышел провожать меня к автобусу, Он заботливо осмотрел, как уложены мои вещи, посоветовал надеть пальто, чтобы не надуло ветром в дороге, и на прощание сказал:
— А все-таки вы молодец! Вот не успокоились же… Взялись за этот прибор. Ну, от души желаю вам удачи!
Мне послышалась в его голосе как бы нотка сожаления.
Но о чем он жалел?
Я с удовольствием пожал руку Петру Ивановичу и пожелал ему хорошо отдохнуть в остающиеся дни.
Автобус тронулся. Дорога, обходя горы, то удалялась от моря, то приближалась к нему. Когда показывалось море, невидимые удары обрушивались на автобус, замедляя его ход.
Деревья словно повернулись в одну сторону, вытянув ветви по ветру.
Огромные волны гуляли по морскому простору.
«Ну, — подумал я, застегивая пальто и опуская стекло в окне, — недолго будут продолжаться ваши внезапные налеты, товарищ шторм!»
* * *
Через две или три недели после приезда в Москву мне позвонили с завода электронных приборов. Очень вежливо попросили приехать помочь разобраться в чертежах УГМ (уловителя голоса моря).
Ого, на Черноморской научной станции на этот раз действовали энергично! Девушка с завода умоляла приехать, не откладывая, — «в виду срочности заказа».
Заводские инженеры внесли столько предложений, улучшающих прибор в отдельных частях, что он стал выглядеть совсем другим и в целом.
Я все мучился с размерами прибора, а здесь, на заводе, сумели уменьшить его объем против моего проекта по меньшей мере раза в три.
Внесли и много других усовершенствований. Чувствовалось, что заводские инженеры набили руку на практических вопросах проектирования.
Прошло еще несколько недель, и десять пробных аппаратов УГМ в красивых футлярах из пластмассы были готовы. Их проверили в заводской лаборатории и отправили на Черноморскую научную станцию для испытания в практических условиях.
Я надеялся, что один из аппаратов будет установлен за судне охотника за дельфинами Безрученко. Он сможет тогда убедиться, что наука выполнила обещание, которое от ее лица дал черноморским промысловикам профессор Смородинов.
О Петре Ивановиче я слышал только то, что он работает в своем институте в Ленинграде, редактирует научный журнал, принимает участие в жизни нескольких научных организаций — словом, по обыкновению, делает тысячи дел.
Помнит ли он еще о морской блохе и медузе или забыл про них, поглощенный другими идеями?
Я хотел написать ему, но потом решил подождать, пока не придут первые данные испытаний аппарата УГМ.
* * *
На Черном море наступил период осенних и зимних штормов. Это, вообще не очень веселое, время было самым подходящим для испытания уловителя голоса моря.
Первые сведения пришли довольно благоприятные. Аппараты, установленные на станции, в нескольких пунктах побережья и на борту кораблей, делающих дальние рейсы, в общем оправдывали свое назначение. Правда, они предсказывали шторм не во всех случаях. Работники станции склонны были считать, что полностью освободиться от помех все еще не удалось. Но во всяком случае прибор чаще предсказывал штормы, чем «проворонивал» их, а это был уже огромный шаг вперед. Ведь первый вариант прибора, с которого началась вся работа, предсказал бурю всего один раз. Разумеется, аппарат потребует еще доводки, но таков путь всякого изобретения.
Но затем, после этих обнадеживающих сообщений, стали поступать претензии другого рода. Аппарат, по мнению некоторых его «потребителей», предсказывал шторм недостаточно заблаговременно. Правда, он подавал свои сигналы обычно раньше, чем начинал падать барометр, но разница эта в ряде случаев была не так уж велика.
— Нельзя ли, — запрашивали станцию моряки и рыбаки, — увеличить срок предупреждения?
Зима прошла, а аппарат все не передавали в серийное производство. На Черноморской станции шла усиленная работа по улучшению физических свойств прибора. От завода электронных приборов туда выехал инженер для консультации по вопросам электротехники. Мое участие уже не требовалось. Все большее число людей включалось в решение проблемы, и моя роль, естественно, делалась все более скромной.
Время шло, а мое письмо Петру Ивановичу Смородинову так и оставалось ненаписанным.
* * *
Командировка, которую предложили мне, была рассчитана на небольшой срок — всего на две недели. В течение этого времени предстояло дважды пересечь океан, заходя ненадолго в некоторые порты.
Наш электроход вышел из ленинградского порта рано утром. Накануне я попытался разыскать в Ленинграде Смородинова — мне хотелось потолковать с ним, но Петр Иванович был в отъезде.
Наше судно, последнее слово советской судостроительной техники, совершало пробный рейс. На нем было установлено много новых приборов, к некоторым из них имело отношение и то учреждение, где я работал. Собственно, моя функция в том и заключалась, чтобы контролировать работу электронной части нашей аппаратуры.
С удовольствием заметил я в штурманской рубке наряду с новейшей аппаратурой по навигации скромный пластмассовый ящик с выдавленными на корпусе крупными буквами «УГМ».
… Мы шли в открытом океане уже вторые сутки. Судно поставило мировой рекорд скорости — это сообщил мне штурман, жизнерадостный молодой человек, чем-то напомнивший мне Костю Никитина. Звали этого смуглолицего юношу в аккуратно застегнутом кителе и с постоянной улыбкой на лице Алексеем Ивановичем.
Я смотрел на слаженную работу небольшой команды огромного корабля и невольно сопоставлял ее с картинами сравнительно недавнего прошлого.
Штурман прокладывал курс, который по его расчетам был наиболее выгодным, докладывал капитану, тот принимал решение и отдавал команду. Он не кричал «зюд-зюд-вест» или «идти по такому-то румбу», а передвигал рукоятку на пульте управления или нажимал кнопку. Огромное судно немедленно поворачивалось и ложилось на заданный курс.
Не надо было кричать рулевому «так держать!» — держал судно на курсе не рулевой, крутящий штурвал и не спускающий глаз с компаса, а автоматический прибор.
Люди главным образом думали и решали, а исполняли все приборы.
Приборы же своевременно сигнализировали обо всех изменениях в обстановке, которые могли заинтересовать капитана.
На мою долю не приходилось особенных хлопот. Вся аппаратура действовала безукоризненно.
Не было только случая испытать на практике УГМ — погода и на самом деле стояла удивительно тихая.
Поверхность необозримого океана была гладкой, легкая зыбь сверкала на солнце, и на горизонте изредка возникали серые дымки. Океанские дороги широкие, и здесь «встречей» считается, если корабли прошли в нескольких километрах один от другого.
Так прошел еще день плавания.
Я находился в рубке Алексея Ивановича, когда вдруг раздался мощный голос, доносившийся откуда-то с потолка:
«Внимание! Приближается шторм. Силой до десяти баллов. Ожидается через полтора часа».
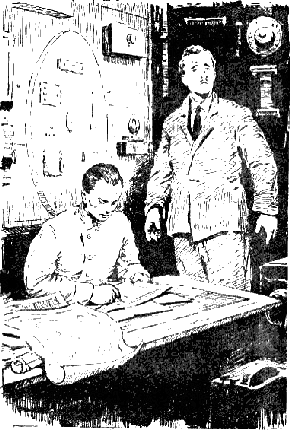
Я невольно вздрогнул.
Может быть, сотрудники Черноморской станции так усовершенствовали прибор? Я покосился на пластмассовый ящик с надписью «УГМ», стоявший в углу. Но нет. Это был аппарат, по внешнему виду такой же, как и те экземпляры, что вышли из цехов завода при моем участии.
Алексей Иванович усмехнулся, видя, что я так пристально осматриваю внутренность рубки.
— Здесь вы его не найдете, — сказал он, — прибор находится внизу. Это одна из последних новинок.
— Внизу?
— Да.
— В трюме?
— Даже глубже. Главная его часть — приемник — выведена наружу в подводной части судна.
На электроходе тем временем шла деятельная подготовка к шторму. Закрывались и плотно завинчивались иллюминаторы. Крепились шлюпки. С верхней палубы убирались шезлонги и плетеные кресла.
Распоряжения капитана и доклады из различных отсеков корабля передавались по радиотрансляционной сети.
Время от времени в динамиках слышался спокойный громкий голос, сообщавший новые данные о шторме! Это продолжал действовать прибор. Он уточнил, что шторм приближается с юго-запада. По мере подхода судна к району шторма прибор время от времени называл расстояние до него.
«Ожидается через тридцать минут», — сообщил он, наконец.
И тут раздался вдруг завывающий звук, похожий на голос сирены, включаемой во время тумана. На низкой басовой ноте, вибрируя, мощно и громко гудел, отражаясь во всех отсеках, сигнал тревоги.
Это заговорил УГМ — уловитель голоса моря.
Голос моря, преображенный умножителем колебаний и усиленный радиолампами, звучал на корабле, предупреждал и предостерегал.
Но… увы, приходилось с огорчением признать, что в этом предупреждении не было уже никакой необходимости. На корабле все были готовы к встрече бури.
Скоро пожаловал и шторм. Он явился в срок, довольно близко совпавший с тем, который был предсказан.
Большой корабль начал тяжело переваливаться сноса на корму, но автоматический рулевой твердо держал курс, не позволяя судну рыскать.
Завывал ветер, свистал в снастях, огромные волны толкали судно, многотонные удары обрушивались на его корпус, а в командирской рубке и в рубке штурмана шла тихая напряженная работа. Светились цветные лампочки и шкалы приборов, отмечая крен и напряжения, возникавшие в отдельных частях корпуса судна, слушались доклады команды и приборов, неторопливые распоряжения капитана, которые он отдавал, не повышая голоса. Четкая, слаженная работа, как в лаборатории при производстве важного опыта. Стихийным силам природы противопоставлялись спокойная решимость, воля людей, твердо уверенных в своих силах, могущество техники, которой вооружила их страна.
На миг я огляделся по сторонам. Огромные глыбы воды, зеленоватые и полупрозрачные, как льдины, толпились у бортов, тесня друг друга и захлестывая палубу. Временами казалось, что в стены рубки бьет тугая струя из брандспойта. Люди спокойно выполняли работу, словно все то, что творилось снаружи, не имело к ним никакого отношения.
Эта картина подлинного покорения шторма, настоящей власти человека над стихией ничем не напоминала читанные мною в детстве романы о морских бурях и кораблекрушениях, которыми я так увлекался.
Когда шторм миновал, и по океану, насколько можно было охватить взглядом, катились крупные с запрокидывающимися гребешками, но уже не страшные волны, я возобновил разговор с Алексеем Ивановичем.
— Так что же это за прибор, который так вовремя и точно предсказал вам непогоду?
Молодой штурман оторвался от карты, на которой автоматический определитель местоположения судна только что сделал очередную отметку, затем неторопливо занес в журнал координаты (прибор медленно, словно диктуя, произнес их вслух) и сообщил:
— Недавно выпущен у нас в Ленинграде. Институтом профессора Смородинова. Проходит испытания.
Так вот оно что! Собственно, я об этом догадался.
Разумеется, Смородинов не мог забыть тот вызов, который сделала науке обыкновенная медуза. Вот его ответ — серьезный, технически совершенный и, надо честно признать, блестящий!
— Ну, и как прибор, по вашему мнению? — спросил я Алексея Ивановича.
— Прибор ничего, — охотно ответил он. — Кое-что, конечно, не вполне удовлетворяет. Например, желательно, чтобы он предсказывал и примерный срок окончания шторма. Ну, и потом есть ряд других претензий, уже с точки зрения навигации. Все это учтут, наверное, при серийном изготовлении. Просили присылать отзывы. А так прибор ничего, обещающий…
Обещающий? Все-таки поразительна эта требовательность советских людей! Все им мало… А с другой стороны именно это-то и заставляет нас, техников, двигаться все время вперед.
С нетерпением стал я ждать встречи с Петром Ивановичем.
* * *
На даче, где мы сидели на веранде за круглым столом, было мирно и спокойно. Сосны чуть покачивали вершинами, ветерок гулял по саду, сдувая дождевые капли с гроздьев расцветшей сирени. Песок уже высыхал, и море, шагах в двухстах, осторожно, словно пробуя, трогало его своими волнами.
— А никакого секрета не было, — весело говорил Петр Иванович. — Я ведь еще тогда, на Черноморской станции, с Шавровым об этом условился. Мне сразу стало видно, что пошли они не самым лучшим путем. Сбила их с толку эта удача с радиозондом, с водородным шаром, — случайное в общем открытие. Они увлеклись им, построили металлический резонатор и не заметили, как пошли по пути гамаруса.
— Кого? — переспросил я, не сразу поняв, в чем дело.
— Гамаруса. Другими словами, морской блохи. А эта блоха, хотя и носит имя внушительное, как у средневекового ученого, не лучший аппарат из тех, что создала природа.
— Какой же «аппарат» лучше?
— Медуза, конечно.
— Почему? — я пожал плечами. Мне казалось, что тут сказывалось личное пристрастие профессора.
— А вы вспомните, — профессор укоризненно покачал головой, — медуза-то ведь гораздо раньше почувствовала приближение шторма, чем блоха! Неужели вы не обратили внимания?
Я сказал, что заметил, конечно, в свое время это обстоятельство, но в дальнейшем не придал ему как-то особого значения. Может быть, у одних животных более чувствительный воспринимающий аппарат, чем у других, только и всего.
— Дело не в одном только строении организма животных, — возразил Петр Иванович, — а и в среде. Это же так легко было догадаться! В воде все колебания, в том числе и инфразвуковые, распространяются быстрее, чем в воздухе. Вот почему до медузы они доходят быстрее, чем до морской блохи, живущей на суше.
— Если бы, — продолжал он, — на Черноморской станции подошли к вопросу аналитически, а не шли бы эмпирическим путем, как они делали, они, конечно, взялись бы за изучение условий прохождения инфразвуков именно в водной среде. Здесь, кстати, нет тех местных помех, на которые жаловался Шавров. Вы устранили эти помехи, вернее — уменьшили их, а можно было избежать их совсем. Признаться, меня удивило, что вы не заметили этой простой вещи, она так бросалась в глаза. Вот почему я без особого пыла, как вы говорите, рассматривал тогда ваш проект.
— Почему же, — воскликнул я, — вы не сказали мне этого сразу, тогда же?
Мне стало неловко: я вспомнил свое самомнение, свою тогдашнюю убежденность в том, что именно я (с большой буквы) нашел наилучшее решение. А мое любование собой, своей ролью человека, бескорыстно отдавшего другим ценнейшую идею, показалось сейчас просто отвратительным.
— Я не хотел охлаждать ваше стремление помочь Черноморской станции.
— Но какой смысл имела вообще работа над УГМ? Почему пятая лаборатория, занимавшаяся инфразвуками, не переключилась на новую тему?
— Какой вы скорый на решения! — пожал плечами профессор. — Ведь прибор типа «гамарус» был в принципе уже готов! Не мог же я сказать работникам пятой лаборатории: выкиньте из головы ваш прибор, пока я, профессор Смородинов, не придумаю другого, лучшего прибора, причем когда это будет и будет ли вообще, — никто не знает. Их прибор реально существовал, а мой был только идеей.
— Мы договорились с руководством станции, — продолжал Смородинов, — что пятая лаборатория будет продолжать работу над усовершенствованием своего прибора, а проблемой нового аппарата займется наш институт в Ленинграде. Но все время мы консультировались: у меня спрашивали советы насчет УГМ; я, в свою очередь, получал необходимые мне данные у Черноморской станции, имеющей большой опыт по изучению физики моря.
— Могли бы чиркнуть письмецо! — вырвалось у меня.
— Да ведь и вы не писали, — засмеялся Петр Иванович.
— Кстати, — добавил он вдруг, — я должен поблагодарить вас за одну идею. Мы осуществили ее.
— Мою идею? — удивился я.
— Ну, как же! О том, чтобы прибор докладывал о силе шторма и о времени его наступления.
— Откуда же вы узнали об этой моей идее? — воскликнул я.
— Да вы сами как-то рассказали мне о ней еще там, в санатории.
— Я только мечтал, а вы сделали!
— Зато другую идею, — продолжал Смородинов, не обращая на мое восклицание никакого внимания, — другую, тоже очень хорошую идею мы как-то недооценили. Это, конечно, наш промах.
Он с огорчением развел руками.
— Какую вторую идею?
Я посмотрел на Петра Ивановича.
— Вы ведь задавались целью построить физический прибор размером с блоху? Ну, не буквально, конечно, а, так сказать, в принципе. И, надо признать, УГМ действительно получился очень небольшим. А новая его модель, которая заканчивается на станции, — совсем крошечная: вроде приемника «Турист». Наша же установка, — Петр Иванович вздохнул, — здоровенная. Состоит из трех частей — очень громоздких.
— Да зачем же делать ее обязательно маленькой? — спросил я. — На корабле место найдется.
— На корабле-то найдется, а на лодке, скажем, нет. УГМ можно поставить в любом прибрежном колхозе, снабдить им любую рыболовецкую бригаду. Наша же установка — корабельная, а на берегу ее можно использовать только как стационарную. Она — для метеослужбы, а не для непосредственного пользования, как, например, барометр или термометр. Кстати, УГМ теперь и шторм предсказывает гораздо раньше, чем в первом варианте, — черноморцы придумали там много нового.
— Так что же получается? — сказал я. — Кто же был на более правильном пути? Вы или Черноморская станция?
Смородинов снова засмеялся.
— В науке не бывает так просто, — сказал он, по-стариковски щуря глаза. — Истина рождается в спорах. Собственно говоря, оба прибора находятся в таком состоянии, что их можно уже передавать заводам для серийного изготовления.
— Для серийного?
— Конечно.
— Но не для массового?
— Нет еще.
— Что же еще нужно?
— Работать, — весело воскликнул Петр Иванович. — Работать нужно!
— Чей же прибор, вы считаете, возьмет верх в конце концов в этом соревновании? — спросил я.
— Наш, конечно.
— Ваш? Ленинградский?
— Нет, наш.
— То есть?
— Наш с вами. Разве я вам не сказал? Ведь мы передали Черноморской станции все материалы нашего института, относящиеся к конструированию гидроуловителя голоса моря. В этом и заключалась наша помощь станции. Вы помогали ей, так сказать, индивидуально, ну, а мы коллективно. И в дальнейшем будем вместе с вами помогать. Все-таки они начали эту работу, они и продолжат ее. Пришла пора объединить силы уже и организационно.
— Но ведь вы не сможете приезжать на Черноморскую станцию. У вас масса дел в Ленинграде.
— А мне и не нужно приезжать. Туда поедут двое сотрудников нашего института. Ведь есть уже инженеры и научные работники — специалисты по конструированию приборов, улавливающих голос моря. Созданы кадры. Вот что самое ценное. И вам нашлась бы работа, — добавил он, вопросительно на меня поглядывая. — Вы согласились бы поехать на станцию?
Я вспомнил Костю Никитина, Безрученко, Черное море.
— Разумеется, — сказал я. — Но об этом нужно договориться с нашим институтом.
— Конечно, конечно, — заверил меня Петр Иванович. — Само собой разумеется. Важно получить ваше согласие.
* * *
Я шел по песчаной дорожке вдоль берега моря. Волны теснились у моих ног, выгибая свои гладкие спины.
Тишина могла смениться штормом, но он никогда уж не будет для нас внезапным. Задолго до его начала завоют и заговорят на судах в море и в различных точках на берегу приборы, созданные советскими людьми. У огромной стихии, занимающей две трети поверхности земного шара, навсегда вырвано самое опасное ее свойство — нападать неожиданно.
Но сейчас под впечатлением разговора с Петром Ивановичем думал не об этой победе техники, а о людях, создавших ее. Мне почему-то вспомнился тот страшно придирчивый сотрудник Черноморской станции, имени которого я так и не узнал. Затем передо мной возник облик Смородинова: сколько оживления вносит такой неугомонный и деятельный человек в любую тихую заводь и как это здорово, что хорошая инициатива у нас, словно снежный ком, обрастает мыслями, идеями и предложениями помощи со стороны самого широкого круга людей. И, наконец, какое это чудесное свойство — не успокаиваться на достигнутом, — воспитанное в советских людях и становящееся уже чертой их характера.
Океан лежал у моих ног, а я, глядя на уходящую за горизонт массу воды, думал:
«Погоди, брат, придет время, мы и страшную стихийную силу твою обратим на пользу человека — заставим таскать камни, размывать берег, где нам надо, насыпать пляжи, где мы сочтем необходимым, течь своими теплыми и холодными волнами туда, куда тебе прикажут.»
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления