Онлайн чтение книги
Озеро шумит. Рассказы карело-финских писателей
Петр Борисков
Родился в 1924 г. в с. Череватово Горьковской области, в крестьянской семье. Окончил педагогическое училище, ушел на фронт. Демобилизовали после контузии в 1942 г. В 1947 г. окончил факультет журналистики Уральского университета в г. Свердловске, работал корреспондентом, много ездил по стране. С 1948 г. — в Петрозаводске, член редколлегии журнала «Север». Литературную деятельность начал в 1953 г. Работает как драматург и очеркист.
Пьеса «В огненном кольце» (1957 г.) удостоена премии на Всероссийском конкурсе и поставлена в ряде городов страны.
Очерковая книга «Среди голубых озер» издана в Петрозаводске и в Москве. Издан сборник пьес «Время зовет».
С 1958 г. — член Союза писателей. За литературную деятельность награжден орденом «Знак Почета».
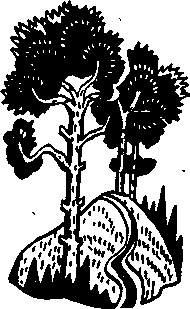
И старое, и молодое
Геологическая экспедиция разбила палатки на том берегу Селецкого, как раз напротив села. По ночам я вижу из окна огни костров. Геологи — все молодые люди и все небритые, обросшие. Старый финн, который там же рядом сторожит нижнюю биржу и бреется каждый день, шутливо предлагает: «Ножниц и бритвы у вас, что ли, нет, парни? Я принесу…»
Они ищут в древних горах полезные ископаемые. А какие — не говорят. И нашли что-то. Но что? Кажется, железо. Это будущее Сельги. И сами горы — тоже будущее Сельги. Лет через тридцать, когда кончатся здесь спелые леса, люди будут взрывать и перерабатывать горы. Возможно, и раньше люди примутся за них.
Мы об этом беседовали с учителем Пуукконеном. У него землистый цвет лица, он сухо и надрывно кашляет. К тому же у Ивана Семеновича больная нога, и он хромает. Однако учитель Пуукконен почти каждое утро с книгами и газетами едет к сплавщикам и лесорубам. И почему-то он больше всего любит говорить с ними о будущем.
— Может так быть, — сказал он мне, — что крупный поселок на том берегу вырастет. А если геологи на самом деле нашли что-то доходное, то и город!..
Но и на этом берегу озера, рядом со школой, разбиты палатки и по ночам горят костры. Я сплю на сеновале и, когда озеро спокойно, слышу, как поют у костров парни и девушки — ровесники геологам. Их интересует в Сельге только старина, они — научная этнографическая экспедиция; готовят монографию о жизни карел в девятнадцатом веке.
Вначале я очень удивился этому: почти с натуры будут писать о прошлом веке! Потом я перестал удивляться. Жизнь повсюду имеет три измерения: прошлое, настоящее и будущее.
Со Степаном Васильевичем, у которого я живу, идем по лесу. Лес молодой, веселенький лес, грибной и ягодный, и птиц много — он сменил собою столетних гигантов, пущенных в сплав в довоенные годы. С доброй надеждой и радостью шумит хвоей и листвой. Но в одном месте я ступил на папоротники и мхи, и вдруг земля подо мной заходила, разъехалась, и я по пояс провалился в яму. Выбрался и подумал, что угодил в медвежью берлогу, но увидел почерневшие бревна, и меня захолодило: в здешних лесах люди и сейчас еще подрываются на минах, замурованных в дзотах.
Степан Васильевич спокойно спустился в яму и стал раздергивать папоротники и мхи, приговаривая:
— Это, может, еще и моя хоромина. В двадцать седьмом году мы тут лес валили…
Это было жилье лесоруба.
С осени приходила артель в лес, ставила за вечер сруб из четырех бревен, сверху на жерди накидывались еловые ветки, из камней посередине земляного пола сооружался очаг. Люди не входили, а вползали в эту «хоромину», сидели согнувшись, подпирая шапками потолок, а спали вповалку, не снимая полушубков. Портянки сушили на камнях очага… Рядом с избушкой ставился шалаш для лошадей, на которых артель вывозила бревна к сплавным рекам.
Жили лесорубы в этих избушках до весеннего половодья. Если рубили лес далеко от Сельги, то приходили домой только за продуктами — сухарями, пшеном, соленой и вяленой рыбой.
Поперечная пила, лошадка и избушка в четыре венца, без окон. Так было совсем недавно, но все это уже позабыто. Бараки стали строить для лесорубов в первую пятилетку, первая электропила появилась в 1947 году. И об этом редко кто вспомнит.
…Когда сказал этнографам о яме, в которую провалился, они обрадовались, побежали обмерять и зарисовывать такую завидную находку.
Часов девять утра. Улица давно опустела. Тихо и лениво плещется озеро. Жужжат мухи, летают слепни вокруг лошадей, те фыркают, крутят гривастыми сытыми шеями и небрежно отмахиваются иссиня-черными хвостами.
Лохматый этнограф в яркой клетчатой безрукавке навыпуск, в узких брюках и сандалетах на толстой каучуковой подошве рисует полуразвалившуюся баню, которую дядя Степа, занятый другими делами, не успел разобрать на дрова. Впритык к ней месяц назад он срубил новую баню. В тени под елкой сидят две собирательницы старины с прическами, каких пока нет в Сельге, а есть только в больших городах, и переводят с карельского плачи и причитания о покойниках.
Часть студентов и аспирантов из экспедиции отправилась с лопатами на кладбище, другие — на улицу Прякеля фотографировать и обмерять древние избы.
Этнографы знают, кто я, и с некоторых пор мы конфликтуем, особенно с этим лохматым художником. Сейчас он говорит:
— Все спит. Все мертво. Даже не верится, что где-то расщепляют атом, есть биокибернетика, Уланова и Пикассо, что человек уже вырвался из земного притяжения и над головой этого же человека, как дамоклов меч, висит водородная бомба.
Да, конечно, на улицах Сельги очень тихо и сонливо в ясные дни.
— Андрюша, а чего ты хочешь? — вступает в разговор девушка с красивеньким личиком, в юбке колоколом и босоножках с большими медными пряжками. Я никак не могу привыкнуть к ее прическе: кажется, что ее волосы взъерошил ветер или она забыла с утра причесаться. — До ближайшей станции полтораста верст, а станция называется Медвежья Гора. Пока доплетется сюда современность, будет усталой и сморщенной старушкой.
Я с ними не спорю, я соглашаюсь снисходительно и шутливо, и это их сердит. Я не защищаю Сельгу: в основном они нападают на нее из-за того, что ревнуют меня к своей старине.
В южном конце я был в гостях у родни Степана Васильевича и услышал быличку:
«Шел как-то сележскии мужик по лесу. Из себя, как ты, как я или как он, — простой мужик. На работу шел. Встречает иноземцев, идут и идут — видимо-невидимо… В котомке у моего-то соседа хлеб, значит, был и Правда. За поясом, конечно, топор. Выходит из-за деревьев и спрашивает:
„Путь куда держите?“
Мужика схватили, топор из-за пояса выдернули и пояс оборвали. Над головой мужиковой иноземцы-то мечи подняли.
„Идем, — говорят, — жечь и громить родное твое село Сельгу. А ты, если не хочешь помереть, веди нас, показывай, где эта Сельга…“
Он их повел. И привел к двум горам. Раз Правда-то при нем была, развел только в сторону руками, и горы разошлись. Образовалась яма аж до преисподней. Они туда и загремели с ружьями, со всем. Горы сошлись, как были, а иноземцев — как не было… Солнышко светит, птички поют. Мужик, сосед-то мой, пошагал своей дорогой на работу, значит…»
Я отдал эту быличку этнографам, сказав, что она пригодится и мне и им.
Родни у Степана Васильевича половина Сельги, и в моих записных книжках много пословиц и поговорок, какие собрали и этнографы. Только я опять не понимаю, зачем им сердиться? Эти пословицы и поговорки годятся и для монографии о девятнадцатом веке, но они же великолепно обслуживают и современность. Значит, они и мои!
— Не знаю, не знаю, — опять начинает лохматый художник. — Ходите в те же избы, в каких и мы бываем, но мы никакой современности там не видим.
— Да, да, Андрюша, — говорю я ему. — Запиши, пожалуйста, поговорку. Я добрый — дарю: «Мужик был в лесу, собирал мох, а деревьев не увидел, потому что собирал мох».
Из-за стогов сена, понаставленных на берегу, стало видно, как разворачивался от пристани сплавной теплоход. На борту в опрятной синей спецовке стоял знакомый мне матрос Иван. Весной этот парень ездил в Ленинград на соревнования авиамоделистов и демонстрировал модель самолета У-2, управляемую по радио. Собиратели старины об этом, конечно, не знали. Матрос Иван махал нам рукой и кричал что-то. Этнографы даже не посмотрели на озеро — занимались своим делом.
Теплоход шел в устье реки и возле каменистого островка стал обгонять своих помощников — два водометных катера, которые, как два муравья, волокли за собой километровый оплотник.
— Посмотрите, бодрые задиры, — сказал я весело. — На озеро посмотрите, чертовы стиляги! — обозвал я этнографов, хотя они никакие не стиляги: ходят по селу со скромным достоинством, разговаривают с бабушками уважительно, и их радушно приглашают сележцы почаевничать, а по воскресеньям — отведать стряпни.
— Да, — сказал Андрюша. — Это, конечно… материал не для нашей монографии.
Андрюша только теперь заметил: к столбику, возле которого он стоял и на который иногда садился, рисуя полуразвалившуюся баню, одной цепью привязаны старинная неуклюжая весельная лодка и современная, покрашенная синей краской, очень легкая на ходу моторка. Он только сейчас это заметил.
Пришла бабка Федосья, которая первой сказала мне у автобусной остановки: «Счастливой дороги. Золотая гора тебе навстречу». Пришла и расплакалась: председатель сельского Совета не выдает ей справку, что она проживает в Сельге. Вначале я не понял и подумал: «Федосья путает что-то на старости лет. И для чего ей такая справка?»
Старушке пришлось рассказать печальную историю о муже-партийце, который погиб где-то в снегах Колымы и сейчас посмертно оправдан…
Видимо, ни одна большая радость и ни одно большое горе не обходят стороной далекую Сельгу.
За погибшего мужа Федосье положена пенсия, и она давно получала бы пенсию, но нет у нее одной-единственной справки.
— Почему все-таки не выдает председатель справку?
— Из принципа. — Слово «принцип» в Сельге понимают как каприз и тупое упрямство. — Принцип поставил. Пускай, говорит, организация сама запросит документом, что ей требуется такая справка.
Новое здание, на нем большой красный флаг. Председатель в поношенной солдатской гимнастерке, прихрамывает, и я понял, что у него безупречная биография. Милый, что же это ты над старухой-то издеваешься? Сколько она слез из-за тебя пролила?
Он писал справку молча, сердито выставив вперед нижнюю губу. И мы с Федосьей сидели молча. Я думал. «Оказывается, и под красный флаг может забраться старина, девятнадцатый век…»
Этнографы собирают также рассказы о юродивых и дурачках. Когда-то их было много в глухой Сельге, но теперь лишь старушки помнят о них. Нет больше. Не родятся.
О лености мысли и медвежьей неповоротливости минувшего века этнографы тоже собрали мешок всяких былей — смешных и печальных.
Ну, а вот этот случай — это какой век?
…В новой сележской пекарне выпал в печке кирпич. Пожарник тут как тут — составляет акт и опечатывает пекарню. Все по закону. В магазине шестой день нет хлеба. Продавец не виноват. Муку тоже не продают, хотя ее навалом в пекарне. Тут тоже — кого винить? Нужно чье-то разрешение. Без разрешения продавать муку из пекарни нельзя.
Привезли, наконец, хлеб из поселка Гумарино — по буханке на семью. Некоторыми это было расценено как инициатива и находчивость. Я решил узнать, почему все-таки не поставят другой кирпич на место выпавшего?
Оказывается, сельповцы, председатель сельского Совета и другое начальство никак не могут договориться между собой: кто из них виноват, что Сельга сидит без хлеба, и кто должен дать деньги на ремонт печки. Шестой день они спорят также и о том, что, может, вообще не стоит ремонтировать эту злополучную печку, из которой выпал кирпич, а застеклить окна в старой пекарне и туда перевести пекарей… В Сельге не одна, а две пекарни.
Пока они до умопомрачения спорят, приходится обедать с сухарями. В некоторых семьях и сухарей нет.
Ой, леность ума и медвежья неповоротливость, до чего же вы, окаянные, живучи!
Учителя Пуукконена увезли в больницу. Это было неожиданностью для Сельги. И только сейчас все увидели, что неутомимый и добрый Иван Семенович всю жизнь работал, не думая о себе, до полного износа.
Через неделю я поехал к нему в больницу. Иван Семенович встретил меня словами:
— Прошусь, чтоб выписали.
В глазах учителя блестела смешинка, и они не были такими усталыми, как обычно, и вообще у Ивана Семеновича вид отдохнувшего человека. На стуле горкой лежали книги и раскрытая тетрадь, в которую он заносил план своей очередной беседы с лесорубами и сплавщиками.
— Где у вас эта постыдная бумажка?
Когда за ним приехала «Скорая помощь», тайком от жены он написал на всякий случай записку: в каких организациях взять справки на пенсию для детей.
— Как велели, — сказал я, радуясь, что ему лучше, — передали директору школы.
— Смалодушничал, брат. А мне вдруг полегчало. Видишь, и дышу полной грудью. — Он несколько раз набрал и выдохнул воздух. — И болей нет. Без операции обойдусь. — Но говорить ему тяжело, и лоб у него мокрый. — А жизнь промелькнула. Обидно, брат. Пятьдесят два года. Дети… Младший в школу еще не ходит. И все кажется, будто бы и жил-то на свете всего один день.
Я стал уверять, что он поправится и что вообще он много хорошего сделал для людей…
В самом деле, когда Иван Семенович начинал работать учителем и избачом, в карельских деревнях редко в какой семье могли прочитать полученное письмо, а в некоторых глухих деревушках, где довелось ему организовывать школы, грамотных вообще не было. Он учил детей, их матерей и отцов. Случалось, что за одной партой с внуками сидели их деды и бабушки и выводили крупными буквами: «Мы — не рабы…»
Он попросил меня рассказать, как Москва встречала Гагарина. В те дни я вместе с москвичами был на Красной площади, а после видел и слушал космонавта на пресс-конференциях.
— Новый человек пришел на землю. Пришел… Посмотри, и у нас в Сельге какая молодежь! — И вдруг Иван Семенович почему-то стал хаять себя за то, что всю жизнь был слишком добрым, часто без разбора, добрым и с теми, с кем нельзя было быть добрым. — Я ни с кем никогда не повздорил. Характер вот такой. А это ведь плохо. Выпишут из больницы, исправлюсь, — весело сказал он и тут же опять стал сердиться на себя, как будто это он сам был виноват во всех недостатках, недоделках и упущениях. — Не ведется, как надо, восстановление лесов. Как тут можно быть добреньким и не кричать во всю ивановскую! В подсобном хозяйстве сколько лугов остаются к зиме нескошенными! А отчего это? Леспромхоз смотрит на сельское хозяйство как на обузу, которую ему навязали. И порядка нет.
Когда его выпишут, он собирался из больницы идти в контору леспромхоза, которая находилась в этом же селе, и поговорить обо всем, что накипело, по-партийному… Однако я спросил врачей:
— Скоро ли поправится Иван Семенович?
— Плохо дело у Ивана Семеновича. Очень плохо…
Я все-таки этому не хочу верить. Ему же стало лучше! А самое главное — человек, который всего себя отдает людям, должен жить. Он должен долго жить!..
Теперь уже я ревную этнографов: кроме отжившей или отживающей старины, они вдруг начали собирать для своей монографии самую настоящую современность. Мою современность, которая нужна мне для очерка, для повести…
Как-то на рыбалке мы со Степаном Васильевичем ночевали в лесной избе, срубленной на берегу глухой ламбушки. Печка, полати, тесовый пол. Чисто, опрятно. Кто-то приготовил колотых дров, бересту для растопки и спички. В железной банке на подоконнике — щепотки две чаю, в сумке, висящей на гвоздике, — сухари.
Мы пришли в избушку поздно вечером и сразу затопили печку готовыми дровами. Поужинав, полезли на полати — на пахучую постель из еловых веток.
Утром, прежде чем покинуть жилье, мы накололи сухих дров взамен израсходованных и заменили еловые ветки на полатях. Степан Васильевич досыпал чаю в железную банку.
Сколько их, таких гостеприимных избушек, попадается в глухих карельских лесах, по берегам рек и озер, и не сосчитать!
Кто-то, конечно, их строил, но избушки ничьи. Хозяин тот, кто ночует, он пользуется всем, что есть в избушке, и оставляет из своих запасов что-нибудь для людей, которые придут после него.
Если кто пожелает, может и все лето жить в лесной избе на берегу красивой ламбушки с тихой голубой водой или темно-коричневой, густой, как чай, или такой прозрачно-светлой, что на пятнадцать метров видно дно и плавающих рыб. Разная здесь вода в ламбушках. Только если все лето станете жить, не считайте избушку уже своей, ночевать пускайте и других, кто бы ни пришел к вам.
Так вот, лохматый Андрюша отнес эти избушки к девятнадцатому веку — и старые, и срубленные даже нынешним летом. Да и старым-то всего по десять-пятнадцать лет.
Я сказал ему, что он меня «обворовывает».
— Такие избушки были и в девятнадцатом веке, — ответил Андрюша.
Студенты и этнографы, раздобыв резиновые сапоги и телогрейки, ездят в лес и на сплав.
В лесу гром стоит от техники. На сплаве тоже — катера, лебедки, тракторы. Правда, на реках сплавщикам, как и встарь, приходится подталкивать баграми плывущие бревна и следить, чтобы не было заломов.
— Собираем материал о трудолюбии, — пояснил Андрюша и поучительно добавил: — Трудолюбие было присуще карелам и в девятнадцатом веке.
И еще много «моего материала» взяли они в свою монографию.
Этнографы заставили меня задуматься, что и наше время будет когда-нибудь стариной. Да! Например, в 2062 году. Но из этой нашей старины что-то войдет в ту далекую современность. Многое войдет… Мусор, наносное и придуманное только на день, отсеется, канет в лету, а ценности непроходящие, все самое лучшее, святое святых, переймут и будущие люди.
Наверно, это везде так, но в Сельге особенно видно, как века в чем-то не согласны между собой и спорят насмерть. Конечно, в этом споре победит молодое, но в чем-то до поры до времени они сосуществуют, как две лодки — весельная и моторка, привязанные одной цепью к одному столбу. Старое далеко не все никуда негодное, и в чем-то девятнадцатый век и двадцатый живут дружно, как любящие друг друга братья.
Мерцает холодная ночь холодными звездами. Они маленькие здесь, в Сельге, в бездонно высоком чернильном небе. От нашей елки наискосок к тому берегу пролегла сияющая лунная дорога. Озеро шумит, и я слышу в этом шуме среди уснувших темных изб песнь о нескончаемости жизни.
На том и на этом берегу горят костры.
Интересно, что нашли геологи?
1962 г.
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления