Онлайн чтение книги
Париж
Paris
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
I
В это тихое утро в конце марта, когда Пьер уходил с Гильомом из своего домика в Нейи, пожелав проводить брата до Монмартра, у него болезненно сжималось сердце при мысли, что он вернется домой один и снова будет переживать свою катастрофу и душевную опустошенность. Он не спал ночь, в душе его накипела горечь, и он через силу улыбался, скрывая свои страдания.
Погода была ясная и мягкая, и братья решили совершить пешком длительную прогулку по внешнему кольцу бульваров. Было девять часов, когда они вышли из дому. Пьеру доставляло удовольствие сопровождать старшего брата, который с улыбкой предвкушал радостное удивление своих близких, с которыми он свидится, словно вернувшись из путешествия. Он не известил их о своем возвращении. После разлуки с родными он лишь время от времени посылал им письма, сообщая о своем здоровье. Ни один из сыновей не навестил его, соблюдая осторожность и исполняя волю отца, а девушка, на которой он собирался жениться, благоразумно ожидала, спокойная и сдержанная.
Когда они поднялись наверх по залитым солнцем склонам Монмартра, Гильом, у которого был при себе ключ, тихонько вошел в дом. На спокойной, совсем провинциальной площади Тертр маленький домик, казалось, спал глубоким мирным сном. Он был такой же, как в тот день, когда Пьер впервые увидел его — тихий, приветливый, словно овеянный нежной лаской. Братья прошли через нижний этаж, по узкому коридору, в конце которого раскрывался безбрежный горизонт Парижа. Потом они пересекли садик, состоявший теперь всего из двух сливовых деревьев и куста сирени, на котором уже зеленели листья. И на этот раз Пьер заметил три велосипеда, прислоненных к стволам слив. Вот и она, просторная мастерская, где проводит дни вся семья, веселая и располагающая к серьезным занятиям комната, из широкого окна которой виднеется целое море крыш.
Гильом дошел до мастерской, никого не встретив по дороге. С шутливым видом он приложил палец к губам.
— Внимание, маленький Пьер! Сейчас увидишь.
Отворив бесшумно дверь, они на минуту остановились на пороге.
В мастерской находились лишь трое сыновей. Том а стоял у наковальни и при помощи сверлильного станка проделывал дырочки в медной пластинке. В другом углу, перед окном, по бокам большого стола, сидели Франсуа и Антуан, один весь ушел в чтение, а другой с резцом в руке заканчивал гравюру на дереве. Целый поток веселых солнечных лучей заливал комнату, где в живописном беспорядке были нагромождены самые разнообразные предметы и орудия труда, среди которых на рабочем столике, заваленном женскими рукоделиями, красовался пышный букет левкоев. Молодые люди напряженно трудились. В мастерской была какая-то торжественная тишина, слышалось только тонкое посвистывание сверлильного станка.
Хотя Гильом неподвижно стоял на пороге, сыновья словно почувствовали его приход. Все трое вдруг встрепенулись и одновременно подняли голову. У них вырвался радостный крик, и в единодушном порыве юноши кинулись ему на шею.
— Отец!
А он, сияя от счастья, крепко их обнял и поцеловал. И это было все — никаких особых нежностей, никаких лишних слов. Казалось, он только накануне ушел по делам и, задержавшись на ночь, возвращается домой. Он смотрел на них, улыбаясь, и трое юношей отвечали ему улыбкой, глядя в глаза отцу; в этом взгляде выразилась вся их любовь и беззаветная преданность.
— Входи же, Пьер. Пожми руку этим молодцам.
Священник все еще стоял на пороге, испытывая какую-то странную неловкость и смущение. Племянники крепко тряхнули его за руку. Потом, не зная, что ему делать, чувствуя себя не в своей тарелке, он уселся в сторонке у окна:
— Ну, что, малыши, где же Бабушка и Мария?
 Бабушка только что поднялась к себе наверх.
Бабушка только что поднялась к себе наверх.
А девушке захотелось самой пойти на рынок. Она очень это любила и уверяла, что только она одна умеет купить свежие яйца и масло, пахнущее орехами. К тому же она иногда приносила оттуда какие-нибудь лакомства или цветы и радовалась, что она такая хорошая хозяйка.
— Так все благополучно? — продолжал Гильом. — Вы довольны? Работа идет хорошо?
И он стал расспрашивать сыновей, как человек, вернувшийся к повседневным привычкам. Грубоватое добродушное лицо Том а расплылось в улыбке, он рассказал в двух словах о своих последних работах над маленьким двигателем, добавив, что теперь он уже наверняка его сделает. Франсуа, напряженно готовившийся к очередному экзамену, пошутил, сказав, что ему надо еще втиснуть себе в мозги целую кучу всякой премудрости. Антуан показал гравюру, которую он заканчивал, где была изображена его подруга Лиза, сестра скульптора Жагана, сидящая за книжкой в саду на солнце, прелестное цветущее существо, которое он пробудил своей любовью от умственной спячки.
Продолжая разговаривать с отцом, юноши уселись на свои места и снова принялись за работу. Это было естественно, они выросли в суровой дисциплине, для них трудиться и значило жить.
Гильом с радостным лицом переходил от одного к другому, рассматривая их работы.
— Ах, если бы вы знали, малыши, сколько материала я подготовил, сколько вопросов выяснил, пока лежал в постели! Я даже сделал немало заметок. Мы пришли пешком, но на фиакре привезут все мои бумаги, а также платье и белье, которое мне прислала Бабушка… Как я рад, что здесь все по-старому и я могу вместе с вами продолжать свою прерванную работу. Эх, руки чешутся!
Он уже расположился у себя в углу. Между наковальней и окном ему было отведено порядочное место, где находилась тигельная печь, застекленные шкафы, полки, уставленные приборами, и длинный стол, на одном конце которого он обычно писал. И он уже вступил во владение своим маленьким миром, оглядывал свою лабораторию, радуясь, что всё в полном порядке, жадно перебирал эти привычные предметы, ощупывал их и, глядя, как трудятся сыновья, хотел и сам поскорей приступить к работе.
Но вот наверху, на лесенке, ведущей на второй этаж, появилась Бабушка, на редкость прямая, спокойная и серьезная, в своем неизменном черном платье.
— Это вы, Гильом? Не подниметесь ли вы ко мне на минутку?
Он взошел по лестнице, догадываясь, что она хочет ему что-то сообщить, поскорей его успокоить, сказав все, что нужно, без свидетелей. Речь шла об опасной тайне, которую они с Бабушкой строго оберегали. Это было единственное, что он скрывал от сыновей, самая важная для него вещь, о которой он все время думал после взрыва и жестоко терзался, опасаясь, что его секрет откроют и он станет всем известен. Наверху, у себя в комнате, Бабушка дала ему полный отчет, показала хранившиеся в тайнике возле ее кровати патроны с новоизобретенным взрывчатым веществом и чертежи орудия, обладающего огромной разрушительной силой. Там все было в полной сохранности; чтобы овладеть его изобретением, пришлось бы убить Бабушку или же взорвать дом вместе с ней. Со свойственным ей скромным героизмом она спокойно вручила ему ключ, принесенный ей Пьером на другой день после происшествия, и Гильом снова вступил во владение этим страшным сокровищем.
— Надеюсь, вы ни о чем не беспокоились?
Он взял ее руки и крепко их пожал, выражая свою нежность и глубокое уважение.
— Я беспокоился только об одном — что полицейские нагрянут сюда и обойдутся с вами грубо… Я поручил вам хранить мою тайну, и вы докончили бы начатое мной дело, если бы меня не стало.
Между тем Пьер сидел неподвижно у окна, испытывая все возрастающую неловкость. В этом доме все относились к нему очень сердечно. Почему же у него такое чувство, что здесь и вещи и люди враждебны ему, когда все готовы принять его как родного? И он терялся в присутствии этих тружеников, проникнутых единой верой, ведь он-то больше ни во что не верил и ничего не делал. Он наблюдал, как усердно и весело работали трое братьев, и в нем поднималось какое-то глухое раздражение. И в довершение всего вдруг появилась Мария.
Она вошла радостная, полная жизни, с корзинкой на руке, и сперва не заметила его. Казалось, вместе с ней в комнату ворвалось яркое весеннее утро. Гибкая, широкогрудая, она всем своим существом излучала молодость. Ее розовое лицо, обрамленное темными прядями густых волос, так и сияло. Пьер увидел ее тонкий нос, высокий умный лоб и пухлый добродушный рот. Ее карие глаза смеялись, она дышала радостью и здоровьем.
— Посмотрите-ка, мальчики, — крикнула она, — чего я накупила! Идите сюда, мне не захотелось распаковывать корзинку на кухне.
Юноши должны были подойти: они обступили стол, на который она поставила корзину.
— Прежде всего масло. Понюхайте-ка его, правда, оно пахнет орехами? Его сбивали специально для меня… А потом яйца. Ручаюсь, что они снесены только вчера. А это вот сегодня. И еще котлеты. Ну что, правда замечательные у меня котлеты? Уж мясник постарался для меня… А потом свежий сливочный сырок из самых лучших сливок, чудо что такое!.. А вот сюрприз, это уже лакомство, редиска, прелестная розовая редисочка! Редиска в марте месяце, что за роскошь!
Девушка торжествовала. Она была превосходная хозяйка, знала цену вещам, недаром прошла в лицее Фенелона полный курс кулинарии и домоводства. Братья радовались вместе с ней и поздравляли ее с удачными покупками.
Но вдруг она увидела Пьера.
— Как, вы здесь, господин аббат! Прошу меня извинить, я вас не заметила… Как здоровье Гильома? Надеюсь, вы принесли нам хорошие новости?
— Да ведь отец вернулся, — сказал Том а . — Он наверху, у Бабушки.
Взволнованная Мария стала складывать припасы назад в корзину.
— Гильом вернулся! Гильом вернулся!.. А вы мне ничего не сказали! И дали выложить все из корзины!.. Хороша же я! Хвастаюсь перед вами маслом и яйцами, когда Гильом дома!
Как раз в это время Гильом спускался с лестницы вместе с Бабушкой. Мария весело подбежала к нему и подставила для поцелуя ему щечку, потом другую.
Затем положила ему руки на плечи, поглядела на него долгим взглядом и проговорила с легкой дрожью в голосе:
— Я рада, очень рада видеть вас, Гильом! Теперь я могу вам признаться: я боялась вас потерять, очень за вас беспокоилась, и мне было так тяжело.
Хотя она продолжала улыбаться, на глазах у нее заблестели слезинки, а он, взволнованный и тронутый, проговорил, снова ее целуя:
— Милая Мария!.. Как я счастлив! Я опять с вами, и вы все такая же красивая, такая нежная!
Их встреча показалась Пьеру холодноватой. Он ожидал, что жених и невеста, которых несчастный случай разлучил накануне свадьбы, будут проливать слезы и сжимать друг друга в страстных объятиях. Его также оскорбляла разница в возрасте, хотя его брат был еще очень крепким и выглядел совсем не старым. Эта девушка решительно ему не нравилась. Она была чересчур здоровой и спокойной. Когда она вошла, ему стало уже совсем не по себе, захотелось поскорее уйти и больше не возвращаться. Она была ему так чужда; он чувствовал себя гостем в доме брата, и это причиняло ему настоящее страдание.
Он встал и начал прощаться, ссылаясь на то, что у него дела в городе.
— Как! Ты не остаешься позавтракать с нами? — воскликнул удивленный Гильом. — Но мы же условились, ты не захочешь меня огорчать… Ведь теперь это твой дом, милый братец.
Все в один голос стали его уговаривать с таким искренним чувством, что ему пришлось остаться. Он снова сел и молча, в странном смущении наблюдал за этими людьми, которые были его родными и в то же время такими далекими.
Только что пробило одиннадцать часов. Все продолжали работать, время от времени весело переговариваясь между собой. Тут одна из служанок пришла за корзинкой с провизией. Мария наказала, чтобы ее позвали варить яйца всмятку. Она уверяла, что знает замечательный способ и умеет так их сварить, что белок будет густой, как сметана. По этому поводу Франсуа отпустил несколько шуточек, он любил ее поддразнивать, когда она хвалилась полезными сведениями, приобретенными ею в лицее Фенелона, куда отец поместил ее в двенадцатилетнем возрасте после кончины матери. Но она не оставалась в долгу и, в свою очередь, подшучивала над ним, уверяя, что он теряет время даром в своей Нормальной школе, где ему вбивают в голову всякую абракадабру.
— Эх вы, большие вы младенцы, — сказала она. — Это меня прямо удивляет: вы все трое такие развитые, свободомыслящие, а между тем вам не совсем по душе, когда девушка вроде меня получает образование в лицее, не отставая от мальчиков. Что это? Борьба полов, соперничество и конкуренция?
Юноши стали протестовать, поклялись, что они чрезвычайно сочувствуют женскому образованию. Она прекрасно это знала, но тоже не упускала случая их поддразнить.
— Нет, нет, дети мои, — в этом отношении вы очень отстали… Мне известно, что благонамеренная буржуазия недовольна женскими лицеями. Во-первых, преподавание носит там исключительно светский характер, и это беспокоит многих родителей, которые считают, что девочки должны получать религиозное воспитание и усваивать принципы морали. Во-вторых, лицей проникнут демократическим духом. Там обучаются девочки из самых различных слоев общества: дочка дамы, живущей в бельэтаже, встречается с дочкой консьержки, и они становятся подругами, ведь сейчас так широко раздают стипендии. Наконец, девочка выходит из-под влияния семьи, у нее развивается инициатива. Программы, включающие множество предметов, повышенные требования, какие предъявляют на экзаменах, все это, безусловно, содействует эмансипации молодой девушки, из которой со временем выйдет женщина будущего. А между тем все вы мечтаете о новом обществе, правда, дети?
— Ну конечно, — воскликнул Франсуа. — Мы все этого хотим!
Она грациозно махнула рукой и спокойно продолжала:
— Я пошутила… Вы же знаете, что я человек простой и у меня не так много требований, как у вас. О, все эти притязания, эти женские права! Их даже незачем доказывать, женщина ничуть не ниже мужчины, только ей приходится считаться со своим организмом. Но единственно, что важно и что труднее всего — это понимать и любить друг друга. И все-таки я очень счастлива, что приобрела все эти знания. О, я не кичусь своей ученостью, но отлично сознаю, что все это сделало меня здоровой, придало мне смелости в жизни как в нравственном, так и в физическом отношении.
Она очень любила вспоминать годы, проведенные в лицее Фенелона, с увлечением рассказывала о том, как усердно она училась, как резвилась во время перемен, как отправлялась с подругами за город, где они бегали как сумасшедшие по полям и лесам с развевающимися на ветру волосами. Из пяти парижских женских лицеев лицей Фенелона был самым популярным. Там бросали вызов предрассудкам и условностям, поэтому учились исключительно дочери чиновников, преимущественно дочери педагогов, которые сами собирались стать учительницами. Окончив лицей, эти девушки должны были получить диплом в Севрской нормальной школе. Но хотя Мария блестяще окончила курс в лицее, у нее не было никакого призвания к педагогической деятельности. Когда же умер ее отец, не оставив ничего, кроме долгов, и она могла оказаться на улице без всяких средств, Гильом взял ее к себе и не захотел, чтобы она бегала по урокам. Она была на редкость искусной вышивальщицей и кое-что зарабатывала, желая иметь свои карманные деньги.
Гильом с улыбкой слушал, не вмешиваясь в разговор. Он полюбил Марию за ее искренность, за ее прямоту, его пленяла эта уравновешенная, благородная и сильная натура. Она знала все. Но если ей недоставало девической сюсюкающей наивности, то она отличалась сердечной чистотой, честностью мысли и подлинной невинностью, хотя смотрела на жизнь широко открытыми глазами и была чужда показному благонравию, за которым скрывается испорченность и страстное желание проникнуть в запретную область. Эта цветущая спокойная девушка была чиста душой, как ребенок, хотя ей уже стукнуло двадцать шесть лет; по малейшему поводу она вспыхивала до корней волос, хотя и досадовала на себя.
— Милая Мария, — сказал Гильом, — вы же видите, что дети шутят, и вы, конечно, правы… Никто лучше вас не умеет сварить яйца всмятку.
В его словах звучала такая нежность, что девушка невольно зарделась. Она почувствовала это и совсем побагровела. Заметив, что юноши лукаво посматривают на нее, она рассердилась на себя.
— Не правда ли, господин аббат, это смешно, — сказала она, обернувшись к Пьеру, — я старая дева и вдруг так краснею! Можно подумать, что я совершила какое-то преступление… Знаете, дети нарочно меня дразнят, чтобы вогнать в краску… Мне до смерти не хочется, но я краснею, сама не зная почему, это сильней меня.
Бабушка подняла глаза от рубашки, которую она чинила без очков, и спокойно сказала:
— Ничего, моя милая, это очень хорошо: это твое сердце гонит кровь к щекам.
Приближалось время завтрака. Решено было, что накроют стол в мастерской, как обычно делали, когда приходил кто-нибудь в гости. Было так хорошо сидеть с близкими людьми в залитой солнцем комнате, за столом, накрытым белой скатертью, и простой завтрак казался необычайно вкусным. Девушка сама принесла из кухни яйца, накрытые салфеткой, и они всем чрезвычайно понравились. Не меньший успех имела редиска с маслом. После котлет на десерт был подан сливочный сырок, и все уверяли, что никогда в жизни не ели такого сырка. А за окном от края и до края простирался необъятный Париж, и до них долетал его глухой рокот.
Пьер попытался было пошутить, но потом опять замолчал. Гильом, заметивший в саду три велосипеда, спросил Марию, куда она ездила этим утром. Оказывается, Антуан и Франсуа прокатились вместе с ней по направлению к Оржемону. Только неприятно было на обратном пути втаскивать велосипеды на гору.
Мария смеялась, уверяя, что после этого она крепко спит и не видит дурных снов. По ее мнению, велосипед имел множество достоинств. При этих словах священник изумленно взглянул на нее, и она обещала, как-нибудь развить ему свою мысль. К его досаде, до самого конца завтрака речь шла о велосипедах. Том а стал распространяться об усовершенствованных велосипедах новейшего образца, выпускаемых заводом Грандидье. Сам он стремился создать особого типа велосипед, о котором все уже давно мечтали, с переключателем, позволяющим на ходу легко изменять скорость. Затем молодые люди и девушка стали вспоминать о прошлых своих прогулках и мечтать о будущих. Веселые, жизнерадостные, они напоминали учеников, вырвавшихся из школьных стен на свежий воздух.
Бабушка, величаво, как королева-мать, сидевшая на почетном месте, наклонилась к своему соседу Гильому и шепнула что-то ему на ухо. Пьер догадался, что она говорит о свадьбе, которую собирались отпраздновать в конце апреля, но теперь пришлось значительно отсрочить. Этот благоразумный союз должен был обеспечить счастье всей семье и был задуман отчасти ею, отчасти сыновьями Гильома. Отец никогда не дал бы волю влечению своего сердца, если бы его родные не приняли и не полюбили девушку, которую он взял к себе в дом. В настоящее время по целому ряду соображений следовало назначить свадьбу на самый конец июня.
Мария услыхала слова Бабушки и быстро к ней повернулась.
— Не правда ли, моя милая, — спросила ее Бабушка, — конец июня самое подходящее время?
Пьер ожидал, что девушка густо покраснеет. Но Мария сохраняла спокойствие, она испытывала к Гильому самые лучшие чувства, глубокую благодарность и беспредельную нежность и считала, что она очень разумно поступает, выходя за него замуж, что это будет хорошо для нее и для других.
— Превосходно, — ответила она, — пусть будет в конце июня, я не возражаю.
Сыновья сообразили, в чем дело, и выразили свое согласие кивком головы.
Когда встали из-за стола, Пьер решил непременно уйти. Почему все было ему так мучительно — и сидеть за завтраком, слушая непринужденную дружескую беседу, и наблюдать, как вся семья радуется возвращению отца, а главное, видеть эту девушку, такую спокойную и жизнерадостную? Она его раздражала, и ему становилось невыносимо тяжело. И снова он заявил, что у него множество неотложных дел. Потом он пожал протянутые к нему руки юношей и обменялся рукопожатием с Бабушкой и Марией. Обе они смотрели на него с симпатией, но несколько удивлялись его поспешному уходу. Гильому не удалось удержать брата; с озабоченным и огорченным лицом он пошел его провожать и остановил в садике, решив вызвать на откровенность.
— Послушай, что с тобой? Почему ты убегаешь?
— Решительно ничего, уверяю тебя. У меня спешные дела, вот и все.
— Оставь, пожалуйста, я вижу, что это только предлог… Неужели же кто-нибудь из нас тебе неприятен или обидел тебя? Вскоре они все тебя полюбят, как я.
— Я в этом не сомневаюсь, и мне не на кого жаловаться… Разве что на самого себя.
Гильом совсем расстроился и с отчаянием махнул рукой.
— Ах, братец, милый братец, как ты меня огорчаешь! Я вижу, что ты что-то скрываешь от меня. Ведь теперь наши братские отношения восстановились, мы горячо любим друг друга, как прежде, когда ты лежал в колыбельке, а я забавлял тебя. Я знаю, что с тобой происходит, какая тебя постигла катастрофа и как ты мучаешься, ведь ты во всем мне признался. И я не хочу, чтобы ты страдал! Я хочу тебя излечить!
Пьер слушал брата, и сердце у него мучительно сжималось. Он не мог сдержать слез.
— Нет, нет, мне остается только страдать. Меня уже ничем не излечить. Ты не можешь мне помочь. Я живу вопреки природе, я какой-то урод.
— Что ты говоришь? Если ты до сих пор и впрямь жил вопреки природе, то разве впредь ты не можешь жить по законам природы?.. Я не хочу, чтобы ты возвращался в свой одинокий домик и без конца мучился, переживая свою опустошенность. Приходи сюда почаще и проводи время с нами, а уж мы постараемся пробудить у тебя вкус к жизни.
При мысли о том, что он вернется к себе в маленький пустой домик, холодная дрожь пробегала у Пьера по спине: он будет там жить один, без брата, с которым провел столько отрадных дней! Теперь он будет особенно страдать от одиночества, после того как прожил несколько счастливых недель вдвоем с братом! Ему стало так горько и больно, что у него невольно вырвались слова признания.
— Жить здесь, жить с вами, о нет, это для меня невозможно… Зачем ты заставляешь меня высказываться? Мне стыдно об этом говорить, и я плохо в себе разбираюсь. Ты видел, как я страдал все утро, пока сидел с вами. Причина, конечно, в том, что все вы работаете, а я ничего не делаю; вы любите друг друга, верите в свое призвание, а я больше не могу ни любить, ни верить… Я чувствую, что мне не место у вас, мне как-то неловко, и я стесняю вас. Более того, вы меня раздражаете, и я боюсь, что в конце концов я возненавижу вас. Теперь ты видишь, что в моей душе не осталось ничего хорошего, что все во мне испорчено, разрушено, все умерло и могут зародиться только зависть и ненависть. Отпусти же меня в мою проклятую нору, где я опять окунусь в пустоту. Прощай, брат!
В порыве горячей любви и сострадания Гильом схватил его за руки и стал удерживать.
— Ты не уйдешь, я не отпущу тебя, пока ты мне не дашь слова, что скоро вернешься. Я не хочу снова тебя потерять, теперь, когда я знаю, что ты за человек и как ты страдаешь… Если на то пошло, я спасу тебя против твоей воли, я излечу тебя от твоих мучительных сомнений. О, не бойся, я не стану тебя наставлять, не стану внушать тебе никакой веры. Пусть тебя исцелит сама жизнь, которая одна способна вернуть тебе здоровье и надежду… Заклинаю тебя, брат, нашей любовью, приходи, приходи к нам почаще на целый день. Ты увидишь — когда у людей перед глазами определенная цель и когда они работают всей семьей, они никогда не бывают несчастны. Нужна цель, безразлично какая, и большая любовь, и ты примешь жизнь и будешь до конца дней ее любить.
— А зачем? — с горечью пробормотал Пьер. — У меня больше нет никакой цели, и я разучился любить.
— Ну, что ж, я поставлю перед тобою цель! И как только проснется твое сердце, ты снова научишься любить! Обещай мне, брат, обещай!
Видя, что Пьер поглощен своим горем и упрямо хочет идти навстречу своей гибели, он прибавил:
— Ах, я не буду утверждать, что на этом свете все обстоит благополучно, что повсюду царит радость, истина и справедливость… Если бы ты только знал, как я негодую и возмущаюсь всей этой историей с несчастным Сальва! О, конечно, он виноват! Но заслуживает всяческого снисхождения. И как я буду его жалеть, если на него свалят всеобщую вину, если эти политические банды жадно накинутся на него, надеясь сыграть на его аресте, воспользуются им, как козырем в борьбе за власть! Это приводит меня в отчаяние, и я, пожалуй, тоже способен на безумства… Ну, сделай мне удовольствие, брат, обещай, что ты придешь к нам послезавтра на весь день.
Пьер по-прежнему молчал.
— Я хочу этого, — продолжал Гильом. — Мне будет ужасно думать, что ты мучаешься у себя в норе, как раненый зверь… Я хочу тебя излечить, хочу тебя спасти!
Слезы снова выступили на глазах у Пьера, и он проговорил с отчаянием в голосе:
— Не вынуждай у меня обещания… Я постараюсь победить себя.
Какую страшную неделю провел он в своем темном, опустевшем домике! Он спрятался там от жизни и все это время с тоской переживал отсутствие старшего брата, которого снова горячо полюбил. С тех пор как его душу стали разъедать сомнения, он еще никогда так не страдал от одиночества. Раз двадцать он уже был готов бежать на Монмартр, где смутно надеялся обрести любовь, истину и жизнь. Но всякий раз его удерживала какая-то робость, к которой примешивался стыд; это чувство он уже испытал в доме Гильома. Он, священник, обреченный на безбрачие, не знающий любви и чуждый всему житейскому, уж наверно будет страдать и мучиться, очутившись среди этих людей, таких естественных, здоровых, свободных. И ему мерещились его родители, печальные тени которых словно блуждали в пустынном доме и даже после смерти продолжали свой яростный спор. Ему казалось, что они горько сетуют и умоляют, чтобы он, обретя покой, примирил их в своей душе. Что ему теперь делать? Сидеть здесь и предаваться отчаянию вместе с ними? Или отправиться туда, где он может получить исцеление и успокоить тени родителей, которые, радуясь его счастливой жизни, наконец уснут спокойно могильным сном? Однажды утром, когда он проснулся, ему почудилось, что возле него стоит отец и, улыбаясь, посылает его к брату. Мать тоже дает свое согласие, она смотрит на него своими большими кроткими глазами, уже больше не грустит, что из него не вышло хорошего священника, и хочет, чтобы он жил такой же жизнью, как и все люди.
На этот раз Пьер не стал рассуждать, он взял фиакр, сел в экипаж и дал адрес кучеру. Теперь ему было бы уже неловко на полпути повернуть назад, поддавшись смущению. И вот, как во сне, он снова увидел себя в просторной мастерской. Гильом и его сыновья весело встретили его, как будто он только накануне был у них. Тут он сделался свидетелем весьма поразившей его сцены, которая хорошо на него подействовала.
При его появлении Мария даже не встала ему навстречу и еле поздоровалась с ним. Она была очень бледна, и лоб ее прорезала глубокая складка. Бабушка, тоже довольно мрачная, проговорила, глядя на Марию.
— Вы уж извините ее, господин аббат, она что-то чудит… Видите ли, она рассердилась на всех нас.
Гильом засмеялся.
— Вот упрямица!.. Ты не можешь себе представить, Пьер, что творится в этой головке, когда заходит речь о справедливости, — она не выносит противоречия. О, она создала себе идеал такой высокой, абсолютной справедливости, что не допускает никаких компромиссов… Так вот, у нас зашла речь об одном судебном деле: недавно отец был осужден на основании показаний сына, и вот она спорит с нами, утверждая, что сын хорошо поступил, что всегда, при любых обстоятельствах, надо говорить только правду… Какой ужасный общественный обвинитель получился бы из нее!
Заметив улыбку явно не одобрявшего ее Пьера, и без того раздраженная Мария окончательно вышла из себя:
— Гильом, вы злой… Я не хочу, чтобы надо мной смеялись!
Эти слова еще пуще развеселили Том а и Антуана.
— Да ты совсем рехнулась, милая моя! — воскликнул Франсуа. — Мы с отцом только настаиваем на гуманности, а справедливость мы любим и почитаем не меньше тебя.
— Какая там гуманность! Существует только справедливость. Что справедливо, то всегда останется справедливым, хотя бы от этого должен был рухнуть мир!
Гильом хотел продолжать спор и начал снова ее убеждать, но она вскочила и крикнула, дрожа всем телом и задыхаясь от гнева:
— Нет, нет! Все вы злые, вам нравится меня мучить… Лучше я уйду к себе в комнату.
Напрасно Бабушка пыталась ее удержать.
— Дитя мое, дитя мое! Опомнись! Ведь это очень некрасиво, ты сама будешь потом сожалеть.
— Нет, нет! Вы несправедливы, мне слишком больно!
И рассерженная Мария поднялась к себе в комнату. Все были крайне расстроены и совсем растерялись. Подобные сцены разыгрывались время от времени, но очень редко принимали столь острый характер. Гильом тотчас же стал упрекать себя за то, что привел ее в такое раздражение; главное, не нужно было над ней подсмеиваться, потому что она не выносила иронии. Он объяснил Пьеру, в чем дело, рассказал ему, что в ранней юности всякая несправедливость вызывала у нее приступы яростного гнева, от которого чуть ли не останавливалось сердце. Впоследствии она сама признавалась, что в таких случаях ее подхватывала какая-то неудержимая волна и она теряла рассудок. Даже и теперь, когда затрагивали иные принципиальные вопросы, она спорила с пеной у рта, упрямо отстаивая свое мнение. Она стыдилась своей горячности, прекрасно сознавая, что частенько бывает прямо невыносима и отталкивает от себя людей.
И в самом деле, не прошло и четверти часа, как она спустилась в мастерскую, красная, как пион, и мужественно признала свою неправоту.
— Какая же я глупая! Сама хуже всех, а других называю злыми! Что подумает обо мне господин аббат!
Она бросилась на шею к Бабушке.
— Вы меня прощаете, правда? Теперь пускай себе смеются надо мной Франсуа и Том а с Антуаном. Хорошо сделают, так мне и надо!
— Бедняжка моя Мария! — с нежностью сказал Гильом. — Вот что значит признавать абсолютные ценности! Обычно вы такая уравновешенная, рассудительная и благоразумная, потому что вы знаете, как все на свете относительно, и требуете от жизни только то, что она может дать. Но вы теряете благоразумие и выходите из равновесия, когда начинаете домогаться абсолютной справедливости. Кто из нас тут без греха?
Все еще смущенная Мария попробовала пошутить:
— Ну, теперь вы сами видите, что я далеко не совершенство.
— О, конечно! Но тем лучше! От этого вы мне еще дороже.
Пьер охотно повторил бы слова брата. Его до глубины души взволновала разыгравшаяся перед ним сцена, хотя он еще не мог осознать всего, что в нем при этом всколыхнулось. Не оттого ли он так жестоко страдал, что всегда искал чего-то абсолютного в жизни, предъявляя непомерные требования и к людям и к вещам? Он хотел обрести совершенную веру, и когда это ему не удалось, с отчаяния пришел к совершенному отрицанию. И чувство превосходства, сохранившееся у него при утере всех ценностей, репутация святого священника, приобретенная при полном неверии, — не доказывают ли извращенного стремления к абсолютному, не являются ли романтической позой, которую он принимал в своей слепоте и гордыне? Когда брат хвалил Марию, которая всегда ждала от жизни только того, что она могла дать, Пьер воспринял его слова как добрый совет и словно почувствовал на своем лице свежее дуновение весеннего ветерка. Но то были пока лишь смутные ощущения, и он по-настоящему обрадовался, когда Мария разгневалась: ее провинность сближала ее с ним, и она как бы спустилась с какой-то высоты и больше не подавляла его своими совершенствами. Какое чувство владело им? Он не мог бы этого сказать. В этот день он поговорил с ней несколько минут и решил, что она очень добрая и сердечная девушка.
Через день Пьер снова явился на Монмартр и провел всю вторую половину дня в залитой солнцем мастерской, высоко над Парижем. Его уже давно тяготила праздность, и он испытывал скуку, но у него становилось легче на душе, когда он находился среди своих родных, которые так весело работали. Брат пожурил его за то, что он не пришел к завтраку, и Пьер обещал на следующий день явиться пораньше и сесть с ними за стол. Прошла неделя, и у него с Марией установились добрые товарищеские отношения. Уже не оставалось и следа прежней неловкости и враждебности, какую они сперва почувствовали друг к другу. Впрочем, ее ничуть не смущала его сутана; этой уравновешенной атеистке никогда не приходило в голову, что священник какой-то особенный человек. И теперь его удивляло и радовало, что она относится к нему по-братски, как будто он ходит в пиджаке, как его племянники, обладает такими же взглядами, ведет такой же образ жизни и вообще ничем не отличается от прочих людей. Но особенно его поражало, что она никогда не затрагивала религиозных вопросов и жила спокойная и счастливая, ничуть не помышляя о божестве и о потустороннем мире, об этой жуткой, таинственной области, с которой у него было связано столько мучительных переживаний.
Пьер стал к ним приходить каждые два-три дня, и вскоре она заметила, что он страдает. Что с ним такое? Она начала его расспрашивать с дружеским участием, но получала лишь уклончивые ответы и догадалась, что у него в душе какая-то кровоточащая рана, что он стыдится ее, скрывает от всех и потому не может получить исцеления. В ней проснулась чисто женская жалость, и она почувствовала горячую симпатию к этому высокому бледному молодому человеку с лихорадочным блеском в глазах, который испытывал жестокие душевные терзания, никому в них не признаваясь. Без сомнения, она спрашивала Гильома, что с его братом, почему у того такой печальный, убитый вид, и он, как видно, кое во что ее посвятил, чтобы она вместе с ним постаралась вырвать Пьера из мрачного оцепенения и вернуть ему вкус к жизни. Пьер был так счастлив, что она обращалась с ним как с другом, как с братом! И вот как-то вечером, когда на Париж спускались хмурые сумерки, Мария увидела на глазах у Пьера слезы, стала ласково настаивать, чтобы он открыл ей душу, и внезапно он поведал ей о своих мучениях, сказал, какая ужасная пустота навсегда осталась у него в сердце после утраты веры. О, больше не верить, не любить, стать холодным пеплом, не знать, на что опереться, чем заменить отсутствующего бога! Она смотрела на него в немом изумлении. Да это сущее безумие! И она сказала ему это, удивляясь и негодуя, что можно страдать по такому поводу. Впасть в отчаяние, ни во что не верить, никого не любить только потому, что рухнула гипотеза о высшем существе, и при этом забывать об огромном мире, о жизни, которую необходимо прожить, обо всех вещах и обо всех созданиях, которые требуют нашей любви и помощи, не говоря уже о долге перед человечеством, о жизненной задаче, выпадающей на долю каждого! Он, несомненно, безумец, и она клянется, что постарается излечить его от этого ужасного безумия!
С тех пор она стала испытывать огромную нежность к этому необыкновенному человеку, который вначале был так ей чужд, а потом начал вызывать ее удивление. Она была с Пьером очень ласкова, весело разговаривала, ухаживала за ним, как за больным, проявляя незаурядную тонкость ума и сердечную чуткость. Детские годы прошли у них одинаково, у обоих были весьма набожные матери, воспитывавшие их в строго религиозном духе. Но как непохожи были их дальнейшие судьбы! До чего по-разному протекала их жизнь! Связанный своим обетом, священник терзался сомнениями, а девушка, поступившая после смерти матери в лицей Фенелона, воспитывалась вне всякого религиозного культа, и с течением времени у нее окончательно изгладились из памяти связанные с религией воспоминания раннего детства. Его все время поражало, что ей совершенно незнаком страх перед потусторонним, нещадно опустошивший его душу. Когда, беседуя с ней, он удивлялся этому, она от души смеялась и говорила, что никогда не страшилась ада, так как знала, что он не может существовать, она прибавляла, что спокойно живет на земле, не надеясь попасть в рай, стараясь разумно выполнять задачи, какие ставит перед ней жизнь. Должно быть, таков уж был ее характер. Но большую роль сыграло и образование. Полученные в лицее знания пошли ей на пользу, так как она обладала на редкость основательным умом и душевной прямотой. И удивительное дело, получив целую кучу не слишком систематизированных знаний, она осталась очень женственной и очень нежной; в ней не чувствовалось никакой черствости, и она отнюдь не смахивала на мужчину. Это было духовно свободное, честное и очаровательное существо.
— Ах, друг мой, — говорила она, — если бы вы знали, как мне легко быть счастливой, когда окружающие меня дорогие мне люди здоровы и благополучны! Лично я всегда в ладу с жизнью, приспособляюсь к ней, работаю и все же испытываю удовлетворение. Мне приходилось страдать только из-за других, потому что мне всегда хочется, чтобы все люди на свете были по возможности счастливы, а между тем некоторые не хотят счастья… Знаете, я долгое время жила в бедности, но это мне не мешало быть веселой. Я всегда хочу только таких благ, которых не купишь за деньги… А все-таки ужасно, что на свете есть нищета! Это такая возмутительная несправедливость, и я выхожу из себя, когда вижу ее. Я понимаю, что ваше мировоззрение рухнуло, когда вам стала ясна вся бесполезность и бессмыслица благотворительности. Но все-таки она приносит облегчение. Давать так отрадно! И потом наступит день, когда победит рассудок и труд, наладится жизнь, и тогда волей-неволей справедливость восторжествует… Что же это! Оказывается, я проповедую! А ведь у меня к этому нет ни малейшей охоты. Вот было бы смешно, если бы я вздумала вас исцелять высокими словами, как ученая девица! Но я в самом деле хочу вытащить вас из вашей ипохондрии, и для этого нужно только, чтобы вы как можно больше времени проводили у нас. Вы же знаете, как этого хочет Гильом. Все мы будем так вас любить, вы увидите, как тесно мы связаны между собой, как радостно трудимся все вместе, и вы обратитесь к живой истине, когда с нами вместе станете учиться в школе великой матери-природы… Живите, работайте, любите, надейтесь!
Пьер улыбался, слушая ее. Теперь он приходил каждый день. В ней было столько сердечности, когда она с глубокомысленным видом читала ему проповеди. И она была права. В просторной мастерской царила любовь; чувствовалось, что всем так хорошо быть вместе, так радостно трудиться над общим делом, избрав здоровый, истинный путь. Пьеру становилось неловко, что он ничего не делает; ему хотелось чем-нибудь занять свои мысли и руки, и он сперва заинтересовался гравюрами, над которыми работал Антуан. Почему бы и ему не испытать себя? Но он не получил здесь удовлетворения и быстро убедился, что у него нет таланта и призвания к искусству. Он только что выбрался из бездны заблуждений, в которой потонул, занявшись толкованием текстов, и теперь ему внушали отвращение груды книг, чисто интеллектуальная работа, какую вел Франсуа, и он почувствовал расположение к ручному труду, каким занимался Том а , увлекся механикой. Его пленяли господствовавшие там точность и определенность, и он стал подручным молодого мастера, раздувал кузнечные мехи, придерживал клещами кусок железа, которое ковал Том а . А временами он исполнял роль лаборанта, надевал поверх сутаны большой синий фартук и помогал брату производить опыты. Таким образом он включился в жизнь мастерской, просто там появился еще один работник.
Как-то раз, в самом начале апреля, на исходе дня, когда вся семья дружно трудилась, Мария, которая вышивала, сидя за рабочим столиком против Бабушки, вдруг подняла глаза, и у нее вырвалось восторженное восклицание:
— О! Посмотрите! Над Парижем льется солнечный дождь!
Пьер подошел к широкому окну. Подобное же явление он наблюдал, когда впервые посетил мастерскую. Солнце склонялось к горизонту, и сквозь легкую пурпурную завесу облаков сеялись тонкие лучи, там и сям зажигая необозримое море крыш. Казалось, какой-то сеятель-гигант, неразличимый в солнечном ореоле, огромными пригоршнями разбрасывал золотые зерна по всему широкому простору.
И Пьер высказал вслух свою мечту:
— Париж засеян солнечными лучами. Взгляните на великое поле, вспаханное незримым плугом. Бурые дома похожи на глыбы земли, а глубокие прямые улицы совсем как борозды.
Мария подхватила его мысль и сразу загорелась:
— Да, да, вы правы!.. Солнце засевает Париж. Смотрите, каким царственным жестом оно бросает семена здоровья и света, и они падают даже на самые отдаленные кварталы! И обратите внимание — как странно! — богатые кварталы, там, на западе, подернуты рыжеватой дымкой, а добрые семена сыплются золотистой пылью на левый берег и на густонаселенные восточные кварталы… Ведь это там — не правда ли? — поднимется нива, которая даст великий урожай!
Все подошли к большому окну и с улыбкой любовались этой символической картиной. И в самом деле, по мере того как полускрытое сетью облаков солнце опускалось над городом, создавалось впечатление, что сеятель вечной жизни широкими ритмичными взмахами рассыпает золотое пламя то сюда, то туда, избирая кварталы, где кипит напряженный труд. Вот пригоршня пылающих семян упала на квартал учебных заведений. Потом рассыпалась другая сверкающая пригоршня, оплодотворяя квартал мастерских и заводов.
— Да, урожай! — весело подхватил Гильом. — Пусть поскорей созреют колосья на богатой почве нашего великого Парижа, вспаханной целым рядом революций, удобренной кровью бесчисленных тружеников! Это самая лучшая земля на свете, именно здесь прорастут семена великой идеи, и она расцветет пышным цветом. Да, да! Пьер прав, солнце засевает Париж, и именно на почве нашего города взрастет будущее мира.
Том а , Франсуа и Антуан, стоявшие позади отца, согласились с его словами, кивнув головой, а Бабушка, как всегда, серьезная и величавая, смотрела вдаль, — казалось, она уже созерцала лучезарное будущее человечества.
— Это только мечта, и через сколько веков она осуществится, — вполголоса сказал Пьер, вновь охваченный дрожью. — Это не для нас.
— Ну, что ж, это будет для других! — воскликнула Мария. — Разве вам этого мало?
Эти прекрасные слова глубоко взволновали Пьера. И внезапно ему вспомнилась другая Мария, прелестная Мария, которую он любил в дни юности, получившая исцеление в Лурде, Мария де Герсен, потеряв которую он почувствовал себя навеки опустошенным. Неужели эта вторая Мария, ласково ему улыбавшаяся, это очаровательное существо, такое спокойное и сильное, исцелит его застарелую язву? Он начал возрождаться к жизни с тех пор, как она стала его другом.
И они смотрели, как солнце широкими взмахами разбрасывает живую золотую пыль лучей, засевая Париж семенами, которым суждено в будущем принести урожай справедливости и правды.
II
Однажды вечером, в конце трудового дня, Пьер, помогая Том а , запутался ногами в своей сутане и чуть было не упал.
Мария испуганно вскрикнула и тут же прибавила:
— Почему же вы ее не снимете?
Она сказала это без всякого умысла, просто потому, что его длинное одеяние казалось ей чересчур тяжелым и неудобным для некоторых работ.
Но эта фраза, прямая и ясная, запала Пьеру в душу, и он уже не мог от нее отделаться. Сперва она его только поразила. Потом, ночью, когда он остался один в своем домике в Нейи, он почувствовал, что она его беспокоит. Тревога росла, и вскоре его охватило лихорадочное волнение. «Почему же вы ее не снимете?» В самом деле, ему уже давно следовало бы снять сутану, отчего же до сих пор он не сбросил это одеяние, так тяжело давившее ему на плечи? Началась отчаянная борьба. Он провел ужасающую ночь без сна, к нему вернулись былые мучительные сомнения.
А между тем, казалось, было так просто расстаться с этой одеждой, если он больше не исполнял обязанности священника. Он уже довольно давно не служил мессы, он действительно порвал с прошлым, навсегда отказавшись от священнического звания. Но он всегда мог бы снова отслужить мессу. А между тем Пьер знал, что в день, когда он сбросит сутану, он снимет с себя сан, перестанет быть священником и уже никогда не вернется в церковь. Итак, надо было принять окончательное решение. Часы за часами расхаживал он по комнате в тоске, борясь с самим собою.
Он так мечтал вести суровую, одинокую жизнь! Не верить самому, но, оставаясь целомудренным и честным священником, оберегать чужую веру! Не нарушать своего обета, не пятнать себя постыдным отступничеством и оставаться служителем воображаемого божества, переживая все муки отрицания! Кончилось тем, что его стали почитать как святого, в то время как он все отвергал и был подобен пустой гробнице, из которой пепел унесен ветром. Но теперь его начала беспокоить эта ложь, он испытывал ранее незнакомое ему тяжелое чувство, и ему приходило в голову, что необходимо положить конец такому разрыву между убеждениями и жизнью. Вся его душа была истерзана.
Вопрос стоял перед ним весьма четко. Имеет ли он право оставаться на посту священника, если он больше не верит? Не велит ли ему элементарная честность уйти от церкви, в которой, по его мнению, нет бога? Догматы были для него лишь ребяческим заблуждением, а он упрямо проповедовал их другим, как вечную истину, и теперь он сознавал, что это низость с его стороны, и испытывал угрызения совести. Напрасно старался он пробудить в себе прежний пыл, пафос милосердия и мученичества, охваченный которым, он готов был принести себя в жертву, вытерпеть все сомнения, сломать и загубить свою жизнь, лишь бы облегчить участь обездоленным, внушить им надежду. Несомненно, истина и природа стали для него так дороги, что ему претила эта роль лживого апостола, и у него уже не хватало духа перед толпой коленопреклоненных верующих, воздевая руки, призывать Иисуса, ибо он знал, что Иисус все равно не спустится с небес. Все потеряло для него цену — и его роль безупречного пастыря, и самоотречение, с каким он упорно выполнял устав и, поддерживая веру в других, сам мучился из-за утраты веры.
Не осуждает ли его Мария за эту закоренелую ложь? И снова ему слышалась ее фраза: «Почему же вы ее не снимете?» Укоры совести все усиливались. Уж наверное она его презирает, она, такая правдивая, такая честная. Он влагал ей в уста все порицания, все неодобрительные толки, какие возбуждало его поведение. И если бы она вздумала его обвинять, он почувствовал бы себя преступником. А между тем до сих пор она ни единым словом не высказала ему своего порицания. Если она и не одобряла его поведения, то, очевидно, не считала себя вправе вмешиваться в его внутреннюю жизнь, полагая, что это дело его совести. Его все время удивляло ее олимпийское спокойствие, ее великодушие и здоровая уравновешенность. Сам он переживал непрерывную агонию, так как его никогда не покидала мысль о неведомом, навязчивая мысль о том, что ждет его после кончины! Целые дни напролет он наблюдал Марию, следил за ней глазами, но ни разу не подметил у нее ни колебаний, ни подавленности. Так было потому, уверяла Мария, что для нее жить — значило радостно трудиться и исполнять свой долг; она всецело поглощена жизнью, и ей просто некогда предаваться мрачным мыслям и нет желания забивать себе голову химерами. Итак, он снимет эту сутану, которая давит на него и жжет ему плечи, ведь Мария спросила его таким спокойным и твердым тоном, почему он ее не снимает.
Но перед рассветом, когда Пьер наконец улегся на кровать, как будто успокоенный принятым решением, внезапно ему словно что-то ударило в голову, он вскочил на ноги и снова оказался во власти нестерпимых мук. Нет, нет! Он не может сбросить это одеяние, оно приросло к его телу! Срывая сутану, он сдерет с себя кожу, вырвет сердце из груди. Ведь священник на всю жизнь отмечен неизгладимой печатью и поднят высоко над своей паствой! Даже если он сорвет с себя сутану вместе с кожей, он будет все тот же священник, оплеванный и опозоренный, вычеркнутый из жизни, растерянный и беспомощный. Так зачем же это делать? Ведь все равно он останется в тюрьме, а жизнь, протекающая за ее стенами на ярком солнце, деятель-пая и плодотворная жизнь, — не для него! Бессилие! Бессилие! Ему казалось, что оно пронизывает его до глубины, до мозга костей. Пьер чувствовал себя окончательно сломленным. На следующий день он не пошел на Монмартр, так как не мог прийти ни к какому решению, и снова им овладела тоска.
Однако и в этом счастливом доме теперь царило волнение. Гильом не мог справиться с тревогой, он был захвачен делом Сальва, и его возбуждение все возрастало, так как газеты каждое утро подливали масла в огонь. Он был глубоко тронут благородством Сальва, который заявлял, что у него нет сообщников, он во всем признался, но никого не назвал, боясь повредить своим друзьям. Дело носило строго секретный характер, но следователь Амадье, которому оно было поручено, сумел вызвать вокруг него невообразимый шум; в газетах только и было речи что о его особе, о его взаимоотношениях с обвиняемым; приводились всевозможные сообщения, беседы, признания. Благодаря обстоятельным показаниям Сальва Амадье удалось восстановить во всех подробностях картину преступления. Оставалось только неясным, какое взрывчатое вещество было употреблено и как была изготовлена бомба. Если можно было допустить, что Сальва действительно зарядил бомбу у какого-то приятеля, то он, очевидно, лгал, уверяя, что употребил простой динамит, достав его из патронов, украденных товарищами, так как эксперты утверждали, что динамит никогда не вызвал бы подобных разрушений. Несомненно, тут была какая-то тайна, которую не удавалось раскрыть, что и затягивало следствие. Все это вдохновляло прессу, и там ежедневно появлялись самые невероятные истории, самые нелепые сообщения под сенсационными заголовками, благодаря которым расхватывались газеты.
Каждое утро, просматривая газеты, Гильом приходил в ярость. Несмотря на свое презренье к Санье, он все же покупал «Голос народа», как будто его притягивала вся эта грязь, и всякий раз выходил из себя, содрогался от негодования. Впрочем, и остальные газеты, даже обычно столь выдержанный «Глобус», давали совершенно непроверенные сведения и, разглагольствуя в более чем умеренном тоне, приходили к самым несправедливым, прямо-таки возмутительным выводам. Казалось, пресса задалась целью очернить Сальва, дабы в его лице опорочить анархизм. Вся его жизнь оказывалась цепью преступлений: брошенный родителями, в десять лет он уже шатается по улицам и становится воришкой; потом он — плохой солдат, подвергшийся наказанию в полку за нарушение дисциплины; никуда не годный рабочий, которого выгоняют с заводов, куда он вносит смуту своей агитацией; далее — эмигрант, занимающийся самыми гнусными авантюрами в Америке, где ему приписывались всевозможные преступления, оставшиеся нераскрытыми. Вдобавок он человек глубоко безнравственный: вернувшись во Францию, он вступает в незаконную связь со своей свояченицей, заменявшей мать брошенной им дочке, и сожительствует с ней на глазах у ребенка. Все это преподносилось в невероятно преувеличенном виде, обнажались язвы, но не говорилось ни слова о причинах, их породивших, о среде, которая способствовала развитию болезни. Такая бесчеловечность и несправедливость до глубины души возмущала Гильома, который хорошо знал Сальва — человека с нежным сердцем, своего рода мистика, страстно верившего в утопию, беспомощного в жизни, задавленного и доведенного до такого отчаяния неизбывной нуждой, что он возмечтал о новом золотом веке после разрушения старого мира.
К несчастью, все складывалось против Сальва, так как он сидел в одиночной камере и оказался во власти честолюбивого и светского Амадье. Том а сообщил Гильому, что никто из прежних товарищей обвиняемого по заводу Грандидье не окажет ему поддержки. Завод только что начал процветать благодаря производству велосипедов, и с каждым днем дела его шли все лучше и лучше. Говорили, что как только будет создан маленький двигатель, над которым работает Том а , Грандидье приступит к массовому выпуску автомобилей. Добившись наконец успеха после долголетних неудач, он решил быть осмотрительным, стал проявлять строгость и рассчитал несколько рабочих, причастных к анархизму, не желая, чтобы дело злополучного Сальва, когда-то работавшего у него, бросило тень на его предприятие. И если он оставил шурина Сальва, Туссена, и его сына Шарля, заподозренного в сочувствии обвиняемому, то лишь потому, что они проработали уже двадцать лет у него на заводе. Их нельзя было выбросить на улицу. Туссен, который только что оправился после болезни, решил, в случае если его вызовут на допрос по делу шурина, давать о нем лишь показания личного характера и сообщить все, что ему было известно о семейной жизни Сальва, женатого на его сестре.
Как-то вечером, вернувшись с завода, где он временами работал над двигателем, Том а рассказал, что он видел г-жу Грандидье, несчастную молодую женщину, которая потеряла рассудок от родильной горячки, вызванной смертью ребенка. Муж нежно и преданно ухаживал за ней, и она жила с ним в большом флигеле, рядом с заводом. Он ни за что не захотел поместить ее в психиатрическую больницу, хотя порой у нее бывали ужасные припадки и ему тяжело жилось с этим взрослым ребенком, таким печальным и кротким. Жалюзи всегда были затворены, но на этот раз, к немалому удивлению Том а , одно из окон было открыто, и затворница приблизилась к нему, привлеченная ярким солнцем ранней весны. Она простояла там всего минуту, бледное мимолетное видение, вся в белом, прелестная, белокурая, с улыбкой на губах. Служанка поспешила закрыть окно, и особняк снова погрузился в мертвое молчание. В цеху рассказывали, будто уже около месяца не было ни одного приступа — вот почему у патрона такой бодрый, довольный вид и он такой уверенной, твердой рукой управляет заводом, налаживая и расширяя производство.
— Он совсем не злой, — заключил Том а , — но ему приходится вести ожесточенную борьбу с конкурентами, и он хочет, чтобы с ним считались. Он говорит, что в наши дни, когда капитал и пролетариат готовы истребить друг друга, пролетариат должен еще быть счастлив, когда капитал оказывается в руках энергичного и благоразумного человека, который не даст рабочим умереть с голоду… И если Грандидье требует суровой расправы с Сальва, то лишь потому, что считает нужным это сделать для острастки.
В этот день, выйдя из ворот завода на улицу Маркаде, где, как в исполинском улье, весь день кипел труд, молодой человек испытал неожиданное потрясение. Он увидел г-жу Теодору и маленькую Селину, которые только что побывали у Туссена, но он не мог дать им даже десяти су. После ареста Сальва все отвернулись от его жены и ребенка, подозревая их в соучастии, их выгнали из убогой каморки, они почти ничего не ели, бродили по городу и жили случайным подаянием. Эти жалкие, беззащитные существа испытывали неслыханную нужду.
— Отец, я сказал им, чтобы они поднялись к нам. Мне пришло в голову, что мы должны уплатить их домохозяину за месяц вперед, чтобы они могли вернуться домой… А, вот и она.
Гильом слушал рассказ Том а , внутренне содрогаясь, упрекая себя за то, что он упустил из виду эти два несчастных создания. Обычная трагедия: мужчина куда-то исчез, а женщина с ребенком выброшены на мостовую и умирают с голоду. Правосудие, карая отца семейства, вместе с ним губит ни в чем не повинные существа.
Госпожа Теодора вошла робко и боязливо, с видом неудачницы, пришибленной жизненными невзгодами. Она почти ослепла, и маленькой Селине приходилось ее вести. Худенькая белокурая малютка была вся в лохмотьях, но ее тонкое, умненькое личико порой освещалось беззаботной детской улыбкой.
Пьер и Мария, присутствовавшие при этой сцене, были глубоко растроганы. Там же находилась и г-жа Матис, мать Виктора, которая помогала Бабушке чинить белье; она ходила в знакомые дома на поденную работу, и это позволяло ей время от времени давать сыну каких-нибудь двадцать франков. Все молчали, один Гильом стал расспрашивать г-жу Теодору.
— Ах, сударь, — пролепетала она, — кто бы мог подумать, что Сальва способен на такое дело! Ведь он такой добрый, такой жалостливый! А между тем все это правда, ведь он сам все рассказал следователю… А я-то говорила всем, что он в Бельгии. По правде сказать, я не очень-то этому верила, но все-таки хорошо, что он не пришел нас проведать, ведь, если бы его арестовали у нас, я бы сошла с ума от горя… Ну, а теперь, раз он попался им в руки, они приговорят его к смерти, это уж наверняка.
Селина, которая с любопытством оглядывала комнату, вдруг воскликнула со слезами на глазах:
— Ах, нет, ах, нет, мамочка! Они ему не сделают ничего дурного.
Гильом поцеловал девочку и продолжал свои расспросы.
— Что вам сказать, сударь? Девчушка еще не может работать, а я потеряла зрение, и теперь никто меня не берет помогать по хозяйству. Ну, ясное дело, мы подыхаем с голоду… Правда, у меня есть родня, моя сестра замужем за солидным человеком, чиновником, господином Кретьенно, может быть, вы его знаете. Только он немного чванлив, и я больше не хожу к сестре, чтобы он не устраивал ей сцен. Вдобавок она сейчас прямо в отчаянии, потому что снова оказалась беременной, а это настоящая катастрофа для скромной семьи, где и так уже две девочки… Поэтому я могу обратиться только к своему брату Туссену. Госпожа Туссен неплохая женщина, но теперь она стала совсем другая и все время боится, как бы с мужем опять не приключился удар. На лечение мужа ушли все их сбережения, и что будет с ней теперь, если у нее на руках окажется параличный муж? К тому же на нее свалилась еще одна напасть: ее сын Шарль имел глупость спутаться со служанкой виноторговца, у которой от него родился ребенок, и она, конечно, удрала, подкинув ему мальчишку… Ясное дело, им самим живется нелегко. Я на них не сержусь. Они уже не раз давали мне взаймы по десять су, не могут же они вечно мне их давать.
Кроткая, покорная судьбе, она сетовала только на участь Селины: прямо сердце обливается кровью, глядя на нее, такая шустрая девчушка, так хорошо училась в коммунальной школе, а вот приходится ей бродить по улицам, как нищенке. Конечно, г-жа Теодора понимает, что все их сторонятся из-за Сальва. Туссены не хотят быть замешанными в эту историю, и только Шарль сказал, что буржуа вытворяют всякие мерзости и не удивительно, если человек наконец вышел из себя и вздумал их взорвать.
— Я ничего не говорю, сударь, ведь я всего только бедная женщина. Но все-таки, если вы хотите знать, что я думаю, так вот я думаю, что Сальва напрасно наделал таких дел, ведь больше всех от этого пострадали мы с дочкой… Знаете, это у меня как-то не укладывается в голове: дочка приговоренного к смерти…
Тут Селина бросилась на шею матери и опять ее прервала:
— Мамочка! Мамочка! Пожалуйста, не говори этого! Не может этого быть! Это слишком ужасно!
Пьер и Мария обменялись взглядом, полным сострадания, а Бабушка встала и поднялась наверх, решив дать этим несчастным немного белья и кое-какое старое платье. Гильом был растроган до слез и проклинал мир, в котором люди так страдают. Он сунул несколько монет в ручонку девочке и обещал г-же Теодоре, что пойдет к домохозяину и уговорится с ним, чтобы он снова пустил их в комнату.
— Ах, господин Фроман! — воскликнула несчастная. — Сальва говорил, что вы добрый человек… И вы сами знаете, что он не какой-нибудь негодяй, ведь он работал у вас несколько дней… Теперь, когда он в тюрьме, все называют его бандитом, и у меня прямо сердце разрывается.
Потом она повернулась к г-же Матис, которая продолжала шить, скромная и незаметная, с видом благонамеренной буржуазии, не интересующейся такими вещами.
— Я знаю вас, сударыня, а главное, знаю вашего сына, господина Виктора, который частенько заглядывал к нам… Не бойтесь, я никому об этом не скажу, уж я никогда никого не подведу. Но если бы господин Виктор мог высказаться, он лучше всех изложил бы мысли Сальва.
Госпожа Матис в испуге и недоумении смотрела на нее. Она была далека от жизни, не знала убеждений сына, и ее приводила в ужас мысль, что он мог связаться с такого рода людьми. Но она решительно не захотела этому верить.
— О, вы, наверное, ошибаетесь… Виктор говорил мне, что он почти никогда не бывает на Монмартре, он все время разъезжает в поисках работы.
Голос ее дрожал, в нем звучала тревога. Г-жа Теодора сразу поняла, что ей не следовало говорить с этой особой о своих печальных делах, и тотчас же стала униженно извиняться.
— Прошу прощения, сударыня, я не хотела вас обидеть. Может, я и впрямь ошиблась.
Госпожа Матис снова молча принялась за шитье. Казалось, она спешила уйти в себя, в свое одиночество, забиться в глухой закоулок жизни, где она прозябала, стараясь скрыть свою нищету, питаясь впроголодь куском хлеба. О, дорогой, обожаемый сын! Хоть он уделял ей мало внимания, она все надежды возлагала на него и мечтала, что на старости лет в один прекрасный день он распахнет перед ней врата счастья.
Бабушка спустилась в мастерскую со свертком старого платья и белья. Г-жа Теодора рассыпалась в благодарностях, и они с Селиной удалились. Гильом молча, наморщив лоб, расхаживал взад и вперед по комнате, не в силах приняться за работу.
На следующий день, когда истерзанный сомнениями Пьер пришел в мастерскую, там появились новые посетители, уже совсем другого рода. Ворвался порыв ветра, вихрь развевающихся юбок, взрывы смеха — это была миниатюрная принцесса Роземонда, которую сопровождал юный Гиацинт Дювильяр, как всегда, подтянутый и холодный.
— Это я, дорогой учитель. Ведь я обещала вас посетить. Я ваша ученица и преклоняюсь перед вашим гением… А это наш молодой друг, который согласился привести меня к вам. Мы только что вернулись из Норвегии, и первый мой визит к вам.
Она поворачивалась во все стороны, непринужденно и грациозно раскланиваясь с Пьером, Марией, Франсуа и Антуаном, находившимися в мастерской.
— О, Норвегия! Дорогой учитель, вы и представить себе не можете, какая это девственная красота! Нам всем нужно бы там побывать, чтобы почерпнуть из этого источника новые идеалы и вернуться оттуда очищенными, помолодевшими, способными на великие жертвы.
В действительности же она там все время мучилась, так как ей не по силам был молочный режим, предписанный ей молодым возлюбленным. То, что они отправились в свадебное путешествие не в залитую солнцем Италию, а в страну льдов и вечных снегов, безусловно, доказывало их на редкость утонченный вкус и говорило об их возвышенной любви, чуждой всего грубо материального. Это было как бы путешествием душ, и они должны были там обмениваться лишь духовными лобзаниями. Но, на беду, однажды ночью в гостинице, когда он упорно хотел воспринимать ее как воображаемое существо, как некую лилию, символ небесной чистоты, она вышла из себя, схватила хлыст и принялась изо всех сил его стегать. Тут он не выдержал и с яростью ее отколотил. После чего она упала к нему в объятия, и в сладостном изнеможении они отдались друг другу, как самые обыкновенные люди. Проснувшись поутру, она со вздохом разочарования заявила, что не стоило ехать в этакую даль, чтобы испытать столь заурядные ощущения. А Гиацинт не мог ей простить, что из-за нее приняла такой тривиальный оборот их затея, которая должна была принести чисто духовные плоды. Зачем было приезжать сюда и осквернять девственный божественный Север, когда можно было этим заниматься в каком-нибудь французском городе, где уже давно царит пошлость? И на другой же день, чувствуя, что они утратили свою чистоту и уже не достойны созерцать лебедей на озерах мечтаний, принцесса и Гиацинт снова сели на пароход.
Внезапно она прервала свои восторженные излияния на тему о Норвегии: не могла же она признаться в постигшей их горькой неудаче.
— Между прочим, — воскликнула она, — вы знаете, что меня ожидало по возвращении! Мой особняк оказался разграбленным прямо дотла! Вы и представить себе не можете, какой это разгром, как все чудовищно запакощено! Мы сразу же догадались, что это дело рук любимчиков Бергаса.
Накануне Гильом узнал из газет, что банда молодых анархистов, выломав люк в подполье, проникла в маленький особняк принцессы де Гарт, где не было ни души — ни слуг, ни сторожей. Любезные бандиты не только вывезли все вещи, вплоть до тяжелой мебели, но, как видно, прожили в особняке два дня и две ночи, пировали вовсю, пили вина, доставая их из погреба, уничтожали припасы, захваченные ими с собой, и перепачкали все комнаты, оставив омерзительные следы своего пребывания. Войдя в дом, Роземонда была скорее поражена, чем рассержена этим происшествием и сразу же вспомнила вечер в Камере ужасов, где она сидела с Бергасом и двумя его дружками, Росси и Сан-фотом, которые слышали от нее самой об отъезде в Норвегию. И в самом деле, эти двое только что были арестованы, однако Бергасу удалось бежать. Она не слишком всему этому удивлялась, так как ее уже предупреждали, и ей было известно, что в салоне, куда она зазывала всяких иностранных оригиналов, среди разношерстной публики попадались ужасные субъекты. Янсен передавал ей всякие грязные истории, героями которых, по-видимому, были Бергас и его банда. На этот раз без всяких колебаний он заявил во всеуслышание, что Бергас вслед за Рафанелем продался полиции, которая и подстроила все это, рассчитывая, что сенсационное ограбление, оставившее такие омерзительные следы, навсегда опорочит анархистов. И разве это не подтверждается тем фактом, что полиция дала удрать Бергасу?
— Я думал, — сказал Гильом, — что газеты преувеличивают… В настоящее время они выдумывают всякие ужасы, чтобы только отягчить судьбу бедняги Сальва!
— О нет, — весело отвечала Роземонда, — они даже не могли все сказать, там неописуемые мерзости… В связи с этим я перебралась в отель. Тут гораздо лучше, мне уже начал надоедать мой особняк. Во всяком случае, анархизм грязная штука, и я больше не хочу иметь с ним ничего общего.
Она расхохоталась и тут же перепрыгнула на другую тему. Вспомнив о своем новом увлечении, она попросила учителя познакомить ее с его последними работами, ей, конечно, хотелось щегольнуть своей понятливостью. Но Гильом был сильно обеспокоен этой историей с Бергасом и отделывался от Роземонды лишь общими фразами, не выходя за пределы довольно холодной вежливости.
Тем временем Гиацинт возобновил знакомство с Франсуа и Антуаном, своими товарищами по лицею Кондорсе. Он скрепя сердце приехал с принцессой, словно выполнял тяжелую обязанность, приехал только потому, что боялся ее ослушаться, с тех пор как она колотила его. Он от всей души презирал домишко этого проклятого химика. Ему захотелось подчеркнуть свое превосходство над школьными товарищами, которые шли проторенной дорожкой и трудились, как вся эта чернь.
— А! Вот как! — процедил он сквозь зубы, глядя, как Франсуа делает выписки из какой-то книги. — Ты поступил в Нормальную школу и, по-видимому, готовишься к экзамену… Ну а я, что поделаешь! — не выношу никаких ошейников! Я сразу тупею, как только являюсь на экзамен или там на конкурс. Бесконечность — вот единственный приемлемый для меня путь… А потом наука, между нами говоря, сплошное надувательство и до того суживает горизонт! Лучше уж оставаться младенцем, который проникает взором в невидимый мир. Он знает больше ученых.
Франсуа, порой любивший пошутить, насмешливо с ним согласился:
— Конечно, конечно. Но надо иметь известные природные, данные, чтобы остаться на всю жизнь ребенком… К несчастью, я охвачен ненасытной жаждой знания. Как это ни печально, я просиживаю целые дни над книгами, забивая себе голову всякой всячиной. О, я, конечно, никогда не приобрету глубоких познаний, потому-то мне и хочется все больше и больше знать… Согласись, что всякий живет на свой лад, одни работают, другие бездельничают. О, конечно, процесс труда не так уж изящен, ты, наверное, считаешь, что он менее эстетичен, чем безделье.
— Вот именно, менее эстетичен, — подхватил Гиацинт. — Истинная красота всегда невыразима, а реальная жизнь так низменна.
Простоватый, хотя и притязавший на гениальность Гиацинт, по-видимому, все же почувствовал насмешку. Он повернулся к Антуану, работавшему над гравюрой на дереве. То был портрет Лизы, сидящей за книгой; он уже много раз бросал его и снова начинал, пытаясь изобразить пробуждение сознательной жизни в этом ребенке.
— А ты, ты делаешь гравюры… Я отказался от стихов, так и не докончил свою поэму «Конец женщины», потому что слова показались мне бесконечно грубыми, громоздкими и грязными, совсем как камни мостовой, и я решил заняться рисованием, может быть, даже гравюрой… Но какой рисунок может передать тайну, потусторонний мир, единственно существующий мир, который один имеет значение, ведь правда? Каким карандашом его изобразить? На какой доске его передать? Это должно быть нечто неосязаемое, несуществующее, некий намек на сущность вещей и живых созданий.
— А между тем, — грубовато перебил его Антуан, — искусство может только материальными средствами передать то, что ты называешь сущностью вещей и живых созданий, — вернее сказать, общий смысл, по крайней мере, тот, который мы в них вкладываем… Передавать жизнь, о, этого я страстно желаю. И не существует иной тайны, кроме тайны жизни, единой реальности, объемлющей всех существ и все вещи. Когда моя доска оживает, я радуюсь, я что-то создал.
Гиацинт выразил гримасой свое отвращение к плодовитости. Хорошенькое дело! Любой мужлан может дать жизнь ребенку. Как прекрасен и изящен образ бесполого существования, имеющего бытие в самом себе! Он начал было излагать свою мысль, запутался и перешел на другую тему: оказывается, в Норвегии у него окончательно созрело убеждение, что во Франции больше нет искусства и литературы, они погибли из-за того, что создано и написано слишком много низменного.
— Одно очевидно, — с улыбкой заключил Франсуа, — достаточно ничего не делать, чтобы быть талантливым.
Пьер и Мария смотрели и слушали. Им было не по себе, и их удивляло вторжение этих людей в серьезную и спокойную атмосферу мастерской. Маленькая принцесса была очень приветлива. Она подошла к девушке посмотреть вышивание, которое та кончала, и стала восхищаться необычайной тонкостью работы. Прежде чем уйти, она захотела во что бы то ни стало получить автограф Гильома и заставила Гиацинта для этой цели взять из экипажа альбом. Он повиновался ей с явным неудовольствием, они уже надоели друг другу; но пока ему на смену не пришел другой, она не отпускала его, ей нравилось держать его в страхе. Она заявила учителю, что этот день останется для нее навсегда памятной датой, и увлекла за собой Гиацинта, бросив на прощание слова, вызвавшие у всех улыбку:
— Эти молодые люди знали Гиацинта в лицее… Не правда ли, славный мальчуган? Он был бы совсем мил, если бы захотел жить, как все люди.
В тот же день Янсен и Баш пришли к Гильому на весь вечер. Интимные встречи, имевшие место в Нейи, теперь раз в неделю происходили на Монмартре. В такие дни Пьер очень поздно уходил от брата. Когда женщины и трое юношей поднимались наверх в свои спальни, в мастерской, высоко над ночным Парижем, залитым светом газовых фонарей, еще долго-долго шла беседа. Теофиль Морен явился около десяти часов, он задержался, проверяя ученические сочинения; на нем как на педагоге лежала эта тяжелая и скучная обязанность, и ему случалось просиживать над тетрадками целые ночи напролет.
— Да это сумасшедшая! — воскликнул Янсен, когда Гильом рассказал ему о посещении принцессы. — Одно время, когда я связался с ней, я надеялся использовать ее в наших целях. Она казалась такой убежденной, такой смелой!.. О, на самом деле, это отъявленная сумасбродка, она просто-напросто ищет каких-то новых ощущений.
Он покраснел от возбуждения, утратил свою обычную холодность и позабыл напустить на себя таинственность. Без сомнения, ему нелегко дался разрыв с той, которую он прежде называл маленькой королевой анархии, чье огромное состояние, многочисленные и разнообразные знакомства, казалось, должны были послужить для пропаганды и обеспечить победу анархистам.
— Вы знаете, — продолжал он, успокаиваясь, — ее особняк был разграблен и весь запакощен. Это подстроено полицией… Накануне процесса Сальва решили окончательно погубить анархистов в глазах буржуа.
Гильом сосредоточенно его слушал.
— Да, она говорила мне об этом… Но мне кажется неправдоподобной такая версия. Если бы Бергас действовал только по указке полиции, то его арестовали бы вместе с остальными, как было дело в тот раз, когда одним махом взяли Рафанеля и тех, кого он предал… К тому же я немного знаю Бергаса, это настоящий грабитель.
Голос его звучал глухо, и он жестом выразил свое глубокое огорчение.
— Я, конечно, понимаю всякого рода законные требования, даже готов оправдать какие угодно карательные меры… Но грабеж, наглый грабеж с корыстными намерениями, — нет! — я не могу этого переварить. Это никак не вяжется с моей возвышенной надеждой на прекрасное общество будущего, построенное на справедливости… Ограбление особняка де Гарт прямо меня убивает.
На губах Янсена появилась загадочная улыбка, тонкая и острая, как лезвие ножа.
— Ба! Да это проявление атавизма; в вашем лице протестуют многочисленные поколения предков, воспитанных в известных верованиях. Ничего не поделаешь, придется отнять силою то, чего не желают дать по доброй воле… Но меня злит этот Бергас. Нечего сказать, нашел время продавать себя! Эффектный грабеж даст новую пищу красноречию прокурора, который потребует головы Сальва.
Янсен упрямо отстаивал свое предположение, внушенное застарелой ненавистью к полиции, а может быть, и ссорой с Бергасом, которого он изредка навещал. Этот человек без родины, разъезжающий по всей Европе и мечтающий о кровавой расправе, оставался для всех загадкой. Уклоняясь от спора, Гильом проговорил только:
— О, этот злополучный Сальва! Все валится на него, и он будет раздавлен! Вы и представить себе не можете, друзья мои, до чего возмущает меня эта история! Я прямо не могу выносить всей несправедливости и лжи, о которой слышу каждый день. Это глубоко оскорбляет меня и приводит в отчаяние. Ну конечно же, это безумец! Но он заслуживает всяческого снисхождения. Это, в сущности говоря, мученик! И вот он стал козлом отпущения, на него навьючили все проступки народа, и он должен отвечать за всех нас.
Баш и Морен молча покачивали головой. Им обоим внушал ужас анархизм. Морен совершенно позабыл, что его прежний учитель Прудон первым произнес это слово и даже пытался осуществлять свои идеи, — он помнил только о своем кумире Огюсте Конте, замкнулся вместе с ним в мире наук, где царил идеальный иерархический строй, и готов был покориться какому-нибудь добродушному тирану в ожидании, пока народ, приобщенный к просвещению и умиротворенный, станет достойным счастья. А Баш, этот старый гуманист мистического толка, возмущался чрезмерным индивидуализмом и жестокостью анархистских идей. Он тихонько пожимал плечами и заявлял, что у Фурье можно найти разрешение всех проблем: он предвосхитил будущее человечества, провозгласив союз таланта, труда и капитала. Но и Башу и Морену не нравилась буржуазная республика, при которой так долго приходилось дожидаться реформ. Они уверяли, что над их учением издеваются, что дела идут из рук вон плохо, и дружно негодовали, наблюдая, как представители самых противоположных партий хотят использовать случай с Сальва, чтобы удержаться у власти или чтобы ее захватить.
— Подумать только, — сказал Баш, — этот министерский кризис продолжается уже скоро три недели! Аппетиты разгораются. Прямо омерзительная картина… Вы читали сегодня в газетах, что президент снова решил вызвать Виньона к себе в Елисейский дворец?
— Уж эти мне газеты! — устало проговорил Морен. — Я их больше не читаю… На что они мне? Они так скверно издаются и все врут.
И в самом деле, министерский кризис необычайно затянулся. После заседания парламента, на котором произошло падение кабинета Барру, президент республики сделал соответствующие выводы, с присущим ему тактом пригласил победителя Виньона и поручил ему сформировать новый кабинет. Казалось, это была очень простая задача, которую можно разрешить в каких-нибудь два-три дня; уже давно называли имена приятелей молодого главы радикальной партии, которые должны были вместе с ним прийти к власти. Но внезапно стали возникать всякого рода препятствия. Целых десять дней Виньон боролся с самыми невероятными трудностями и наконец, выбившись из сил и опасаясь повредить своей дальнейшей карьере, решил отступиться и сообщил президенту, что отказывается от этой задачи. Президент тотчас же призвал к себе других депутатов, стал собирать сведения, расспрашивать. Наконец нашелся храбрец, который решил сделать новую попытку. И повторилось то же самое: сперва был выдвинут список, который надеялись утвердить через несколько часов, затем начались колебания, препирательства, потом все стало медленно замирать и кончилось полным провалом. Можно было подумать, что какие-то таинственные и могущественные силы, в свое время парализовавшие все усилия Виньона, снова оказывают противодействие, что работает целая шайка невидимых заговорщиков, с какими-то неведомыми целями срывая начинания политических деятелей. Со всех сторон возникали непреодолимые трудности: вражда на почве зависти, непримиримые разногласия, измены — и все это было сфабриковано в тени, чьими-то ловкими руками; причем оказывали всякого рода давление, пускали в ход угрозы, обещания, разжигали страсти, натравливали одних на других. Президент оказался в большом затруднении, и в конце концов ему снова пришлось вызвать Виньона, который уже собрался с силами, имел в кармане почти готовый список кандидатов и, очевидно, был уверен, что ему удастся за двое суток привести дело к концу.
— Но это еще не конец, — говорил Баш. — Весьма осведомленные лица утверждают, что Виньон потерпит неудачу, как и в первый раз… Вы знаете, я глубоко убежден, что тут орудует банда Дювильяра. В пользу какого господина они действуют, этого я не могу сказать. Но будьте уверены, что в первую очередь им нужно замять скандал с Африканскими железными дорогами… Если бы Монферран не был так скомпрометирован, я стал бы подозревать здесь его интриги. Вы обратили внимание, что «Глобус», который внезапно отступился от Барру, чуть ли не каждый день распространяется о Монферране с симпатией и уважением? Это очень важный симптом, так как Фонсег не имеет обыкновения великодушно защищать побежденных… Наконец, чего можно ждать от этой гнусной палаты депутатов? Там уж наверное готовится какая-нибудь очередная мерзость.
— А этот долговязый дуралей Меж, — подхватил Морен, — устраивает дела всех партий, только не своей! Ну, можно ли быть таким простофилей! Он воображает, что довольно свалить один за другим несколько кабинетов, чтобы создать свой собственный кабинет и стать его главой.
Все присутствующие стали дружно порицать Межа, к которому питали ненависть. Баш, в целом ряде вопросов согласный с проповедником государственного коллективизма, беспощадно осуждал все его речи, все его поступки. Что до Янсена, то он попросту считал Межа реакционным буржуа, которого необходимо в первую очередь смести с лица земли. Все они проявляли одну и ту же странность: порой они воздавали должное своим заклятым врагам, не разделявшим ни одной из их идей, но обвиняли в самых ужасных преступлениях тех, которые были почти одинаковых с ними взглядов и лишь кое в чем расходились.
Беседа продолжалась. Обсуждали различные системы идей, то сближая их, то противопоставляя одну другой, внезапно переходя от политических вопросов к критике газетных сообщений, то и дело отклоняясь от темы, возмущаясь разоблачениями Санье, чья газета каждое утро заливала Париж все новыми потоками зловонной грязи. Гильом, по своему обыкновению, расхаживал взад и вперед по комнате, погруженный в тягостное раздумье, но при имени Санье он вдруг встрепенулся.
— Ах, этот Санье! Каких только гадостей он не изобретает! Он, кажется, оплевал уже всех и все на свете. Думаешь, что он одних взглядов с тобой, и вдруг он тебя всего забрызгает грязью… Разве он не сообщил вчера, что, когда арестовали Сальва в Булонском лесу, на нем были обнаружены поддельные ключи и кошельки, похищенные у гуляющих! Вечно Сальва! Сколько статей посвящают Сальва! Достаточно напечатать его имя, чтобы стали расхватывать газеты. Сальва — счастливая находка для проходимцев, замаранных в авантюре с Африканскими железными дорогами! Сальва — поле битвы, где решаются судьбы министров! Все пользуются им, и все его убивают.
После этих слов, в которых звучали негодование и жалость, друзья стали расходиться. Пьер сидел у широкого окна, за которым виднелся переливающийся огнями необъятный Париж, часами слушал разговоры, не произнося ни слова. Его раздирали сомнения; в его душе происходила борьба, и он не получал ни помощи, ни облегчения от представителей этих противоречивых учений, готовых разрушить старый мир, но не способных дружными усилиями построить новый мир, основанный на справедливости и правде. И ночной Париж, мерцавший огнями, подобно летнему небу, усеянному мигающими звездами, оставался для него великой загадкой: то был черный хаос, темно-серый пепел, усеянный искрами, из недр которого должна была разгореться заря. Какое будущее созревает там для всей земли? Какие слова разнесутся оттуда по всем концам света, властно возвещая спасение и счастье человечеству?..
Когда Пьер собрался наконец уходить, Гильом положил ему руки на плечи и посмотрел на него долгим взглядом, в котором светился не только гнев, но и глубокая нежность.
— Ах, бедный мой малыш! Ты тоже страдаешь, я наблюдал за тобой все эти дни. Но ведь ты хозяин своей души, ты борешься с собой и можешь победить себя, а вот мир никак нельзя победить, когда в нем — причина твоих страданий, причина жестокости и несправедливости!. Да ну же, будь молодцом, даже в горе не теряй рассудка — и, поверь, ты успокоишься.
В эту ночь, когда Пьер вернулся в свой домик в Нейи, который посещали только призраки отца и матери, он долго не мог заснуть, в его душе происходила отчаянная борьба. Еще никогда ему не внушала такого отвращения ложь, в которой он жил, этот сан, который стал для него пустой формой, эта сутана, под которой он прятал свое неверие. Все, что он видел и слышал в этот день в мастерской брата, произвело на него сильное впечатление: нищета одних, бесплодные и вздорные порывы других, глубокая потребность в новом, более справедливом общественном строе, проглядывавшая сквозь противоречия и нелепости. Быть может, все это пробудило в нем острую жажду иной жизни, честной, протекающей нормально при ярком дневном свете. Теперь, когда он вспоминал о долгих годах, прожитых как бы во сне, о суровой и одинокой жизни, какую он вел, о своей незаслуженной репутации святого, он весь содрогался от стыда, испытывая угрызения совести, и у него становилось тяжело на душе оттого, что он столько времени лгал. Решено, он больше не будет лгать, даже из сострадания к людям, из желания даровать им возвышенную иллюзию. Но как трудно сорвать с себя сутану, которая словно приросла к нему, и как страшно думать, что он вместе с ней сорвет всю кожу, останется окровавленный, бессильный и никогда уже не станет таким, как все люди!
Всю ночь продолжалась борьба. Пьера терзали сомнения: да примет ли еще его жизнь? Разве не отмечен он навеки роковой печатью одиночества? Ему казалось, что произнесенный им обет выжжен у него на теле каленым железом. Одеваться как все мужчины — зачем это? Ведь он уже больше не мужчина. Он жил до сих пор в каком-то беспрерывном трепете, беспомощный и отрекшийся от всего земного, во власти мечтаний и снов. Он больше ничего не может, ничего не может! Эта мысль пронзала его ужасом, и он терял последние силы. И наконец, в порыве отчаяния он принял решение, потому что этого требовала честность.
На следующий день Пьер пришел на Монмартр в брюках и пиджаке темного цвета. Бабушка и молодые люди, не желая его смущать, не выразили удивления ни возгласом, ни взглядом. Разве это не естественно с его стороны? Они встретили его спокойно, как будто ничего не произошло, постарались даже быть приветливее обычного, чтобы подбодрить его. Но Гильом позволил себе ласково улыбнуться. Он считал это делом своих рук. Как он и ожидал, началось долгожданное выздоровление, и происходило оно в его доме, на ярком солнце, в потоке жизни, вливавшемся в мастерскую сквозь широкое окно.
Мария тоже подняла голову и посмотрела на Пьера. Она и не подозревала, сколько страданий причинили ему ее трезвые слова: «Почему же вы ее не снимете?» И ей попросту подумалось, что в этом костюме ему куда удобнее будет работать, чем в сутане.
— Пьер, пойдите сюда, что я вам покажу… Когда вы пришли, я наблюдала, как ветер отклоняет к западу дымки городских труб. Они совсем как корабли, бесчисленная эскадра, обагренная закатом. Да, да! Золотые корабли, тысячи золотых кораблей отплывают в океан из гавани Парижа и понесут просвещение и мир во все уголки земли.
III
Через два дня Пьер уже привык к своей новой одежде и больше о ней не думал. Но вот однажды утром, поднявшись на Монмартр, он повстречал аббата Роза перед собором Сердца Иисусова.
Старый священник с трудом его узнал в светском платье. Он был потрясен, взял Пьера за руки и долго молча смотрел на него. Глаза его увлажнились слезами.
— О сын мой, — проговорил он, — с вами приключилась великая напасть. Я так этого боялся! Я не говорил вам об этом, но чувствовал, что у вас в душе уже нет бога… Ах, какой ужасный удар вы мне нанесли в самое сердце!
Весь дрожа, он отвел Пьера в сторону, словно боясь привлечь внимание изредка проходивших мимо людей. Силы покинули его, и он опустился на кучу кирпича, оставшуюся в траве после постройки.
 Искреннее горе старого друга, так нежно его любившего, взволновало Пьера гораздо сильнее, чем могли бы это сделать упреки и проклятия. У него на глазах тоже выступили слезы — такую боль причинила ему эта встреча, которой ему, впрочем, следовало бы ожидать. Он снова раздирал свое сердце и проливал чистейшую кровь, порывая с этим святым человеком, вместе с которым так долго верил в силу милосердия и надеялся, что доброта спасет мир. Они создавали сообща столько утешительных иллюзий, так дружно боролись со злом, столько приносили жертв и столько раз прощали врагов, в надежде приблизить счастливое будущее! И вот они расстаются, он, человек еще молодой, возвращается в мир живых, покидая старика, который остается один со своими мечтами и тщетными надеждами!
Искреннее горе старого друга, так нежно его любившего, взволновало Пьера гораздо сильнее, чем могли бы это сделать упреки и проклятия. У него на глазах тоже выступили слезы — такую боль причинила ему эта встреча, которой ему, впрочем, следовало бы ожидать. Он снова раздирал свое сердце и проливал чистейшую кровь, порывая с этим святым человеком, вместе с которым так долго верил в силу милосердия и надеялся, что доброта спасет мир. Они создавали сообща столько утешительных иллюзий, так дружно боролись со злом, столько приносили жертв и столько раз прощали врагов, в надежде приблизить счастливое будущее! И вот они расстаются, он, человек еще молодой, возвращается в мир живых, покидая старика, который остается один со своими мечтами и тщетными надеждами!
Пьер, в свою очередь, взял аббата за руки и горестно сказал:
— Ах, друг мой, отец мой, я выбрался из ужасной бездны, и мне вас одного жаль потерять. Мне казалось, что я уже выздоровел, но стоило увидеть вас, и у меня прямо разрывается сердце… Прошу вас, не плачьте надо мной, не упрекайте меня за мой поступок. Это было необходимо, и если бы я спросил вашего совета, вы сами сказали бы мне, что лучше снять с себя сан, чем оставаться священником неверующим и бесчестным.
— Да, да, — кротко сказал аббат Роз, — у вас не было веры. Я подозревал об этом и очень тревожился, сидя, что вы проявляете такое рвение и ведете такую праведную жизнь, ведь я догадывался, что в душе у вас отчаяние. Помните, как я, бывало, целыми часами вас утешал. Вы должны выслушать меня, я хочу вас спасти… Увы, я не какой-нибудь ученый теолог и не стану с вами спорить, обращать вас на путь истинный, цитируя Священное писание и ссылаясь на догматы. Но вспомните о милосердии, дитя мое, и только во имя милосердия продолжайте свое служение ближнему, утешая людей и внушая им надежду.
Пьер уселся рядом с аббатом в этом глухом уголке у подножия собора.
— Милосердие! Милосердие! — горячо возразил он. — Когда я убедился в его бессилии и обнаружил его неминуемое банкротство, священник умер во мне… Неужели вы до сих пор еще верите в благотворительность? Ведь вы всю жизнь только и делали, что давали, а какой был от этого толк для вас и для других? По-прежнему царит нищета; бедняков становится все больше, и разве можно сказать, когда окончатся все эти ужасы?.. Вы скажете: награда после смерти, справедливое воздаяние в раю? Ах, разве это справедливость! Это обман, от которого человечество страдает уже долгие века.
И Пьер напомнил аббату, какую жизнь они с ним вели в квартале Шарони, когда подбирали бездомных ребятишек, оказывая помощь их родителям, ютившимся в трущобах. К чему привели все эти героические усилия? Аббат навлек на себя неудовольствие начальства, подвергся своего рода изгнанию, отдалившему его от бедняков, и ему угрожают еще более суровой карой, если он снова вздумает компрометировать религию, слепо, без разбора раздавая милостыню. А теперь, когда за ним наблюдают, его подозревают, разве он не видит, что вокруг него безбрежное море нищеты? Сколько бы он ни давал, будь даже у него в руках миллионы, он только затянул бы этим агонию бедняков, которые, если и получат сегодня кусок хлеба, завтра его уже не получат. Ведь он бессилен. Раны, которые он только что перевязал, тут же вновь открываются, и вскоре весь социальный организм будет поражен гангреной. Старый священник слушал его, вздрагивая и покачивая седою головой. Наконец он проговорил:
— Что из того! Что из того, дитя мое! Надо давать, все время давать, давать, несмотря ни на что. Это единственная наша радость… Если вам мешают догматы, придерживайтесь только Евангелия — и вы спасетесь делами милосердия.
Тут Пьер в порыве негодования высказал свой протест, забывая, что он разговаривает с простецом, который живет только сердцем и не способен следить за его рассуждениями.
— Опыт показал, что милосердие не в силах спасти человечество. Спасенье только в справедливости. Этого жаждут теперь все народы, жаждут все более и более страстно. Евангелие существует почти две тысячи лет, и за это время обнаружилось его бессилие. Христос ничего не искупил, страдания человечества ничуть не уменьшились, и всюду царит такая же несправедливость. Евангельская мораль теперь уже изжита и не принесет людям ничего, кроме волнений и вреда. Надо освободиться от нее.
Таково было убеждение Пьера. Какую страшную ошибку совершили люди, избрав законодателем общественной жизни Христа, который жил в другой социальной среде, на другой земле, в другие времена! И если даже сохранить из его морали и учения лишь то, что можно назвать общечеловеческим и вечным, опять-таки небезопасно воплощать в жизнь эти незыблемые принципы в различных странах и в различные века. Ни одно общество не сможет существовать, если будут соблюдать евангельские заветы. Христос разрушитель всякого порядка, всякого труда, всякой жизни. Он отвергает женщину и землю, отвергает вечную природу, извечную способность производить как в мире вещей, так и среди живых существ. Впоследствии на этих основах было построено чудовищное здание католицизма, который воцарился, устрашая и угнетая людей. Первородный грех, эта ужасная наследственность, накладывает свою печать на каждого человека, причем его пагубное действие не смягчается, наперекор утверждениям пауки, ни воспитанием, ни влиянием среды и обстоятельств. Не существует более мрачного представления о человеке: с самого рождения он оказывается в плену у дьявола и обречен бороться с самим собой до самой смерти. Безнадежная, бессмысленная борьба! Ведь речь идет о том, чтобы в корне изменить всю человеческую природу, убить плоть, убить рассудок, подавить все страсти, которые почитаются преступными, преследовать дьявола до глубин морских, на горах и в лесах и вместе с ним убить все воспроизводящие силы природы. Земная жизнь — это вместилище греха, это ад, полный искушений и мук, через который надо пройти, дабы заслужить небесное блаженство. Католицизм — верный пособник полиции, орудие деспотизма, религия смерти, которую можно было терпеть только потому, что она проповедовала милосердие, но ей неизбежно придет конец, так как народы жаждут справедливости. Жалкий обманутый бедняк уже больше не верит в рай, он хочет, чтобы каждый получал по заслугам здесь, на земле; вечная жизнь возрождается в образе благой богини, земная любовь и труд становятся законом бытия, женщина-мать вновь обретает уважение, бессмысленный кошмар ада рассеивается, уступая место могучей, вечно рождающей природе. Ясный латинский ум в союзе с современной наукой разбивает в прах древнюю семитическую евангельскую мечту.
— Вот уже восемнадцать столетий, — заключил Пьер, — как христианство задерживает человечество на его пути к правде и справедливости. Человечество продолжит свою эволюцию, только когда упразднит эту религию, когда Евангелие больше не будет для него абсолютным мерилом истины и добра, а лишь одной из философских книг.
Аббат Роз воздел к небу дрожащие руки.
— Молчите, молчите, мой мальчик, вы богохульствуете!.. Я знал, что вас мучают сомнения, но я считал, что вы готовы терпеливо выносить страдания, покорились судьбе и пойдете по пути самоотречения. Что же это с вами стряслось, что вы так резко порвали с церковью? Я вас больше не узнаю. Вами овладела какая-то страсть, вас увлекает какая-то непреодолимая сила! Что же это такое? Что могло так на вас повлиять?
Пьер слушал его в изумлении.
— Да нет же, уверяю вас, я такой же, каким был и прежде. Это давно во мне назревало, и вот наступила неизбежная развязка… Кто мог оказать на меня влияние, когда ни один человек не вошел в мою жизнь? Какое чувство могло мною овладеть, когда, вглядываясь в свою душу, я не вижу в ней ничего нового? Я все тот же, безусловно все тот же.
Но в голосе его звучало некоторое сомнение. Правда ли, что с ним ничего не произошло? Он снова задавал себе этот вопрос, но не получал ясного ответа, ничего не мог в себе обнаружить. Это было лишь сладостное пробуждение. Он испытывал беспредельную жажду жизни, потребность широко распахнуть объятия и заключить в них все живое, весь мир. Он чувствовал, что его подхватил и куда-то уносит радостный вольный ветер.
Аббат Роз был слишком наивен, чтобы понять, в чем дело. Он покачивал головой, усматривая здесь козни дьявола. Отступничество его мальчика, как он называл Пьера, удручало его. Но он продолжал увещевать молодого человека и весьма некстати посоветовал Пьеру повидаться с монсеньером Март а , открыть ему свою душу: старик надеялся, что авторитетный прелат найдет нужные слова и вернет заблудшего на путь веры. Но Пьер заносчиво отвечал, что уходит из церкви именно потому, что встретил там этого мастера лжи, этого деспота и бесчестного церковного дипломата, который мечтает хитростью привлечь людей к богу. Аббат Роз в полном отчаянии вскочил на ноги и прибег к последнему аргументу — указал Пьеру жестом на встававший перед ними недостроенный собор, гигантский тяжеловесный куб, еще не увенчанный куполом.
— Это дом божий, дитя мое. Здесь происходит искупление, побеждается зло, приносится покаяние и подается прощение. Вы совершали здесь мессу, и вы покидаете это святилище, как клятвопреступник и святотатец.
Пьер тоже встал. И он ответил вдохновенно, полный здоровья и жизненных сил:
— Нет, нет! Я ухожу по доброй воле, как выходят из погреба на свежий воздух, на яркое солнце. Там нет бога. Там бросают вызов рассудку, правде, справедливости. Этому зданию нарочно придали гигантские размеры. Это цитадель бессмыслицы, вздымающаяся высоко над Парижем и бросающая ему дерзкие угрозы.
Увидав опять слезы в глазах старого священника, Пьер почувствовал, что вот-вот разрыдается, — так болезнен для него был этот разрыв, ему хотелось бежать.
— Прощайте, прощайте!
Но аббат Роз обнял его, целуя, как заблудшую овечку, самую дорогую его сердцу.
— Не надо, не надо говорить «прощайте», мой мальчик! Скажите мне: «До свидания!» Скажите, что мы еще встретимся среди плачущих и голодных! Сколько бы вы ни говорили, что милосердие потерпело крах, — разве нас с вами не связала навеки наша любовь к беднякам?..
Пьер, подружившись со своими племянниками, этими рослыми молодцами, в несколько уроков научился ездить на велосипеде, чтобы кататься с ними по утрам. Уже два раза он ездил с ними и с Марией к Энгиенскому озеру по дорогам, вымощенным булыжником. Однажды утром девушка решила прокатиться с ним и с Антуаном до Сен-Жерменского леса. Но в последний момент Антуан не смог поехать. На Марии были короткие штаны из черной саржи и такая же курточка, из-под которой виднелась шелковая кремовая блузка. Апрельское утро было такое ясное и заманчивое, что она воскликнула:
— Ну, что ж! Я беру вас с собой, мы поедем вдвоем!.. Я непременно хочу, чтобы вы испытали, как это чудесно нестись по гладкой дороге среди высоких деревьев.
Но так как Пьер был еще не слишком опытным велосипедистом, они решили, что поедут по железной дороге до Мезон-Лафитта, захватив с собой велосипеды. Потом проедут на велосипедах до леса, пересекут его и поднимутся к Сен-Жермену, откуда вернутся в Париж опять-таки по железной дороге.
— Вы вернетесь к завтраку? — спросил Гильом. Его забавляла эта эскапада, и он с улыбкой смотрел на брата, который был весь в черном — в черных шерстяных чулках, коротких штанах и куртке из черного шевиота.
— Ну конечно, — отвечала Мария. — Сейчас еще около восьми, у нас времени хоть отбавляй. Впрочем, садитесь без нас за стол, мы тут же подъедем.
Утро было восхитительное. Вначале Пьеру представлялось, что он едет с добрым товарищем, и казалась вполне естественной эта прогулка, эта поездка вдвоем в теплых лучах весеннего солнца. Почти одинаковая одежда, не стеснявшая движений, как-то сближала их; им было весело, и они чувствовали себя легко и непринужденно. К этому примешивалось еще другое: свежий бодрящий воздух, наслаждение быстрой ездой, радостное сознание своего здоровья, свободы и близости к природе.
Когда они очутились одни в пустом вагоне, Мария ударилась в воспоминания о днях, проведенных в лицее.
— Ах, друг мой, вы и представить себе не можете, с каким увлечением там, в Фенелоне, мы бегали взапуски! Мы подвязывали, вот так, юбки шнурками, чтобы легче было бежать; ведь нам еще не разрешали надевать штанишки, какие теперь на мне. Мы кричали, пускались во весь опор, бешено рвались вперед, волосы у нас разлетались, и мы становились красные, как пион… Ба! Это не мешало нам крепко работать, — совсем наоборот! На уроках мы соревновались, как и во время перемен, каждой из нас хотелось знать больше других, и мы боролись за первенство.
Вспоминая об этом, она от души смеялась. Пьер с восхищением смотрел на нее, — она была такая свежая, розовая, и ей так была к лицу черная фетровая шляпка, приколотая серебряной булавкой к густому шиньону. Ее великолепные черные волосы были зачесаны кверху, и виднелся затылок, белый и неявный, как у ребенка. Еще никогда не казалась она ему такой сильной и гибкой, у нее были крепкие бедра, широкая грудь, притом удивительное изящество, грация движений. Когда она смеялась, глаза у нее так и искрились весельем, а рот и подбородок, которые были чуть тяжеловаты, выражали беспредельную доброту.
— О, эти штанишки, эти штанишки! — весело говорила она. — И подумать только, есть женщины, которые непременно хотят кататься на велосипеде в юбке!
Пьер заметил, что ей очень к лицу такой костюм, причем он вовсе не желал сказать комплимент, просто высказал свое наблюдение.
— О, я не в счет!.. — возразила она. — Ведь я не из хорошеньких, я здорова, вот и все… Но вы поймите только! Женщинам предоставляется исключительный случай одеться поудобнее; они могут лететь как птицы, освободив ноги, которые у них вечно связаны, — и вдруг они отказываются! Они воображают, что им больше идут короткие, как у школьниц, юбки, но они ошибаются! А что до стыдливости, то, мне думается, лучше показывать свои икры, чем плечи.
У нее вырвался озорной жест школьницы.
— А потом, разве думаешь об этом, когда катишься?.. Тут штанишки как раз хороши, а юбка — сущая ересь.
В свою очередь, она поглядела на него, и в этот миг ее поразило, до чего он изменился с тех пор, как она увидела его в первый раз: он был тогда такой мрачный, в длинной сутане, исхудалый, бледный, с печатью страдания на лице. Чувствовалось, что в душе у него пустота, как в гробнице, из которой даже пепел унесен ветром. А теперь он казался обновленным, лицо его посветлело, высокий лоб словно излучал спокойствие и надежду, в выражении глаз и губ сквозила какая-то доверчивая нежность, присущая ему жажда любви, отдачи себя и жажда жизни. Теперь ничто не выдавало в нем священника, только волосы были несколько короче на месте тонзуры, которая уже почти не проглядывала сквозь их гущу.
— Почему вы на меня смотрите? — спросил он.
Она отвечала со всей искренностью:
— Я смотрю и радуюсь, до чего вам на пользу работа и свежий воздух! Теперь вы мне куда больше нравитесь. У вас был такой скверный вид! Я думала, что вы больны.
— Так оно и было, — ответил он просто.
Но вот поезд остановился в Мезон-Лафитте. Они вышли из вагона и сразу же поехали по дороге, которая вела к лесу. Она слегка поднималась в гору, до самых Мезонских ворот, у которых в рыночные дни теснились повозки крестьян.
— Я поеду вперед, хорошо? — весело крикнула Мария. — Ведь вы еще не любите встречаться с экипажами.
Она ехала на велосипеде перед ним, тоненькая и стройная, выпрямившись на седле. Временами она оборачивалась и с доброй улыбкой смотрела, следует ли он за ней. Когда они обгоняли экипаж, она ободряла его, распространяясь о достоинствах их велосипедов, выпущенных заводом Грандидье. Это была «Лизетта», широко распространенная марка. Над этими велосипедами работал Том а , улучшая их конструкцию. Они быстро раскупались в магазинах удешевленных цен по сто пятьдесят франков за штуку. Пожалуй, они с виду тяжеловаты, зато отличаются замечательной прочностью и очень надежны. Настоящие дорожные машины, говорила она.
— А вот и лес. Подъем кончился, и сейчас мы поедем по прекрасным аллеям. Там катишься, как по бархату.
Пьер нагнал ее. Они ехали рядом, с равномерной быстротой, по широкой прямой дороге между двумя стенами величавых деревьев. Завязалась дружеская беседа.
— Видите, я уже уверенно чувствую себя в седле. Право же, вы вскоре сможете гордиться своим учеником.
— Я в этом не сомневаюсь. Вы очень крепко сидите и скоро будете ездить лучше меня. Ведь в этом спорте женщина никогда не сравняется с мужчиной… Но все-таки для девушки велосипед прекрасное средство воспитания.
— То есть как это?
— О, на этот счет у меня свои убеждения… Если когда-нибудь у меня будет дочь, я с десяти лет посажу ее на велосипед, чтобы она приучалась к самостоятельности.
— Система воспитания, основанная на опыте…
— Ну конечно… Посмотрите-ка на взрослых девушек, которых мамаши не отпускают ни на шаг от своих юбок. Их постоянно запугивают, не дают проявлять инициативу, не развивают в них ни ума, ни воли. Они даже не решаются одни перейти через улицу, им на каждом шагу мерещатся опасности… А вот посадите совсем юную девчушку на велосипед, и пусть себе одна разъезжает по всем дорогам. Волей-неволей ей придется глядеть во все глаза, чтобы не налететь на камень, чтобы вовремя сделать поворот. Прямо на нее мчится экипаж, встречается какая-нибудь опасность, и ей надо мгновенно принять решение, повернуть руль твердой рукой и в нужную сторону, если она не хочет быть изувеченной. Разве все это не закаляет непрестанно волю и не приучает к самообладанию и самозащите?
Он засмеялся.
— Тогда все вы будете уж чересчур здоровые.
— Ну разумеется, надо быть здоровыми. Прежде всего необходимо крепкое здоровье, чтобы быть добрыми и счастливыми… Но я полагаю, что девушки, которые научатся объезжать камни на дороге и делать быстрые, ловкие повороты, и в своих взаимоотношениях с людьми, и в области чувств сумеют преодолевать трудности, принимать благоразумные решения, будут руководствоваться рассудком и действовать открыто, честно и осмотрительно. Воспитание в том и заключается, чтобы дать человеку знания и развить в нем волю.
— Так, значит, велосипед орудие эмансипации женщины?
— Боже мой! Почему бы и нет? Это кажется смешным, а между тем посмотрите, какой путь уже проделан нами: короткие штаны не связывают движения ног; совместные прогулки сближают женщину с мужчиной и делают ее равной ему; жена и дети повсюду следуют за мужем; добрые товарищи, вроде нас с вами, могут ездить по полям и лесам, и это никого не удивляет. А самым замечательным достижением будут воздушные и солнечные ванны на лоне природы, возврат к нашей общей матери-земле, которая станет для всех неисчерпаемым источником сил и новой радости!.. Смотрите, смотрите! Разве не прекрасен этот лес, через который мы с вами проезжаем? Как сладко вдыхать этот живительный воздух! Как это очищает вас, успокаивает и дает силы!
И в самом деле, лес, безмолвный в будничный день, дышал невыразимой прелестью. Справа и слева темнела чаща, обрызганная золотыми бликами. Стоявшее еще невысоко солнце освещало лишь одну сторону дороги, зажигая зеленую завесу листвы, а другая сторона тонула в тени, и там зелень казалась почти черной. Как восхитительно было лететь подобно ласточке, реющей низко над землей, но этой царственной аллее, вдыхая свежий воздух, напоенный запахом трав и листвы, чувствуя, как ветер бьет в лицо! Они едва касались земли колесами. Казалось, у них выросли крылья, и они неслись в едином порыве сквозь полосы света и тени, по этому огромному трепещущему лесу, с его мхами, ручьями, зверями и ароматами.
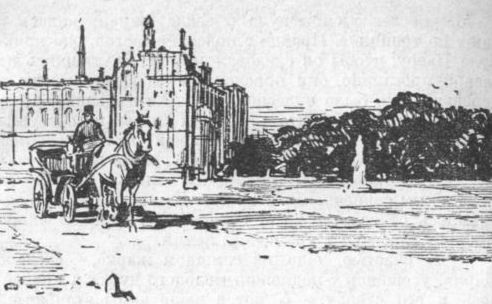 На перекрестке Круа-де-Нуай Мария не захотела остановиться. Там по воскресеньям чересчур людно, а она знает укромные уголки, где можно чудесно отдохнуть. Когда они стали приближаться к Пуасси и начался спуск, Мария подстрекнула Пьера, и они понеслись во весь дух. Как упоительно мчаться с быстротой вихря, сохраняя равновесие! Дыхание захватывает, серая дорога убегает из-под ног, а деревья по обеим ее сторонам разворачиваются, как пластинки веера. Ветер дует навстречу с ураганной силой. Ты мчишься вперед к горизонту, в беспредельную даль, которая неизменно отступает перед тобой. В сердце сладостная надежда, сброшены все оковы, и ты, как молния, прорезаешь простор. Ничто не может сравниться с этим восторгом, когда душа улетает в синее небо.
На перекрестке Круа-де-Нуай Мария не захотела остановиться. Там по воскресеньям чересчур людно, а она знает укромные уголки, где можно чудесно отдохнуть. Когда они стали приближаться к Пуасси и начался спуск, Мария подстрекнула Пьера, и они понеслись во весь дух. Как упоительно мчаться с быстротой вихря, сохраняя равновесие! Дыхание захватывает, серая дорога убегает из-под ног, а деревья по обеим ее сторонам разворачиваются, как пластинки веера. Ветер дует навстречу с ураганной силой. Ты мчишься вперед к горизонту, в беспредельную даль, которая неизменно отступает перед тобой. В сердце сладостная надежда, сброшены все оковы, и ты, как молния, прорезаешь простор. Ничто не может сравниться с этим восторгом, когда душа улетает в синее небо.
— Знаете что, — крикнула Мария, — мы не поедем в Пуасси, а повернем налево.
Они поехали по направлению к Аршер-о-Лож по уютной тенистой дороге, которая, сужаясь, поднималась в гору. Они замедлили ход, и приходилось крепко нажимать на педали, лавируя среди камней. Стало труднее ехать по песчаной дороге, размытой недавно прошедшими ливнями. Но разве усилия сами по себе не доставляют удовольствия?
— Вы скоро освоитесь. Так приятно побеждать препятствия… Я ненавижу слишком уж гладкие, накатанные дороги. Когда встречается небольшой подъем, от которого не слишком устают ноги, — это приятная неожиданность, это подхлестывает тебя и возбуждает… А потом, как хорошо чувствовать свою силу и мчаться, несмотря на дождь и ветер, преодолевая подъемы!
Он восхищался ее жизнерадостностью и мужеством.
— Ну, что ж, — спросил он, смеясь, — мы с вами отправляемся в путешествие вокруг Франции?
— Нет, нет! Мы уже приехали. Ну как, вы ничего не имеете против передохнуть? Право же, стоило немного потрудиться, чтобы попасть в такой тихий тенистый уголок, где так славно можно посидеть.
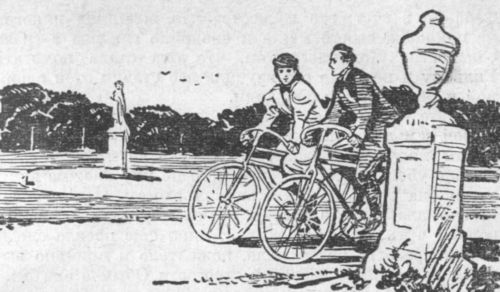 Мария легко спрыгнула с седла и направилась в чащу по тропинке. Пройдя с полсотни шагов, она крикнула Пьеру, чтобы он следовал за ней. Очутившись на тесной прогалине, они прислонили свои велосипеды к деревьям. Это было чудесное зеленое гнездышко, о каком только можно мечтать. Со всех сторон их обступил великолепный, царственно величавый безмолвный лес. Весна одарила его вечной юностью; легкая девственная листва оплетала ветви тончайшим зеленым кружевом, осыпанным солнечными искрами. Дыхание жизни поднималось от сочных трав, долетало из дальней чащи, опьяняя властными ароматами земли.
Мария легко спрыгнула с седла и направилась в чащу по тропинке. Пройдя с полсотни шагов, она крикнула Пьеру, чтобы он следовал за ней. Очутившись на тесной прогалине, они прислонили свои велосипеды к деревьям. Это было чудесное зеленое гнездышко, о каком только можно мечтать. Со всех сторон их обступил великолепный, царственно величавый безмолвный лес. Весна одарила его вечной юностью; легкая девственная листва оплетала ветви тончайшим зеленым кружевом, осыпанным солнечными искрами. Дыхание жизни поднималось от сочных трав, долетало из дальней чащи, опьяняя властными ароматами земли.
— К счастью, еще не слишком жарко, — сказала Мария, усевшись у подножия молодого дубка и прислонясь к его стволу. — А вот в июле дамы становятся красноватыми от жары, и с потного лица сходит пудра… Нельзя же быть всегда красивой.
— Мне ничуть не холодно, — заявил Пьер, расположившись у ее ног и вытирая пот со лба.
Она улыбнулась и сказала, что еще никогда не видела его таким свежим. Оказывается, и у него в жилах бежит кровь, это видно. Они стали болтать, как дети, как добрые товарищи, невинно шутя и смеясь, забавляясь всякими пустяками. Она беспокоилась о его здоровье, не хотела, чтобы он сидел в тени, ведь он так разгорячился. Чтобы ее успокоить, ему пришлось пересесть, выставив спину на солнце. Потом он спас ее от паука, от крупного черного паука, запутавшегося лапками у нее в волосах, которые капризно вились на затылке. Как настоящая женщина, она пронзительно вскрикнула от ужаса. Ну, не глупо ли бояться пауков? Она побледнела и дрожала, хотя и старалась взять себя в руки. Наступило молчание. Они смотрели с улыбкой друг на друга. Им было так хорошо вдвоем в этом весеннем лесу. Их связывала трогательная дружба. Им казалось, что они относятся друг к другу как брат и сестра; ей доставляло радость опекать его, а он был благодарен Марии, сознавая, что обязан ей своим исцелением, своим здоровьем, которое она ему дарила. Но они не опускали глаз, и ни разу их руки не встретились, когда они шарили в траве: оба они были чисты и невинны, как окружавшие их высокие дубы. Она не позволила ему убить паука, так как ее ужасало уничтожение живых существ. Затем она стала спокойно и рассудительно говорить о самых разнообразных предметах. Чувствовалось, что эта девушка много знает, ни при каких обстоятельствах не растеряется в жизни и всегда будет осуществлять лишь свою волю.
— Постойте, — воскликнула вдруг она, — да ведь нас ждут дома к завтраку!
Они встали и вернулись на дорогу, ведя свои велосипеды. Они быстро покатили, проехали мимо сторожек и прибыли в Сен-Жермен по великолепной аллее, которая идет от самого замка. Им так нравилось снова нестись бок о бок, подобно дружной парочке птиц, летящих с одинаковой скоростью. Позванивали звоночки, тихонько позвякивали цепи. И на свежем ветру они продолжали свою беседу, такую искреннюю и непринужденную, словно они были одни во всем мире и уносились в какую-то безбрежную даль и высоту.
Потом, когда они сидели в вагоне и ехали из Сен-Жермена в Париж, Пьер заметил, что Мария вдруг залилась густым румянцем. С ними в купе сидели две дамы.
— Ну, а теперь я вижу, вам жарко.
Она стала протестовать. Казалось, она чего-то стыдилась, потому что ее щеки пылали все жарче.
— Мне совсем не жарко. Вот потрогайте мои руки… Ну, не смешно ли так краснеть без всякого повода?
Он понял, что это приступ бессознательной девичьей стыдливости, заставляющей Марию краснеть. Она с досадой уверяла, что краснеет без всякой причины. Она и не подозревала, что сердце ее учащенно билось, то самое сердце, которое там, в лесной тишине, почивало сном невинности.
На Монмартре Гильом после отъезда детей (так он называл Пьера и Марию) принялся работать над таинственным взрывчатым веществом, которое хранилось в гильзах, спрятанных наверху, в спальне Бабушки. Это была очень опасная процедура: стоило допустить малейшую оплошность, не повернуть в нужный момент кран, и произошел бы страшный взрыв, который уничтожил бы дом со всеми его обитателями. Поэтому он предпочитал работать в одиночестве, чтобы не подвергать опасности других и чтобы никто не отвлекал его внимания. Однако на этот раз все трое сыновей трудились в просторной мастерской, а Бабушка, как всегда, спокойно шила, сидя возле химической печи. Но она была не в счет; эта мужественная женщина никогда не покидала своего места и спокойно глядела в глаза опасности. Кончилось тем, что она стала помогать Гильому и не хуже его изучила все стадии этой сложной и рискованной операции.
В это утро Гильом был чем-то озабочен, и Бабушка, в свои семьдесят лет чинившая белье без очков, по временам поднимала глаза, но, бросив на него быстрый взгляд, убеждалась, что он ничего не упускает из виду, затем она вновь принималась за работу. Она никогда не снимала черного платья; все зубы у нее были целы, волосы чуть тронуты сединой; лицо еще носило следы былой красоты, но высохло, пожелтело и приняло выражение какой-то ласковой строгости. Обычно она была скупа на слова, никогда не вступала в споры; все время занятая делом, она управляла всем домом и в случае нужды давала благоразумные советы, проявляя незаурядное мужество и волю. О ее мыслях и желаниях можно было узнать только из ее кратких ответов, в которых сказывалась справедливая и героическая душа.
Последнее время она стала еще молчаливее и целыми днями хлопотала по хозяйству в доме, где была полновластной хозяйкой, наблюдая прекрасными задумчивыми глазами за своим народом — тремя внуками, Гильомом, Марией и Пьером, которые безоговорочно ей повиновались, как своей законной королеве. Может быть, она уже предвидела близкие перемены, события, о которых вокруг нее никто не подозревал и не помышлял? Она стала еще серьезней, словно предвосхищая недалекое будущее, когда понадобится ее благоразумие и прибегнут к ее авторитету.
— Будьте внимательны, Гильом, сегодня вы что-то рассеянны, — сказала она наконец. — У вас какая-то неприятность, тяжело на душе?
Он посмотрел на нее, улыбаясь.
— Никакой неприятности, уверяю вас… Я думал о нашей милой Марии. Ей так хотелось прокатиться по лесу в этот яркий день.
Антуан поднял голову, на минуту оторвавшись от работы, между тем как его братья продолжали трудиться.
— Как досадно, что мне приходится заканчивать эту гравюру! Я с таким удовольствием проехался бы с ней.
— Ба! — спокойно сказал отец. — С нею Пьер, а Пьер — человек осторожный.
С минуту Бабушка вглядывалась в него, потом снова принялась за шитье. Благодаря своей неустанной заботливости, благоразумию и властной доброте она царила в этом доме, и перед ней склонялись и старые и малые. Родившись в протестантской семье, она со временем освободилась от религиозных верований, не подчинялась никаким общественным условностям, всегда и во всем руководствовалась идеалом человеческой справедливости и чтила ее именно потому, что сама долгое время страдала от людской несправедливости, которая и свела в могилу ее мужа. Она проявляла незаурядное мужество, презирая предрассудки и сознательно выполняя до конца свой долг. В свое время она жила для мужа, потом для дочери Маргариты, а впоследствии посвятила жизнь зятю и внукам — Гильому и его сыновьям. Теперь и Пьер, за которым она вначале недоверчиво наблюдала, вошел в их семью, получил права гражданства в счастливом мирке, которым она повелевала. Как видно, она признала его достойным. Она не имела обыкновения говорить, что именно побуждает ее принять то или иное решение. Долгое время она молчала, потом как-то вечером кратко сказала Гильому: «Вы хорошо сделали, что привели своего брата».
Около двенадцати Гильом воскликнул, не отрываясь от работы:
— Смотрите-ка, дети еще не вернулись. Подождем их немного и вместе с ними сядем за стол… Мне хотелось бы закончить.
Прошло еще четверть часа. Молодые люди прекратили работу и пошли в сад вымыть руки.
— Что-то Мария сильно запаздывает, — заметила Бабушка. — Лишь бы с ней ничего не случилось!
— О, она великолепно ездит, очень уверенно чувствует себя на велосипеде, — отвечал Гильом. — Я скорее беспокоюсь за Пьера.
Бабушка снова устремила взгляд на Гильома.
— Она уж наверно им руководит, они теперь хорошо ездят вдвоем.
— Конечно… А все-таки мне хотелось бы, чтобы они поскорей вернулись.
В эту минуту Гильому показалось, что он слышит велосипедные звонки.
— Это они! — воскликнул он, в порыве радости бросил свою печь и побежал в сад им навстречу.
Оставшись одна, Бабушка продолжала спокойно шить, не думая о том, что рядом с ней в аппарате заканчивается процедура изготовления порошка. Две минуты спустя Гильом вернулся, говоря, что он ошибся. Бросив взгляд на печь, он вдруг побледнел как смерть. Как раз во время его отсутствия наступил момент, когда следовало повернуть кран, чтобы благополучно закончилась реакция; а теперь через секунду-другую произойдет ужасающий взрыв, если смелая рука не повернет кран. Впрочем, слишком поздно, — человек, который на это отважится, будет мгновенно убит.
Уже неоднократно во время работы Гильом рисковал жизнью, сохраняя при этом полное самообладание. Но на этот раз он застыл на месте, не в силах сделать ни шага, охваченный страхом смерти. Он весь дрожал, что-то бессвязно бормотал в ожидании взрыва, который вот-вот разнесет в щепки весь их дом.
— Бабушка, Бабушка… Аппарат, кран… Кончено, кончено, кончено…
Старуха подняла голову, все еще не понимая, в чем дело.
— Что такое? Что с вами?
Увидав, что он, обезумев от ужаса, пятится назад, она взглянула на печь и вдруг поняла, какая им грозит опасность.
— Ну, что ж, это очень просто… Надо только закрыть кран, так ведь?
Не спеша, с невозмутимым видом, она положила шитье на столик, встала, подошла к аппарату и легкой, не дрогнувшей рукой повернула кран.
— Вот и все… Почему же вы, друг мой, не сделали это сами?
Он растерянно следил за ней глазами, оцепенев от ужаса, словно чувствуя дыхание смерти. Но вот кровь снова прилила к его щекам, он понял, что спасен, и, подойдя к теперь уже безобидному аппарату, вздохнул с облегчением. Он все еще вздрагивал и никак не мог опомниться от страха.
— Почему я его не закрыл? Да потому, что я испугался.
В этот момент вошли Мария и Пьер, довольные прогулкой, оживленно разговаривая и смеясь, внося с собой радость солнечного утра. Трое братьев — Том а , Франсуа и Антуан, — вернувшись из сада, принялись их поддразнивать: уж наверное Пьер сражался с коровой и прокатился по овсам. Но, увидев взволнованное лицо отца, все встревожились.
— Дети мои, сейчас я крепко струсил… О, это любопытное чувство — трусость, до сих пор я его еще не испытывал.
И он рассказал о грозившей им катастрофе, о своем смертельном испуге и о том, как Бабушка своим хладнокровием спасла их всех от неминуемой смерти. Она слегка отмахивалась рукой, словно хотела сказать, что нет никакого героизма в том, чтобы повернуть кран. Но на глазах у юношей выступили слезы, и все трое, один за другим, подошли к Бабушке и расцеловали ее с каким-то благоговением, выражая этой лаской свою благодарность и глубокое уважение. С младенческих лет они получали от нее все необходимое, а теперь она подарила им еще и жизнь. Мария, в свою очередь, бросилась к ней в объятия и растроганно, с благодарностью целовала ее. Одна Бабушка не плакала, успокаивала всех, уверяла, что они преувеличивают, и взывала к благоразумию.
— А сейчас, — проговорил Гильом, который уже пришел в себя, — вы позволите мне тоже вас расцеловать, ведь я вам так обязан?.. И Пьер тоже вас поцелует, потому что теперь вы к нему так же хорошо относитесь, как и ко всем нам.
Когда наконец сели завтракать, Гильом опять заговорил о своем испуге, который так его удивил и которого он так стыдился. С некоторых пор он стал обнаруживать у себя чрезмерную опасливость, а между тем раньше он никогда не думал о смерти. Уже два раза он приходил в ужас при мысли о возможной катастрофе. Откуда у него под старость такая жажда жизни? Почему именно теперь он так цепляется за жизнь? И под конец он сказал весело, с нежностью и волнением в голосе:
— Мне думается, Мария, что я становлюсь трусом при мысли о вас. Если я теперь уже не такой храбрый, то это потому, что я боюсь потерять свое сокровище… Я несу груз счастья. В тот миг, когда мне казалось, что все мы неизбежно погибнем, я вдруг увидел вас, и страх вас потерять оледенил мне душу, парализовал волю.
Мария весело засмеялась. На их близкий брак намекали довольно редко, но всякий раз она оживлялась, и у нее был счастливый вид.
— Всего через шесть недель, — сказала она просто.
Наблюдавшая за ней Бабушка взглянула на Пьера.
Он слушал, улыбаясь.
— Это правда, — проговорила она. — Через шесть недель вы поженитесь. Значит, я хорошо сделала, что не дала этому дому взлететь на воздух.
Том а , Франсуа и Антуан расхохотались, и завтрак закончился очень весело.
После полудня Пьер испытал тяжелое чувство: что-то сдавило ему сердце. Он все время слышал слова Марии: «Всего через шесть недель». Да, через шесть недель она выйдет замуж. Ему казалось, что раньше он этого не знал и никогда не думал об этом. Вечером, вернувшись к себе в Нейи, он стал не на шутку мучиться. Слова Марии терзали его, прямо убивали. Но почему вначале он ничего не почувствовал и встретил их с улыбкой? И почему так незаметно подкралась к нему боль, неотвязная и жестокая? И вдруг как молния его пронзила мысль, не допускавшая сомнений. Он любит Марию, любит страстной любовью, от которой можно умереть.
Эта внезапная вспышка все осветила в его душе. Он понял, что с первой же их встречи его неудержимо влекло к ней. Сперва она его чем-то отталкивала, и он принимал за антипатию то волнение, какое вызывала в нем девушка, а потом был очарован ее добротой и нежностью. После пережитого им смятения и душевной борьбы он сблизился с ней, и она принесла ему успокоение. Но главное, теперь он понял, чем была для них эта пленительная утренняя прогулка на велосипедах; это была помолвка среди весеннего радостного леса, их тайного сообщника. Природа приняла его в объятия, исцелила от застарелого недуга и, когда он стал здоровым и сильным, отдала его любимой женщине. Испытанный им блаженный трепет, чувство глубокого единения с деревьями, животными и небом — все, что казалось ему таким непостижимым, теперь становилось ясным и понятным, и это открытие будоражило его. Одна Мария могла его исцелить, внушить ему надежду, уверенность, что он возродится к жизни и наконец познает счастье. Возле нее он позабывал обо всех проклятых вопросах, преследовавших и терзавших его. За последнюю неделю он ни разу не вспомнил о смерти, а между тем долгие годы непрестанно думал о ней. Борьба между верой и сомнением, ужасающая душевная пустота, гневное неприятие царивших в мире несправедливости и страданий — все это она куда-то отодвинула своими свежими руками; она была такой здоровой и жизнерадостной и вернула ему вкус к жизни. Так оно и было, она сделала его мужчиной, работником, возлюбленным и отцом семейства.
Вдруг он вспомнил аббата Роза, мучительный разговор, какой был у него однажды утром с этим святым человеком. Чистый сердцем, незнакомый с земной любовью, он оказался прозорливым и один понял, в чем дело. Старик сказал, что он, Пьер, изменился, стал совсем другим человеком. А он глупо настаивал на своем и клялся, что он все тот же, когда любовь к Марии уже преобразила его и он сроднился со всей природой, с залитыми солнцем полями, с животворными ветрами и безбрежным небом, под которым созревает урожай!
Так вот почему ему стал невыносим католицизм, эта религия смерти, и он, выйдя из себя, крикнул, что Евангелие устарело и человечество жаждет другой морали, которая водворит справедливость, освятив счастье, земную любовь и размножение!
Но как же Гильом? Перед ним встал брат, брат, которого он горячо любил, который, желая его исцелить, ввел к себе в дом, где царили труд, мир и любовь. Если он познакомился с Марией, то лишь потому, что этого захотел Гильом. И снова он услышал ее слова: «Всего через шесть недель». Через шесть недель брат женится на ней. Словно нож вонзился ему в сердце. Он мгновенно принял решение: он готов умереть от любви, но никто на свете о ней не узнает, он переборет себя, уедет куда-нибудь подальше, если почувствует свою слабость. Брат хотел его воскресить, познакомил его с девушкой, внушившей ему страстную любовь, брат так доверчиво открыл ему свое сердце, с любовью ввел в круг своей семьи. Нет, нет! Он, Пьер, готов обречь себя на вечные муки, лишь бы не причинить Гильому хотя бы мимолетного огорчения! Былые терзания возобновились с новой силой, так как он потерял Марию и опять провалился в какую-то жуткую пустоту. Ворочаясь на постели бессонной ночью, он по-прежнему мучился, отрицал все на свете, сознавал бесплодность своего существования, бессмысленность мирового бытия, проклинал и отвергал жизнь. Опять на него нахлынул ужас смерти. Умереть, умереть, еще не изведав жизни!
О, какая жестокая борьба! Он терзался и стонал до самого утра. Зачем сбросил он сутану? Стоило Марии сказать несколько слов, как он ее снял, а теперь после других ее слов он в отчаянии захотел вновь ее надеть. Выхода из тюрьмы нет! Это черное одеяние приросло к нему; ему казалось, что он его снял, но оно по-прежнему давит ему на плечи, и уж лучше навеки себя в нем похоронить. По крайней мере, он будет носить траур по самом себе, убив в себе мужчину.
Но тут его осенила новая мысль, от которой он весь содрогнулся. Есть из-за чего так ратовать? Ведь Мария его вовсе не любит. Во время утренней прогулки эта очаровательная девушка проявляла к нему лишь сестринскую нежность, и нет никаких оснований думать, что она питает к нему иные чувства. Она, без сомнения, любит Гильома. И, уткнувшись лицом в подушку, он задушил рыдания и снова поклялся, что одолеет себя и будет улыбаться, глядя на их счастье.
IV
На следующий день Пьер вернулся на Монмартр, но все время так страдал, что потом целых два дня там не появлялся. Он заперся у себя дома, где никто не мог обнаружить его смятения. И вот однажды утром, когда он еще лежал в постели, обессилев от безнадежной борьбы, вдруг, к его удивлению и стыду, в спальню вошел Гильом.
— Пришлось уж мне к тебе заглянуть, раз ты скрылся от нас. Я хочу взять тебя с собой на процесс Сальва, которого судят сегодня. С великим трудом мне удалось достать два пропуска… Ну, вставай, мы где-нибудь позавтракаем и пораньше отправимся туда.
У Гильома тоже был хмурый, озабоченный вид, он был явно чем-то обеспокоен. Когда Пьер стал спешно одеваться, брат спросил его:
— Мы тебя чем-нибудь огорчили?
— Решительно ничем. Откуда ты это взял?
— Так почему же ты перестал у нас бывать? То приходил каждый день, то вдруг исчез.
Пьер ломал голову, придумывая какой-нибудь благовидный предлог, и совсем смешался:
— Да у меня была тут работа… А потом, что поделаешь? На меня опять напали черные мысли. Зачем было портить вам настроение?
У Гильома вырвался протестующий жест.
— Что же, ты думаешь, нам очень весело без тебя? Мария у нас здоровая и жизнерадостная, а вот позавчера у нее сделалась такая мигрень, что она весь день не выходила из своей спальни. Еще вчера ей было не по себе, она нервничала и все время молчала. Невеселый был денек.
Гильом смотрел брату в глаза, и в его честном, открытом взгляде можно было прочесть возникшие у него подозрения, о которых он не хотел говорить.
Взволнованный известием о странном состоянии Марии, боясь себя выдать, Пьер сделал отчаянное усилие, и ему удалось солгать:
— Да, она была уже не совсем здорова в тот день, когда мы ездили на велосипедах… — ответил он спокойным голосом. — Уверяю тебя, эти дни я был очень занят. Я только что собирался вставать и хотел, как обычно, пойти к тебе и продолжать свои занятия.
С минуту Гильом пристально смотрел на него, потом, как видно, успокоился и решил на этот раз не допытываться правды. Он заговорил на другую тему самым сердечным тоном. Но при всей своей нежности к брату он испытывал тяжелое предчувствие и не мог скрыть душевной боли, причину которой, быть может, не совсем осознавал. Пьер, в свою очередь, спросил его:
— А ты сам уж не болен ли? Где твое обычное олимпийское спокойствие?
— Я? О нет, нет! Я ничуть не болен… Но разве я могу хранить олимпийское спокойствие! Ты же знаешь, как меня возмущает этот процесс Сальва. Я скоро сойду с ума, так меня бесит их чудовищная несправедливость: они все задались целью уничтожить этого беднягу.
С этой минуты он говорил только о Сальва, говорил все об одном, упорно и горячо, как будто хотел доказать, что его возмущение и душевные страдания вызваны только этой злобой дня. Часов около десяти они зашли в ресторанчик на Дворцовом бульваре, и за завтраком он сказал брату, как его трогает молчание Сальва, который не обмолвился ни о взрывчатом веществе, каким была начинена бомба, ни о том, что несколько дней проработал у него, Гильома. Молчанию Сальва он обязан тем, что его ни разу не побеспокоили и даже не вызвали в качестве свидетеля. Расчувствовавшись, Гильом заговорил о своем изобретении, о мощном орудии, которое сделает всемогущей Францию, будущую освободительницу человечества и основоположницу нового мира. Теперь плоды его десятилетних трудов вне всякой опасности, работа завершена, и изобретение в окончательном виде может быть хоть завтра передано французскому правительству. Правда, он все еще колеблется, видя, какие мерзости творятся в мире финансистов и в области политики. Но он твердо решил, женившись на Марии, сообщить ей с трогательной доверчивостью влюбленного о чудесном залоге вечного мира, который он надеется в ближайшее время подарить человечеству.
Через Бертеруа Гильому удалось не без труда получить два пропуска. Пьер и Гильом пришли к зданию суда ровно в одиннадцать часов, к самому открытию. Но сперва им показалось, что они туда не проникнут. Все решетки были заперты, все проходы перегорожены; веяние террора проносилось по пустынным коридорам суда, как будто магистратура боялась вторжения вооруженных бомбами анархистов. Это были проявления слепого страха, который уже добрых три месяца господствовал в Париже. Братьям пришлось вести переговоры у каждой двери, у каждого барьера, где стояла военная охрана. И когда они наконец проникли в зал суда, он был уже битком набит; публика собралась за час до начала заседания и готова была неподвижно сидеть в ужасающей тесноте и духоте семь-восемь часов, так как ходили слухи, что хотят покончить с этим делом в течение одного заседания. На тесном, отведенном для публики пространстве сгрудилась плотная толпа любопытных, случайных зрителей, пришедших с улицы, среди которых удалось затесаться кое-кому из товарищей и друзей Сальва; в отделении, предназначенном для свидетелей, за оградой, на дубовых скамьях разместились приглашенные, допущенные сюда по билетам. Там тоже было так тесно, что люди чуть ли не сидели друг у друга на коленях. В центре зала, всюду, где оставалось свободное место, даже за креслами судей, были, как в театре, расставлены рядами стулья, где сидели привилегированные лица, представители высшего света, политические деятели, журналисты и дамы. Великое множество адвокатов в черных мантиях размещались как попало по всем углам.
Пьер до сих пор не бывал в здании суда и думал, что попадет в роскошно убранный, торжественный зал. К его удивлению, этот храм человеческого правосудия оказался тесным, угрюмым и не слишком-то опрятным. Эстрада, где заседал суд, была так низка, что Пьер едва мог разглядеть кресла председателя и двух заседателей. Панели, балюстрады, скамьи — все было из темного дуба, даже потолок был отделан дубом, а стены — густо-зеленого цвета, все это придавало залу мрачный вид. Семь узких, высоко расположенных окон с куцыми белыми занавесками скупо пропускали бледные дневные лучи. Освещенная часть помещения резко отделялась от темной, и зал казался разрезанным пополам: с одной стороны, в холодном свете, — скамьи подсудимого и его адвоката, с другой — в тени, в тесной ограде, стулья присяжных заседателей, олицетворявших собой безликое, неведомое правосудие, перед лицом которого должен был предстать обвиняемый, прощупанный и просмотренный насквозь на допросе. В глубине сурового, хмурого зала над креслами судей виднелась написанная на стене тяжелая фигура распятого Христа, смутно проступавшая сквозь какой-то серый туман. А рядом с часами, над скамьей подсудимого, на фоне темной стены ярко выделялся грубой гипсовой белизной аллегорический бюст Республики.
Гильом и Пьер с трудом нашли два свободных места на задней скамье в отделении для свидетелей, у самой перегородки, за которой теснилась безбилетная публика. Усаживаясь на свое место, Гильом увидал позади себя маленького Виктора Матиса, он опирался локтями на перила, опустив подбородок на скрещенные руки. Лицо его было бледно, тонкие губы сжаты, глаза пылали. Они сразу узнали друг друга, но Виктор не шелохнулся, и Гильом понял, что обмениваться приветствиями здесь небезопасно. Потом он все время чувствовал, что у него за спиной, немного повыше, стоит Виктор, неподвижный, со сверкающими глазами и молча, нахмурившись, ждет предстоящих событий.
Тем временем Пьер заметил перед собой на скамье любезного депутата Дютейля и миниатюрную принцессу Роземонду. Чтобы скоротать время, публика разговаривала, смеялась, и в зале стоял неумолкаемый гул. Но особенно звонко раздавались веселые голоса этих двух людей, которые радовались, что попали на такое редкостное зрелище. Дютейль знакомил свою даму с планом зала, рассказывал, кто сидит на тех или иных скамьях, за теми или другими загородками, показывал места присяжных заседателей, обвиняемого, защитника, прокурора республики, вплоть до секретаря суда, не забывая указать на стол вещественных доказательств и огороженное место свидетелей. Все эти места были еще пусты. Служитель в последний раз оглядывал зал. Запоздавшие адвокаты бегали, разыскивая себе места. Было совсем как в театре, когда сцена еще пуста, а в переполненном зрительном зале публика с нетерпением ожидает начала представления. Маленькая принцесса, которой надоело ждать, принялась разыскивать своих знакомых в этом море голов, вглядываясь в раскрасневшиеся лица жадных до зрелищ людей.
— Смотрите, вон там, за креслами судей, ведь это господин Фонсег? Рядом с этой толстой дамой в желтом! А вот на той стороне наш друг, генерал де Бозонне… А барон Дювильяр разве не пришел?
— О нет, — отвечал Дютейль, — ему неудобно здесь быть. Ведь если бы он явился, можно было бы подумать, что он требует возмездия.
Потом он, в свою очередь, спросил:
— Вы, верно, поссорились с вашим прекрасным другом Гиацинтом, раз вы избрали меня своим кавалером, доставив этим мне величайшее удовольствие?
Она слегка пожала плечами, давая понять, как ей надоели поэты. Повинуясь новой причуде, она ударилась в политику. Уже неделю она бурно переживала министерский кризис, и это очень ее забавляло. Молодой депутат Ангулема посвящал ее во всю закулисную сторону дела.
— Друг мой, — сказала она, — эти Дювильяры прямо рехнулись… Вы знаете, уже решено, Жерар женится на Камилле. Баронесса покорилась своей участи. Я узнала из самого достоверного источника, что даже госпожа де Кенсак, мать молодого человека, дала свое согласие.
Дютейль весело улыбался, видно было, что он тоже хорошо осведомлен.
— Да, да, я это знаю. Свадьба состоится в скором времени в церкви Мадлен, такая великолепная свадьба, что о ней будет говорить весь Париж. Что поделаешь? Это наилучший выход из положения. Баронесса — сама доброта. Я всегда говорил, что она пожертвует собой ради счастья дочери и Жерара… По правде сказать, этот брак все улаживает, все приводит в порядок.
— Ну, а барон? Он-то что говорит? — спросила Роземонда.
— Да барон в восторге! Вы, вероятно, читали сегодня утром в списке министров нового кабинета, что Доверию предоставлен портфель министра народного просвещения. А это значит, что у Сильвианы будет наверняка ангажемент в Комедии. Только для этого и выбрали Доверия.
Он весело шутил. Но в эту минуту маленький Массо, препиравшийся у входа в зал с приставом, увидел издали свободное место рядом с принцессой, жестом попросил разрешения занять его, она кивнула ему в знак согласия.
— Наконец-то! — сказал он, усаживаясь. — Но это дело нелегкое. На скамьях журналистов ужасающая давка. А мне надо собрать материалы для хроники… Вы любезнейшая из женщин, принцесса. Спасибо вам, что вы согласились немного потесниться и дать место вашему преданному поклоннику.
Потом, пожав руку Дютейлю, он продолжал без всякого перехода:
— Значит, господин депутат, кабинет наконец утвержден?.. Не так уж скоро удалось его сформировать, но, право, это прекрасный кабинет, все от него в восторге.
Действительно, этим утром в «Правительственном вестнике» были опубликованы соответствующие указы. Кризис неимоверно затянулся. Когда Виньон, встретив непреодолимые препятствия, вторично потерпел крах, с отчаяния в Елисейский дворец вызвали Монферрана, и внезапно он выступил на сцену. И вот за каких-нибудь двадцать четыре часа он составил новый кабинет, его список был одобрен, и он торжественно вернулся к власти, поднявшись на высоту, откуда недавно так плачевно был свергнут вместе с Барру. Он только переменил портфель: покинув пост министра внутренних дел, стал министром финансов и вместе с тем председателем совета министров, о чем он уже давно пламенно мечтал. Теперь он пожинал плоды своей хитрой тактики: сперва ему удалось ловко выплыть, воспользовавшись арестом Сальва, потом он вел беспримерную подспудную кампанию против Виньона, два раза подряд ставя на его пути бесчисленные преграды, наконец, когда прибегли к нему, наступила молниеносная развязка, он преподнес уже готовый список, и кабинет был состряпан в один день.
— Ловко сработано, поздравляю! — бросил насмешливым тоном маленький Массо.
— Да я тут ни при чем! — скромно заметил Дютейль.
— Как ни при чем! Вы принимали в этом участие, мой дорогой, это всем известно.
Польщенный депутат улыбнулся. А его собеседник, пересыпая свою речь намеками и шуточками, высказывал ему всю правду. Он говорил о шайке Монферрана, о клике, которая была заинтересована в его победе и крепко ему помогла. С каким легким сердцем Фонсег на страницах «Глобуса» доконал своего старого приятеля Барру, который стал ему помехой! За последний месяц каждое утро там появлялась статья, где расправлялись с Барру, уничтожали Виньона и подготавливали пришествие некоего спасителя, имя которого не называлось. А где-то там, в тени, вели борьбу миллионы Дювильяра, многочисленные ставленники барона бросались в бой, как добрые солдаты. Не говоря уже о самом Дютейле, трубаче и барабанщике, и о самом Шенье, выполнявшем подозрительные поручения, от которых все отказывались. Без всякого сомнения, триумфатор Монферран первым делом замнет скандальное и щекотливое дело Африканских железных дорог, назначив комиссию по расследованию, которая положит ему конец.
Дютейль принял значительный вид.
— Что поделаешь, друг мой, в серьезных обстоятельствах, когда обществу угрожает опасность, сильные люди, государственные мужи, все берут на себя… Монферран ничуть не нуждался в нашей дружеской помощи; при создавшемся положении он был необходим правительству. У него крепкая хватка, и он один может нас спасти.
— Я это знаю, — усмехнулся Массо. — Меня даже уверяли, что все было заранее подстроено: указы появились сегодня утром, чтобы присяжные и судьи могли смело вынести вечером смертный приговор, зная, что за их спиной Монферран, человек с крепкой хваткой.
— Ну да, мой дорогой, — в данном случае смертный приговор послужит ко всеобщему благу. Лица, призванные блюсти общественную безопасность, должны знать, что министры с ними заодно и в случае надобности окажут им поддержку.
Разговор был прерван веселым смехом принцессы.
— О! Посмотрите-ка туда, — разве это не Сильвиана села сейчас рядом с Фонсегом?
— Министерство Сильвианы, — вполголоса пошутил Массо. — О, на приемах у этого Доверия не соскучишься, если он подружится с актрисочками!
Гильом и Пьер волей-неволей слушали эти разговоры. У старшего брата болезненно сжималось сердце от светских сплетен и бесстыдных признаний политиканов. Сальва еще до своего появления на суде приговорен к смерти. Сальва расплатится за грехи всех, и расправа с ним послужит к торжеству банды честолюбцев и прожигателей жизни! А за всем этим какая клоака, какое разложение общества, растлевающая сила денег, грязные мелодрамы в недрах семьи, политика, ставшая ареной коварной борьбы отдельных лиц, власть, захваченная наглыми интриганами! Неужели же все это не рухнет? И это торжественное судебное заседание, где должно совершиться правосудие наших дней, не является ли смехотворной пародией, поскольку здесь только счастливцы, привилегированные, которые отстаивают приютившее их ветхое здание, мобилизуя свои еще значительные силы, чтобы раздавить жалкую муху, полупомешанного беднягу, которого привела сюда жестокая и сумбурная мечта об ином, возвышенном, карающем правосудии?
Но вот по залу пробежал трепет. Пробило двенадцать. Беспорядочно, как стадо, вошли присяжные заседатели и стали размещаться на своей скамье. Добродушные физиономии. По большей части сытые, принарядившиеся буржуа, среди них несколько тощих, невзрачных, с живыми глазами, плешивых, но с бородой, все они сливались в какую-то сплошную серую, неразличимую массу, так как эта часть зала оставалась в глубокой тени. Затем появились судьи — г-н де Ларомбардьер, вице-председатель апелляционного суда, взявший на себя в этот день почетную, хотя и небезопасную роль председателя. Его длинное, узкое бескровное лицо дышало важностью, и он казался еще суровее, так как по бокам его сидели двое заседателей, маленькие, краснолицые, черноволосый и белобрысый. Уже кресло государственного прокурора занимал г-н Леман, один из самых известных и ловких обвинителей, широкоплечий эльзасец с лукавым взглядом, и это доказывало, какое исключительное значение придавали данному делу. Наконец, послышался топот жандармских сапог, и ввели Сальва, который возбудил такое острое любопытство присутствующих, что все вскочили на ноги. На нем по-прежнему была фуражка и широченное пальто, которое раздобыл ему Виктор, и все с величайшим удивлением увидели его крупное костлявое лицо, кроткое и печальное, рыжие седеющие волосы, прекрасные, полные нежности голубые глаза, мечтательные и сверкающие. Он бросил взгляд на публику и улыбнулся кому-то из своих знакомых, вероятно, Виктору, а может быть, и Гильому. Потом он сел и замер на месте.
Председатель выждал, пока в зале водворилась тишина, и тут же приступили к формальностям, с каких обычно начинается заседание. Затем судебный пристав пронзительным голосом стал читать обвинительный акт, и казалось, этому чтению не будет конца. Настроение в зале изменилось. Публика слушала со скучающим видом и с явным нетерпением: за последние недели газеты без конца пережевывали эту историю. Теперь в зале не было ни одного свободного места, только перед креслами, где сидели судьи, оставалось узкое пространство, где должны были появиться свидетели. В этом беспорядочном скопище людей выделялись светлые платья дам и черные мантии адвокатов и совсем терялись три красные мантии судей; эстрада была так низка, что над рядами голов с трудом можно было разглядеть длинное лицо председателя. Многие интересовались присяжными заседателями, пытались разгадать их заурядные лица, еле различимые в тени. Другие не отрывали глаз от обвиняемого, удивляясь, что у него такой усталый и безразличный вид. Он еле отвечал на вопросы, какие тихонько задавал ему его адвокат, талантливый молодой человек с живым нервным лицом, который, как уверяли, с нетерпением ожидал случая прославиться. Чтение обвинительного акта все продолжалось. Теперь всеобщее любопытство возбуждал стол вещественных доказательств, где находились всевозможные обломки, осколок ворот особняка Дювильяра, куски штукатурки, упавшие со свода арки, булыжник, расколовшийся от взрыва, и обугленные куски дерева. Сильное впечатление производила ничуть не пострадавшая картонка модистки. Но особенно всех трогал предмет, смутно белевший в стеклянном сосуде, — это была маленькая ручка девочки на побегушках, оторванная от запястья; ее решили сохранить в спирту, ведь не могли же положить на стол жалкий труп с разорванным бомбой животом.
 Наконец Сальва встал, и председатель приступили допросу. И сразу же бросился в глаза трагический контраст: в тени безымянные присяжные заседатели, уже готовые вынести обвинительный приговор под впечатлением событий, наводивших ужас на весь город, а в ярком дневном свете — обвиняемый, одинокий и жалкий, окруженный четырьмя жандармами, человек, на которого взвалили грехи всего общества. Г-н де Ларомбардьер сразу же заговорил с ним презрительным тоном, не скрывая своего отвращения. Он отличался честностью и был одним из последних судей старого закала, добросовестных и прямолинейных; но он ничего не понимал в современности и считал долгом обращаться с преступниками с суровостью библейского бога. Удручавший его всю жизнь недостаток речи — пришепетывание, которое, по его мнению, помешало ему развернуть во всю мощь в суде свое гениальное ораторское дарование, только усиливало его раздражение, этот угрюмый человек не способен был понять обвиняемого и проявить снисходительность. Когда он стал задавать вопросы и в зале задребезжал его высокий, пронзительный голосок, кое-кто начал усмехаться, и он догадался об этом. Смешное пришепетывание председателя лишало всякой торжественности это судебное заседание, где шла речь о человеческой жизни, в этом зале, битком набитом любопытными. Зрители начинали уже задыхаться и потеть, обмахивались и отпускали шуточки. Вначале Сальва отвечал вежливо, усталым голосом. Председатель изо всех сил старался его опорочить, беспощадно ставил ему в упрек все промахи, совершенные им в дни его печальной молодости, сгущал краски, поносил его преступное сожительство с г-жой Теодорой на глазах у маленькой Селины, а он спокойно говорил «да» или «нет», как человек, которому нечего скрывать, который несет полную ответственность за свои поступки. Он уже раньше во всем признался и теперь подтвердил свои показания, спокойно, в тех же словах, причем добавил, что решил бросить бомбу в особняк Дювильяра, чтобы этот акт приобрел особое значение. Этим он призвал к ответу богачей, которые нажили свои капиталы путем грабежа и обмана, они обязаны вернуть захваченное ими народное достояние беднякам, рабочим, их семьям, подыхающим с голоду. Тут он весь загорелся. Все пережитые страдания мгновенно всплыли в мозгу этого недоучки, где сумбурно переплелись различные лозунги, теории, порожденные отчаянием мечты об абсолютной справедливости и всеобщем блаженстве. И выступил наружу подлинный Сальва, сентиментальный мечтатель, доведенный до крайности бедствиями, суровый, гордый и упрямый сектант, задумавший по-своему переделать весь мир.
Наконец Сальва встал, и председатель приступили допросу. И сразу же бросился в глаза трагический контраст: в тени безымянные присяжные заседатели, уже готовые вынести обвинительный приговор под впечатлением событий, наводивших ужас на весь город, а в ярком дневном свете — обвиняемый, одинокий и жалкий, окруженный четырьмя жандармами, человек, на которого взвалили грехи всего общества. Г-н де Ларомбардьер сразу же заговорил с ним презрительным тоном, не скрывая своего отвращения. Он отличался честностью и был одним из последних судей старого закала, добросовестных и прямолинейных; но он ничего не понимал в современности и считал долгом обращаться с преступниками с суровостью библейского бога. Удручавший его всю жизнь недостаток речи — пришепетывание, которое, по его мнению, помешало ему развернуть во всю мощь в суде свое гениальное ораторское дарование, только усиливало его раздражение, этот угрюмый человек не способен был понять обвиняемого и проявить снисходительность. Когда он стал задавать вопросы и в зале задребезжал его высокий, пронзительный голосок, кое-кто начал усмехаться, и он догадался об этом. Смешное пришепетывание председателя лишало всякой торжественности это судебное заседание, где шла речь о человеческой жизни, в этом зале, битком набитом любопытными. Зрители начинали уже задыхаться и потеть, обмахивались и отпускали шуточки. Вначале Сальва отвечал вежливо, усталым голосом. Председатель изо всех сил старался его опорочить, беспощадно ставил ему в упрек все промахи, совершенные им в дни его печальной молодости, сгущал краски, поносил его преступное сожительство с г-жой Теодорой на глазах у маленькой Селины, а он спокойно говорил «да» или «нет», как человек, которому нечего скрывать, который несет полную ответственность за свои поступки. Он уже раньше во всем признался и теперь подтвердил свои показания, спокойно, в тех же словах, причем добавил, что решил бросить бомбу в особняк Дювильяра, чтобы этот акт приобрел особое значение. Этим он призвал к ответу богачей, которые нажили свои капиталы путем грабежа и обмана, они обязаны вернуть захваченное ими народное достояние беднякам, рабочим, их семьям, подыхающим с голоду. Тут он весь загорелся. Все пережитые страдания мгновенно всплыли в мозгу этого недоучки, где сумбурно переплелись различные лозунги, теории, порожденные отчаянием мечты об абсолютной справедливости и всеобщем блаженстве. И выступил наружу подлинный Сальва, сентиментальный мечтатель, доведенный до крайности бедствиями, суровый, гордый и упрямый сектант, задумавший по-своему переделать весь мир.
— Но ведь вы хотели спастись бегством, — воскликнул визгливым голосом председатель. — Не смейте же говорить, что вы готовы были отдать жизнь за свои убеждения и шли на мученичество!
Да, Сальва горько сожалел, что, очутившись в Булонском лесу, поддался смятению и глухой ярости и стал убегать от преследователей. Слова председателя раздражили его.
— Я не боюсь смерти, и в этом скоро все убедятся… Если бы все обладали таким мужеством, как я, то завтра же рухнуло бы ваше прогнившее общество и наступила бы пора всеобщего счастья.
Потом речь зашла о бомбе, и председатель бесконечно долго допрашивал Сальва, чем она была начинена. По его словам, это был единственный невыясненный пункт во всем деле.
— Итак, вы упорно настаиваете на том, что употребили в качестве взрывчатого вещества динамит? Сейчас вы выслушаете мнение экспертов, которые хотя и по-разному определяют свойства примененного вами порошка, однако единогласно утверждают, что это не динамит, а какое-то другое взрывчатое вещество, совершенно им неизвестное. Итак, ничего не скрывайте от нас, ведь вы хвалитесь, что говорите чистую правду.
Внезапно Сальва успокоился и стал отвечать весьма лаконично, обдумывая каждое слово.
— Доискивайтесь сами, если вы мне не верите… Я сфабриковал бомбу один и уже двадцать раз вам говорил, при каких обстоятельствах… Вы, конечно, не можете ожидать, что я назову вам имена и подведу товарищей.
И он упорно стоял на своем. Только под конец им овладело волнение, когда председатель вновь упомянул о девочке на побегушках, нежной, хорошенькой блондиночке, которую злая судьба привела к воротам особняка в момент взрыва.
— Вы убили одну из ваших, работницу, бедную девочку, которая на свои жалкие гроши кормила бабушку.
У Сальва перехватило дыхание.
— Только об этом я и сожалею… Разумеется, моя бомба предназначалась не для нее. Пусть же все рабочие, все горемыки помнят о ней: она пролила свою кровь, как я пролью свою!
Допрос закончился, вызвав сильное волнение в зале. Пьер чувствовал, как содрогался сидевший рядом с ним Гильом, когда обвиняемый спокойно и упорно отказывался назвать употребленное им взрывчатое вещество, принимая на себя всю ответственность за поступок, который должен был стоить ему головы. Повинуясь какому-то безотчетному импульсу, Гильом обернулся и увидел маленького Виктора Матиса, который по-прежнему неподвижно стоял, облокотившись на перегородку, и, стиснув подбородок ладонями, молча слушал, охваченный бешенством. Лицо его было бледнее обычного, а глаза пылали, напоминая отверстия, сквозь которые пробивается мстительное пламя великого неугасимого пожара.
В зале поднялся гул, не смолкавший несколько минут.
— Он очень мил, этот Сальва, — заявила принцесса, которую забавляло все происходящее, — у него в глазах столько нежности… Нет, нет, дорогой мой депутат, не говорите мне о нем ничего дурного. Вы же знаете, что я в душе анархистка.
— Я и не говорю о нем ничего дурного, — весело отвечал Дютейль. — Да и наш друг Амадье не имеет нрава его осуждать, ведь вы знаете, что благодаря этому делу он вознесся на вершину славы… Раньше никогда столько о нем не говорили, а ему только этого и надо. Он стал самым светским, самым знаменитым следователем и теперь может добиться чего угодно.
Массо сделал соответствующий вывод со свойственной ему беззастенчивой иронией:
— Не правда ли? Анархия всегда всем на руку… Вот эта бомба великолепно уладила дела кое-кого из моих знакомцев!.. Неужели у моего патрона Фонсега, который сейчас так любезничает со своей соседкой, есть основания жаловаться на Сальва? Ну, а господин Санье, который так небрежно развалился на стуле за спиной председателя и которому, право же, подобало бы сидеть между четырьмя жандармами, разве он-то не должен поставить хорошую свечу за беднягу Сальва, благодаря которому он раздул этакую шумиху?.. Я уж не говорю о политических деятелях, о финансистах и обо всех, кто ловит рыбку в мутной воде…
Дютейль прервал его:
— Постойте, но ведь и вам, кажется, была на пользу эта история. Вы здорово нажились на интервью с Селиной.
В самом деле, Массо пришла в голову гениальная идея разыскать г-жу Теодору и девочку, а затем рассказать на страницах «Глобуса» о своем посещении, приводя целый ряд интимных и трогательных подробностей. Статья имела невероятный успех. Милые ответы Селины на вопросы о ее папе трогали все чувствительные сердца. В результате дамы стали ездить в своих экипажах к этим несчастным созданиям; со всех сторон посыпались подаяния; девочка внушала необычайную симпатию даже тем, которые требовали головы ее отца.
— О, мне не приходится жаловаться на мой маленький барыш, — признался журналист. — Всякий зарабатывает сколько может и как может.
В этот момент Роземонда заметила Гильома и Пьера, сидевших у нее за спиной, и, увидав, что младший брат в пиджаке, была так потрясена, что даже не решилась с ними заговорить. Она наклонилась к своим спутникам и, видимо, сообщила им эту новость, так как Дютейль и Массо обернулись, но, как люди благовоспитанные, сделали вид, что ничего не замечают. Духота становилась нестерпимой. Одной даме сделалось дурно. И снова председатель своим визгливым голосом водворил тишину.
Сальва стоял, держа в руке какие-то листки. Ему с трудом удалось объяснить, что он хочет дополнить свои показания, прочитав заранее подготовленное им заявление, где он изложил причины, побудившие его произвести взрыв. Удивленный и в глубине души возмущенный г-н де Ларомбардьер колебался и хотел под каким-нибудь предлогом отклонить это чтение, потом, сообразив, что он не имеет права заткнуть рот обвиняемому, дал разрешение гневным, пренебрежительным жестом. И Сальва начал читать, как примерный, старательный ученик. Он слегка запинался от смущения и порой с необычайной энергией напирал на слово, которое явно ему нравилось. Это был крик страдания и возмущения, который столько раз уже вырывался из груди обездоленных: в низах общества свирепствует ужасная нищета, рабочий не может прожить на свой заработок, целый класс, самый многочисленный и заслуживающий наибольшего уважения, умирает с голоду, в то время как там, наверху, привилегированные утопают в роскоши, пресыщены всякими благами и не желают дать ни крошки со своего стола, отказываются вернуть хотя бы часть награбленного богатства. Поэтому надо все у них отобрать, застращать этих эгоистов и пробудить их от сна, швырять в них бомбы, возвещая им, что день торжества справедливости наступил. Это слово «справедливость» он бросил звенящим голосом, который разнесся по всему залу. Но особенно все взволновались, когда он заявил, что жертвует своей жизнью и ожидает от присяжных только смерти. В заключение он провозгласил с пророческим пафосом, что из его крови родятся новые мученики.
Пусть его отправляют на эшафот, он знает, что его пример вдохновит смелых людей: после него явится другой мститель, потом третий, много-много других, и вот, наконец, рухнет старое, прогнившее насквозь общество, его сменит новое общество, где будут царить справедливость и счастье, провозвестником которых он, Сальва, считает себя.
Председатель, в крайнем раздражении, дважды пытался его прервать. Но Сальва продолжал читать с упрямством фанатика, который боится недостаточно внушительно произнести важную фразу. Пока он сидел в тюрьме, он наверняка все время предвкушал это чтение. Это было уже явное самоубийство, он жертвовал жизнью и гордился, что умирает за благо человечества. Когда он кончил и снова сел на свое место между жандармами, глаза его пылали, щеки разгорелись, и он весь сиял от овладевшей им радости.
Чтобы рассеять произведенное на публику впечатление — смутную тревогу, жалость и страх, председатель решил сразу же приступить к допросу свидетелей. Они проходили нескончаемой вереницей, не возбуждая особого интереса своими показаниями, так как никто из них не сообщил ничего нового. Хорошее впечатление произвели показания заводчика Грандидье, который вынужден был уволить Сальва за анархистскую пропаганду. Шурин обвиняемого, слесарь Туссен, также показал себя с прекрасной стороны, давая показания в пользу обвиняемого и при этом не прибегая ко лжи. Чрезвычайно затянулось совещание экспертов, которые, выступая перед публикой, не пришли к соглашению, как не сошлись во мнениях, высказанных ими в письменной форме: единогласно признавая, что примененное вещество не является динамитом, они высказывали каждый по-своему самые невероятные и противоречивые предположения. Затем было оглашено заключение знаменитого ученого Бертеруа, вносившее ясность в этот вопрос: он утверждал, что было пущено в ход какое-то новое взрывчатое вещество необычайной силы, формула которого ему неизвестна. Агент Мондезир и комиссар Дюпо рассказывали об охоте на человека и о волнующих обстоятельствах ареста Сальва в Булонском лесу. Мондезир развеселил публику, то и дело отпуская крепкие солдатские словечки. А бабушка маленькой жертвы вызвала в зале взрыв жалости и негодования. То была высохшая, дряхлая старушка, которую представители обвинения имели жестокость притащить на суд; ополоумев от страха, не понимая, чего от нее хотят, она залилась слезами. Под конец были допрошены свидетели защиты, — один за другим прошли хозяева мастерских, товарищи по работе, которые в один голос заявляли, что Сальва славный малый, умелый и усердный работник, что он не пьет, обожает свою дочку и не способен на грубость и жестокость.
Было уже четыре часа, когда закончился допрос свидетелей. В зале стояла нестерпимая духота. От усталости и возбуждения у всех кровь прилила к щекам. Какая-то рыжеватая мгла застилала бледный свет, лившийся из окон. Женщины обмахивались веерами, мужчины платками вытирали лоб. Но все были захвачены этим зрелищем, и у всех сверкали жестокой радостью глаза. Никто не двигался с места.
— Ах, — вздохнула Роземонда, — а я-то надеялась в пять часов выпить чашечку чая у своей приятельницы! Да я умру с голоду.
— Мы задержимся здесь, по крайней мере, до семи, — сказал Массо. — Я охотно бы пошел купить вам булочку, но меня не впустят обратно.
Дютейль все время пожимал плечами, пока Сальва читал свое заявление.
— Ну что это за ребячество! Этот дуралей умирает за такую ерунду!.. Богачи и бедняки! Да они всегда будут существовать! И понятное дело, всякий бедняк только и мечтает разбогатеть… Если он очутился сегодня на этой скамье, то лишь потому, что потерпел неудачу в жизни, вот и все!
Пьер с беспокойством поглядывал на брата, который молча сидел рядом с ним, бледный, потрясенный до глубины души. Он взял руку Гильома и незаметно ее пожал. Потом сказал шепотом:
— Ты, кажется, плохо себя чувствуешь? Уж не уйти ли нам?
Гильом в ответ крепко стиснул ему руку. Нет, он чувствует себя хорошо и останется до конца, он вне себя от негодования.
Но вот г-н Леман, генеральный прокурор, начал свою пространную суровую речь. Этот крепко сложенный, упорный с виду еврей был известен своими связями с представителями всех политических лагерей, а также своей гибкостью, благодаря которой он всегда поддерживал дружбу с лицами, стоящими у власти. Этим и объяснялось его быстрое продвижение и милости, какими его постоянно осыпали. Все знали, что он на стороне правительства. И действительно, он с самого начала упомянул о только что сформированном кабинете, о сильном человеке, который должен успокоить благонамеренных граждан и повергнуть в трепет злодеев. Затем с невероятным пылом он принялся обвинять злополучного Сальва, повторил всю историю, изобразил его бандитом, рожденным для преступлений, каким-то чудовищем, от которого только и можно было ждать такого гнусного злодеяния. Потом он стал разносить анархистов: это шайка бродяг и грабителей! Они себя хорошо показали, учинив разгром особняка принцессы де Гарт. И эти гнусные субъекты выдавали себя за проповедников доктрины. Вот к чему приводит осуществление теорий на практике — к разграблению и осквернению домов! И можно еще ожидать крупных грабежей и массовых убийств! Около двух часов он разглагольствовал в таком духе, пренебрегая правдой и логикой, с единственной целью — поразить воображение и раздуть страх, овладевший парижанами. Бедная маленькая жертва, хорошенькая блондинка, служила ему кровавым знаменем, он высоко поднимал банку со спиртом, где белела ее ручка, и в этом жесте было столько негодования и жалости, что присутствующие невольно содрогались. Он закончил свою речь, так же как и начал, призывом к присяжным, заявив, что они должны исполнить свой долг и осудить убийцу, именно теперь, когда представители власти твердо решили приводить в исполнение свои приговоры, несмотря на все угрозы!
Вслед за ним выступил молодой адвокат, взявший на себя защиту. Он высказал решительно все, что следовало сказать, со всей справедливостью и ясностью. Он принадлежал к другой школе, отличался простотой и душевной цельностью и стремился исключительно к истине. Как и следовало ожидать, он пролил подлинный свет на всю историю Сальва, показал, что над ним с самого детства тяготел некий социальный рок, объяснил, что его безумный поступок был вызван всеми пережитыми им страданиями, порожден мечтами, давно роившимися у него в голове. Его преступление не является ли всеобщим преступлением? Кто из нас не испытывает в какой-то мере ответственности за эту бомбу, брошенную бедняком, голодающим рабочим, на пороге жилища богача, образ которого был для него воплощением самой несправедливости! Ведь этому человеку достались все блага, а ему, Сальва, все мучения! В наше тревожное время, когда назрело столько жгучих проблем, если один из нас потеряет голову и захочет путем насилия приблизить эру всеобщего счастья, — разве мы осмелимся его уничтожить во имя справедливости? Ведь ни один из нас не может поклясться, что он не способствовал его безумию! Затем адвокат остановился на историческом моменте, в который разыгралась эта история. Сколько возмутительных происшествий, сколько крушений! Новый мир в муках рождается из лона старого мира, среди ужасных кризисов, в страданиях и в борьбе. В заключение он стал умолять присяжных проявить человечность, не поддаваться страхам, свирепствующим в городе, и умиротворить враждующие классы, произнеся мудрый приговор. В противном случае они только затянут междоусобную войну, указав беднякам новую жертву, за которую те будут мстить.
Был уже седьмой час, когда г-н де Ларомбардьер своим пронзительным забавным голоском прочитал присяжным целый ряд поставленных вопросов. Затем суд удалился, присяжные с непроницаемыми лицами направились в особый зал для совещания, а подсудимого увели. В зале суда стало шумно, охваченная лихорадочным нетерпением публика напряженно ожидала и громко переговаривалась. Еще несколько дам упали в обморок. Пришлось вынести господина, с которым сделалось дурно от нестерпимой жары. Но остальные твердо решили сидеть до конца; никто не двинулся с места.
— О, нам не придется долго ждать, — заявил Массо. — Присяжные все до одного унесли смертный приговор в кармане. Я наблюдал за ними, пока этот адвокатик говорил им такие хорошие вещи. Их трудно было разглядеть в тени, и у них было такое сонное выражение лица. Интересно знать, что происходило у них в мозгу!
— А вы по-прежнему голодны? — спросил принцессу Дютейль.
— О, я прямо умираю… У меня не хватит сил доехать до дому. Вы поведете меня куда-нибудь перехватить пирожка… Но ведь это так увлекательно: жизнь этого человека зависит от того, скажут ли они «да» пли «нет».
Пьер снова взял за руку Гильома, чувствуя, что брат до крайности взволнован и в полном отчаянии. Ни тот, ни другой не произнесли ни слова. Ими овладевала глубокая тоска, вызванная множеством серьезных причин, которые они еще не вполне осознавали. Им казалось, что все человеческие страдания, их собственные печали, нежные чувства и надежды со стоном витают в этом гулком зале, который содрогался, предвосхищая трагическую развязку, порожденную эгоизмом одних и подлостью других. Мало-помалу в зале сгущалась темнота; очевидно, решили, что нет смысла зажигать люстры, поскольку приговор будет скоро произнесен. Угасали последние отблески дня, и огромное скопище людей уже тонуло в тени. Дамы в светлых туалетах, сидевшие за креслами судей, были похожи на бледных призраков с горящими глазами, а мантии адвокатов сливались в большое темное пятно, медленно застилавшее зал. Темное распятие уже исчезло, и только бюст Республики белел в полумраке, словно застывшая голова мертвеца.
— А! — воскликнул вдруг Массо. — Я же говорил, что нам не придется долго ждать!
После пятнадцатиминутного совещания присяжные возвращались в зал и, громко стуча башмаками, рассаживались на дубовых скамьях. Снова вошел суд. Неизъяснимое волнение охватило публику. Словно порыв ветра пронесся по залу, головы зрителей тревожно всколыхнулись. Кое-кто вскочил на ноги, у других непроизвольно вырвался легкий крик. Староста присяжных, толстый господин с широким красным лицом, вынужден был немного подождать, пока все стихнет.
Резким голосом, слегка пришепетывая, он заявил:
— По чести и по совести, перед богом и перед людьми, присяжные на вопрос о виновности подсудимого в убийстве ответили: «Да, виновен», большинством голосов.
Уже почти стемнело, когда снова ввели Сальва. Он стоял перед присяжными, неразличимыми в тени, и последние лучи, падавшие из окон, освещали его лицо. Даже судей уже нельзя было разглядеть, их красные мантии казались совсем черными. И какое поразительное впечатление производило лицо Сальва, исхудавшее, костлявое, с глазами мечтателя, когда он слушал приговор присяжных, который зачитывал ему секретарь суда.
Он все понял, когда секретарь умолк, даже не упомянув о смягчающих обстоятельствах. Его лицо, сохранявшее детское выражение, вдруг засияло.
— Это смерть. Благодарю, господа!
Затем он повернулся к публике, стараясь разглядеть в сгущающейся темноте лица друзей, которые должны были здесь присутствовать. На этот раз Гильом ясно почувствовал, что Сальва его узнал и посылает сердечный привет, выражая свою признательность за кусок хлеба, поданный ему в дни нищеты. Но он, как видно, поклонился и Виктору Матису, так как, обернувшись, Гильом опять увидал молодого человека, который по-прежнему стоял неподвижно, с широко раскрытыми, устремленными в одну точку глазами и с выражением бешеной ярости в сжатых губах.
Все остальное, последний вопрос, совещание суда, чтение приговора было заглушено гулом взволнованных голосов, разносившимся по залу. Сами того не сознавая, люди испытывали жалость и некоторое изумление, хотя они и одобряли смертный приговор.
Осужденный Сальва внезапно выпрямился и, когда жандармы повели его к выходу, крикнул оглушительным голосом:
— Да здравствует анархия!
Этот крик никого не рассердил. Публика расходилась с каким-то тревожным чувством, как будто чрезмерная усталость притупила все страсти. Действительно, спектакль слишком затянулся, слишком всех истомил. И люди с наслаждением вдыхали свежий воздух, вырвавшись из этого кошмара.
В зале Потерянных шагов Гильом и Пьер прошли мимо Дютейля и принцессы, которых остановил генерал де Бозонне, беседовавший с Фонсегом. Все четверо говорили во весь голос, жаловались на жару и на голод и в основном соглашались, что дело оказалось не слишком-то интересным. Впрочем, все хорошо, что хорошо кончается. Как выразился Фонсег, смертный приговор Сальва был политической и социальной необходимостью.
 На Новом мосту Гильом на минуту облокотился на ограду. Стоя рядом с ним, Пьер смотрел на плавно катившиеся серые воды Сены, в которых там и сям пламенели отсветы первых газовых рожков. С реки тянуло прохладным ветерком. Был пленительный час, когда сумрак мягко застилает отдыхающий Париж. Братья стояли молча и облегченно дышали, набираясь свежих сил. Но вот в душе Пьера снова проснулась боль: он вспомнил о вырванном у него обещании вернуться на Монмартр, где его ожидали одни муки. А у Гильома проснулись подозрения, беспокойство, какое он испытывал, видя, что Мария охвачена острым возбуждением и вся изменилась под влиянием нового, еще неведомого ей чувства. Неужели же этим двум людям, горячо любящим друг друга, суждено пережить новые терзания, длительную борьбу и так и не познать счастья? Их сердца уже начинали обливаться кровью, вдобавок им причинили великую боль зрелище правосудия и вид этого бедняги, заплатившего жизнью за преступления всего человечества.
На Новом мосту Гильом на минуту облокотился на ограду. Стоя рядом с ним, Пьер смотрел на плавно катившиеся серые воды Сены, в которых там и сям пламенели отсветы первых газовых рожков. С реки тянуло прохладным ветерком. Был пленительный час, когда сумрак мягко застилает отдыхающий Париж. Братья стояли молча и облегченно дышали, набираясь свежих сил. Но вот в душе Пьера снова проснулась боль: он вспомнил о вырванном у него обещании вернуться на Монмартр, где его ожидали одни муки. А у Гильома проснулись подозрения, беспокойство, какое он испытывал, видя, что Мария охвачена острым возбуждением и вся изменилась под влиянием нового, еще неведомого ей чувства. Неужели же этим двум людям, горячо любящим друг друга, суждено пережить новые терзания, длительную борьбу и так и не познать счастья? Их сердца уже начинали обливаться кровью, вдобавок им причинили великую боль зрелище правосудия и вид этого бедняги, заплатившего жизнью за преступления всего человечества.
Когда они вышли на набережную, Гильом заметил в темноте маленькую одинокую фигуру Виктора, шагавшего впереди. Он окликнул юношу и заговорил о ним о его матери. Но тот ничего не слыхал. Его тонкие губы приоткрылись, и раздался голос, сухой и режущий, как удар ножа:
— А! Они жаждут крови… Пускай отсекут ему голову, он будет отомщен!
V
Там, высоко на Монмартре, в мастерской, обычно такой светлой и веселой, теперь стало мрачнее неловко воцарились печаль и молчание. Все это время там не было ни одного из трех сыновей. Том а с утра отправлялся на завод работать над маленьким двигателем; Франсуа не покидал Нормальной школы, усиленно готовясь к экзаменам; Антуан, поглощенный своей работой, проводил время у Жагана, с великой радостью наблюдая, как его юная подруга Лиза пробуждается к жизни. Гильом оставался с глазу на глаз с Бабушкой, все время сидевшей у окна за каким-нибудь шитьем; а Мария расхаживала по дому и появлялась в мастерской только в те часы, когда там находился Пьер.
В эти траурные дни все домашние видели, что отец семейства переживает глухой гнев и острое возмущение, вызванное смертным приговором Сальва. Вернувшись домой после процесса, он дал волю своему негодованию и заявил, что, если казнят беднягу Сальва, это будет форменным убийством и вызовет яростную классовую борьбу. Не вдаваясь в обсуждения, все молча выслушали этот скорбный и яростный вопль. Никто не решался тревожить отца, который целыми часами сидел молча, погруженный в свои мысли, бледный, с блуждающим взглядом. Его тигельная печь оставалась холодной. С утра до вечера он пересматривал свои проекты, папки, где хранились листы с формулами его изобретения, нового взрывчатого вещества и могучего орудия, которое он мечтал преподнести в дар Франции, чтобы она, покорив все народы, могла в один прекрасный день водворить на земле царство правды и справедливости. Он просиживал долгие часы над бумагами, порой забывая о них и устремляя взор вдаль, и в голове у него проносился поток смутных мыслей. Гильом начинал сомневаться в разумности своего замысла, и у него возникали опасения: а что, если он, в своем стремлении умиротворить народы, только разожжет на земле бесконечные истребительные войны? О, этот огромный Париж, который он искренне считал умственным центром вселенной, способным породить светлое будущее! Что за чудовищное зрелище представляет он сейчас: какая глупость, какой позор, какая несправедливость! Разве Париж духовно созрел и способен осуществить задачу спасения человечества, которую Гильом хотел на него возложить? И когда он начинал перечитывать свои рукописи и проверять формулы, у него уже недоставало прежней энергии; его подхлестывала только мысль о предстоящем браке, но ему думалось, что все на свете давным-давно устроено и незачем ломать свою жизнь, пытаясь перестроить мир.
Его женитьба! Разве мысли о ней не преследовали Гильома, не волновали его еще больше, чем великая задача ученого, чем страстные мечты анархически настроенного гражданина? Все эти обуревавшие его мысли и чувства не могли заглушить мучительной подспудной тревоги, в которой он сам не хотел себе признаться. Гильом ежедневно твердил себе, что, женившись на Марии, откроет секрет своего изобретения военному министру и озарит молодую женщину лучами своей славы. Жениться на Марии! Жениться на Марии! Помышляя об этом, он всякий раз испытывал лихорадочное возбуждение и глухое беспокойство. Если теперь он молчал, если он утратил свою спокойную веселость, то лишь потому, что видел, как все ее существо излучает какую-то новую, неведомую ему жизнь. Она явно изменилась; он чувствовал, что она становится совсем другой и все дальше отходит от него. Всякий раз, как Пьер бывал у них, Гильом наблюдал за братом и за Марией. Пьер навещал их редко, испытывал какую-то неловкость и тоже стал совсем другим. Когда он являлся к ним по утрам, Мария как будто вся преображалась, и в их доме чувствовалось веяние какой-то иной жизни. А между тем их отношения оставались по-прежнему братски-невинными. Они казались добрыми товарищами, их руки никогда не соприкасались, и они беседовали без тени смущения. Но, помимо их воли, от них исходило некое сияние, какие-то вибрации, какое-то дуновение, еще более тонкое, чем солнечный луч или аромат. Прошло несколько дней, и Гильом уже больше не мог сомневаться; он был потрясен, и сердце его кровоточило. Он решительно ничего не приметил, но был твердо убежден, что эти двое детей, как он привык отечески их называть, страстно любят друг друга.
Однажды ослепительным утром, сидя наедине с Бабушкой над залитым солнцем Парижем, он отдался своим мучительным мыслям, которые овладели им с невероятной силой. Он пристально смотрел на нее; она сидела на своем обычном месте, работая иглой без очков, и лицо ее сохраняло свою царственную ясность. Быть может, он даже не видел ее. А она время от времени поглядывала на него, словно ожидая признания, которое так и не срывалось с его уст.
Наконец она решилась прервать это бесконечно затянувшееся молчание.
— Гильом, что это с вами творится с некоторых пор? Вам надо что-то мне сказать, почему же вы мне этого не говорите?
Гильом спустился с облаков.
— Мне надо вам что-то сказать? — изумленно спросил он.
— Да, я знаю, чем вы сейчас озабочены, и я думала, что вы побеседуете об этом со мной, ведь вы ничего не предпринимаете без моего совета.
Гильом побледнел и содрогнулся: значит, он не ошибся, раз Бабушка знает об этом? Если он заговорит на эту тему, его подозрения обретут плоть и кровь, станет реальным и неотвратимым все то, что до сих пор, как он надеялся, существовало только в его воображении.
— Дорогой сын, это было неизбежно. С первых же дней я это предвидела. И если я вас не предупредила, то лишь потому, что усматривала в ваших действиях известную цель. Но, видя ваши страдания, я поняла, что ошиблась.
Гильом уставился на нее с растерянным видом, весь дрожа.
— Да, — продолжала она, — я вообразила, что вы сами захотели этого и привели сюда своего брата, чтобы узнать, любит ли вас Мария только как отца или же настоящей любовью… Для этого у вас были весьма веские основания: огромная разница в возрасте, ваша жизнь заканчивается, а ее жизнь только начинается… Не говоря уже о ваших работах, о миссии, которую вы взяли на себя.
Он подошел к ней, сжав руки с мольбой.
— О! Говорите ясней, скажите мне все, что вы думаете… — воскликнул он. — Я ничего не понимаю, мое бедное сердце растерзано, и мне так хочется все узнать, действовать, принять какое-то решение! Я вас люблю и почитаю как мать. Я высоко ценю ваш светлый разум и всегда следовал вашим советам, и вот, оказывается, вы предвидели эти ужасные последствия и дали всему этому совершиться, хотя это может стоить мне жизни. Почему же, скажите мне, почему?
Обычно Бабушка была немногословна. Она чувствовала себя неограниченной властительницей в этом доме, где заботилась обо всех и всеми руководила, никому не отдавая отчета в своих действиях. Если она никогда не высказывала всех своих мыслей и желаний, то лишь потому, что отец и сыновья, уверенные в ее непогрешимом благоразумии, всецело ей доверялись. Она казалась несколько загадочной и от этого приобретала у них в глазах еще больше величия.
— К чему слова, — тихонько проговорила она, не отрываясь от работы, — когда факты говорят сами за себя?.. Я, безусловно, одобряла ваше намерение жениться на Марии, понимая, что она должна выйти за вас, чтобы остаться у нас в доме. Тут было еще много других соображений, о которых не стоит говорить… Но с появлением Пьера все изменилось, все приняло свое естественное течение. Разве это не к лучшему?
Он все еще боялся понять.
— То есть как это к лучшему, когда я погибаю, когда моя жизнь разбита?
Она поднялась и подошла к нему, прямая, высокая и стройная в своем черном платье; ее бледное лицо выражало строгость и непоколебимую волю.
— Сын мой, вы знаете, что я вас люблю и хочу, чтобы вы всегда были на большой высоте и сохраняли душевную чистоту… Однажды утром вы испугались, и весь дом чуть было не взлетел на воздух. Вот уже несколько дней вы сидите над своими папками и чертежами с каким-то отсутствующим, растерянным видом, как человек, который утратил власть над собой, колеблется и не знает, куда ему идти… Поверьте мне, вы вступили на опасный путь. Пусть себе Пьер женится на Марии, так будет лучше и для них и для вас.
— Для меня? О нет, нет!.. Что будет со мной?
— Вы успокоитесь, сын мой, когда поразмыслите над этим. Вам предстоит такая значительная роль, ведь вы не сегодня-завтра должны открыть свое изобретение! Мне кажется, вы сейчас колеблетесь. Пожалуй, вы сделаете ошибку, если начнете действовать, не сообразуясь со всеми обстоятельствами. Я чувствую, что вам надо найти какой-то другой выход… Ну, что ж, страдайте, если это нужно, но оставайтесь человеком одной идеи.
Потом, уходя, она прибавила с материнской улыбкой, желая смягчить свои резкие слова:
— Вы заставили меня говорить попусту. В сущности, я спокойна за вас, я знаю, вы человек такой возвышенной души, что, конечно, поступите по всей справедливости, как никто другой не способен поступить.
Оставшись один, Гильом отдался волнующим мыслям. Что хотела она сказать? Ее краткие слова были не совсем ясны. Он знал, что у нее всегда на уме только хорошее, естественное и необходимое. Но она требовала от него слишком высокого героизма. После ее слов Гильом все время испытывал смутный протест, помышляя о своем проекте доверить свой секрет военному министру, безразлично какому, тому, который сейчас на посту. Он колебался и испытывал отвращение при мысли об этом шаге, а тем временем она говорила ему своим строгим голосом, что он должен сделать нечто более важное, найти другой выход. Внезапно перед ним встал образ Марин, и острая боль пронзила его сердце при мысли, что от него требуют, чтобы он от нее отказался. Потерять ее, уступить ее другому, — нет, нет! Это свыше сил человеческих! У него никогда не хватит мужества отвергнуть эту последнюю радость любви, о которой он так мечтал!
Целых два дня он отчаянно боролся с собой. Все это время он вновь переживал последние шесть лет, когда девушка находилась с ним в его маленьком счастливом доме. Сперва она была для него только приемной дочерью, а впоследствии, когда возникла мысль об их браке, он испытывал спокойную радость, надеясь, что этот союз принесет счастье всем его близким. Он только потому не захотел вторично жениться, что боялся навязать своим детям новую мать, которая еще неизвестно как будет к ним относиться, и только потому стал снова мечтать о радостях любви, о жизни с близким существом, что обрел у своего же очага этот цветок юности, эту подругу, которая благоразумно согласилась ему принадлежать, несмотря на значительную разницу в годах. После этого прошло несколько месяцев, важные обстоятельства заставили их отложить свадьбу, но это не причиняло ему особых страданий. Его успокаивало сознание, что она его ждет, а терпение выработалось у него за долгие годы упорного труда. И теперь, когда возникла угроза ее потерять, его сердце, обычно такое спокойное, разрывалось и истекало кровью. Раньше он никогда бы не поверил, что связан с нею такими тесными узами, что вся плоть его так стремится к ней. Ему под пятьдесят, и у него хотят вырвать женщину, последнюю в его жизни, любимую и желанную, бесконечно желанную оттого, что она является для него воплощением молодости, аромата которой ему вовек не вдыхать, если он потеряет Марию. Им овладело безумное желание, к которому примешивался гнев: он жаждал Марию, и его страдания еще усиливались при мысли, что кто-то хочет похитить ее у него.
Однажды ночью он особенно жестоко страдал. Чтобы не разбудить никого в доме, он рыдал, уткнувшись лицом в подушку. Потом ему показалось, что вопрос разрешается весьма просто: Мария согласилась ему принадлежать, и он удержит ее. Она дала ему слово, и он заставит девушку его сдержать, — вот и все. Во всяком случае, она будет принадлежать только ему, и никому другому не придет в голову украсть ее у него. Тут перед ним всплыл образ этого «другого», его брата, который долгие годы оставался ему чужим и которого он сам, в порыве любви, ввел в свою семью. Но Гильом так ужасно страдал, что в этот момент готов был прогнать брата; в нем закипала лютая ненависть к Пьеру, и он был близок к безумию. Его брат! Его младший брат! Значит, он больше не будет его любить, их сердца будут отравлены враждой и злобой? Часы за часами он метался, охваченный яростью, выискивая средства, как бы отстранить Пьера, чтобы не совершилось то, что уже назревало. Временами он овладевал собой и сам удивлялся, как это он, ученый, человек возвышенного ума, привыкший за долгие годы к безмятежному труду, мог поддаться такой бурной страсти. По не ученый страдал в нем, а душа ребенка, мечтательная и полная нежности, все еще живая, несмотря на его неумолимую логику, на упрямую веру в факты. Эта двойственность была основой его гениальности: ученый-химик уживался в нем с мечтателем-утопистом, жаждущим справедливости, способным ко всеобъемлющей любви… И страсть снова овладевала им. Он оплакивал Марию, как стал бы оплакивать крушение своей заветной мечты об уничтожении войн посредством войны; о спасении человечества, на благо которого он трудился уже десять лет.
Потом Гильома одолела усталость, и пришло решение, успокоившее его. Ему стало стыдно, что он впал в такое отчаяние, еще не удостоверившись, как обстоит дело. Ему захотелось все разузнать. Он спросит девушку, она так честна, что ответит ему со всей откровенностью. Вот выход из положения, достойный их обоих! Надо чистосердечно объясниться и вслед за тем принять то или иное решение. Наконец он уснул. Утром Гильом встал совсем разбитый, но несколько успокоенный, как будто после пронесшейся грозы; за краткие часы сна в его душе произошла какая-то важная перемена.
В то утро Мария была на редкость весела. Накануне она совершила с Пьером и Антуаном продолжительную поездку на велосипеде в сторону Монморанси по отвратительным дорогам, и они приехали домой запыленные, но в полном восторге. Она возвращалась из прачечной, где заканчивалась стирка, и шла по садику с обнаженными руками, беззаботно напевая, когда Гильом остановил ее.
— Вы хотите со мной поговорить, друг мой?
— Да, дорогое мое дитя, мне необходимо побеседовать с вами об одном важном деле.
Она поняла, что речь идет о свадьбе, и лицо ее сразу стало серьезным. В свое время Мария согласилась на этот брак, считая, что поступает весьма благоразумно, и вполне сознавая, какие обязанности она берет на себя. Конечно, она выходила замуж за человека двадцатью годами старше ее. Но о таких браках нередко приходилось слышать, и обычно они бывали удачными. Она никого не любила и могла располагать собой. Она дарила ему себя в порыве благодарности, горячего, нежного чувства, которое принимала за любовь. Все вокруг нее так радовались этому союзу, который должен был еще теснее связать членов их семьи! Ее опьяняли молодая отвага и жизнерадостность, придававшие ей такую прелесть, ей хотелось сделать всех счастливыми.
— В чем дело? — спросила она с некоторым беспокойством. — Надеюсь, ничего дурного!
— Нет, нет… Только мне надо кое-что вам сказать.
Он повел ее под сливовые деревья, в последний, еще уцелевший уголок зелени. Там стояла под сиренью старая подгнившая скамья. Пред ними расстилался огромный Париж — безбрежное море крыш, легких и сияющих в лучах утреннего солнца.
Они уселись. Но когда Гильом хотел заговорить, задать вопрос, он вдруг испытал странное смущение. Глядя на Марию, такую молодую, такую прелестную, с обнаженными руками, он почувствовал, как его бедное сердце усиленно забилось.
— Приближается день нашей свадьбы, — сказал он наконец.
При этих словах она слегка побледнела, быть может, сама того не сознавая, и он весь похолодел. Не приметил ли он скорбную складку в уголках ее рта? Не омрачились ли печалью ее глаза, такие честные, такие ясные?
— О, у нас еще столько времени впереди!
Он продолжал неторопливо, ласковым голосом:
— Конечно, но все-таки нужно будет выполнить кое-какие формальности. Это скучная материя, но лучше нам сегодня все обсудить, чтобы больше к этому не возвращаться.
Он продолжал говорить о том, что им предстояло сделать, не отрывая от нее взгляда, наблюдая, какое впечатление произведет на нее разговор о близкой свадьбе. Она сидела молча. Лицо ее словно окаменело, руки лежали на коленях, и она не обнаруживала ни огорчения, ни досады. Но все же она казалась подавленной и как будто покорялась необходимости.
— Дорогая моя Мария, вы молчите… Вам что-нибудь неприятно?
— Мне? О нет, нет!
— Вы же знаете, что можете говорить со мной вполне откровенно. Давайте еще подождем, если у вас есть свои основания снова отодвинуть этот срок.
— Да нет же, мой друг, у меня нет никаких причин. Какие же у меня могут быть причины? Я предоставляю вам уладить все по вашему усмотрению.
Наступило молчание. Она смотрела ему в глаза своим открытым взглядом, но губы ее чуть вздрагивали, и какая-то странная грусть омрачала ее лицо, обычно веселое и безмятежное, как лесной ручеек. Раньше она, конечно, стала бы смеяться и петь, услыхав о предстоящей свадьбе.
Внезапно Гильом набрался смелости и сказал дрожащим голосом:
— Моя дорогая Мария, простите меня, если я задам вам один вопрос… Вы еще можете взять назад свое слово. Вполне ли вы уверены, что любите меня?
Она поглядела на него с искренним изумлением, не понимая, к чему он клонит. Видя, что она не спешит отвечать, он добавил:
— Загляните поглубже в свое сердце, спросите себя… Действительно ли вы любите своего старого друга, а не другого?
— Это я-то, Гильом! Почему вы меня об этом спрашиваете? Разве я дала вам повод так со мной говорить?
В ее голосе звучало искреннее негодование. Она смотрела ему в глаза своими прекрасными глазами, в которых так и светилась правдивость.
— А все-таки я должен у вас допытаться, — продолжал он, перемогая себя, — ведь дело идет о счастье всей нашей семьи. Спросите свое сердце, Мария. Вы любите моего брата, вы любите Пьера…
— Я люблю Пьера? Я? Я? Ну да, я его люблю. Я его люблю, как и всех вас, я люблю его, потому что он стал нам родным, потому что теперь он живет нашей жизнью и разделяет наши радости!.. Когда он приходит к нам, я, разумеется, бываю счастлива, и мне хотелось бы, чтобы он всегда был с нами. Я в восторге, когда его вижу, когда его слушаю, когда гуляю с ним. На днях я так огорчилась, когда мне показалось, что он опять впал в черную меланхолию… Это вполне естественно, не так ли? Мне кажется, до сих пор я исполняла все ваши желания, и решительно не понимаю, каким образом мои дружеские чувства к Пьеру могут помешать нашему браку.
Пытаясь его успокоить, она с жаром говорила о своем равнодушии к Пьеру, и Гильом с болью в сердце убедился, что он не ошибся в своих догадках.
— Но послушайте, бедная моя Мария, ведь вы невольно выдаете себя… Теперь мне ясно, что вы не любите меня, а любите моего брата.
Он схватил ее обнаженные руки и сжимал их с нежностью и отчаянием, словно принуждая Марию заглянуть в глубь ее сердца. Но девушка все еще защищалась. Продолжалась трагическая борьба двух любящих существ: он старался убедить ее очевидностью фактов, а она сопротивлялась, упорно не желая ничего видеть. Тщетно излагал он ей всю историю ее любви, объясняя, что происходило у нее в сердце: сперва она испытывала к Пьеру глухую враждебность, потом ее заинтересовал этот необычайный молодой человек, затем возникла симпатия и родилась нежность, когда она увидела его страдания и ей удалось мало-помалу излечить его от тоски. Оба они молоды, все остальное довершила мудрая природа. Он приводил все новые доводы, все новые доказательства, вызывая у нее волнение и дрожь, но она по-прежнему не хотела испытывать свое сердце.
— Нет, нет, я его не люблю… Если бы я его любила, это было бы мне известно и я сказала бы вам. Ведь вы знаете меня: я не умею лгать.
Гильом безжалостно допытывался правды. В эти минуты он напоминал героического хирурга, который, помышляя о всеобщем благе и испытывая новый метод, делает операцию самому себе.
— Нет, Мария, вы любите вовсе не меня. Вы чувствуете ко мне только уважение, благодарность, чисто дочернюю нежность. Вспомните, что вы переживали, когда мы решили пожениться. В то время вы никого не любили и благоразумно дали свое согласие, не сомневаясь, что будете счастливы со мной, считая, что поступаете правильно и хорошо… Но вот явился мой брат, и у вас естественно родилась любовь. И теперь Пьера, одного Пьера, вы любите страстной любовью, какую питают к любовнику и к мужу.
Обессилев, потрясенная светом, которым, помимо воли, озарилась ее душа, Мария взволнованно возражала.
— Но почему вы так защищаетесь, дитя мое? Я же ни в чем вас не упрекаю. Я сам, старый безумец, этого захотел. Случилось только то, что должно было произойти, и это, безусловно, хорошо… Я только хотел добиться от вас правды, чтобы принять известное решение и поступить, как подобает порядочному человеку.
Наконец она признала себя побежденной. Слезы хлынули у нее из глаз. Она испытывала раздирающую боль, и ей казалось, что она смята, раздавлена под тяжестью этой новой, дотоле неведомой ей истины.
— Ах, какой вы злой, вы насильно заставили меня заглянуть в мою душу! Еще раз клянусь вам, я и не подозревала, что люблю Пьера той любовью, о которой вы говорите. Это вы раскрыли мне мое сердце и раздули в нем пламя из искорки, которая еле тлела… А ведь это правда, я люблю Пьера. Теперь я люблю его именно так, как вы сказали. И все мы стали ужасно несчастными, — вот чего вы добились!
Она плакала навзрыд. В порыве безотчетной стыдливости она внезапно вырвала свои руки из его рук. Но он обратил внимание, что ее щеки не окрасились румянцем, хотя она так часто, к своей досаде, непроизвольно краснела. Девственно чистая Мария не чувствовала себя виноватой: она не изменила ему, это он разбудил ее для любви. С минуту они стояли, глядя сквозь слезы друг на друга, — она, здоровая, крепкая, с широкой грудью, вздымающейся от сердечного волнения, с прелестными обнаженными до плеч руками, которые могли служить поддержкой; он, еще полный сил, с густой седой шевелюрой, с черными усами, придававшими ему молодой и энергичный вид. Но все было кончено: свершилось непоправимое, и судьба их резко изменилась!
Он сказал в благородном порыве:
— Мария, вы не любите меня. Я возвращаю вам ваше слово.
Но она с не меньшим благородством стала отказываться:
— Я никогда вам его не верну, потому что я дала вам его от чистого сердца, с искренней радостью и по-прежнему испытываю к вам нежность и восхищаюсь вами.
Но он настаивал, и в его надтреснутом голосе появились твердые нотки.
— Вы любите Пьера, и за Пьера вы должны выйти замуж.
— Нет, я принадлежу вам. Невозможно за какой-то час разрушить то, что скрепили годы… Еще раз клянусь вам, что если я и впрямь люблю Пьера, то еще этим утром и не подозревала об этом. Пусть будет все по-прежнему. Не мучьте меня больше, это было бы слишком жестоко.
Вдруг Мария с дрожью стыда обнаружила, что стоит перед ним с обнаженными руками, и поспешно отвернула рукава, она натягивала их на ладони, словно хотела вся спрятаться от него. Потом встала и удалилась, не проронив больше ни слова.
 Гильом остался один на скамейке в этом зеленом уголке, над огромным Парижем, который в утренних лучах казался каким-то фантастическим городом, реющим над землей. Неимоверная тяжесть придавила его. Ему представлялось, что он никогда не поднимется с этой скамьи. Но больнее всего его ранило признание Марии, что еще этим утром она не подозревала о своей любви к Пьеру. Она этого не знала, и он сам заставил ее осознать свою любовь. Он взрастил у нее в сердце это чувство, открыв ей глаза. О, как это ужасно! Самому обречь себя на смертельные муки! Теперь он во всем удостоверился. Счастье любви не для него! Жившее в нем нежное дитя было смертельно ранено. Но в эти трагические минуты, чувствуя свой возраст и всю неизбежность жертвы, он испытал горькую радость и некое гордое удовлетворение при мысли об исполненном долге. То было суровое утешение, которое посещает лишь героические души, но он находил в этом горькую поддержку, какое-то гордое удовлетворение, И мысль о жертве внедрилась в его сознание, мало-помалу овладев им с необычайной силой. Он поженит своих детей. Это его долг, это единственно разумный выход, только это обеспечит счастье всем членам семьи. Когда его сердце возмущалось, трепетало и стенало от боли, он сжимал себе грудь своими сильными руками, пытаясь его придушить.
Гильом остался один на скамейке в этом зеленом уголке, над огромным Парижем, который в утренних лучах казался каким-то фантастическим городом, реющим над землей. Неимоверная тяжесть придавила его. Ему представлялось, что он никогда не поднимется с этой скамьи. Но больнее всего его ранило признание Марии, что еще этим утром она не подозревала о своей любви к Пьеру. Она этого не знала, и он сам заставил ее осознать свою любовь. Он взрастил у нее в сердце это чувство, открыв ей глаза. О, как это ужасно! Самому обречь себя на смертельные муки! Теперь он во всем удостоверился. Счастье любви не для него! Жившее в нем нежное дитя было смертельно ранено. Но в эти трагические минуты, чувствуя свой возраст и всю неизбежность жертвы, он испытал горькую радость и некое гордое удовлетворение при мысли об исполненном долге. То было суровое утешение, которое посещает лишь героические души, но он находил в этом горькую поддержку, какое-то гордое удовлетворение, И мысль о жертве внедрилась в его сознание, мало-помалу овладев им с необычайной силой. Он поженит своих детей. Это его долг, это единственно разумный выход, только это обеспечит счастье всем членам семьи. Когда его сердце возмущалось, трепетало и стенало от боли, он сжимал себе грудь своими сильными руками, пытаясь его придушить.
На другой день у Гильома произошло решительное объяснение с Пьером, но уже не в тесном садике, а в просторной мастерской. В окне виднелся необъятный Париж, целый мир, где трудилось человечество, гигантский чан, где бродило вино будущего. Оставшись наедине с братом, он сразу же приступил к делу, не считая нужным прибегать к предосторожностям, какие соблюдал в разговоре с Марией.
— Пьер, тебе ничего не надо мне сказать? Почему ты не хочешь быть откровенным со мной?
Брат сразу понял, о чем идет речь, и весь задрожал, не находя слов, выдавая себя своей растерянностью, испуганным и умоляющим взглядом.
— Ты любишь Марию, так почему же ты не пришел ко мне честно сказать о своей любви?
Но вот Пьер овладел собой и начал пылко защищаться:
— Да, я люблю Марию. Я знал, что не сумею скрыть своего чувства и что ты это заметишь. Но мне незачем было тебе об этом говорить. Я был уверен в себе и не сомневался, что уйду от вас прежде, чем у меня вырвется хоть слово любви. Я страдал в одиночестве. Ах, ты и представить себе не можешь, как я терзался, и с твоей стороны даже жестоко об этом говорить, потому что теперь я буду вынужден уйти… Я уже несколько раз собирался это сделать. И если я остался у вас, то этому виной моя слабость, а также глубокая привязанность к вашей семье. Впрочем, я здесь никому не помешаю. Мария ничем не рискует. Ведь она не любит меня.
— Мария любит тебя, — отрезал Гильом. — Я допытывался у нее вчера, и она призналась, что любит тебя.
Потрясенный Пьер схватил его за плечи и заглянул ему в глаза.
— Ах, брат, брат! Что ты говоришь! Зачем говоришь такое? Ведь это было бы ужасным несчастьем для всех нас! Мне принесла бы больше горя, чем радости, эта любовь, о которой я всегда мечтал, как о несбыточном счастье. Ведь я не хочу, чтобы ты страдал… Мария твоя. У меня к ней благоговейное чувство, как к сестре. Если только мое безумие способно вас разлучить, то я избавлюсь от него, я сумею себя побороть.
— Мария любит тебя, — повторил Гильом с каким-то мягким упорством. — Мне не в чем тебя упрекнуть. Я прекрасно знаю, что ты боролся с собой, что ты не выдал себя ей ни словом, ни взглядом… Она сама еще вчера не подозревала, что любит тебя, и мне пришлось открыть ей глаза. Что поделаешь! Я просто констатирую факт: она любит тебя.
Пьер содрогнулся, и у него вырвался жест, выражавший ужас и восторг, как будто он узрел некое долгожданное чудо, которое вдруг поразило его насмерть.
— Ну хорошо, теперь все кончено… Давай обнимемся, брат, я ухожу.
— Ты уходишь? Но почему?.. Нет, ты останешься с нами. Нет ничего проще: ты любишь Марию, она любит тебя. Я тебе ее отдаю.
Пьер громко вскрикнул и поднял руки в недоумении и каком-то восторженном испуге.
— Ты мне отдаешь Марию, брат? Да ведь ты ждешь ее уже много месяцев, ты обожаешь ее!.. Нет! Нет! Это раздавит меня. Это слишком ужасно! Как будто ты даешь мне свое окровавленное сердце, вырвав его из груди… Нет, нет! Я не приму твоей жертвы!
— Но ведь Мария испытывает ко мне только благодарность и дружеские чувства, а тебя она любит страстной любовью. Неужели же ты хочешь, чтобы я бесчестно воспользовался ее словом, которое она дала мне, не разбираясь в своих чувствах? Но ведь если бы даже я принудил ее к браку, она не могла бы мне принадлежать всецело. Впрочем, я ошибаюсь, это не я отдаю ее тебе, она сама тебе отдается, и я не имею права ей помешать.
— Нет, нет! Ни за что не приму! Ни за что не причиню тебе такую боль!.. Обними меня, брат, я ухожу.
Гильом схватил его и насильно усадил рядом с собой на старом диванчике, стоявшем в углу у окна. Он принялся журить брата и говорил сердитым тоном со скорбной и добродушной улыбкой:
— Да ну же, неужели мы станем драться? Неужели придется тебя привязать, чтобы ты здесь остался?.. Черт возьми, уж я-то знаю, что делаю. Я всё обдумал, прежде чем говорить с тобой. Конечно, я не скажу, что у меня легко на душе. Да, сперва мне казалось, что я умру с горя, и я желал тебе смерти. А потом — что поделаешь! — волей-неволей я образумился, понял, что все устроилось к лучшему и самым естественным образом.
У Пьера уже не было сил сопротивляться, и он тихонько заплакал, закрыв лицо руками.
— Братец, милый братец, не надо скорбеть ни обо мне, ни о самом себе… Помнишь, как счастливы были мы с тобой в твоем домике в Нейи, когда снова нашли друг друга? Вся былая нежность пробудилась в нас, и мы сидели часами, держась за руки, вспоминали прошлое и были так дороги друг другу… А какое потрясающее признание сделал ты мне однажды вечером: о своем неверии, о своих муках, о пустоте, в которой ты очутился! Мне захотелось только одного — исцелить тебя, и я посоветовал тебе работать, любить, верить в жизнь, так как я был убежден, что только жизнь вернет тебе душевный мир и здоровье. Вот почему я привел тебя потом сюда и познакомил со своими. Ты упорно не хотел приходить, и я насильно тебя удержал.
И как же я был счастлив, когда у тебя пробудился вкус к жизни, когда ты стал настоящим мужчиной и тружеником! Я отдал бы свою жизнь, лишь бы ты окончательно выздоровел… Ну, что ж, теперь это сделано; я отдаю тебе все, что у меня есть. Мария тебе необходима, и она одна может тебя спасти.
И, видя, что Пьер порывается еще протестовать, он прибавил:
— Не отрицай этого. Это сущая правда. Если Мария не довершит дела, начатого мною, то, значит, я напрасно трудился: ты снова впадешь в отчаяние, в отрицание, будешь скорбеть о своей неудавшейся жизни. Она тебе необходима. Неужели ты думаешь, что я могу тебя разлюбить, что я, который так пламенно желал вернуть тебя к жизни, вдруг не захочу подарить тебе дыхание любви, живую душу, которая сделает из тебя человека? Я так люблю вас обоих, что не в силах вам запретить любить друг друга. Ведь пожертвовать своей любовью, милый брат, значит доказать свою любовь… И потом, повторяю, мудрая природа знает, что делает. Можно положиться на инстинкт, он всегда стремится к полезному, находит верный путь. Из меня получился бы нудный муж, — лучше уж мне оставаться в роли почтенного ученого. Ну, а ты другое дело, ты молод, у вас еще столько впереди: ребенок, плодовитая и счастливая жизнь.
Пьер невольно вздрогнул, и у него, как всегда, появился страх перед своим бессилием. Он столько лет был священником. Не вычеркнут ли он из списка живых? За эти годы воздержания не умер ли в нем мужчина?
— Жизнь плодовитая и счастливая, — повторил он шепотом, — да заслуживаю ли я ее, способен ли я еще на нее? Ах, если бы ты знал, как смущает и мучает меня мысль, что, быть может, я не достоин этого чудесного создания, которое ты мне даришь с такой любовью и царственной щедростью! Ты куда лучше меня, твое сердце богаче, твой ум живее, да, может быть, и как мужчина ты окажешься моложе и сильнее меня… Еще не поздно, брат, не отдавай ее мне, оставь ее себе. Ведь с тобой она будет счастливее, у вас будут дети, и ты будешь гораздо крепче и горячее любить ее… Поразмысли. Меня одолевают сомнения. Ее счастье важнее всего. Пусть она принадлежит тому, кто будет по-настоящему ее любить.
Неизъяснимое волнение овладело мужчинами. Слыша эту прерывистую речь, видя, что брат сомневается в силе своей любви, Гильом вдруг почувствовал, что воля у него поколебалась. Сердце у него раскалывалось от боли, и у него вырвалась отчаянная, бессвязная жалоба:
— Ах, я так люблю Марию! Она была бы так счастлива со мной!
Вне себя Пьер вскочил и крикнул:
— Ты сам видишь, что по-прежнему ее любишь и не можешь отказаться от нее!.. Отпусти меня! Отпусти меня!
Но Гильом уже обхватил его обеими руками и крепко сжимал. Самоотречение только усиливало его любовь к брату.
— Останься!.. Это не я сейчас с тобой говорил, это другой, тот, что должен умереть, что уже умер. Клянусь тебе памятью матери, памятью отца, что жертва моя уже принесена, и вы оба перестанете для меня существовать, если не захотите быть обязанными мне своим счастьем!
Братья со слезами на глазах обнялись и с минуту стояли, крепко сжимая друг друга в объятиях. Им уже приходилось так обниматься, но они еще ни разу не испытали такого полного духовного слияния. Старший дарил свою жизнь младшему, а младший дарил ему в ответ все свои силы, всю свою душевную чистоту и страстную нежность. Это сладостное мгновение показалось им вечностью. Вся скорбь, все страдания человеческие исчезли. Их пылающие сердца излучали неугасимую любовь, подобно тому как солнце излучает свет. И эта великая минута искупила все слезы, те, что были пролиты в прошлом, и те, что должны были пролиться. А расстилавшийся перед ними необъятный Париж глухо рокотал. Там зарождался новый, неведомый мир. В его гигантском чане бродило вино будущего.
В этот момент вошла Мария. И все совершилось так просто. Гильом вырвался из объятий брата, подвел его к ней и насильно соединил их руки. Сперва она сделала отстраняющий жест, упорно не желая, с присущей ей честностью, отказываться от своего слова. Но что она могла сказать перед лицом этих двух плачущих мужчин, которых она застала в тесном объятии братской любви? Разве эти слезы, эти объятия не разбивали в прах все обычные доводы, все возражения, готовые сорваться с ее уст? Она даже не испытывала неловкости: ей показалось, что она уже до конца объяснилась с Пьером и что они оба согласились принять этот дар любви, который Гильом так героически им преподносил. Пронеслось веяние высокого подвига, и эта необычайная сцена казалась им всем совершенно естественной. Между тем Мария молчала, все еще не решаясь отвечать. Она смотрела на братьев, и ее большие, сияющие нежностью глаза тоже наполнились слезами.
Но вот Гильома словно озарило, и он бросился к лестнице, которая вела на второй этаж, где находились спальни.
— Бабушка! Бабушка! Спускайтесь! Спускайтесь скорее! Вы нам нужны!
И когда она вошла в своем черном платье, стройная и бледная, величавая, как королева-мать, которой все повинуются, он воскликнул:
— Скажите же этим детям: самое лучшее, что они могут сделать, это пожениться. Скажите им, что мы с вами уже говорили об этом и таково ваше мнение, такова ваша воля.
Она проговорила спокойно, чуть склонив голову:
— Это правда. Так будет благоразумнее всего.
Тут Мария бросилась в ее объятия. Она соглашалась, покоряясь могучей неведомой силе жизни, внезапно изменившей ее судьбу. Гильом тотчас же потребовал, чтобы назначили день свадьбы и приготовили наверху помещение для молодых. Пьер посмотрел на него с беспокойством и заговорил о свадебном путешествии, опасаясь, что брат еще не совсем исцелен и их присутствие будет для него мучительным.
— Нет, нет! Оставайтесь! — воскликнул Гильом. — Я для того и решил вас поженить, чтобы вы оба были со мною… Не беспокойтесь обо мне. У меня столько работы! Я буду трудиться.
Вечером Том а и Франсуа узнали эту новость, но не выказали особенного удивления. Несомненно, они уже предвидели подобную развязку. И они склонились перед волей отца, не проронив ни слова, когда он, как всегда, с невозмутимым видом сообщил им о своем решении. Но Антуан, сам переживавший пылкую любовь, с тревогой и сомнением посмотрел на отца, с таким мужеством вырвавшего сердце у себя из груди. Неужели же он не умирает от горя, принеся эту жертву? Юноша горячо поцеловал отца; его братья, тоже взволнованные, в свою очередь, от души обняли Гильома. Его глубоко тронула ласка взрослых сыновей, и он улыбнулся небесной улыбкой с влажными от слез глазами. После победы, одержанной в мучительной душевной борьбе, их нежность доставляла ему сладостное удовлетворение.
Но в тот же вечер он пережил еще новое волнение. Когда на заходе солнца он уселся возле широкого окна за большим столом и стал проверять и приводить в порядок свои папки с чертежами изобретенного им орудия, он, к своему удивлению, увидел, как в мастерскую вошел Бертеруа, его учитель и друг. Время от времени знаменитый химик его навещал. Гильом понимал, какую честь оказывает ему своим посещением этот семидесятилетний старец, прославленный, увешанный орденами и удостоенный всевозможных почетных званий и постов. К тому же представитель официальной науки, член Французской академии наук проявлял незаурядное мужество, посещая отщепенца и отверженца. Но Гильом сразу же догадался, что на сей раз ученого привело к нему любопытство. И он стоял в замешательстве, не решаясь убрать рукописи и чертежи, разложенные на столе.
— Не бойтесь, — шутливо сказал Бертеруа, отличавшийся большой проницательностью, несмотря на свой небрежный тон и резковатые манеры. — Я вовсе не собираюсь похищать ваши секреты… Оставьте все бумаги на столе. Даю вам слово, что не буду в них заглядывать.
И старик откровенно заговорил о взрывчатых веществах, которые он тоже с увлечением изучал. Недавно он сделал кое-какие открытия, которыми охотно делился. Потом как бы мимоходом он упомянул о консультации, за которой к нему обратились во время процесса Сальва. Он давно мечтал изобрести взрывчатое вещество исключительной мощи, чтобы затем использовать его для бытовых целей, сделав своим послушным орудием. В заключение он сказал, многозначительно улыбаясь:
— Не представляю себе, где бы мог этот безумец раздобыть формулу своего порошка. Но если вы когда-нибудь откроете эту формулу, имейте в виду, что будущее, по всей видимости, принадлежит взрывчатым веществам, которые будут использованы как двигательная сила.
И вдруг добавил:
— Между прочим, этого Сальва казнят послезавтра утром. Мне только что сказал об этом мой приятель из министерства юстиции.
Гильом до сих пор слушал ученого с каким-то недоверчивым любопытством. Но весть о предстоящей казни Сальва всколыхнула в нем гневный протест. За последние дни ему стало ясно, что казнь неизбежно совершится, несмотря на многочисленные изъявления запоздалой симпатии к осужденному.
— Это будет гнусное убийство! — яростно крикнул он.
Бертеруа снисходительно пожал плечами.
— Что поделаешь! Общество всегда защищается, когда на него нападают… К тому же эти анархисты сущие дураки: они воображают, будто могут изменить мир, швыряя свои хлопушки. Вы знаете мое мнение: я считаю, что одна наука революционна, что наука со временем не только овладеет истиной, но и осуществит справедливость, если только справедливость осуществима в мире сем… Вот почему, друг мой, я живу так спокойно и проявляю такую терпимость.
Гильом снова вглядывался в образ этого революционера, который в тишине своей лаборатории готовил гибель старому отвратительному обществу с его богом, догматами, законами, но при этом ценил свой покой, отвергал борьбу, не желал вмешиваться в уличные события, предпочитал жить обеспеченной жизнью, получать награды и готов был мириться с любым правительством, одновременно предвидя и подготавливая роды грозного завтрашнего дня.
Бертеруа протянул руку по направлению к Парижу, на который опускалось солнце во всем победоносном великолепии.
— Слышите, как он ворчит?.. Ведь это мы поддерживаем пламя, это мы все время подбрасываем горючее в топку котла. Наука ни на минуту не прекращает своей работы, и это она созидает новый Париж, который станет творцом будущего мира… Будем на это надеяться. Все остальное пустяки.
Но Гильом больше не слушал его. Он думал о Сальва, думал о своем изобретении, о грозном орудии, которое не сегодня-завтра начнет разрушать города. Им овладела новая мысль. Он развязал последние узы, он сделал все, что мог, для счастья окружающих его людей. О! Вновь обрести мужество, до конца овладеть собой и, принеся в жертву свое сердце, с гордой радостью сознавать, что он вполне свободен и, если потребуется, пожертвует своей жизнью!
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления