Онлайн чтение книги
Париж
Paris
КНИГА ПЯТАЯ
I
Гильом захотел присутствовать при казни Сальва, и Пьер, досадуя, что ему не удалось отговорить брата, остался ночевать на Монмартре, чтобы утром его сопровождать. Он не раз обходил с благотворительной целью вместе с аббатом Розом квартал Шаронн и помнил, что из окон дома на углу улицы Мерлен, где жил депутат-социалист Меж, видна гильотина. Итак, он предложил себя в провожатые. Стояли ясные майские дни, казнь была назначена на половину пятого утра; братья решили не ложиться, они сидели, подремывая, в просторной мастерской и лишь время от времени перекидывались словами. В два часа они вышли из дому.
Ночь была восхитительно ясная и тихая. Полная луна, сиявшая в просторном чистом небе, подобно огромной серебряной лампе, изливала на широко раскинувшийся во сне Париж неиссякаемые потоки мирного таинственного света. Казалось, что идешь по какому-то приснившемуся городу, полному истомы; тишина не нарушалась ни единым звуком. Париж захлестнуло своими волнами и тихо баюкало озеро безмятежного покоя; до рассвета затих гулкий рокот труда, замолкли крики страданья. А там, внизу, в уединенном предместье, люди потихоньку копошились: они устанавливали гильотину, собираясь убить человека.
 На улице Сент-Элефтер Пьер и Гильом остановились, глядя на забывшийся во сне Париж, зыблющийся в тумане, словно овеянный легендой. Обернувшись, они увидели здание собора Сердца Иисусова, еще без купола, но производящее при ярком лунном свете грандиозное впечатление. В ослепительно белых лучах резко выделялись выступы на фоне огромных черных теней, и храм казался еще массивнее. Под бледным ночным небом он принимал вид какой-то чудовищной растительности, в которой таился грозный и зловещий вызов. Никогда еще не казался он Гильому таким огромным; в своей царственной гордыне он упорно властвовал над Парижем, подавляя его даже во время сна.
На улице Сент-Элефтер Пьер и Гильом остановились, глядя на забывшийся во сне Париж, зыблющийся в тумане, словно овеянный легендой. Обернувшись, они увидели здание собора Сердца Иисусова, еще без купола, но производящее при ярком лунном свете грандиозное впечатление. В ослепительно белых лучах резко выделялись выступы на фоне огромных черных теней, и храм казался еще массивнее. Под бледным ночным небом он принимал вид какой-то чудовищной растительности, в которой таился грозный и зловещий вызов. Никогда еще не казался он Гильому таким огромным; в своей царственной гордыне он упорно властвовал над Парижем, подавляя его даже во время сна.
Глубоко взволнованный Гильом был так потрясен видом собора, что не удержался и громко сказал:
— Ха! А они недурно выбрали местечко; и зачем только им это разрешили!.. Не могу представить себе ничего нелепей. Язычески роскошный храм, венчающий Париж, царящий над ним, построенный во славу абсурда! Какое бесстыдство, какая пощечина человеческому разуму после стольких веков труда, развития наук, борьбы! И это на самом видном месте нашего славного Парижа, единственного в мире города, чело которого, казалось бы, не должно быть запятнано подобным клеймом!.. В Лурде, Риме — это еще понятно. Но в Париже, на этой тщательно возделанной ниве разума, где пробиваются ростки великого будущего! Да ведь это объявление войны, дерзкое признание своей победы.
Обычно Гильом проявлял прекрасную терпимость ученого, для которого религия лишь социальное явление. Он даже охотно признавал величие или прелесть католических легенд. Но пресловутое видение Марии Алякок, послужившее поводом к основанию собора Сердца Иисусова, возмущало его, вызывая что-то вроде физического отвращения. Он испытывал страдание при виде кровоточащей раны на груди Спасителя, в глубине которой святая узрела огромное сердце и куда Иисус вложил другое сердце, маленькое сердце женщины, чтобы преисполнить его горячей любовью. Какой грубый, отталкивающий материализм, прямо мясная лавка, внутренности, мышцы, кровь! Особенно оскорбляла его картинка, которая изображала все эти ужасы и попадалась ему на каждом шагу: у дверей его дома, у торговца священными предметами, кричаще-яркая, в желтых, голубых и красных тонах, похожая на иллюстрацию из учебника анатомии.
Пьер также молчал, глядя на собор, весь белый в лунном свете, выступающий из мрака, подобно фантастическому замку, призванному держать в страхе и подчинении дремлющий у его подножия город. Он много перестрадал за последние годы, когда служил в нем мессы и был еще не в силах побороть в себе мучительные противоречия неверующего священника. И он, в свою очередь, высказал давно владевшую им тревожную мысль:
— Великие чаяния французского народа! Да, да, именно народные чаяния: труда, здоровья, расцвета сил, всеобщего подъема… Но с их точки зрения, все это совсем не так. Если Франция потерпела поражение, значит, она достойна кары. Она провинилась, следовательно, должна нести покаяние. В чем же ее вина? Она породила революцию и целое столетие свободно занималась исследованиями и науками; революция освободила разум, способствовала вольной инициативе и раскрепощению человечества, проповедуя это всем странам мира… Вот что вменили ей в вину, и как возмездие за наш великий труд, за все провозглашенные нами истины, за широкое распространение знаний, за то, что мы учим людей справедливости, теперь воздвигнута эта гигантская тумба, которую Париж может лицезреть из каждого закоулка и при виде которой будет чувствовать себя оплеванным; ведь она зачеркивает все наши усилия, всю нашу славу.
Обведя широким жестом город, дремлющий под серебряным лунным покровом, Пьер двинулся дальше, брат следовал за ним; в молчании они спустились с холмов в темноту еще пустынных улиц.
До внешнего кольца бульваров им не попалось навстречу ни души. Но там жизнь никогда не замирала; винные погребки, ночные рестораны, танцевальные залы были открыты, выброшенные на улицу порок и нищета жили своей обычной ночной жизнью. Люди, лишенные крова, дешевые проститутки в погоне за какой-нибудь постелью, бродяги, спавшие на бульварных скамейках, праздношатающийся люд, ищущий удачи. Под покровом ночного мрака всплывала на поверхность вся накипь парижского дна, обнажались все его язвы. Пустые улицы были во власти изголодавшихся, бездомных людей, утративших право даже на дневной свет; эти безымянные, отчаявшиеся существа кишели на улицах только по ночам. Что за жуткие призраки нищеты, что за страшные видения скорби и ужаса; как глухо звучали предсмертные стоны этим утром над Парижем, где на рассвете должны были гильотинировать человека, одного из этих отверженных, такого же бедняка и страдальца.
Когда братья начали спускаться по улице Мартир, Гильом заметил лежащего на бульварной скамье старика, у которого пальцы ног выглядывали из грязных рваных башмаков; Гильом молча указал на него. А через несколько шагов Пьер, тоже молча, указал Гильому на девушку в лохмотьях, которая спала с раскрытым ртом в подворотне прямо на земле. Они без слов понимали друг друга — жалость и гнев переполняли их сердца. Время от времени полицейские, по двое мерным шагом обходившие город, заставляли несчастных вставать на ноги и плестись дальше. Если они возбуждали подозрение или отказывались повиноваться, их забирали в участок. Разлагающее влияние обитателей центральных кварталов и преследования обездоленных сплошь и рядом превращали простых бродяг в воров и убийц.
На улице Мартир и в Монмартрском предместье ночная толпа носила другой характер; здесь встречались лишь запоздавшие ночные гуляки, женщины, пробиравшиеся вдоль стен, и уличные девки, затеявшие драку с любовниками. Еще дальше, на главных бульварах, — это уже были завсегдатаи ночных клубов, бледные мужчины, остановившиеся раскурить сигару на пороге высоких черных зданий, где ярко светился в темноте ряд окон целого этажа. Неторопливо, под руку с приятельницей, прошла дама в пышном туалете и бальном манто. Время от времени еще попадались медленно ехавшие фиакры. Экипажи, со спящими кучером и лошадью, стояли целыми часами как вкопанные; братья проходили бульвар за бульваром — бульвар Бонн-Нувель, начинающийся сразу же после бульвара Пуассоньер, бульвар Сен-Дени, бульвар Сен-Мартен и до самой площади Республики картина нищеты и страданий повторялась, становясь все ужасней, — бездомные, голодные всевозможные отбросы человечества, извергнутые на улицу ночью. Между тем на мостовой появилась армия подметальщиков, которые должны были убрать вчерашний сор и с утра придать городу пристойный вид, дабы парижанам не приходилось краснеть за скопившиеся за ночь кучи мусора и нечистот.
Братья шагали по бульвару Вольтера, приближаясь к улицам Рокет и Шаронн, и вскоре они почувствовали, что вступают в кварталы труда, где частенько не хватает даже хлеба и жизнь — сплошное страдание. Здесь Пьер чувствовал себя как дома, — эти огромные людные улицы он обошел сотни раз вместе с добрейшим аббатом Розом, навещая несчастных, разнося милостыню, поднимая упавших в канаву малышей. Все эти ужасы жили у него в душе; сколько трагедий видел он здесь, сколько слышал воплей, сколько перед ним проливалось слез и крови отцов, матерей, детей — в общей куче, заброшенных, погибающих от грязи и нищеты; это был настоящий ад, откуда он в конце концов бежал в слезах, потеряв всякую надежду и убедившись, что благотворительность лишь пустая, никчемная забава богачей. В этот ранний час былые чувства с невероятной силой вновь нахлынули на взволнованного ожиданием Пьера при виде этого квартала, полного скорби, где жили люди, раздавленные нищетой, обреченные на вечное отчаяние. Разве не в одной из этих конур недавно умер от голода старик, которому как-то вечером оказал помощь аббат Роз? А только что встреченная им проститутка, с визгом увертывавшаяся от ударов «кота», уж не та ли это девчушка, которую он когда-то унес на руках после смерти ее родителей? Сколько их, этих несчастных созданий, — имя им легион, спасти их нет возможности, — и тех, что родились нищими, как родятся калеками, и тех, что нырнули в море людской несправедливости, в существующий испокон веков океан, который ширится, несмотря на все попытки осушить его. Какое гнетущее безмолвие, какой непроглядный мрак царит в этих рабочих кварталах, где сон подобен доброму товарищу — смерти! Здесь рыщет голод, здесь стонет само несчастье, здесь вдруг возникают из темноты и тут же рассеиваются бледные призраки.
По мере того как Пьер и Гильом приближались к гильотине, вокруг них становилось все больше темных силуэтов, — целое стадо любопытных с глухим нетерпеливым топотом устремлялось к месту казни. Человеческие потоки стекались со всего Парижа, словно гонимые жестокой лихорадкой, в жажде увидеть смерть и кровь. Толпа глухо рокотала, но в квартале бедноты было по-прежнему темно, не светилось ни одного окна, не доносилось ни звука из домов, там на убогом ложе спали разбитые усталостью люди, которые должны были встать на рассвете.
Когда они подошли к площади Вольтера, Пьер, увидев, какая там толкучка, понял, что им не пробиться на улицу Рокет. И действительно, вход на нее был загорожен. Тут ему пришло в голову пройти немного дальше по улице Фоли-Реньо и добраться до улицы Мерлен, которая поворачивает позади тюрьмы.
Там было темно и пустынно. Огромное здание тюрьмы с высокими голыми стенами казалось в косых лучах луны какой-то древней постройкой, громадой холодного, мертвого камня. Но вот они очутились в толпе, в плотном туманном волнующемся потоке, где можно было различить лишь светлые пятна лиц. Им стоило немалого труда пробраться к дому депутата Межа на углу улицы Мерлен. Однако окна комнат на четвертом этаже, где жил депутат-социалист, оказались наглухо закрытыми, зато в остальных открытых настежь окнах виднелось множество голов. Ярко освещенная газом лавка виноторговца внизу и относившийся к ней зал во втором этаже уже были переполнены посетителями, весьма бурно настроенными в ожидании предстоящего спектакля.
— Я не решаюсь подняться и постучать к Межу, — заявил Пьер.
— Нет, нет! — воскликнул Гильом. — Я тоже не хочу. Зайдем сюда. С этого балкона, может быть, кое-что будет видно.
К находившемуся на втором этаже залу примыкал большой балкон, где уже теснилось множество мужчин и женщин. Братьям все же удалось протиснуться, и они стояли там несколько минут, вглядываясь в темноту. Между двумя тюремными зданиями — Малой Рокет и Большой Рокет — плавно поднимающаяся кверху улица расширялась, образуя нечто вроде четырехугольной площади, со всех сторон осененной густыми платанами, растущими в выемках на тротуарах. Приземистые домики, чахлые деревца — все это убожество как бы расползлось по земле под необъятным небом, где клонилась к закату луна и загорались звезды. Площадь была совершенно пуста, лишь вдалеке суетились какие-то люди; два кордона сдерживали толпу, оттесняя ее в соседние улицы. Высокие пятиэтажные дома находились только в самом начале улицы Сен-Мор, далеко от места казни, и на другом конце площади, на углу улиц Мерлен и Фоли-Реньо; таким образом, было почти невозможно что-нибудь разглядеть даже из окон наиболее удобно расположенных зданий. А толпившиеся внизу люди видели только спины стражников, что не мешало им давить друг друга; над человеческим приливом поднимался все нарастающий гул.
Но благодаря оживленному разговору двух женщин, перегнувшихся через перила и уже давно следивших за происходящим, братьям удалось кое-что уяснить. Было половина четвертого, гильотину уже установили. Люди, суетившиеся под деревьями, возле тюрьмы, оказались помощниками палача, они прилаживали нож гильотины. Медленно двигался взад и вперед фонарь, в лучах его на мостовой плясало несколько теней. И больше ничего. Площадь походила на огромную темную дыру, со всех сторон окруженную бурно напиравшей, рокочущей толпой. Вдалеке, подобно маякам, светились окна погребков виноторговцев. А вокруг простирались спящие кварталы нищеты и труда, склады и мастерские тонули во мраке, над высокими остывшими фабричными трубами еще не вздымались султаны дыма.
— Но отсюда мы ничего не увидим, — заметил Гильом.
Пьер знаком велел ему молчать. Взглянув на элегантного господина, облокотившегося на перила возле него, он узнал любезного депутата Дютейля. Сперва ему показалось, что рядом с депутатом стоит принцесса де Гарт, которую тот вполне мог привести посмотреть на казнь, потому что она присутствовала при чтении приговора; но вскоре он понял, что прижавшаяся к депутату, закутанная в шаль женщина не кто иная, как красавица Сильвиана, — он узнал ее тонкий девственный профиль. Да она и не старалась спрятаться и очень громко болтала, видимо, не вполне трезвая, и вскоре братья узнали, как она сюда попала. Она ужинала с Дютейлем, Дювильяром и другими приятелями и когда около часу ночи, за десертом, узнала о казни, ей вдруг пришло в голову отправиться смотреть. Напрасно Дювильяр умолял ее отказаться от этой прихоти, наконец в ярости он уехал; он считал за дурной тон глазеть на казнь человека, пытавшегося взорвать его особняк. Тогда она повисла на руке у Дютейля, обещая решительно все, чего бы он ни потребовал, если он исполнит ее просьбу. Депутат ненавидел такие зрелища и уже отказался сопровождать маленькую принцессу, но все же скрепя сердце согласился, охваченный страстным желанием обладать Сильвианой, до сих пор ускользавшей от него.
— Он просто не понимает, как это интересно, — сказала она, имея в виду барона. — Как здорово, что мы сюда пришли! А ведь завтра он будет опять у моих ног.
— Итак, — сказал Дютейль, — мир заключен, вы вернули ему права хозяина и властелина, как только был подписан ваш ангажемент в Комедию.
— Мир? Как бы не так!.. Ничего подобного, слышите! — воскликнула она. — Я поклялась, что не допущу ничего такого до своего дебюта… А вечером, после первого спектакля… посмотрим.
Оба рассмеялись, и Дютейль, желая ей угодить, рассказал о том, как любезно новый министр народного просвещения и изящных искусств Довернь поспешил устранить все преграды и перед ней распахнулись двери Комедии, которые до сих пор были закрыты, несмотря на отчаянные попытки Дювильяра. Прелестный человек этот Довернь, настоящая бархатная лапка, сплошное благожелательство, украшение вновь сформированного министерства, а этот ужасный Монферран всего лишь железный кулак.
— Он сказал, моя красавица, что хорошенькой всюду честь и место.
Явно польщенная, она прижалась к нему.
— А послезавтра — долгожданная премьера «Полиевкта», вам предстоит торжество! Мы все придем и будем вам аплодировать.
— Да, послезавтра вечером, и в этот же день барон выдает замуж свою дочь. Немало будет у него волнений.
— Ах да! Именно в этот день наш друг Жерар женится на мадемуазель Камилле Дювильяр. Сперва будут давить друг друга в церкви Мадлен, а потом уже в Комедии. Вы правы, сколько будет бурных переживаний в особняке на улице Годо-де-Моруа!
Они снова развеселились, стали издеваться над матерью, отцом, любовником и дочерью с отвратительным цинизмом, злорадством, смеялись просто ради смеха, с легкомыслием парижан. И вдруг Сильвиана заявила:
— А знаете, мой миленький Дютейль, я умираю здесь от скуки. Отсюда ничего не видно, а я хочу быть совсем близко, чтобы ничего не упустить… Пристройте-ка меня поближе к их машине.
Дютейль совсем приуныл, тем более что на улице, у дверей виноторговца, она заметила Массо, помахала ему рукой и подозвала к балкону. Между балконом и тротуаром на лету завязалась беседа.
— Как вы думаете, Массо, ведь депутат может пренебречь запрещениями и устроить свою даму на любом месте?
— Ни в коем случае! Массо прекрасно знает, что депутат первый обязан склониться перед законом! — воскликнул Дютейль, и журналист понял, что депутат вовсе не желает покидать балкон.
— Вам бы следовало добиться пропуска, сударыня. Тогда вы получили бы место у окна Малой Рокет. А впрочем, туда не удалось попасть ни одной женщине… Так что не стоит огорчаться, здесь тоже очень неплохо.
— Но, миленький мой Массо, мне решительно ничего не видно!
— И все-таки вы увидите куда больше, чем принцесса де Гарт. Я только что встретил ее экипаж на улице Шмен-Вер, полицейские не пропускают его дальше.
Услыхав это, Сильвиана вновь развеселилась, а Дютейль содрогнулся, размышляя о том, какой опасности он избег; ведь если бы Роземонда увидела его с другой женщиной, она закатила бы ему чудовищную сцену. Ему пришла блестящая мысль — предложить своей прелестной подруге, как он ее называл, шампанского и пирожного Сильвиана все время жаловалась, что умирает от жажды, и была рада еще попьянствовать, когда слуге удалось наконец втиснуть на балкон рядом с нею маленький столик. Ей казалось, что это так мило, так смело и оригинально — выпить вина и еще раз поужинать в ожидании смерти человека, которому должны были там, внизу, отрубить голову.
Гильому и Пьеру стало невмоготу здесь оставаться. Все, что они видели и слышали, вызывало у них отвращение. Зрителям на балконе и в соседнем зале надоело ждать, и от скуки они набросились на еду. Слуга сбился с ног, мелькали пивные кружки, бокалы с вином, блюда с бисквитами и даже холодным мясом. Публика, впрочем, там была изысканная — богатые господа, элегантные буржуа. Но ведь надо же как-то убить время, если оно тянется так медленно. Кругом раздавался смех, слышались двусмысленные шуточки; комната наполнилась лихорадочным шумом и дымом сигар. Спустившись в нижний зал, братья очутились среди такой же крикливой суетни; особенный беспорядок вносили здоровенные парни в блузах, которые литрами пили вино прямо у оцинкованных, блестящих, как серебро, стоек. Столики и здесь были все заняты; в зал постоянно вливались толпы мелкого люда, которому хотелось выпить в ожидании зрелища. И что это был за люд! Проходимцы, бродяги, бездельники, что с рассвета до поздней ночи шатаются по городу в погоне за счастливым случаем.
Очутившись на улице, Пьер и Гильом испытали еще большее страдание. Толпа, сдерживаемая полицейскими, состояла из подонков общества: проститутки и преступники, завтрашние убийцы — все они пришли поучиться, как нужно умирать. Окруженные уличным сбродом, в толпе расхаживали гнусного вида косматые девицы, распевая похабные песенки. Сбившись в кучки, бандиты спорили, вспоминая, как мужественно вели себя перед казнью различные знаменитости. Одного из них все дружно превозносили, называя великим вождем, героем, стяжавшим бессмертную славу. До слуха долетали обрывки ужасных фраз, мерзкие подробности о гильотине; то было гнусное фанфаронство, комья грязи, сочащейся кровью. Толпа была охвачена скотским безумием, сладострастным желанием увидеть, как брызнет из-под ножа на землю свежая алая кровь, и окунуться в нее. Смотреть на эту далеко не обычную казнь пришли также и молчаливые люди, в их горящих глазах можно было прочесть фанатическую жажду мести и мученичества; они молча расхаживали в толпе.
Гильом вспомнил о Викторе Матисе, и ему показалось, что он увидел молодого человека в первом ряду любопытных, сдерживаемых цепью кордона. Он не ошибся: то было его худощавое, бритое лицо, бледное, с презрительным выражением; вытянувшись во весь свой маленький рост, Матис стоял рядом с высокой рыжей, отчаянно жестикулирующей девицей, неподвижный, безмолвный, весь ожидание, вглядываясь в темноту широко раскрытыми горящими глазами ночной птицы. Стражник грубо оттолкнул его, но он снова протиснулся, дрожа от ненависти, во что бы то ни стало желая увидеть казнь, хотя бы для того, чтобы еще сильней ненавидеть.
Увидев Пьера без сутаны, Массо даже не удивился, а, как всегда, весело воскликнул:
— А, господин Фроман, вам тоже любопытно посмотреть?
— Да, я сопровождаю брата. Боюсь только, что мы не очень-то много увидим.
— Конечно, если вы будете смотреть отсюда.
И тут же любезно добавил, как известный журналист, перед которым открываются все двери:
— Пойдемте со мной. Полицейский чиновник мой приятель.
И, не дожидаясь ответа, он подозвал полицейского и вполголоса, скороговоркой, рассказал ему, что это его коллеги, которых он привел сюда, чтобы дать им материал для газет. Полицейский в нерешительности сперва попытался отклонить просьбу, потом махнул рукой и согласился из смутного страха, какой полиция всегда испытывает перед прессой.
— Пойдемте скорей, — сказал Массо, увлекая за собой братьев.
С изумлением глядя, как перед ними расступаются стражники, братья вышли на свободное пространство. Под невысокими платанами царили тишина и покой. Светало, и с неба струилось бледное, пепельно-серое сияние.
Они пересекли площадь, и Массо остановился возле тюрьмы:
— Я пойду туда, — сказал он, — хочу присутствовать при подъеме и последнем туалете… Погуляйте здесь, посмотрите на людей, никто у вас ничего не спросит. Впрочем, я скоро вернусь.
 В предрассветной тьме бродило человек сто — журналисты и просто любопытные. По обе стороны мощеной дороги, ведущей от тюрьмы к месту казни, были поставлены деревянные решетки, какие обычно сдерживают толпу перед входом в театр. Вдоль них уже стояли, облокотясь, зрители, хотевшие поближе увидеть преступника на его пути к гильотине. Другие медленно прохаживались, переговариваясь вполголоса. Братья подошли к гильотине.
В предрассветной тьме бродило человек сто — журналисты и просто любопытные. По обе стороны мощеной дороги, ведущей от тюрьмы к месту казни, были поставлены деревянные решетки, какие обычно сдерживают толпу перед входом в театр. Вдоль них уже стояли, облокотясь, зрители, хотевшие поближе увидеть преступника на его пути к гильотине. Другие медленно прохаживались, переговариваясь вполголоса. Братья подошли к гильотине.
Она стояла под сенью нежной весенней листвы. Сначала они не видели ничего, кроме этой ужасной машины, сбоку освещенной соседним газовым рожком, свет которого казался желтым в утренних лучах. Сооружение гильотины близилось к концу; слышалось лишь глухое постукивание деревянных молотков, а вокруг, терпеливо выжидая, бродили помощники палача в сюртуках и черных шелковых цилиндрах. Гильотина распласталась на земле подобно мерзкому чудовищу, — казалось, она сама испытывала стыд и отвращение перед убийством, которое ей предстояло совершить. И это была машина, посредством которой перевоспитывали общество и творили возмездие! Несколько брусьев, лежащих на земле, а над ними стоят два трехметровых бруса, поддерживающие нож. Куда девался огромный, выкрашенный в красный цвет эшафот с лестницей в десять ступенек, который как бы простирал к народу кровавые руки и господствовал над стекавшимися к нему толпами, осмеливаясь показать всем весь ужас казни? Чудовище пригнули к земле, и оно стало низким, трусливым, гнусным. И если в скромном зале суда правосудие отнюдь не носило торжественного характера в день, когда оно приговаривало человека к смерти, то в ужасный день, когда оно его казнило с помощью самой отвратительной, самой варварской из машин, это была настоящая бойня.
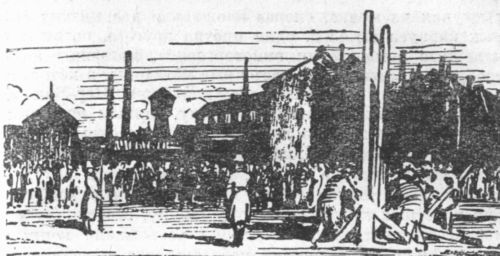 Пьер и Гильом смотрели на гильотину, содрогаясь от омерзения. Занимался день; квартал постепенно выступал из мрака, сперва площадь и два низких серых корпуса тюрьмы, один против другого, потом отдаленные дома, лавки виноторговцев, магазины надгробных памятников и цветочные магазины, в которых продавались и венки, возле кладбища Пер-Лашез. Уже можно было разглядеть толпу, черным широким кольцом обступившую площадь, и облепленные людьми окна и балконы; любопытные теснились повсюду, даже взбирались на крыши. Прямо напротив находилась тюрьма Малая Рокет, превращенная в трибуну для почетных зрителей. По обширному, свободному от зрителей пространству медленно разъезжали конные полицейские. Мало-помалу небо светлело, и за пределами толпы, по всему кварталу, на бесконечно длинных и широких улицах, где стояли только мастерские, склады и заводы, пробуждался труд. Над городом слышался рокот; заработали станки и машины; из бесчисленных высоких кирпичных труб, выступавших из темноты, поднимались клубы дыма.
Пьер и Гильом смотрели на гильотину, содрогаясь от омерзения. Занимался день; квартал постепенно выступал из мрака, сперва площадь и два низких серых корпуса тюрьмы, один против другого, потом отдаленные дома, лавки виноторговцев, магазины надгробных памятников и цветочные магазины, в которых продавались и венки, возле кладбища Пер-Лашез. Уже можно было разглядеть толпу, черным широким кольцом обступившую площадь, и облепленные людьми окна и балконы; любопытные теснились повсюду, даже взбирались на крыши. Прямо напротив находилась тюрьма Малая Рокет, превращенная в трибуну для почетных зрителей. По обширному, свободному от зрителей пространству медленно разъезжали конные полицейские. Мало-помалу небо светлело, и за пределами толпы, по всему кварталу, на бесконечно длинных и широких улицах, где стояли только мастерские, склады и заводы, пробуждался труд. Над городом слышался рокот; заработали станки и машины; из бесчисленных высоких кирпичных труб, выступавших из темноты, поднимались клубы дыма.
Внезапно Гильом почувствовал, что именно здесь гильотина на месте, в этом квартале нищеты и труда. Она была у себя дома и, казалось, символизировала завершение жизненного пути и вечную угрозу. Невежество, бедность, страдание — разве все это не вело именно к ней? И разве не была она призвана, всякий раз как ее водружали в рабочих кварталах, удерживать в рамках законности обездоленных и умирающих с голоду людей, ожесточенных вечной несправедливостью и всегда готовых восстать? Ее никогда не видели в роскошных кварталах богачей, которых незачем было пугать. Там она показалась бы ненужной, грязной, противоестественно жестокой. И до ужаса трагичным было то обстоятельство, что человека, который швырнул бомбу, обезумев от нищеты, предстояло гильотинировать в квартале, где царила нищета.
Между тем совсем рассвело; было половина пятого утра. Рокочущая в отдалении толпа чуяла приближение решительной минуты. По рядам зрителей пробежал трепет.
— Сейчас его приведут, — сказал маленький Массо, подходя к братьям. — Он все-таки молодчина, этот Сальва!
Он рассказал о пробуждении заключенного, о том, как в камеру вошли начальник тюрьмы, следователь Амадье, священник и другие лица и спавший крепким сном Сальва, едва открыв глаза, сразу все понял, побледнел, но тут же, овладев собой, вскочил на ноги. Он оделся без посторонней помощи, отказался от стакана коньяка и сигареты, которые предложил ему священник, по-видимому добрый малый; мягким, но решительным жестом Сальва отстранил распятие. Туалет осужденного был проделан быстро и в полном молчании: ему связали руки за спиной, а затем ноги — так, чтобы он мог их передвигать, и надели рубаху с глубоким вырезом. Когда его ободряли, он улыбался, опасаясь лишь одного, как бы не поддаться нервной слабости, испытывая единственное желание — умереть героем, до конца остаться мучеником своей веры в правду и справедливость, за которые он и шел на казнь.
— Сейчас заносят смертный приговор в тюремную книгу, — продолжал Массо. — Подойдите поближе к барьеру… если хотите видеть. Знаете, я был бледнее и нервничал больше, чем этот осужденный. Хоть мне и море по колено, но все равно не так уж весело смотреть, как будет умирать этот человек… Вы и представить себе не можете, сколько было приложено усилий, чтобы его спасти. Целый ряд газет требовал помилования. Но все было напрасно: казнь казалась неизбежной даже тем, кто считал приговор несправедливым. А какой прекрасный представился предлог для помилования, когда его маленькая дочка Селина написала президенту республики трогательное письмо, которое я первым напечатал в «Глобусе»… Ох, уж это письмо, заставило же оно меня попрыгать!
При имени Селины Пьер, с волнением ожидавший тяжелого зрелища, растрогался до слез. Он увидел девочку рядом с грустной и покорившейся судьбе г-жой Теодорой в убогом и холодном жилище, куда уже никогда не вернется отец. Он ушел от них как-то утром в гневе, голодный, с пылающей головой, и вот он идет сюда и станет между этими столбами, под нож гильотины.
Массо передавал все новые подробности; теперь он рассказывал, что врачи в ярости, они опасаются, что им не удастся заполучить тело казненного для вскрытия тотчас же после казни. Но Гильом больше не слушал. Облокотясь на деревянную решетку и устремив взгляд на все еще запертую дверь тюрьмы, он ждал. У него дрожали руки и лицо выражало отчаяние, словно он сам был осужден на смертную казнь. Вот появился палач, маленький, невзрачный человек с сердитым лицом, спешивший скорее покончить с делом. Потом присутствующие стали указывать друг другу на группу господ в сюртуках, среди которых был Гасконь, начальник сыскной полиции, чиновник с равнодушным лицом, и судебный следователь Амадье, улыбающийся и тщательно одетый, несмотря на столь ранний час; он пришел сюда по долгу службы, собираясь присутствовать при заключительном акте драмы, автором которой он себя считал. Вдали толпа зашумела сильнее, и Гильом, подняв голову, увидел два серых здания тюрьмы, и весенние платаны, и унизанные людьми дома — все это под высоким, светло-голубым куполом неба, где торжественно всходило солнце.
— Вот он, смотрите!
Кто это сказал? Слабый стук открывшейся тюремной двери отозвался во всех сердцах. Все стояли, вытянув шеи, напряженно глядя, затаив дыхание. На пороге появился Сальва. Пятясь назад, чтобы прикрыть от него гильотину, перед ним шел священник; Сальва остановился; ему хотелось сначала взглянуть на нее, ознакомиться, а потом положить голову под нож. И тогда все увидели его голую шею и длинное, осунувшееся, постаревшее от тяжелых испытаний лицо, освещенное чудесным взглядом глаз, горящих фанатическим огнем. Он находился в экстазе, он умирал, одержимый своей мечтой. Помощники палача захотели поддержать его, он снова отказался. Он держался прямо и мелкими шагами быстро продвигался вперед, насколько позволяла веревка, стягивавшая ему ноги.
Внезапно Гильом почувствовал взгляд Сальва. Приближаясь, осужденный заметил его и узнал; проходя мимо в каких-нибудь двух метрах, он слабо улыбнулся, и взгляд его глубоко проник в душу Гильома, оставив в ней неизгладимый след. Уж не хотел ли Сальва передать ему этим взглядом свою последнюю волю, свое завещание! Это раздирало сердце, Пьер, опасаясь, как бы брат не крикнул, схватил его за руку.
— Да здравствует анархия!
Это крикнул Сальва. Но голос его, приглушенный, ослабевший, внезапно оборвался; воцарилось гробовое молчание. Кое-кто из присутствующих побледнел; толпа вдалеке замерла. Громко фыркнула лошадь стражника, стоявшая на свободном от зрителей пространстве.
Тут произошло нечто невообразимо безобразное и зверское. Помощники палача набросились на Сальва, который, высоко подняв голову, медленно шагал к гильотине. Двое схватили его за шиворот, так как волосы оказались слишком редкими, двое других — за ноги и с размаху бросили на помост гильотины, причем одна доска вылетела из пазов и покатилась. Голову толчками впихнули в отверстие, и все это с такой дикой грубостью и так поспешно, что можно было подумать, будто хотят уничтожить какого-то опасного зверя, от которого надо как можно скорее избавиться. С тяжелым, глухим стуком упал нож. Из перерезанных артерий двумя длинными фонтанами хлынула кровь; конвульсивно задергались ноги. И больше ничего; палач привычным жестом потирал руки, а его помощник, подняв истекающую кровью голову, положил ее в маленькую корзинку, а потом уже в большую корзину одним махом было сброшено обезглавленное тело.
О, этот глухой стук! Этот тяжелый удар ножа! Гильом услыхал, как его отзвук прокатился по всему кварталу трудовой бедноты, отозвался в недрах убогих жилищ, где тысячи рабочих поднимались в это время с постели, начиная тяжелый трудовой день. Этот звук приобретал страшный смысл; в нем слышалось возмущение несправедливостью, безумие мученичества, звучала надежда обездоленных, что пролитая кровь ускорит победу. И Пьер в разгар этой гнусной бойни, этой отвратительной резни, производимой машиной для убийства людей, вдруг увидел другое тело, тело хорошенькой белокурой девушки, лежавшей с разорванным бомбой животом под сводом ворот особняка Дювильяров, и его пронизала ледяная дрожь. Из ее слабенького тела, как из этой отрубленной головы, струилась кровь. То была кровь за кровь, вечная расплата за человеческое страдание, без всякой надежды на избавление от бедствий.
А над площадью, над огромной толпой расстилалось безмолвное ясное небо. Сколько времени продолжалась казнь? Быть может, вечность, но, уж во всяком случае, две-три минуты. И вот наступило пробуждение; люди очнулись от страшного кошмара; у них дрожали руки, побледнели лица, в глазах отражались жалость, отвращение и ужас.
— Еще один, — с болью в сердце сказал Массо, — четвертый раз я вижу казнь. Нет, положительно, свадьбы мне больше нравятся. Идемте отсюда, для статьи у меня достаточно материала.
Гильом и Пьер машинально последовали за ним, снова пересекли площадь и вновь оказались на углу улицы Мерлен. И на том самом месте, где они его покинули, увидели Виктора Матиса, который стоял бледный, с застывшим лицом и пылающим взором. Он почти ничего не мог разглядеть, но удар ножа гильотины все еще звучал у него в голове. Полицейский толкнул его и велел ему проходить. В порыве ярости он с минуту глядел на него молча, готовый его задушить. Потом спокойно повернулся и пошел вверх по улице Рокет, над которой виднелись в ярких лучах восходящего солнца тенистые деревья кладбища Пер-Лашез.
И тут же братья невольно стали свидетелями щекотливого объяснения. Принцесса де Гарт явилась после окончания спектакля; и без того раздосадованная, она пришла в ярость, увидев у лавки виноторговца своего нового любовника Дютейля с какой-то женщиной.
— Как мило с вашей стороны бросить меня на произвол судьбы! — воскликнула она. Мой экипаж не мог ехать дальше, и мне пришлось пробираться пешком среди всего этого сброда, меня толкали и ругали со всех сторон.
Ничуть не растерявшись, он тотчас же представил ей Сильвиану и шепнул, что вынужден был сопровождать ее вместо своего приятеля. Роземонда, которой страстно хотелось познакомиться с актрисой, о любовных причудах которой она наслышалась, сразу успокоилась и стала обворожительной.
— Я была бы счастлива, сударыня, если б присутствовала на этом спектакле с участием такой талантливой актрисы, как вы. Я уже давно вами восхищаюсь, хотя еще не имела случая выразить вам свой восторг.
— О, господи, да вы, сударыня, не очень-то много потеряли, явившись к концу зрелища. Мы сидели вот на том балконе, и я увидела только, как несколько человек волокли одного человека. Вот и все… Не стоило из-за этого терять время…
— Теперь, когда мы познакомились, могу я надеяться стать вашей подругой, сударыня?
— О, разумеется, сударыня, мне и самой очень лестно быть вашей приятельницей.
Взявшись за руки, они улыбались друг другу — Сильвиана, порядком опьяневшая, но все еще сохранявшая выражение девственного целомудрия, и Роземонда, которая загорелась любопытством, желая изведать решительно все на свете, даже эту новую для себя сторону жизни.
Развеселившийся Дютейль хотел лишь одного — отвезти Сильвиану к ней на квартиру и потребовать вознаграждения за свою услугу. Он окликнул проходившего мимо Массо и попросил его дойти до ближайшей стоянки экипажей. Но Роземонда уже предложила свою карету, пояснив, что кучер дожидается на соседней улице, и уверяя, что очень охотно развезет по домам актрису и депутата. Дютейль с отчаянием в сердце вынужден был согласиться.
— Итак, до завтра, в церкви Мадлен, — сказал повеселевший Массо, пожимая руку принцессе.
— Да, да, до завтра у Мадлен и в Комедии.
— Черт возьми, а ведь верно! Утром у Мадлен, вечером в Комедии!.. — воскликнул он, целуя руку Сильвиане. — Мы непременно явимся все, чтобы обеспечить вам шумный успех.
— Я надеюсь на вас… До завтра.
— До завтра.
Толпа расходилась с глухим ропотом, усталая, словно чем-то недовольная, разочарованная. Несколько наиболее упрямых зевак остались посмотреть, как будут увозить в фургоне тело казненного; бродяги и уличные девицы, побледневшие в ярком утреннем свете, стоя кучками, свистели и отчаянно сквернословили, прежде чем разойтись по своим трущобам. Помощники палача поспешно разбирали гильотину. Вскоре площадь должна была опустеть.
Пьер захотел проводить Гильома, который неподвижно стоял, стиснув зубы, словно еще оглушенный стуком ножа гильотины. Напрасно указывал он брату на окна квартиры Межа, плотно закрытые и выделявшиеся среди остальных настежь распахнутых окон большого дома. Без сомнения, то был протест депутата-социалиста против смертной казни, хотя он и ненавидел анархистов. Пока толпа жадно смотрела на эту отвратительную картину, он, лежа лицом к стене, размышлял о том, как бы ему привести человечество к счастью, подчинив его законам коллективизма. Недавняя смерть любимого ребенка разбила сердце этого любящего отца, скрывающего свою бедность. Он сильно кашлял, но хотел жить. Итак, в ближайшее время, когда после его запроса падет министерство Монферрана, он должен захватить власть, упразднить гильотину и подарить человечеству абсолютную справедливость и вечное благоденствие.
— Видишь, Гильом, — мягко сказал Пьер. — Меж даже окна не открыл; все-таки он славный малый, хотя наши друзья Баш и Морен и недолюбливают его.
И так как брат продолжал молчать, рассеянный, занятый своими мыслями, он добавил:
— Идем, пора домой.
Пройдя по улице Фоли-Реньо, они по Шмен-Вер добрались до внешнего кольца бульваров. В этот ранний час рабочее население окрестных кварталов было уже на улицах в ярком свете утренней зари; вдоль длинных улиц, где тянулись низкие строения мастерских и заводов, разносился гул моторов; клубы дыма, вылетавшие из высоких фабричных труб, порозовели в рассветных лучах. Дойдя до бульвара Менильмонтан, братья увидели великое вторжение рабочих в Париж. Пройдя этот бульвар неторопливым шагом гуляющих, они пошли дальше бульваром Бельвиль. Со всех сторон, изо всех улочек и переулков, стекался поток, настоящий библейский исход тружеников, вставших на заре и спешивших по утреннему холодку к своим тяжелым обязанностям. Рубахи навыпуск, блузы, вельветовые и холщовые штаны, грубые тяжелые башмаки, качавшиеся на ходу изуродованные работой руки. На заспанных, серых, изможденных лицах не видно было улыбки; весь этот люд изо дня в день устремлялся на работу с единственным желанием, чтобы работа не прекращалась. Необозримое полчище, бесчисленная армия рабочих катилась волна за волной, — то был рабочий скот, изо дня в день пожираемый Парижем, утопавшим в роскоши и наслаждениях.
Братья миновали бульвары Вийетт, Шапель и Рошешуар, и до самой возвышенности Монмартра шествие все продолжалось: из холодных, убогих жилищ в огромный город изливались все новые и новые потоки людей; вечером они должны были вернуться домой, измученные, заработав лишь жалкий кусок хлеба — хлеба ненависти и злобы. Теперь это были уже не только рабочие, но и работницы; развевались юбки, женщины на ходу бросали быстрые взгляды на прохожих. Заработок их был так ничтожен, что нередко хорошенькие оставались вечером на панели, а дурнушки прозябали на хлебе и воде. Позже появились служащие — приличные с виду господа в скромных пальто, жившие на мизерное жалованье, быстро шагали вперед, на ходу доедая булочку, терзаясь страхом, что не хватит уплатить за квартиру и прокормить до конца месяца жену и детей. Солнце поднималось над горизонтом; на улицы высыпал весь людской муравейник; начинался трудовой день с его тяжкими усилиями, мужественной борьбой и страданиями.
Никогда еще Пьер не чувствовал так остро необходимость труда, возрождающего, спасительного. Уже во время посещения завода Грандидье и позднее, когда он сам почувствовал необходимость работать, он осознал, что труд — основной закон земного бытия. Но после этой ужасной ночи, когда пролилась кровь рабочего, обезглавленного за свою безумную мечту, какое блаженство, какое дивное вознаграждение видеть восходящее солнце и вечный труд, вступающий в свои права! Пусть изнурителен труд, пусть несправедливо распределение благ, но не труду ли суждено в один прекрасный день даровать людям справедливость и счастье!
И вот, когда братья поднимались по крутым склонам Монмартра, прямо перед ними, на вершине холма, выросла громада собора Сердца Иисусова, торжествующая, величавая. Это был уже не смутный призрак в лунном сиянии, не мечта о господстве, витавшая над ночным Парижем. Собор вставал в солнечных лучах весь золотой, гордый, победоносный, сияя бессмертной славой.
Гильом молчал, все еще храня в памяти предсмертный взгляд Сальва; казалось, внезапно он принял какое-то решение. Устремив на храм пылающий взгляд, он вынес ему смертный приговор.
II
Венчанье было назначено на двенадцать часов дня, но уже за полчаса до начала церемонии гости заполнили роскошно убранную, украшенную тропическими растениями, благоухающую цветами церковь. В глубине храма сиял множеством свечей главный алтарь, а церковные врата были широко распахнуты, и виднелись залитый солнцем, уставленный зелеными кустами перистиль, покрытая широким ковром лестница, толпа любопытных на площади, теснившаяся до самой улицы Ройяль.
Дютейль, который только что разыскал кресла для трех запоздавших дам, сказал, обращаясь к Массо, заносившему в записную книжку имена приглашенных:
— Честное слово, те, что придут теперь, будут вынуждены стоять.
— Кто эти три дамы? — спросил журналист.
— Герцогиня де Буазмон с двумя дочерьми.
— Черт возьми! Вся французская аристократия, весь финансовый мир и все политические деятели! Это почище свадьбы в чисто парижском вкусе.
И действительно, здесь собрались представители всех слоев общества, поначалу слегка смущенные этой встречей. Дювильяры пригласили толстосумов и государственных деятелей, г-жа де Кенсак и ее сын были окружены родовитой знатью. Уже один выбор свидетелей говорил об этом удивительном смешении: со стороны Жерара — его дядя, генерал Бозонне, и маркиз де Мориньи; со стороны Камиллы — крупный банкир Лувар, ее двоюродный брат, и Монферран, министр финансов, председатель совета министров. Недавно скомпрометированный в аферах Дювильяра, Монферран согласился быть свидетелем на свадьбе его дочери, и эта наглая бравада придавала особый блеск триумфу банкира. И что особенно разжигало любопытство присутствующих, — венчанье должен был совершить монсеньер Март а , епископ Персеполийский, уполномоченный папы во Франции, апостол, приобщавший покоренную республику католицизму.
— Да что там свадьба в парижском вкусе! — усмехаясь, воскликнул Массо. — Эта свадьба носит символический характер. Это подлинный апофеоз буржуазии, друг мой: древняя родовая знать приносит в жертву золотому тельцу одного из своих сынов, дабы господь бог, вкупе с жандармами, ставшими господами Франции, избавил нас от социалистического отребья. А впрочем, — продолжал он, — социалистов больше нет; вчера утром им отрубили голову.
Дютейль нашел эту шутку забавной.
— А знаете, — доверительно сказал он, — получилось не очень-то приглядно… Вы читали сегодня утром гнусную статью Санье?
— Ну как же; да я и раньше знал, и кто только не знал об этом!
Они продолжали беседовать вполголоса, понимая друг друга с полуслова. У Дювильяров дело кончилось тем, что мать после жестокой душевной борьбы, рыдая, уступила своего любовника дочери, движимая желанием видеть Жерара богатым и счастливым и по-прежнему ненавидя Камиллу бессильной ненавистью побежденной соперницы. Столь же мучительная борьба происходила в душе графини де Кенсак; она была глубоко возмущена и дала согласие только в надежде спасти сына от грозившей ему с детства опасности; ее материнское самоотречение так тронуло маркиза де Мориньи, что он, несмотря на весь свой гнев, согласился быть свидетелем, принеся наивысшую жертву женщине, которую любил всю жизнь, — свои убеждения. Эта ужасная история, действующие лица которой выступали под довольно прозрачными псевдонимами, была опубликована Санье в утреннем номере «Голоса народа»; как всегда плохо осведомленный, склонный привирать, он беззастенчиво сгустил краски и каждый день изливал все новые потоки ядовитых нечистот, чтобы его газету раскупали. Когда Монферран запретил ему распространяться по поводу Африканских железных дорог, он жадно набросился на всякого рода скандалы, пороча частных лиц и разрушая семейное счастье.
Но вот к Массо и Дютейлю подошел Шенье, озабоченный и грустный, в небрежно застегнутом сюртуке сомнительной свежести.
— Ну, как обстоит дело, господин Массо, с вашей статьей о нашей Сильвиане? Она пройдет?
Дювильяр решил использовать Шенье, за деньги всегда готового на всевозможные лакейские услуги, в качестве вербовщика, подготавливающего триумф Сильвианы. Он предоставил этого господина в распоряжение актрисы, и та нагрузила его всякого рода сомнительными делишками; она заставила Шенье обегать весь Париж и собрать целую армию клакеров, чтобы обеспечить овации. И он проделал это: ведь его старшая дочь еще не была выдана замуж, и четыре женщины висели у него на шее нестерпимо тяжким грузом; это был настоящий ад, и если первого числа он не приносил им тысячефранковый билет, его безжалостно избивали.
— Моя статья? — проговорил Массо. — Ах нет, дорогой депутат, она никак не пойдет. Фонсег находит, что она написана в чересчур хвалебном тоне и не подходит для «Глобуса». Он спросил меня, уж не издеваюсь ли я над его газетой, которая славится своей строгостью.
Шенье побледнел. Эта статья была заранее написана об успехе Сильвианы на премьере пьесы «Полиевкт», поставленной театром Комедии. Журналист, желая угодить Сильвиане, даже сообщил ей содержание статьи, актриса была в восторге и рассчитывала увидеть ее напечатанной в самой солидной газете.
— Боже мой! Что же теперь будет! — уныло пробормотал депутат. — Статья непременно должна пройти.
— Черт возьми! Я тоже этого хочу! Поговорите-ка с патроном сами… Смотрите! Вот он стоит между Виньоном и министром народного просвещения Довернем.
— Непременно поговорю с ним… Только не здесь. Можно в ризнице во время поздравлений… С Довернем я тоже попытаюсь поговорить; Сильвиана непременно хочет, чтобы он сегодня вечером присутствовал в ложе изящных искусств. Там будет и Монферран; он обещал Дювильяру.
Массо рассмеялся, повторив остроту, облетевшую весь Париж после ангажемента актрисы.
— «Министерство Сильвианы»… Он должен это сделать для своей крестной матери!
Внезапно, как порыв ветра, к беседующим мужчинам подлетела маленькая принцесса де Гарт.
— Вы знаете, у меня нет места! — воскликнула она.
Дютейль решил, что речь идет об удобно расположенном кресле.
— Не рассчитывайте на меня, я положительно отказываюсь. Мне такого труда стоило пристроить герцогиню де Буазмон с двумя дочерьми.
— Да нет! Я имею в виду сегодняшний спектакль… Мой славный Дютейль, вы непременно должны устроить мне местечко в ложе. Вот увидите, я умру с отчаяния, если не смогу аплодировать нашей несравненной, нашей восхитительной приятельнице.
Отвезя накануне Сильвиану домой после казни Сальва, она воспылала к ней бурными чувствами.
— Вам не найти ни одного места, сударыня, — важно заявил Шенье. — Все распроданы. Мне уже предлагали триста франков за кресло.
— Так оно и есть, — подтвердил Дютейль, — все расхватали, до последнего откидного сиденья. Я прямо в отчаянии, но ничем не могу вам помочь… Дювильяр мог бы взять вас к себе в ложу. Он сказал, что оставил для меня одно место. Кажется, пока нас только трое, вместе с его сыном… Итак, скажите поскорее Гиацинту, чтобы он попросил отца пригласить вас в свою ложу.
Роземонда, которая упала в объятия любезного депутата, когда Гиацинт довел ее до отчаяния, почувствовала в его словах иронию. Несмотря на это, она восторженно воскликнула:
— Да, да! Вы правы! Гиацинт не может мне отказать… Спасибо за совет, славный мой Дютейль. Вы очень милы; вы так чудесно устраиваете далее самые безрадостные дела… И не забудьте, вы обещали заняться моим политическим воспитанием. Ах! Политика! Мне кажется, ничто меня не могло так увлечь, как политика!
Покинув их, она начала проталкиваться сквозь толпу и все-таки устроилась в первом ряду.
— У бедняжки не все дома, — насмешливо бросил Массо.
Когда Шенье устремился навстречу следователю Амадье, чтобы почтительно осведомиться, получил ли он кресло, журналист шепнул на ухо депутату:
— Кстати, мой друг, правду ли говорят, что Дювильяр задумал авантюру с пресловутой железной дорогой через Сахару? Гигантское предприятие, кажется, потребует сотен и сотен миллионов… Вчера вечером в редакции Фонсег пожал плечами и заявил, что это сплошное безумие и он не верит в эту затею.
Дютейль подмигнул:
— Дело в шляпе, мой милый. И двух дней не пройдет, как Фонсег будет лизать патрону руки.
Он игриво намекнул, что тогда снова на прессу, на всех верных соратников, на всех приспешников посыплется золотая манна. Когда гроза минует, птичка отряхивает перышки. В радостном ожидании награды он судачил с беззаботным видом, как будто досадное дело с Африканскими железными дорогами никогда его не тревожило и не вгоняло в дрожь.
— Ну и ну! — серьезно сказал Массо. — Так это не просто триумф, это предчувствие новой богатой жатвы. Я больше не удивляюсь, что здесь такая давка!
В этот момент раздались могучие, величавые звуки органа. Свадебная процессия вступала в церковь. Она торжественно поднималась по ступеням храма, озаренная ярким солнцем, ропот восхищения пробежал в толпе, которая запрудила все прилегающие к церкви улицы, до самой Ройяль, нарушив движение фиакров и омнибусов. Вот процессия уже под гулкими сводами храма, она направляется к залитому огнями свечей главному алтарю; гости, тесной толпой стоящие с обеих сторон — мужчины в вечерних сюртуках и дамы в светлых туалетах, — расступались, давая ей проход. Все встали, вытянув шеи, на лицах улыбки, глаза горят любопытством.
Вслед за пышно разодетым церковным служителем шла Камилла под руку со своим отцом, бароном Дювильяром, который выступал величественно, с победоносным видом. На ней была фата из чудесных алансонских кружев, подхваченная диадемой из флердоранжа, и плиссированное платье из тончайшего шелка на белом атласном чехле; она сияла от счастья, упиваясь своей победой, и казалась почти красивой, она выпрямилась, и было едва заметно, что у нее левое плечо выше правого. За ними следовал Жерар под руку с матерью, графиней де Кенсак; он — красивый, корректный, с подобающим его достоинству выражением лица; она — гордая и бесстрастно-величавая, в зеленовато-голубом шелковом платье с отделкой из стального и золотого бисера. С нетерпением ждали Еву, и когда она появилась под руку с генералом де Бозонне, свидетелем и ближайшим родственником жениха, все с любопытством вытянули шеи. На ней было платье цвета поблекших роз, отделанное бесценными валансьенскими кружевами; никогда еще эта блондинка не выглядела такой молодой и обворожительной. Но глаза ее были заплаканы, хотя она и старалась улыбаться; и весь ее скорбный прекрасный облик словно говорил о тяжелой утрате, о любви, принесенной в жертву. Затем следовали еще трое свидетелей — Монферран, маркиз де Мориньи и банкир Лувар, все под руку с дамами, их родственницами. Особенно сильное впечатление произвел Монферран — веселый, развязный, он все время шутил со своей дамой, миниатюрной, легкомысленной брюнеткой. В этой блестящей процессии, которой, казалось, не будет конца, обращал на себя внимание и брат невесты, Гиацинт: на нем был необычайного покроя фрак с фалдами, заложенными в крупные, симметричные складки.
Когда жених и невеста заняли места перед скамеечками для коленопреклонений, а их семейства и свидетели разместились позади в больших позолоченных креслах, обитых красным бархатом, началась торжественная церемония венчания. Богослужение совершал сам кюре церкви Мадлен, а во время мессы к хору певчих присоединились певцы Оперного театра, великолепное пение сопровождалось ликующими звуками органа. Было столько роскоши и блеска в этой религиозной и вместе с тем светской церемонии, что бракосочетание скорее походило на какой-то народный праздник, на торжество по случаю победы одного класса. А ужасная семейная драма, всем известная и бесстыдно выставленная напоказ, придавала оттенок какого-то отвратительного величия этой брачной церемонии. Особенно остро почувствовался дерзкий вызов со стороны сильных мира сего, когда вышел монсеньер Март а в простом облачении, с епитрахилью для благословения новобрачных. Высокий, свежий, румяный, он любезно улыбался с видом дружелюбного превосходства; радуясь, что ему выпало на долю примирить две враждующие державы в лице их наследников, этот прелат произносил слова свадебного ритуала торжественно-елейным тоном. Все с любопытством ожидали его обращения к новобрачным. И поистине оно было великолепно; он превзошел самого себя! Не здесь ли, в этой самой церкви, он крестил мать новобрачной, белокурую Еву, прекрасную еврейку, обращенную им в католичество, причем все высшее парижское общество проливало слезы умиления! Не здесь ли, наконец, произнес он свои три знаменитые проповеди на тему о духе нового времени, для которого характерны крах науки, возрождение христианского спиритуализма и политика воссоединения, имеющая целью покорить республику. Он был вправе поздравить себя, при помощи тонких намеков, с успешным сочетанием бедного отпрыска древнего аристократического рода и пяти миллионов наследницы богатого буржуа, в лице которой торжествовали ныне стоящие у власти победители 89-го года. Только четвертое сословие — ограбленный, обманутый народ — не принимало участия в этом торжестве. Сочетая эту пару, монсеньер Март а провозглашал новый союз; он осуществлял политику папы, это был тайный натиск оппортунизма иезуитов, сдружившихся с демократией, с представителями власти капитала, чтобы завладеть ими. Произнося заключительные слова напутствия, епископ повернулся к улыбающемуся Монферрану; казалось, он обратился к нему, когда заповедал молодым жить в христианском смирении, покорности и страхе божием, причем изображал бога как некое подобие жандарма, призванного железной десницей поддерживать мир на земле. Всем было известно, что между епископом и министром существует тайный сговор, который удовлетворял их стремление к власти, желание расширить эту власть, жажду господства, и когда присутствующие заметили добродушную, чуть ироническую улыбку на лице Монферрана, они тоже стали улыбаться.
— Ах, если бы старик Юстус Штейнбергер видел, как его внучка венчается с последним отпрыском графов де Кенсаков, уж он бы позабавился! — шепнул Массо стоявшему рядом с ним Дютейлю.
— Но ведь это же чудесно, мой милый, — ответил депутат. — Сейчас мода на подобные браки. Евреи и христиане, буржуазия и дворянство — все стремятся сблизиться и создать новую аристократию. Она необходима нам, а не то нас поглотит народ.
Массо, смеясь, говорил, что он представляет себе, с каким лицом Юстус Штейнбергер слушал бы проповедь монсеньера Март а . В самом деле, ходили слухи, что старый еврей, банкир, не желавший видеть дочери после ее обращения в христианство, все же с какой-то насмешливой нежностью постоянно спрашивал, что говорит и что поделывает Ева, как будто она больше чем когда-либо была его грозным орудием, карающим христиан, уничтожения которых якобы так жаждет его народ. И если, выдав ее за Дювильяра, он не мог покорить банкира, на что питал надежды, он, наверно, утешался сознанием, что ему удалось смешать свою кровь с кровью былых угнетателей его народа, которую он все же подпортил. Разве не являлось это окончательной победой еврейства, о которой столько говорят?
Но вот замолкли торжественные звуки органа, и церемония окончилась. Затем оба семейства и свидетели проследовали в ризницу, где был подписан акт бракосочетания. Начались поздравления.
Новобрачные стояли рядом в высоком, обшитом дубовыми панелями, сумрачном зале. Невозможно передать восторг и торжество Камиллы: наконец-то она стала женой этого красивого человека с громким именем, которого она с таким трудом вырвала из объятий других женщин, даже из объятий своей матери! Казалось, эта маленькая, дурно сложенная девушка, смуглая и некрасивая, как-то сразу выросла, она ликовала, пока мимо нее нескончаемой вереницей, тесня друг друга, проходили женщины — подруги и просто знакомые: все спешили пожать ей руку, а некоторые горячо ее целовали, выражая свой восторг. Жерар, который был на голову ее выше и казался рядом с тщедушной девушкой особенно мужественным и сильным, благосклонно, словно сказочный принц, пожимал с улыбкой руки, радуясь, по своей доброте и слабохарактерности, что позволил себя полюбить и осчастливил Камиллу. Такой же контраст представляли собой семейства жениха и невесты, они держались обособленно среди осаждавших их гостей, бесконечной вереницей проходивших мимо них с протянутой для рукопожатия рукой. Дювильяр величаво принимал поздравления, как король, довольный своими подданными, а Ева, желая по-прежнему производить впечатление очаровательной женщины, с восхитительной улыбкой, из последних сил, отвечала на приветствия, хотя вся трепетала от еле сдерживаемых слез. По другую сторону новобрачных, между генералом де Бозонне и маркизом де Мориньи, стояла г-жа де Кенсак; она держалась с большим достоинством, чуть высокомерно, и в большинстве случаев только наклоняла голову, протягивая свою маленькую сухую ручку лишь хорошо известным ей лицам. Чувствуя себя одинокой в этом океане незнакомых лиц, она обменивалась с маркизом невыразимо грустным взглядом, когда вода этого прилива становилась слишком мутной и физиономии проходивших явно выдавали финансовых разбойников. Так продолжалось почти полчаса; рукопожатиям не было конца; у новобрачных и у их родных просто руки отнимались.
Гости оставались в зале и, образуя небольшие группки, болтали и смеялись. Монферран тотчас же был окружен. Массо обратил внимание Дютейля, с каким подобострастием подбежал к министру генеральный прокурор Леман. Вслед за ним подошел судебный следователь Амадье; появился около него и вице-председатель суда г-н де Ларомбардьер, известный фрондер, завсегдатай салона графини. Все это были льстивые и угодливые чиновники, готовые пресмыкаться перед начальством, имеющим власть повышать в звании, назначать и увольнять. Уверяли, будто Леман оказал услугу Монферрану в деле Африканских железных дорог, уничтожив кое-какие папки с бумагами. А вечно улыбающийся Амадье, этот парижанин с ног до головы, — разве не он привел на эшафот Сальва?
— Вы знаете, все трое пришли получить вознаграждение, — прошептал Массо, — за того, кто был вчера гильотинирован. Монферран просто обязан поставить за этого беднягу хорошую свечу, ведь своей бомбой тот в первый раз предотвратил падение его министерства, а позднее помог ему занять пост председателя совета министров, когда понадобился человек, способный проявить твердость и задушить анархию в самом ее зародыше. Ха! Какова борьба — Монферран против Сальва! Это и не могло кончиться ничем, кроме гильотины; все жаждали казни… Слушайте, они толкуют как раз об этом.
В самом деле, когда трое чиновников отошли от всесильного министра, их засыпали вопросами знакомые дамы, любопытство которых разожгли газетные сообщения. И Амадье, присутствовавший по долгу службы при казни и гордившийся своей ролью, постарался разрушить, как он выразился, легенду о героической смерти Сальва. По его словам, этот негодяй был лишен подлинного мужества; только тщеславие удерживало его на ногах, на нем лица не было, и он выглядел мертвецом еще до того, как ему отрубили голову.
— Да, да, именно так! — воскликнул Дютейль. — Я присутствовал при этом.
Массо с негодованием дернул его за рукав, хотя был не прочь над всем издеваться.
— Вы ничего не видели, милейший! Сальва умер молодцом, как не стыдно обливать грязью этого беднягу даже после его кончины!
Но большинство присутствующих с радостью поверили, что Сальва струсил перед смертью. Этим самым как бы приносили жертву Монферрану, желая сделать ему приятное. Он продолжал спокойно улыбаться, делая вид, что ему пришлось подчиниться жестокой необходимости. Он был особенно любезен с этими тремя чиновниками, желая вознаградить их за рвение, с каким они выполнили до конца свою печальную обязанность. Накануне, после казни, при тайном голосовании в палате депутатов он получил огромное большинство голосов. Порядок восторжествовал, дела во Франции шли превосходно. Тут к Монферрану подошел Виньон, желавший появлением на свадьбе поддержать свой престиж; министр задержал его и любезно приветствовал, из кокетства, а также из политических соображений, опасаясь, как бы, вопреки всему, в ближайшем будущем судьба не улыбнулась этому столь выдержанному и умному молодому человеку. Подошедший в это время их общий знакомый сообщил печальную новость о тяжелом состоянии Барру, в выздоровлении которого врачи отчаялись; оба сочувственно покачали головой. Несчастный Барру! Он так и не оправился после заседания, на котором пало его министерство, день ото дня ему становилось все хуже: он был потрясен до глубины души неблагодарностью родины и не мог перенести мысли о том, что он обвинен в таких чудовищных преступлениях, как спекуляция и казнокрадство, — он, человек таких честных правил, столь преданный родине, посвятивший всю жизнь республике!
— Да ведь люди никогда не сознаются, — добавил Монферран. — Разве ему поверят?
В этот миг, отвлекшись на время от своей роли отца, к ним подошел Дювильяр; триумф министра достиг апогея. Власть капитала — единственно прочная и непреходящая власть, и в сравнении с ней эфемерно могущество министров, портфели которых так быстро переходят из рук в руки! Монферран сыграет свою роль и сойдет со сцены; точно так же и Виньон, тот самый Виньон, который сейчас у его ног и убедился, что без поддержки денежных тузов не дорвешься до власти. Разве не Дювильяр — виновник торжества, он купил за пять миллионов представителя аристократии, он воплощает собой власть буржуазии, он царит как неограниченный монарх, распоряжается судьбами народа и не отпустит кормила, даже если его закидают бомбами. Это был его праздник; он один уселся за стол пировать, не желая ни с кем больше делиться; теперь, когда он все завоевал и когда обладал всем, он жалел для малых сих, для злополучных рабочих, обманутых в свое время революцией, даже крошки со своего стола.
Дело об Африканских железных дорогах уже было предано забвению, его ловко похоронила соответствующая комиссия. А скомпрометированные в этой афере Дютейль, Шенье, Фонсег и другие были спасены могущественной рукой Монферрана и ликовали вместе с Дювильяром. Бесстыдная же статья Санье, напечатанная утром в «Голосе народа», и содержавшиеся в ней ядовитые разоблачения уже никого больше не трогали, — люди лишь пожимали плечами, публика пресытилась грязными доносами и ложью, застала от громких скандалов. Сейчас всеми овладевал новый приступ лихорадки: распространился слух о новом грандиозном предприятии, о пресловутой железнодорожной линии через Сахару, которая всколыхнет миллионы, и они прольются дождем на преданных друзей банкира.
Пока Дювильяр дружески беседовал с Монферраном и с подошедшим к ним министром просвещения Довернем, Массо, встретив своего патрона Фонсега, сказал ему вполголоса:
— Дютейль только что уверял меня, что проект железной дороги через Сахару уже разработан и они попробуют поставить его на голосование в парламенте. Они уверены в успехе.
Фонсег скептически усмехнулся:
— Не может быть; они так скоро не решатся все начать сначала.
И все-таки эта новость заставила его призадуматься. Он натерпелся страха из-за своего опрометчивого шага, впутавшись в дело с Африканскими железными дорогами, и поклялся впредь быть осторожней. Но это не значит, что он решил отойти от дел. Необходимо только выждать, разобраться в положении вещей, а там можно снова принять участие во всех аферах!
 Стоя возле Дювильяра и министров, он наблюдал, как Шенье занимается вербовкой гостей в ризнице, подготовляя торжество Сильвианы. Он рекламировал актрису, разжигая любопытство и предвещая колоссальный успех. Подойдя к Доверию, долговязый Шенье согнулся пополам:
Стоя возле Дювильяра и министров, он наблюдал, как Шенье занимается вербовкой гостей в ризнице, подготовляя торжество Сильвианы. Он рекламировал актрису, разжигая любопытство и предвещая колоссальный успех. Подойдя к Доверию, долговязый Шенье согнулся пополам:
— Дорогой министр, разрешите вас пригласить на вечер от имени одной прекрасной дамы; ее победа не будет полной, если вы не удостоите ее своим вниманием.
Довернь, высокий, красивый блондин с голубыми глазами, весело поблескивающими за стеклами лорнета, выслушал его с благожелательной улыбкой. Он успешно подвизался на ниве народного просвещения, хотя ему не довелось и понюхать университета. Но этот истинный парижанин из Дижона, как его величали, обладал острым язычком и чувством такта; он устраивал вечера, на которых блистала его жена, молодая очаровательная женщина, и прослыл просвещенным другом писателей и артистов. Его самым знаменитым деянием был прием Сильвианы в Комедию; это погубило бы другого министра, но он сделался еще популярнее благодаря такой авантюре. Все нашли забавным этот неожиданный трюк.
Когда Довернь понял, что Шенье попросту хочет знать, будет ли он в своей ложе в Комедии, он стал еще любезнее.
— Ну разумеется, дорогой депутат, непременно буду. Нельзя покидать в минуту опасности такую очаровательную крестницу.
Монферран, слышавший краешком уха этот разговор, внезапно обернулся:
— Передайте ей, что я также надеюсь присутствовать на спектакле; таким образом, ей обеспечены двое доброжелателей.
Дювильяр пришел в восторг, у него засияли глаза от радостного волнения, и он низко поклонился, как будто министр лично к нему проявил особую милость.
Шенье, со своей стороны, выразил министрам глубокую благодарность. Но вот он заметил Фонсега, поспешил ему навстречу и отвел в сторону.
— Ах, дорогой коллега, решительно необходимо уладить это дело. Я придаю ему колоссальное значение.
— Какое дело? — удивленно спросил Фонсег.
— Да эта статья Массо, которую вы не хотите напечатать.
Редактор «Глобуса» решительно заявил, что статья не может быть напечатана. Он отстаивает честь и репутацию своей газеты; похвалы какой-то девке легкого поведения, самой обыкновенной девке, выглядели бы чудовищным кощунством, грязным пятном на страницах газеты, в которую он вложил столько труда, стремясь поднять ее на недосягаемую высоту, сделать ее строгим в моральном отношении органом. Впрочем, он принялся балагурить, цинично говоря о Сильвиане, что она может сколько угодно трясти юбками перед публикой и что он сам пойдет посмотреть на нее, но «Глобус» для него святыня!
Обескураженный, разочарованный Шенье продолжал настаивать.
— Но, дорогой коллега, послушайте, неужели нельзя сделать для меня маленькое исключение? Если статья не пройдет, Дювильяр обвинит в этом меня. А вы знаете, как я в нем нуждаюсь; ведь если свадьба моей старшей дочери опять задержится, я не знаю, куда мне деваться!
Видя, что его личные горести ничуть не трогают редактора, он продолжал:
— Да и вы сами в этом заинтересованы, дорогой коллега, вы сами… Ведь Дювильяр знает об этой статье и именно потому, что она такая хвалебная, хочет, чтобы она была напечатана в «Глобусе». Подумайте хорошенько, ведь он наверняка порвет с вами всякие отношения.
Некоторое время Фонсег помолчал. Размышлял ли он о проекте железной дороги через Сахару? Или же ему подумалось, что сейчас не время ссориться, а то можно не получить своей доли в предстоящем дружеском дележе? Но, как видно, он решил выжидать и соблюдать осторожность.
— Нет, нет! Я решительно отказываюсь, это дело совести.
Церемония поздравлений между тем продолжалась, казалось, весь Париж дефилировал перед этой парой, и все те же улыбки, те же рукопожатия. Жених с невестой и представители их семей, прижатые к стене толпой гостей, волей-неволей сохраняли восторженно-любезный вид. Стало невыносимо жарко, в воздухе стояла тонкая пыль, как на дороге, где проходит большое стадо.
Вдруг вбежала, неизвестно как и почему запоздавшая, принцесса де Гарт; она бросилась на шею Камилле, расцеловала Еву, задержала на минуту в своих руках руку Жерара, осыпая его необычайными любезностями. Потом, заметив Гиацинта, завладела им и потащила его в утолок.
— Идемте, мне надо вас кое о чем попросить.
Гиацинт был в этот вечер весьма молчалив. Свадьба сестры казалась ему бесконечно вульгарной церемонией, достойной всяческого презрения. Еще один мужчина и еще одна женщина подчиняются грязному и грубому закону пола, увековечивая всемирную человеческую глупость. И он решил молча присутствовать на ней, всем своим видом показывая высокомерное неодобрение.
Он тревожно поглядывал на Роземонду, радуясь, что порвал с ней, и опасаясь, как бы какой-нибудь непредвиденный случай не толкнул ее снова к нему. И впервые за вечер он разомкнул уста.
— Как товарищ я готов вам служить, дорогая.
Она расхохоталась, потом заявила, что умрет от отчаяния, если не попадет на дебют Сильвианы, страстной поклонницей и другом которой она себя считает, и стала умолять, чтобы он упросил отца взять ее к себе в ложу, где, как ей известно, есть свободное место.
Он и сам улыбнулся: ему пришло в голову, что это будет весьма эстетический и символический финал — Сильвиана, освобождающая его от Роземонды, эти женщины — живое воплощение бесплодной любви. Будучи поклонником красоты, он стоял за однополый союз, не порождающий на свет детей.
— Обещаю, дорогая, я поговорю с папой, для вас место будет.
Наконец шествие поздравителей стало замедляться, ризница постепенно пустела, новобрачным и их родным удалось продвинуться к выходу среди гудящей толпы, которая медлила расходиться, то и дело останавливалась, — всем хотелось еще разок заглянуть им в лицо и поздравить.
Сразу после завтрака Жерар и Камилла должны были уехать в имение Дювильяров в Эвре. Завтрак, происходивший в царственном особняке в двух шагах от церкви Мадлен, на улице Годо-де-Моруа, был необычайно роскошен. Столовую на втором этаже на время превратили в великолепный буфет, изобилующий всевозможными яствами; а большая красная гостиная, маленькая голубая с серебром и вся анфилада богато обставленных комнат с широко раскрытыми дверями были приготовлены для большого приема. И хотя, как говорили, приглашены были лишь ближайшие друзья дома, гостей набралось до трехсот человек. Министры удалились, сославшись на неотложные дела государственной важности. Но здесь можно было видеть журналистов, крупных чиновников, депутатов, — словом, целую волну потока, прокатившегося через ризницу. Особенно не по себе среди всех этих дельцов, жаждущих добычи, было приглашенным г-жи де Кенсак, которых генерал де Бозонне и маркиз де Мориньи усадили на диване в красной гостиной, где они и оставались весь вечер.
Ева, разбитая физически и морально, в полном изнеможении сидела в маленькой голубой с серебром гостиной, которая, благодаря ее страсти к цветам, превратилась в огромный розарий. Она чуть не падала, пол уплывал у нее из-под ног, и все-таки она продолжала улыбаться и старалась быть обворожительной, когда к ней подходил кто-нибудь из гостей. Неожиданно она получила поддержку в лице монсеньера Март а , решившего почтить своим присутствием ее завтрак. Он уселся в кресло рядом с ней и повел тихую беседу со свойственной ему мягкой веселостью и лаской во взгляде. Без сомнения, он знал об ужасной драме, о горе несчастной женщины, с которым она тщетно старалась совладать, и постарался отечески ее ободрить. У нее был вид безутешной вдовы, отрекшейся от всего земного, она давала понять, что отныне ее прибежище только в господе боге. Потом разговор перешел на приют для инвалидов труда, и Ева заявила, что намерена всецело посвятить себя этому делу, всерьез выполняя свой долг председательницы.
— Я хотела бы посоветоваться с вами, монсеньер… Мне нужен в этом деле помощник, и я думаю, лучше всего пригласить аббата Пьера Фромана, поистине святого человека, которым я восхищаюсь.
Епископ помрачнел и некоторое время смущенно молчал. Но имя аббата услыхала принцесса де Гарт, проходившая мимо под руку с депутатом Дютейлем. С обычной стремительностью она обратилась к Еве:
— Аббат Пьер Фроман… Я не успела еще вам рассказать, дорогая, что видела его как-то в тужурке и в брюках, и мне говорили, он разъезжает на велосипеде по Булонскому лесу с какой-то тварью… Дютейль, ведь правда, мы с вами его видели?
Депутат с улыбкой наклонил голову; потрясенная Ева сжала руки:
— Разве это возможно? Такое пламенное усердие в добрых делах, такая вера, такое поистине апостольское рвение!
Монсеньер Март а прервал ее:
— Увы, церковь постигают порой великие невзгоды. Я знал о безумии несчастного, о котором сейчас идет речь, я даже счел нужным написать ему, но он оставил письмо без ответа. Мне так хотелось избегнуть этого скандала! Но, к сожалению, нам не всегда дано побеждать темные силы; на днях епископат наложил на него церковное запрещение… Так что вам, сударыня, придется пригласить кого-нибудь другого.
Это было для Евы тяжелым ударом. Она молча глядела на Роземонду и Дютейля, не решаясь спросить о подробностях, думая о твари, которая осмелилась совратить священника. Наверное, какая-нибудь бесстыжая девка, одно из падших созданий, которых терзает похоть! Казалось, известие об этом преступлении совсем ее доконало.
Обведя широким жестом окружающую ее роскошную обстановку, благоухающие розы, среди которых она утопала, толпившихся у буфета гостей, она тихо проговорила:
— В самом деле, все развратились; больше ни на кого нельзя положиться.
В это время Камилла, в ожидании отъезда, сидела одна в своей девичьей спальне; там ее и нашел Гиацинт.
— А! Это ты, малыш. Поцелуй меня поскорей… Я сейчас удираю и очень счастлива.
Он обнял ее. Потом изрек нравоучительным тоном:
— Я считал тебя более серьезной. Сегодня с утра ты так весела, что мне просто противно!
Она взглянула на него со спокойным презрением.
— А твой Жерар, которого ты пожираешь глазами? — продолжал он. — Разве ты не знаешь, что она его у тебя отнимет, как только вы вернетесь?
Камилла побледнела, глаза ее вспыхнули. Сжав кулаки, она шагнула к брату:
— Она! Ты говоришь, она отнимет его у меня!
Речь шла об их матери.
— Да я ее скорей убью, так и знай, малыш! Ну, нет, эта мерзость ей не удастся, потому что это мой мужчина, и он моим останется… А ты не смей говорить мне эти гадости и оставь меня в покое, ты же знаешь, я вижу тебя насквозь, ты просто-напросто девчонка и к тому же дурак!
Он отшатнулся, как будто перед ним вдруг поднялась остренькая черная головка змеи; он всегда трепетал перед сестрой и решил поскорей улизнуть.
И пока последние гости опустошали буфет, новобрачные стали прощаться, перед тем как сесть в экипаж, который должен был доставить их на вокзал. Генерал де Бозонне начал было изливать перед кучкой знакомых свое негодование и досаду по поводу обязательной воинской повинности, но маркиз де Мориньи увел его; графиня де Кенсак, у которой дрожали руки, стала целовать на прощанье сына и невестку, она так волновалась, что маркиз позволил себе почтительно ее поддержать. Гиацинт бросился разыскивать отца, которого никак не могли найти. Наконец он его обнаружил в оконной нише; у барона был крупный разговор с обескураженным Шенье, на которого он обрушился, обозленный чрезмерной щепетильностью Фонсега; если статья не пройдет, Сильвиана способна обвинить его одного и наказать, снова захлопнув перед ним двери своего дома. Ему тотчас же пришлось принять торжественный вид, и, поспешив к дочери, он поцеловал ее в лоб, пожал руку зятю и шутливо пожелал им приятно провести время. Наконец стала прощаться Ева, рядом с которой, улыбаясь, стоял монсеньер Март а . Она проявила трогательное мужество; ей так хотелось до конца играть роль светской красавицы, что она нашла силы улыбнуться и проявила материнскую нежность. В порыве великодушия и героического самоотречения она взяла чуть дрожащую руку смущенного Жерара и на секунду задержала ее в своей.
— До свиданья, Жерар, будьте здоровы и счастливы.
Потом, обернувшись к Камилле, она расцеловала ее в обе щеки; монсеньер Март а глядел на них с выражением снисходительного сочувствия.
— До свиданья, дочка.
— До свиданья, мама.
Но у обеих дрожал голос, их горящие взгляды скрестились как мечи, и поцелуй напоминал злобный укус. О, какую ярость испытывала Камилла, видя, что ее соперница все еще хороша и желанна, несмотря на свои годы и пролитые слезы! Какая пытка для Евы видеть эту девушку, которая победила ее своей молодостью, похитила у нее любовь! О взаимном прощении нечего было и думать: они будут ненавидеть друг друга до самой могилы, даже в фамильном склепе, где им предстоит когда-нибудь упокоиться.
Вечером баронесса Дювильяр все же не пошла на премьеру «Полиевкта». Она страшно устала и хотела лечь пораньше; уткнувшись в подушку, она проплакала всю ночь. В ложе бенуара сидели только барон, Гиацинт, Дютейль и маленькая принцесса де Гарт.
Уже к девяти часам в зрительном зале теснилась и гудела блестящая толпа, как в дни торжественных спектаклей. Здесь собралось то же парижское общество, которое дефилировало утром в ризнице церкви Мадлен; то же лихорадочное любопытство, та же жажда чего-то необычного, исключительного; можно было увидеть те же лица, те же улыбки, тех же самых женщин, приветствовавших друг друга чуть заметным кивком, мужчин, понимавших друг друга с полуслова, по малейшему жесту. Словом, был налицо весь высший свет: обнаженные плечи, свежие цветы в бутоньерках, ослепительная праздничная роскошь. Фонсег занимал ложу «Глобуса», с ним — двое его друзей с супругами. Маленький Массо сидел на своем обычном месте в партере. Были тут и завсегдатаи Комедии: судебный следователь Амадье, и генерал де Бозонне, и генеральный прокурор Леман. Ужасный Санье, толстяк апоплексического вида с двойным подбородком, привлекал все взоры, благодаря появившейся утром скандальной статье. Шенье, которому досталось лишь откидное сиденье, рыскал по коридорам, забирался на все ярусы, чтобы еще разок вдохновить приверженцев. Когда в ложу бенуара, находившуюся против ложи Дювильяра, вошли министры — Монферран и Довернь, по рядам зрителей пробежал шепот, на лицах появились лукавые, многозначительные улыбки, — ведь все знали, что именно этим лицам дебютантка в значительной мере обязана своим успехом.
Между тем еще накануне по городу стали распространяться досадные слухи. Санье заявил, что дебют Сильвианы, этой известной кокотки, во Французской Комедии, да еще в возвышенной роли Полины, — настоящая пощечина общественной нравственности. Впрочем, в прессе давно горячо обсуждалась сумасбродная причуда красивой куртизанки. Уже добрых полгода шли об этом толки, и хорошо осведомленные парижане сбежались в театр лишь в жажде новых впечатлений. Еще до поднятия занавеса чувствовалось, что зрители добродушно настроены, что у них на уме только смех и развлечения; они издевались над актрисой по уголкам, но готовы были аплодировать, если она им угодит.
Впечатление было самое неожиданное. Когда Сильвиана появилась на сцене в первом акте в скромном, закрытом платье, зрители стали восхищаться чистым овалом ее девственного лица, невинным ротиком и ясным, непорочным взором. Созданный ею образ сперва всех удивил, потом очаровал. Начиная со сцены, где Полина открывает душу Стратонике и рассказывает свой сон, актриса трактовала свою героиню в мистическом духе, сделала ее мечтательницей, святой с церковного витража, которую вагнеровская Брунгильда могла бы унести на своем коне в облака. Это было нелепо, неестественно и противоречило здравому смыслу. Но публику еще больше заинтересовала такая трактовка, это было модно, а главное, казался пикантным контраст между образом чистой, как лилия, невинной Полины и исполнявшей эту роль развращенной до мозга костей куртизанкой. Успех возрастал с каждым актом: во втором — блестяще прошло объяснение с Севером; в третьем — сцена с Феликсом и, наконец, в четвертом — сцена с Полиевктом и полный возвышенного, душераздирающего трагизма диалог с Севером. Легкий свист, в котором обвинили Санье, окончательно решил победу. По знаку, данному Монферраном и Довернем, как об этом писали газеты, зал разразился аплодисментами, Париж рукоплескал, то ли в порыве увлечения, то ли из чувства юмора, устроив пышные овации тщеславному Дювильяру и могущественному министерству Сильвианы, над которым подтрунивали во время антрактов.
В ложе барона бурно обсуждали спектакль.
— А знаете, — сказал Дютейль, — наш влиятельный критик, которого я как-то приводил к вам на ужин, прямо возмущен. Он настаивает на том, что Полина самая обыкновенная мещаночка, только в конце трагедии она каким-то чудом перерождается, и изобразить ее с самого начала святой девой — значит погубить образ.
— Ба! — громогласно воскликнул Дювильяр. — Пусть спорят, это наделает шума… Главное, нужно, чтобы завтра утром в «Глобусе» появилась статья Массо.
Но вскоре выяснилось, что нельзя ждать ничего утешительного. Шенье, который пытался опять обработать Фонсега, заявил, что тот, несмотря на шумный успех, все еще колеблется, называя этот успех шальным. Барон рассердился.
— Подите скажите ему, что я этого хочу и не забуду его услуги.
В глубине ложи захлебывалась от восторга Роземонда.
— Гиацинт, милый! Умоляю вас, проводите меня в уборную Сильвианы. Я больше не могу ждать. Я должна сейчас же ее расцеловать.
— Но мы все туда пойдем, — заявил Дювильяр, услыхав этот разговор.
Коридоры были битком набиты, и до самой сцены пришлось протискиваться. Потом — новое препятствие: дверь уборной оказалась запертой; на стук барона костюмерша ответила, что мадам просит господ подождать.
— О, пустяки, ведь я женщина, — сказала Роземонда и быстро скользнула в приоткрытую дверь. — Идите и вы, Гиацинт, ничего особенного.
Сильвиана сильно разгорячилась во время игры и сидела полуголая, ей вытирали плечи и шею. Роземонда восторженно бросилась к ней и расцеловала ее. Они весело болтали в ярко освещенной газовыми рожками, заваленной цветами комнатке. Губы их почти соприкасались, не было конца нежным, восторженным излияниям. Но вот Гиацинт услыхал, что они уговорились встретиться при выходе из театра, Сильвиана пригласила Роземонду на чашку чая.
Он любезно улыбнулся и сказал актрисе:
— Если не ошибаюсь, ваш экипаж ждет вас на углу улицы Монпансье? Так вот, я провожу туда принцессу. Так будет удобней, и вы поедете вместе.
— Ах, какой милый! — воскликнула Роземонда. — Так мы и сделаем.
В этот миг открылась дверь, вошли мужчины и стали поздравлять актрису с успехом. Но нужно было спешить, начинался пятый акт. То был настоящий триумф, публика взревела от восторга, когда Сильвиана, подобно святой мученице, возносящейся на небеса, произнесла знаменитые слова: «Я вижу, я знаю, я верю, у меня открылись глаза!» Все потеряли голову. Артистов стали вызывать, и парижане устроили бурные овации этой девственнице театральных подмостков, которая, по словам Санье, в городе так прекрасно исполняла роль шлюхи.
Дювильяр и Дютейль сразу же отправились за кулисы, чтобы проводить Сильвиану, а Гиацинт повел Роземонду к экипажу, стоявшему на углу улицы Монпансье. Там они остановились, поджидая остальных. Казалось, молодого человека очень позабавило, когда пришедшая с его отцом Сильвиана жестом остановила Дювильяра, собиравшегося сесть в экипаж.
— Нет, мой милый, сегодня нельзя. Я с подругой.
Из кареты выглянуло улыбающееся личико Роземонды. И когда экипаж с женщинами тронулся, барон продолжал неподвижно стоять. Сколько времени и сил затратил он, чтобы добиться ее милости!
— Что поделаешь, мой дорогой! — сказал Дютейлю Гиацинт, тоже слегка шокированный. — Я пресытился ею и уступил ее Сильвиане.
Ошеломленный Дювильяр стоял на тротуаре в опустевшем проезде, там его заметил измученный до предела Шенье, устремился к нему и сообщил, что Фонсег одумался и статья Массо пройдет. В коридорах театра много говорили о пресловутой железнодорожной линии через Сахару.
Гиацинт взял под руку отца и стал его успокаивать, как благоразумный товарищ, для которого женщина является лишь низменным и нечистым животным.
— Идем спать… Раз эта статья появится, ты сам отнесешь завтра же утром ей газету, и, конечно, она тебя пустит.
И мужчины пошли вдоль авеню Оперы, мрачной и пустынной в этот поздний час; они курили и по временам перебрасывались словами, а над спящим Парижем звучал несмолкаемый предсмертный стон погибающего мира.
III
После казни Сальва Гильом впал в мрачное раздумье. Он молчал, казался озабоченным, и у него был отсутствующий вид. Часами он работал, изготовляя опасный порошок по ему одному известной формуле; эти процедуры требовали величайшей точности, и он обходился без помощников. Потом он уходил из дома и возвращался с долгих одиноких прогулок совсем разбитый. С близкими он неизменно был нежен, пытался даже улыбаться. Но всякий раз, как к нему с чем-нибудь обращались, он отвечал невпопад, словно был где-то далеко-далеко.
Пьер решил, что брату не по силам его жертва и что отказ от Марии надломил его. Уж не о ней ли он так упорно думал и все сильней тосковал по мере того, как приближался день свадьбы? И вот однажды вечером Пьер начал откровенный разговор, заявив, что хочет удалиться, исчезнуть.
С первых же слов Гильом его прервал, воскликнув с нежностью:
— Мария! Ах, братец! Я ее слишком люблю, чтобы жалеть о том, что я сделал!.. Нет, нет и нет! Вся моя радость, покой, счастье теперь зависят только от вашего счастья. Уверяю тебя, ты ошибаешься, со мной все благополучно, по-видимому, меня поглощает работа.
В этот вечер он был очень разговорчив и заразительно весел. За обедом он спросил, скоро ли придет обойщик и приведет в порядок комнаты для молодых, — две маленькие комнатки над лабораторией, занимаемые Марией. С тех пор как свадьба была решена, Мария находилась в ровном, веселом настроении, спокойно ожидая. Она оживленно высказала свои пожелания: одну комнату ей хотелось обить красной бумажной тканью по двадцать су за метр и обставить простой еловой лакированной мебелью, — тогда ей будет казаться, что она живет в деревне; а на полу она расстелет ковер, — ковер всегда казался ей верхом роскоши. Она смеялась, смеялся и Гильом с отечески добродушным видом; его веселость успокоила Пьера, и он решил, что ошибся.
Но на другой день Гильом снова впал в задумчивость. Тревога Пьера еще усилилась, когда он заметил, что Бабушка никогда еще не была такой молчаливой, серьезной и замкнутой. Не решаясь обратиться прямо к ней, он попытался расспросить мальчиков, но ни Том а , ни Антуан, ни Франсуа ничего не знали и не хотели знать. Каждый был занят своим делом, они жили весело и беззаботно, горячо любя и уважая отца. Постоянно находясь рядом с ним, они никогда его не расспрашивали о работе его и планах, уверенные, что все, что он делает, прекрасно и справедливо, и готовые по первому же зову прийти ему на помощь. Но, как видно, он оберегал их от всякой опасности, один шел на жертву. И Бабушка была единственной его поверенной, с ней он советовался и, вероятно, прислушивался к ее словам. Убедившись, что от мальчиков ему ничего не добиться, Пьер стал наблюдать за Бабушкой. Его тревожила ее суровость, к тому же он заметил, что Гильом часто о чем-то беседует с ней в ее комнате, находившейся наверху, рядом с комнатой Марии. Они запирались там и, по-видимому, чем-то занимались; часами оттуда не доносилось ни единого звука.
Однажды Пьер увидел, как брат вышел из этой комнаты с небольшим, но с виду довольно увесистым чемоданом. И он вспомнил, что Гильом рассказывал ему о порошке, один фунт которого мог взорвать целый собор, о могучем орудии разрушения, которое он намеревался передать Франции и тем самым обеспечить ей в войне победу над другими народами, освободительницей которых она призвана стать. Ему вспомнилось, что одна Бабушка посвящена в эту тайну, что долгое время это ужасное взрывчатое вещество находилось близ ее кровати, когда Гильом ожидал налетов полиции. Почему же теперь брат уносит из дому изготовленное им вещество? Подозрения и страх придали Пьеру решимости, и он внезапно спросил брата:
— Ты чего-то опасаешься и потому все уносишь из дому? Если тебе нельзя хранить это у себя, ты вполне можешь принести ко мне, ведь никому и в голову не придет шарить у меня в квартире.
Изумленный Гильом пристально поглядел на брата:
— Да… Мне стало известно, что после казни этого несчастного начались обыски и аресты, они смертельно боятся, как бы какой-нибудь смельчак не отомстил за него. Вдобавок просто неблагоразумно держать дома такие опасные вещества. Вот я и решил спрятать их в надежном месте… Что до Нейи… О нет, милый братец, этот подарочек не для тебя!
Он говорил спокойно, хотя в его голосе слышалась легкая дрожь.
— Но если у тебя все готово, — заметил Пьер, — то, вероятно, вскоре ты передашь это орудие военному министру?
По глазам Гильома видно было, что он колеблется; он уже готов был солгать. Потом твердо ответил:
— Нет, я передумал. У меня сейчас другие планы.
Это было сказано столь решительным тоном, что Пьер не осмелился продолжать свои расспросы, хотя ему хотелось знать о планах брата. Но с этой минуты он пребывал в тревожном, лихорадочном ожидании и все острее чувствовал в торжественном молчании Бабушки и в просветленном, полном героической решимости, взоре брата какую-то великую и ужасную угрозу, быть может, приговор всему Парижу…
Как-то днем, когда Том а собрался уходить на завод Грандидье, стало известно, что старого рабочего Туссена снова разбил паралич. Том а решил по дороге навестить больного, которого он очень уважал, и, если можно, оказать ему помощь. Пьер захотел его сопровождать. Около четырех часов они отправились.
Туссен находился в комнате, где жила вся семья, где ели и спали; он сидел с убитым видом у стола, на низеньком стуле. После удара у него отнялась вся правая сторона — рука, нога и даже язык. Он мог издавать лишь невнятные гортанные звуки. Рот у него искривился направо, и черты были искажены гримасой отчаяния. В пятьдесят лет он был конченым человеком; бросались в глаза его нечесаная, седая, как у старика, борода, узловатые, изуродованные тяжелым трудом руки, теперь уже совершенно бессильные, на крупном добродушном темно-коричневом лице жили одни глаза; он все время оглядывал комнату, и взгляд его по очереди останавливался на пришедших. Г-жа Туссен, все такая же полная, хотя ей не приходилось есть досыта, по-прежнему подвижная, сохраняла присутствие духа, несмотря на все несчастья; она суетилась вокруг больного.
— Туссен, к нам дорогие гости — к тебе пришел господин Том а с господином аббатом… — Тут же она спокойно поправилась: — Со своим дядей, господином Пьером… Видишь, тебя еще не забыли.
Туссен хотел что-то сказать, но это ему не удалось, и на глаза навернулись слезы; он глядел на посетителей с невыразимой грустью, и губы у него дрожали.
— Ну, успокойся, — сказала жена. — Врач запретил тебе волноваться.
Пьер заметил, что при его появлении две особы, находившиеся в комнате, встали и отошли в сторону. Он с удивлением узнал маленькую Селину и г-жу Теодору, они были прилично одеты и держались непринужденно. Узнав о несчастье, они пришли навестить, одна — брата, другая дядю, они сами пережили тяжелое горе и умели сочувствовать. Видно было, что теперь они уже не испытывают нужды, и Пьер вспомнил, что ему рассказывали, как после казни отца к девочке была проявлена горячая симпатия: на нее посыпались подарки, многие великодушно хотели удочерить девочку, наконец ее удочерил один из товарищей Сальва, он устроил ее в школу, надеясь потом обучить какому-нибудь ремеслу, а г-жа Теодора поступила сиделкой в больницу. Они были спасены.
Когда Пьер подошел к Селине и поцеловал, г-жа Теодора велела девочке хорошенько поблагодарить господина аббата. Она продолжала так его величать из уважения.
— Это вы, господин аббат, принесли нам счастье. Разве такое забудешь, я каждый день напоминаю Селине, чтобы она молилась за вас.
— Значит, дитя мое, ты опять будешь учиться?
— Ах, я так рада, господин аббат. И мы теперь ни в чем не нуждаемся.
От волнения у нее перехватило дыхание, и она пролепетала сквозь слезы;
— Ах, если бы бедный папочка видел нас!
Госпожа Теодора ласково простилась с г-жой Туссен.
— Ну, до свиданья, мы уходим. Нам хотелось выразить вам свое сочувствие; как все это печально. Сколько ни бейся, а беды не отвратишь… Селина, поцелуй дядюшку… Бедный брат, желаю, чтобы ноги у тебя как можно скорей восстановились.
Мать и дочь поцеловали инвалида в щеку и ушли. Туссен все время молча слушал и наблюдал; он следил за ними до самой двери живым и разумным взглядом; как видно, он горевал, что не сможет вернуться к деятельной жизни, какой жили его родственницы.
Обычно такая благодушная, г-жа Туссен на минуту поддалась зависти.
— Бедный мой старикан, — сказала она, положив подушку за спину мужу. — Этим двум повезло, не то что нам с тобой. После того как отрубили голову этому сумасшедшему Сальва, у них все идет на лад. Теперь они обеспечены, у них есть верный кусок хлеба. — И, обернувшись к Пьеру и Том а , добавила: — А наша песенка спета, увязли по шею, и нет надежды выкарабкаться… Что поделаешь, мы должны подохнуть с голоду; моему бедняге мужу не отрубили голову, он честно работал всю жизнь, и вот — полюбуйтесь: вышвырнули, как старую, негодную скотину.
Она усадила пришедших и стала отвечать на их сочувственные вопросы. Врач был уже два раза, обнадежил, что к больному вернется дар речи и он сможет с палкой передвигаться по комнате. Но о работе не приходится и думать. К чему же тогда все это? По глазам Туссена было видно, что он хоть сейчас готов умереть. Если рабочий больше не в силах трудиться, не может прокормить жену, ему место в могиле.
— Ну, а сбережения… — продолжала она. — Иные спрашивают, есть ли у нас сбережения… Правда, у нас лежало в сберегательной кассе около тысячи франков, когда мужа разбило в первый раз. Вы и представить себе не можете, сколько приходится мудрить, чтобы скопить этакую сумму; ведь мы не какие-нибудь дикари: и вечеринку иной раз надо справить, и повкусней чего-нибудь захочется, и пропустить бутылочку вина… За пять месяцев вынужденной безработицы мы съели эту тысячу франков, — одни лекарства и бифштексы чего стоили, а теперь — боже ты мой! — когда все начинается сначала, нам и не понюхать хорошего винца и бараньей ножки, изжаренной на вертеле.
Этот вопль хозяйки, любившей поесть, красноречивей слез выдал ее страх за завтрашний день. Мужественная женщина держала себя в руках, но ей казалось, что все кругом рушится, приходит конец света, если она не может содержать в порядке жилище, потушить в воскресенье кусок телятины и по вечерам поджидать с работы мужа, болтая с соседками. Уж лучше бы их выбросили в сточную канаву и увез бы их мусорщик на своей тележке!
Том а прервал ее:
— Но ведь существует приют для инвалидов труда; нельзя ли поместить туда вашего супруга? Мне кажется, он имеет на это полное право.
— Как бы не так! — воскликнула она. — Я уже наводила справки. Но, оказывается, туда не берут больных. Они сказали мне, что на то существует больница.
Пьер безнадежно махнул рукой, подтверждая ее слова. Внезапно ему вспомнилась его беготня по Парижу — от председательницы благотворительного общества баронессы Дювильяр к главному администратору Фонсегу; в конце концов удалось устроить туда злополучного Лавева, но к тому времени старик успел умереть.
В этот миг послышался плач ребенка, и посетители с изумлением увидели, что г-жа Туссен прошла в крошечную комнатку, где раньше спал их сын Шарль, и вскоре появилась с двухлетним малышом на руках.
— Ах, боже мой! Ну да, это сынишка нашего Шарля, — сказала она. — Он спал там, в старой кроватке своего отца, и вот, видите, проснулся… Представьте себе, в прошлую среду, как раз накануне этой беды с Туссеном, я взяла его у кормилицы, что живет в Сен-Дени; у Шарля дела идут плохо, он перестал ей платить, и она грозилась, что вышвырнет малыша на улицу. Мне подумалось, вот работа как будто налаживается и мы прокормим такой маленький ротик. И вдруг все рухнуло… Но что поделаешь? Теперь малыш у меня, не могу же я, в самом деле, выбросить его на улицу.
Разговаривая, она ходила по комнате, укачивая ребенка. И она рассказала — в который раз! — нелепую историю о том, как Шарль по глупости спутался с прислугой соседнего виноторговца, и она оставила ему вот этот подарочек, а сама, как последняя шлюха, повисла на шее у другого мужчины. Если бы еще Шарль зарабатывал так же, как до военной службы, когда он не терял времени даром и все сполна приносил домой! Но как вернулся, работает уж не с душой, принялся рассуждать, какие-то идеи у него пошли… Правда, он еще не бросает бомбы, как этот сумасшедший Сальва, но все свободное время проводит у всяких там социалистов да анархистов, которые совсем вскружили ему голову. Жалко смотреть на него, вконец свихнулся, а уж такой славный и сильный парень! В их квартале, говорят, немало таких парней; самые лучшие, самые умные не хотят больше прозябать в нищете, ведь работа не может их прокормить; и они скорей взорвут все на свете, чем согласятся весь свой век жить впроголодь… — О! нынешние дети совсем не похожи на родителей; у них нет такой выдержки, как у моего бедного старика; он терпел, пока от него не остались кожа да кости, пока он не превратился в такую жалкую развалину… Знаете, что сказал наш Шарль, когда на другой день после несчастья увидел отца в этом кресле, без рук, без ног, без языка? Он разозлился и крикнул, что отец всю жизнь, как дурень, надрывался, работая на буржуа, а теперь не получит от них и глотка воды… А потом заплакал навзрыд, потому что он у нас совсем не злой мальчик.
Ребенок тем временем успокоился, и она продолжала носить его по комнате, прижимая к сердцу с нежностью бабушки. Шарль не в состоянии им помогать; каких-нибудь сто су, и то не всегда. Да и она сама порядком измытарилась, нечего и думать браться за прежнее свое ремесло белошвейки. И прислугой невозможно работать, когда на руках малыш, да еще другой, большой ребенок, инвалид, которого надо обмывать и кормить. Что же остается делать? Как быть им троим? Ума не приложить, у нее душа замирает от страха, хотя она храбрится и на все готова из любви к ним.
У Пьера и Том а от жалости защемило сердце, когда они увидели, как крупные слезы потекли по щекам разбитого параличом старика, постигнутого нищетой труженика, сидевшего в этой, пока еще опрятной, комнате. Он слушал жену, глядел на нее, глядел на бедное маленькое созданье, уснувшее у нее на руках; он уже не мог громко высказать своих страданий, он потерял голос, сердце его было разбито, его захлестнула неизбывная горечь; всю свою долгую жизнь он трудился, и вот над ним насмеялись и обманули его! Какая вопиющая несправедливость: столько усилий — и в результате такие страдания! Он приходил в ярость, чувствуя свою беспомощность, видя, что его близкие должны безвинно, как и он сам, страдать вместе с ним и умереть тою же смертью, что он. Несчастный старик, инвалид труда, кончил жизнь, как изнуренная, разбитая лошадь, свалившаяся на дороге. Все это было так возмутительно, так чудовищно, что было невозможно молчать, он хотел что-то сказать, но у него вырвалось лишь хриплое ворчанье.
— Успокойся, — сказала г-жа Туссен, — а то тебе будет еще хуже. Что же делать, что же делать!
Она пошла укладывать ребенка; когда она вернулась, Том а и Пьер стали уговаривать ее обратиться к патрону Туссена, г-ну Грандидье, но их прервала новая посетительница. Пришлось подождать.
То была г-жа Кретьенно, вторая сестра Туссена, на восемнадцать лет моложе его, жена мелкого чиновника. Услыхав о постигшей их беде, красавица Гортензия пришла выразить свое сочувствие, как требовали приличия, хотя незадолго перед тем муж приказал ей порвать отношения с ее родными, которых он стыдился. На ней было платье из дешевого шелка и уже трижды переделанная шляпка с красными маками. Но несмотря на всю эту роскошь, она чувствовала себя неловко и прятала ноги в стоптанных ботинках. Эта нежная блондинка сильно подурнела после недавнего выкидыша, красота ее быстро увядала.
Она остановилась в дверях, видимо, пораженная ужасным видом брата и убожеством этой обители страданий. Поцеловав его и выразив огорчение, что видит его в таком состоянии, она, как всегда, принялась сетовать на свою судьбу, жаловаться на денежные затруднения, опасаясь, как бы к ней не обратились за помощью.
— Ах, дорогая, мне вас от души жаль. Но если бы вы знали, как тяжело сейчас приходится решительно всем!.. Вот я, например; вы и представить себе не можете, как мне трудно сводить концы с концами. Муж занимает известное положение, и я должна ходит в шляпке и носить приличные платья. На три тысячи франков далеко не уедешь, а тут еще семьсот уходят на квартиру. Вы скажете, что можно бы устроиться поскромнее; нет, моя дорогая, мне нужна гостиная, ведь мы принимаем гостей… Посудите сами… Кроме того, у меня две дочери; ведь им надо учиться, Люсьенна уже играет на фортепьяно, у Марсели обнаружились способности к рисованию… Кстати, я хотела захватить их с собой, но побоялась, что они расстроятся. Надеюсь, вы меня извините?
И она рассказала, сколько неприятностей было у нее с мужем из-за печальной кончины Сальва. Этот тщеславный, ничтожный и злобный человек пришел в крайнее негодование, когда в числе родных жены оказался преступник, казненный на гильотине; он стал с ней груб и обвинял ее во всех трудностях, даже в своей неудачливости, с каждым днем делаясь все более желчным от тупой работы в конторе. Порой, вечерами, они ссорились; она давала ему отпор, уверяя, что могла бы выйти за одного врача, который влюбился в нее, когда она еще работала продавщицей в кондитерской на улице Мартир. А теперь, когда жена подурнела, а муж уже не надеялся выбраться из нужды, даже если бы получил вожделенные четыре тысячи франков, семейная жизнь с каждым днем становилась все беспросветнее, они постоянно раздражались и бранились, — дорого доставалось им удовольствие называться господином и дамой, им жилось невыносимо тяжело, не слаще, чем рабочим в их трущобах.
— Но все же, моя дорогая, — возразила г-жа Туссен, утомленная этим потоком жалоб, — вам повезло, что у вас нет третьего ребенка.
Гортензия вздохнула с явным облегчением.
— Да, вы правы, я просто не представляю, как бы мы его воспитали. Не говоря уже о том, что Кретьенно закатывал мне ужасные сцены, он кричал, что, если я забеременею, это будет не по его вине и, как только родится третий ребенок, он бросит меня и уйдет куда глаза глядят… Вы знаете, я чуть не умерла во время выкидыша; о, как это было ужасно, я до сих пор еще не оправилась. Доктор говорит, что я плохо кушаю, что мне нужно усиленно питаться. Но это пустяки, я все-таки очень рада.
— Ну, еще бы, милочка, ведь вы этого и желали.
— Конечно, мы только об этом и мечтали. Кретьенно твердил, что запрыгает от радости, если это случится… И все-таки… все-таки…
Голос Гортензии дрогнул от волнения.
— Когда врач посмотрел и сказал нам, что это мальчик, мне стало так горько, что я чуть не задохнулась от слез, я заметила, как Кретьенно отвернулся, чтобы не видели, какое у него расстроенное лицо. У нас две дочери, и мы были бы так счастливы иметь сына!
Глаза ее наполнились слезами, и она закончила, запинаясь:
— Но, в конце концов, если нельзя позволить себе роскоши вырастить еще одного ребенка, уж лучше ему не родиться. Он хорошо сделал, что вернулся на небеса… Ну, да что там говорить! Невесело все это, в жизни много нелепого.
Гортензия поднялась и поцеловала брата, — она спешила уходить, опасаясь, как бы, вернувшись без нее, муж не устроил ей сцену. У дверей она задержалась и сказала, что видела г-жу Теодору и маленькую Селину, они были очень прилично одеты и, кажется, вполне довольны. И добавила не без зависти:
— А вот мой муж каждое утро ходит на работу, надрывается у себя в канцелярии; он-то уж не подставит шею под нож, и будьте уверены, никто не наградит рентой Марсель и Люсьенну… Но все-таки мужайтесь, дорогая, будем надеяться, что все кончится хорошо.
После ее ухода Пьер и Том а , прежде чем покинуть больного, спросили, не обещал ли им помочь хозяин завода г-н Грандидье, узнав о болезни Туссена. Услыхав, что тот обещал что-то очень неопределенное, они заявили, что непременно похлопочут о старом механике, двадцать пять лет проработавшем на его заводе. К сожалению, из-за постигшего завод кризиса, после которого он еле оправился, там не удалось организовать ни кассы взаимопомощи, ни даже кассы социального обеспечения, вопрос о которых рассматривался. Если бы не это, Туссен мог бы болеть, не подвергаясь риску умереть с голоду. А теперь можно было надеяться лишь на общественную благотворительность или на великодушие патрона.
Тут заплакал сынишка Шарля, г-жа Туссен опять взяла его на руки и принялась укачивать, а Том а пожал обеими руками честную руку парализованного старика.
— Мы вас не покинем; мы непременно придем. Вы же знаете, все мы уважаем вас как порядочного человека и настоящего труженика… Можете на нас рассчитывать; мы сделаем все, что в наших силах.
И они ушли, покинув в мрачной комнате убитого горем, заплаканного старика, обреченного на жестокую смерть; его жена продолжала укачивать свалившегося на них крикливого ребенка, еще одного горемыку, которого так трудно растить старой чете, и которому также предстояло всю жизнь непосильно трудиться и голодать.
Когда Пьер и Том а вошли на завод, их оглушил грохот, и они окунулись в атмосферу тяжелого ручного труда. Тонкие трубы, поднимавшиеся над крышами, равномерно выбрасывали дымное дыхание, которое словно регулировало рабочий ритм завода. В цехах стоял несмолкаемый гул, — там трудилась целая армия рабочих, они ковали, пилили, сверлили; мелькали приводные ремни и содрогались механизмы. День заканчивался, как всегда, лихорадочным подъемом энергии, колокол вот-вот должен был возвестить окончание работ.
На вопрос Том а о г-не Грандидье ему ответили, что тот после завтрака не возвращался на завод; Том а понял, что опять произошла раздирающая сердце сцена в тихом особняке с вечно закрытыми жалюзи, где уединенно жил патрон с молодой женой, которая уже два года как помешалась, но по-прежнему была восхитительно хороша; он горячо ее любил и не захотел с ней расстаться. Том а провел Пьера в маленькую застекленную мастерскую, где он должен был ждать и где Том а обычно работал; оттуда был виден этот особняк, который казался таким мирным и веселым и весь утопал в зарослях сирени; как приятно было бы видеть там светлые платья молодой женщины и слышать детский смех… Вдруг им послышался душераздирающий крик, сменившийся жалобными стонами и визгом, — казалось, там убивали какое-то животное. Ужасные вопли сливались с грохотом завода, сопровождаясь равномерными выхлопами пара и глухим шумом машин. Со времени последнего отчета доходы предприятия удвоились, фирма процветала, о кризисе не могло быть и речи. Грандидье успешно выпускал популярные велосипеды марки «Лизетта», которые его брат, один из директоров универсального магазина «Бон-Марше», продавал по сто пятьдесят франков. К тому же Грандидье мог колоссально нажиться на продаже входивших в моду автомобилей, которым недоставало только маленького мотора, но и он после долгих усилий был уже почти создан. А из тихого особняка со всегда закрытыми жалюзи по-прежнему неслись вопли, там разыгрывалась какая-то трагедия, которую на сей раз не мог заглушить трудовой гул огромного завода.
Пьер и Том а глядели друг на друга бледные, содрогаясь от ужаса. Но вот крики затихли, и в особняке снова воцарилась гробовая тишина.
— Обычно она, кажется, бывает очень спокойной, — тихо сказал юноша, — целыми днями, как ребенок, сидит на полу, на ковре. Он горячо ее любит; укладывает ее спать, одевает, нежно ласкает, старается развеселить. Как это печально!.. Изредка у нее бывают приступы бешенства; она кусается, бьется головой о стену, пытаясь покончить с собой, тогда ему приходится бороться с ней, потому что, кроме него, никто не смеет прикоснуться к больной. Он крепко держит ее в объятиях, стараясь успокоить… Но сегодня — какой ужас, какие вопли! Вы слышали? Никогда еще не было такого жестокого приступа.
Через четверть часа Грандидье вышел из особняка, смертельно бледный, с непокрытой головой. Проходя мимо застекленной мастерской, он заметил Том а и Пьера, вошел туда и остановился, прислонившись к тискам, измученный кошмарной сценой. На его энергичном, добром лице отражалось жестокое страдание. Возле левого уха виднелась царапина, из которой сочилась кровь.
Ему хотелось говорить, спорить, с головой окунуться в дела.
— Очень рад вас видеть, дорогой Том а . Я размышлял о том, что вы мне говорили насчет мотора. Нам нужно еще об этом побеседовать.
При виде его растерянности молодого человека вдруг осенила счастливая благодетельная мысль, ему подумалось, что рассказ о чужом несчастье, быть может, отвлечет патрона от его безысходного горя.
— Да, да, я к вашим услугам… Но сперва позвольте вам рассказать о Туссене; мы только что навестили этого беднягу, который разбит параличом, и глубоко потрясены: какая ужасная судьба! Он очутился в полной нищете и заброшенности после стольких лет труда!
Том а подчеркнул, что Туссен проработал двадцать пять лет на заводе и фабрика многим обязана этому ревностному труженику. Во имя справедливости и милосердия руководство фабрики должно оказать ему помощь!
— Ах, сударь! — заговорил, в свою очередь, Пьер. — Как бы мне хотелось повести вас в жалкую комнатку этого несчастного старика, вконец изможденного, раздавленного жизнью, который даже не может сказать о своих страданиях. Нет большего несчастья, чем умирать вот так, отчаявшись во всякой доброте, во всякой справедливости.
Грандидье слушал молча. Потом из глаз его неудержимо хлынули слезы. И когда он заговорил, голос его дрожал и звучал очень глухо.
— Большего несчастья? Как знать! Можно ли со стороны судить о несчастье человека? Да, конечно, Туссен глубоко несчастен, очень печально в его возрасте не иметь верного куска хлеба. Но мне известны еще более страшные страдания; еще более мучительное горе, которое вконец отравляет жизнь. Хлеб! Какая глупость думать, что человечество обретет полное счастье, когда у всех будет вдоволь хлеба!
Он содрогнулся всем телом, выдавая раздирающую драму своей жизни. Быть патроном, хозяином, преуспевающим капиталистом, где машины словно чеканят деньги, которые так и плывут тебе в руки, — и вместе с тем сознавать, что ты несчастнейший из людей, всякий день переживать смертельную сердечную муку, каждый вечер, вернувшись домой, вместо отдыха и поддержки, испытывать жесточайшую душевную пытку! Этот победитель, этот любимец фортуны, утопавший в золоте, рыдал от горя.
Он пошел навстречу и обещал помочь Туссену. Но что мог он сделать? Он был принципиально против пенсии, которая подрывает самый принцип наемного труда. Он энергично защищал свои права предпринимателя, повторяя, что, в силу жестокой конкуренции, будет вынужден отстаивать их до тех пор, пока существует этот строй. Его задача — честно наживать деньги. Он выразил сожаление, что рабочим не удалось создать кассу взаимопомощи, и намекнул, что будет содействовать этому начинанию.
Его лицо порозовело, повседневная жизненная борьба вступала в свои права, и он почувствовал прилив энергии.
— Я хочу поговорить с вами о нашем маленьком моторе…
Он долго беседовал с Том а , а Пьер тем временем взволнованно размышлял о всеобщей жажде счастья. До него долетали обрывки фраз, но он не мог разобраться в технических терминах. Раньше завод изготовлял маломощные паровые моторы. Но этот вид двигателей выходил из употребления; необходимо было найти источник энергии. Электричество — этот царь и бог завтрашнего дня — было еще недоступно из-за громоздкости аппаратуры. Оставалась нефть со всеми ее отрицательными свойствами — слава и богатство будут уделом изобретателя, которому удастся заменить ее новым, еще неизвестным видом энергии. Итак, вопрос в том, чтобы найти и пустить в ход эту силу.
— Я спешу с этим делом! — горячо воскликнул Грандидье. — Я предоставил вам полную свободу и не хочу беспокоить вас назойливыми вопросами. Но необходимо поскорей найти решение.
Том а улыбнулся.
— Потерпите немного; кажется, я на верном пути.
И Грандидье, пожав им руки, отправился, как всегда, в обход по грохочущим цехам, а наглухо запертый особняк, куда он возвращался каждый вечер, ожидал его в мертвом молчании, затаив в своих стенах бесконечную, неутолимую скорбь.
День клонился к вечеру, когда Пьер и Том а , поднявшись на холм Монмартра, направились к большой застекленной мастерской скульптора Жагана, окруженной сараями, бараками и различными мастерскими, возникшими в связи с постройкой собора Сердца Иисусова; он работал там над заказанной ему огромной статуей ангела.
Кругом простирался пустырь, заваленный всевозможным строительным материалом; царил невообразимый хаос: груды обтесанных камней, леса, машины; там и сям зияли траншеи, в глубину спускались недостроенные лестницы, виднелись двери, закрытые лишь дощатой калиткой — входы в подземелья собора; вскоре должны были прийти землекопы и привести в порядок всю эту территорию.
Остановившись перед мастерской Жагана, Том а указал пальцем на одну из таких дверей, в которые входили строители фундамента, спускаясь под землю.
— Вам, наверное, не случалось заглядывать в подземную часть храма. Это особый мирок, очень интересный… Сюда вложены миллионы. Выбрали подходящую почву в центре холма, выкопали больше восьмидесяти колодцев и залили их бетоном, на этих-то восьмидесяти подземных столбах и стоит собор. Их не видно, но, опираясь на них, над Парижем вознесся горделиво гигантский оскорбительный памятник во славу абсурда.
Подойдя к ограде, Пьер заглянул в открытую дверь, за которой виднелась темная площадка и лестница, ведущая в подземелье. Он думал о невидимых колоннах, о вложенной в них упорной энергии, о безмерном властолюбии, на которых держалось это здание.
Том а пришлось его окликнуть:
— Поспешим, уже смеркается. Мы ничего не увидим.
Антуан должен был дожидаться его у Жагана, который хотел показать им новую модель. Когда они вошли, два помощника, стоя на подмостках, обтесывали симметричные крылья, а скульптор, с выпачканными в глине руками, сидел на низенькой скамеечке и созерцал фигуру высотой в метр, над которой он работал.
— А! Это вы! Антуан ждет вас уже больше получаса. Кажется, он вышел с Лизой полюбоваться солнечным закатом над Парижем. Они сейчас вернутся.
Он снова замолк, неподвижно глядя на свое творение.
Это была нагая женщина, она стояла во весь рост и была столь царственно величава, при всей простоте линий, что казалась огромной. Густые, пышные волосы лучистым ореолом окружали ее лицо, которое, подобно солнцу, сияло торжественной красотой. Она простирала руки слегка вперед, навстречу людям, словно приветствуя их и вручая им какой-то дар.
Жаган заговорил медленно, с мечтательным видом:
— Помните, я хотел создать некое соответствие моему Плодородию, вы его видели, — оно способно выносить в своем могучем лоне новый мир. Я начал было лепить Милосердие, но вскоре бросил, до того оно показалось мне жалким, шаблонным, пошлым… Потом мне пришло в голову создать Справедливость. Но меч, весы — нет, нет! Меня не прельщала Справедливость в длинном одеянии и в покрывале. Меня преследовала мысль о другой Справедливости, той, которой ждут все малые и страждущие мира сего, которая одна способна наконец водворить порядок и принести нам счастье… И вот какой я ее увидел: обнаженная, простая, высокая. Она подобна солнцу — это солнце красоты, гармонии, силы, потому что одно солнце поистине справедливо, оно пламенеет в небе для всех, для бедных и богатых, щедро дарит свой свет и свое тепло, — источник жизни на земле… И вот, видите, она отдает себя обеими руками, она обнимает все человечество, принося ему в дар вечную жизнь, заключенную в вечной красоте. О! быть прекрасным, быть сильным, быть справедливым — вот и вся моя мечта!
Он разжег свою трубку и разразился добродушным смехом.
— А ведь она представительна, эта славная женщина… А? Что вы скажете?
Посетители выразили свой восторг. Пьер был очень взволнован, увидав в этом творении художника воплощение своей давнишней мечты о грядущем царстве Справедливости, возникающем на развалинах этого мира, который не удалось спасти Милосердию.
Скульптор весело рассказал, что решил создать эту модель, чтобы немного утешиться: его приводил в отчаяние своей банальностью навязанный ему огромный ангел. К тому же ему только что поставили на вид, что одежды ангела слишком подчеркивают бедра; пришлось переделывать всю драпировку.
— Все, что им угодно! — воскликнул он. — Это уже не мое детище, это просто заказ, который я выполняю, как каменщик возводит стену. Больше не существует религиозного искусства, его убили безверие и глупость… И если суждено возродиться подлинно гуманному искусству, искусству для всех, какое счастье быть его провозвестником!
Он внезапно остановился. Где же, черт возьми, дети, Антуан и Лиза, ушли они, что ли? Он широко распахнул дверь, и на пустыре, заваленном хламом, на фоне города, позолоченного вечерними лучами, они увидели изящную группу — огромную фигуру Антуана и маленькую, хрупкую фигурку Лизы. Юный гигант нежно поддерживал ее мускулистой рукой за талию, помогая идти, а тоненькая, грациозная девушка, которая вдруг почувствовала себя женщиной и быстро расцвела, глядела ему в глаза с благодарной улыбкой, навсегда отдавая себя.
— А! вот и они… Как видите, чудо уже совершилось. Не помню себя от радости! Я был в отчаянии и уже не надеялся научить ее грамоте; она целыми днями сидела в уголке, как блаженная, не в силах шевельнуть ни языком, ни ногами… И вот пришел ваш брат, и все произошло как-то само собой. Она его слушала, понимала, стала учиться читать и писать, стала разумной и жизнерадостной. Однако она все еще не владела ногами, у нее по-прежнему был вид больного ребенка, тогда он начал выносить ее из дому на руках и заставлял ходить, поддерживая под руки; и теперь она уже ходит сама. Положительно, за несколько недель она выросла, стала стройной и прелестной… Да, да, уверяю вас, это второе рождение, он ее сотворил. Посмотрите-ка на них.
Антуан и Лиза медленно шли вперед. Вечерний ветер, тянувший со стороны шумного, знойного Парижа, овевал их дыханием жизни. И если юноша избрал этот простор, где самый воздух трепетал жизнью, то, очевидно, потому, что нигде в другом месте он не мог бы вдохнуть в нее душу и силы. Влюбленный сотворил себе возлюбленную. Он увидел спящую девушку, недвижимую, бездумную; он пробудил ее, пересоздал, полюбил. Она была его творением, частью его существа.
— Ну как, сестренка, ты уже не так устаешь, как раньше?
Она улыбнулась небесной улыбкой.
— Нет, что ты! Так приятно, так чудесно идти и идти… А с Антуаном мне хотелось бы идти всю жизнь!
Все засмеялись, и Жаган добродушно сказал:
— Будем надеяться, что он не заведет тебя слишком далеко. Вот вы и пришли. Уж я-то не стану препятствовать вашему счастью.
Антуан остановился перед статуей Справедливости, которая в вечернем свете, казалось, дышала жизнью. В этот тихий час он так остро почувствовал всю прелесть искусства, что на глазах у него блеснули слезы. Он прошептал:
— О, божественная простота, божественная красота!
Недавно он закончил гравюру на дереве, изобразив Лизу с книгой в руках, проснувшуюся для сознательной жизни, для любви; то было замечательное произведение, исполненное чувства и правды. Наконец-то исполнилось его желание, он сделал гравюру непосредственно с натуры. Он испытывал необычайный подъем духа, мечтал о великих, своеобразных творениях, в которых хотел увековечить жизнь своей эпохи.
Том а решил, что пора уходить. Он пожал руку Жагану, который, окончив работу, надевал пальто, собираясь вести сестру Лизу домой, на улицу Кальвер.
— До завтра, Лиза, — сказал Антуан и наклонился, чтобы поцеловать ее. Она поднялась на цыпочки, подставляя для поцелуя глаза, которые он ей отверз.
— До завтра, Антуан.
Сумерки сгущались. Пьер вышел первым, и вдруг в вечернем полумраке перед ним мелькнуло видение. К своему удивлению, он ясно разглядел брата Гильома, выходившего из двери, за которой зиял вход в подземную часть храма. Ученый быстро перелез через ограду и тут же сделал вид, будто он случайно здесь, по дороге с улицы Ламарк. Подойдя к сыновьям с видом радостного удивления, он начал рассказывать о своей прогулке по Парижу, Пьер спрашивал себя: уж не померещилось ли все это ему? Но вот Гильом тревожно взглянул на него, Пьер убедился, что он не ошибся. Он чувствовал себя неловко в присутствии этого человека, который никогда не лгал, и стал мучительно подозревать, что увиденное им имеет прямое отношение к страшной тайне, которую последнее время он чувствовал в воздухе маленького домика, мирного приюта труда.
В этот вечер, когда Гильом с сыновьями и братом подошел к просторной мастерской, высившейся над Парижем, в окнах было темно и дом казался пустым. Лампы еще не были зажжены.
— Смотрите! Никого нет дома, — заметил Гильом.
Но из темноты послышался голос Франсуа, спокойный, чуть приглушенный.
— Нет, я здесь.
Он сидел за столом, оторвавшись от книги, так как уже нельзя было читать; опершись на руку подбородком, юноша мечтал, глядя вдаль, на Париж, который уже тонул в полумраке. Он проработал, не поднимая головы, весь день. Приближались экзамены, и он все время жил напряженной умственной жизнью. Казалось, в полутемной комнате витали мысли юноши, неподвижно сидевшего над книгой.
— Как! ты здесь, ты еще работаешь! — воскликнул отец. — Почему же ты не спросил лампу?
— Нет, я смотрел на Париж, — задумчиво ответил Франсуа. — Это просто удивительно: темнота постепенно спускается на город, как будто у солнца есть свои пристрастия. Дольше всего была освещена гора Святой Женевьевы, где стоит Пантеон, где так пышно расцвели науки и знания. Школы, библиотеки, лаборатории еще золотились в закатных лучах, а торговые кварталы уже тонули в тени. Я не хочу сказать, что светило предпочитает именно нас, учеников Нормальной школы, я только отметил, что его лучи задерживаются на наших крышах, когда весь город уже в темноте.
Шутка показалась ему забавной, и он засмеялся; чувствовалось, что он горячо верит в силу человеческого ума, что его жизнь посвящена умственному труду, который, по его мнению, один способен создать царство истины и справедливости, даровать людям счастье.
В комнате царила тишина. Огромный Париж погружался во тьму, становясь все чернее, необъятнее, таинственней. Один за другим вспыхивали огоньки.
— Зажигают лампы, — прибавил Франсуа. — Люди снова берутся за труд.
Гильом, который тоже замечтался, воскликнул, весь во власти своих дум:
— Труд… да, разумеется! Но чтобы пожать плоды труда, его должна оплодотворить человеческая воля… Существует нечто высшее, чем труд!
Том а и Антуан подошли к отцу, и Франсуа спросил от имени всех братьев:
— Что же это, отец?
— Действие!
Сыновья немного помолчали, подавленные торжественностью минуты, трепеща перед огромными валами мрака, наплывавшими со стороны смутно различимого гигантского города. Потом неизвестно чей молодой голос произнес:
— Действие и значит труд.
Тревога Пьера все возрастала, ведь он не мог так безмятежно, так слепо доверять брату, как эти трое юношей. В словах Гильома ему снова почудилось нечто загадочное и зловещее. И в сгустившихся сумерках, над темным городом, где зажигались лампы для упорного ночного труда, пронеслось веяние несказанного ужаса…
IV
В этот день в соборе Сердца Иисусова в присутствии десяти тысяч паломников должно было состояться торжественное богослужение. Церемония благословения святых даров назначена была на четыре часа. Задолго до этого срока Монмартр будет наводнен толпой, лавки торговцев священными предметами будут осаждаться покупателями; люди станут тесниться перед закусочными, — словом, это будет настоящая ярмарка; а над праздничной толпой разольется оглушительный звон главного колокола — «Савояра».
Когда утром Пьер вошел в мастерскую, Бабушка и Гильом сидели там одни; он успел уловить несколько слов и без зазрения совести спрятался за высокий вращающийся книжный шкаф и стал прислушиваться. Бабушка шила, сидя на своем обычном месте у широкого окна. Гильом говорил вполголоса, стоя перед ней.
— Все уже готово, матушка, это будет сегодня.
Побледнев, она выронила из рук шитье и подняла на него глаза.
— Вот как… Значит, вы решились.
— Да, бесповоротно. В четыре часа я буду там, и все будет кончено.
— Что ж, вы хозяин положения.
Наступила томительная тишина. Голос Гильома, казалось, доносился откуда-то издалека, словно из иного мира. Чувствовалось, что он принял непоколебимое решение, весь во власти своей трагической мечты, послушный идее мученичества, которая уже приняла определенную форму и прочно засела у него в мозгу. Бабушка смотрела на него своими светлыми глазами; эта героическая женщина состарилась, переживая страдания своих близких, была полна преданности и самоотречения, ее отважное сердце могла воодушевить только мысль о долге. Она входила в мельчайшие подробности его работы, ей был известен его ужасный замысел; она жаждала справедливости и, видя на каждом шагу вопиющие беззакония, принимала идею возмездия, она верила, что могучее пламя вулкана очистит мир, — она также верила, что человек должен мужественно дожить до конца свою жизнь, и не видела в смерти ничего доброго и плодотворного.
— Сын мой, — сказала она мягко, — ваш замысел созревал у меня на глазах, он ничуть не удивил меня и не возмутил, я считала, что это будет как удар грома, как небесное пламя, могучее и очистительное. Я всегда вам помогала, хотела быть вашей совестью, исполняла вашу волю… Но все же я должна еще раз вам сказать: вы не имеете права бежать от жизни!
— Напрасно вы это мне говорите, матушка, я отдал этому делу свою жизнь и не могу взять ее обратно… И разве вы больше не хотите исполнять мою волю, остаться в живых и действовать?
Не отвечая на его вопрос, она спросила его многозначительным тоном:
— Значит, бесполезно говорить вам о детях, обо мне самой, о нашем доме… Вы хорошо все обдумали, вы решили окончательно?
— Да, — ответил он кратко, и она продолжала:
— Хорошо, вы господин положения… Я останусь и буду действовать. Не беспокойтесь ни о чем, ваше завещание в надежных руках. То, что мы решили, будет сделано.
Они опять помолчали. Потом она спросила:
— В четыре часа, во время благословения?
— Да, в четыре.
Она сидела перед ним в своем простом черном платье, скромная и царственно величавая, и пристально смотрела на него. В ее светлых глазах отражалась мужественная решимость и глубокая печаль, — этот взгляд до глубины души потряс Гильома. Его руки задрожали, он спросил:
— Матушка, разрешите вас поцеловать?
— От всей души, сын мой. Хотя у нас с вами и разные задачи, вы знаете, как я вас уважаю и люблю.
Они поцеловались, и когда к ним подошел помертвевший от ужаса Пьер, Бабушка уже спокойно шила, а Гильом, как всегда, энергично расхаживая по комнате, наводил порядок на полках своей лаборатории.
Обычно завтрак подавали в полдень, но на этот раз немного задержались, так как поджидали Том а . Франсуа и Антуан уже давно пришли; они делали вид, что сердятся, и шутливо уверяли, что умирают с голода. Мария приготовила крем и кричала, что они все съедят и опоздавшим ничего не достанется. И когда появился Том а , его встретили дружным криком.
— Я не виноват, — заявил он. — Я сглупил и пошел по улице Барр; вы и представить себе не можете, в какую же я угодил толпу. Там, наверное, расположилось тысяч десять паломников. Мне сказали, что туда отправили столько же, сколько поместилось в убежище Святого Иосифа. Остальным пришлось ночевать на улице. И сейчас они завтракают, кто на пустыре, а кто и на тротуаре. На каждом шагу рискуешь кого-нибудь раздавить.
Завтрак прошел очень весело. Пьеру показалось это веселье чрезмерным и даже наигранным. Впрочем, сыновья не должны были подозревать, что в этот солнечный июньский день над городом витает ужасная, невидимая угроза. Но когда наступало молчание между двумя взрывами смеха, на минуту все омрачались, любящие сердца смутно предчувствовали надвигающуюся беду. Гильом добродушно улыбался, быть может, не так весело, как всегда, но говорил все таким же ласковым голосом. Зато Бабушка никогда еще не была такой молчаливой и серьезной в этом жизнерадостном кругу, где все ее слушались и уважали, где она царила, как королева-мать. Крем, приготовленный Марией, имел шумный успех; ее так захвалили, что она даже покраснела. И вдруг снова над столом нависла гнетущая тишина; в воздухе словно пронеслось веяние смерти, все побледнели, доедая сладкое блюдо.
— Ах, этот колокол! — воскликнул Франсуа. — Как он назойлив! Прямо голова трещит, того и гляди, лопнет!
Звонил Савояр, заливая Париж тяжелыми волнами густых звуков. Все слушали.
— И так будут звонить до четырех часов? — спросила Мария.
— Да, а в четыре, во время благословения, еще почище будет, — отозвался Том а . — Торжествующий, радостный перезвон!
— Да, да, — подхватил с улыбкой Гильом, — и тем, кто хочет сохранить барабанные перепонки, не мешало бы закрыть окна. И вот что печально — весь Париж, до самого Пантеона, хочет не хочет, должен его слушать, — так мне сказали.
Бабушка по-прежнему бесстрастно молчала. Больше всего во всей этой церемонии Антуана раздражали грубо намалеванные образки, которые жадно расхватывали паломники, — лубочные Христы с разверстой грудью и кровоточащим сердцем. Трудно вообразить что-нибудь более отталкивающее — такой отвратительный натурализм, такое грубое и низменное представление об искусстве. Из-за стола поднялись, разговаривая во весь голос, оглушительно рокотал колокол.
Все вернулись к своим занятиям. Бабушка снова села за вечное шитье, сидя рядом с ней, вышивала Мария. Сыновья занялись каждый своим делом; по временам они поднимали голову и перекидывались словами. До половины третьего Гильом тоже чем-то занимался с весьма сосредоточенным видом. Пьер растерянно бродил по комнате, он был потрясен и совершенно разбит, все окружающее казалось ему кошмаром, в самых невинных словах он усматривал зловещий смысл. За завтраком, желая скрыть, как тяжело действует на него всеобщее веселье, он сказал, что не совсем здоров; теперь он напряженно ждал, глядел и слушал; волнение его все возрастало.
За несколько минут до трех Гильом, взглянув на часы, спокойно взялся за шляпу.
— Ну, что ж, я ухожу.
Сыновья, Бабушка и Мария подняли голову.
— Я ухожу… До свидания.
Между тем он медлил уходить. Пьер чувствовал, что брат переживает жестокую душевную борьбу, стараясь не выдать себя ни дрожью, ни бледностью. О, как же он должен страдать, ведь он даже не может поцеловать в последний раз взрослых сыновей, опасаясь, как бы они не заподозрили, что он идет на смерть. Героическим усилием воли он поборол себя.
— До свидания, дети.
— До свидания, отец… Ты вернешься не очень поздно?
— Да, да… Не беспокойтесь обо мне, работайте себе на здоровье.
Бабушка в величавом молчании не спускала с него глаз. Он поцеловал ее. На миг глаза их встретились; этот взгляд выразил его волю, ее обещания, их общую мечту об истине и справедливости.
— Слушайте, Гильом, не можете ли вы, — весело крикнула ему Мария, — проходя по улице Мартир, исполнить мое поручение?
— Ну конечно.
— Зайдите к моей портнихе и скажите ей, что я приду примерять платье только завтра утром.
Речь шла о венчальном платье из легкого серого шелка, над роскошью которого она подшучивала. Когда она о нем упоминала, все смеялись и она первая.
— Хорошо, дорогая, — сказал Гильом и тоже улыбнулся. — Бальное платье Сандрильоны из парчи, отделанное тончайшим кружевом; она поедет в нем ко двору, будет там сиять красотой и счастьем.
Но вдруг смех умолк, и снова в наступившей тишине пронеслось как бы дыхание смерти, как бы веяние могучих крыльев, всех пронзил ледяной холод, и у всех невольно замерло сердце.
— Ну, — проговорил он, на этот раз уже всерьез. — До свидания, дети.
И он ушел, даже не обернувшись. Слышно было, как скрипит гравий под его твердыми шагами; вскоре они замолкли.
Воспользовавшись каким-то предлогом, Пьер минуты через две последовал за Гильомом. Ему легко было идти за братом, потому что он знал, куда тот направляется; он чувствовал, был вполне уверен, что найдет Гильома у входа в подземелья собора, откуда тот вышел накануне. Пьер не пытался отыскать брата в толпе направлявшихся к церкви паломников. Он поспешил к мастерской Жагана. Придя туда, он, как и ожидал, увидел Гильома, скользнувшего за ограду. Ныряя в толпе верующих, он мог незаметно для брата пробраться за ним до самых дверей. На минуту он остановился, переводя дыхание, сердце у него отчаянно колотилось.
Он стоял на небольшой узкой площадке, откуда крутая лестница уходила во мрак подземелья. Пьер начал спускаться в темноту, осторожно переставляя ноги, чтобы не шуметь. Придерживаясь рукой за стенку, он медленно продвигался, как бы погружаясь в колодец. Спуск оказался не очень долгим. Коснувшись ногой твердой почвы, Пьер остановился, он не решался двигаться дальше, опасаясь выдать себя. Вокруг было черным-черно. Гнетущая тишина, ни звука, ни шороха. Куда идти дальше? В какую сторону? Он стоял в нерешительности; но вот шагах в двадцати от него вспыхнул свет — загорелась спичка. Это был Гильом, он зажег свечу. Пьер сразу узнал его по широким плечам, и ему оставалось только следовать за огоньком по сводчатому подземному коридору, облицованному плитами. Он казался бесконечным и, по-видимому, вел в северном направлении, проходя под центром собора.
Неожиданно огонек остановился. Продолжая осторожно двигаться вперед, Пьер остановился в тени и огляделся. Он увидел, как Гильом, стоявший посреди круглой площадки под низкими сводами, поставил свечу на землю, затем опустился на колени и сдвинул тяжелую продолговатую плиту, прикрывавшую какое-то углубление. Они находились среди устоев здания, перед ними был один из столбов, которые получились, когда залили бетоном колодцы. У самого столба в земле виднелась глубокая трещина, то ли уже раньше бывшая в почве, то ли образовавшаяся в результате смещения пластов земли. Вокруг, в темноте, можно было разглядеть другие столбы, между которыми змеилась трещина, разветвляясь в разные стороны. Видя, что брат склонился над трещиной совсем как минер, в последний раз проверяющий мину, прежде чем поджечь фитиль, Пьер вдруг догадался, какая готовится грандиозная катастрофа; выбирая время, Гильом тайком приходил сюда раз двадцать и принес огромное количество взрывчатого вещества, оно заполнило все трещины, глубоко проникнув в почву, так что получилась своего рода мина неимоверной мощности. В отверстии, которое раньше прикрывала плита, виден был порошок. Стоит бросить туда зажженную спичку, и все взлетит на воздух.
Ледяной ужас приковал Пьера к месту. Он не мог ни крикнуть, ни шевельнуться. На мгновенье перед ним встала огромная толпа паломников, столпившихся в просторных приделах собора, в ожидании благословения святых даров. Савояр оглушительно трезвонил, благоухал фимиам, и десять тысяч голосов сливались в торжественном и радостном песнопении. И вот раздастся грохот, затрясется земля, и все исчезнет в дыму и огне, — огромный храм со всеми молящимися. Разрушив столбы, взрыхлив мягкую почву, мощный взрыв расколет здание пополам, обломки полетят на склоны вставшего над Парижем холма до самой Рыночной площади; другая половина здания, а именно главная абсида, рухнет на месте. Какая чудовищная лавина — исковерканный лес столбов, град гигантских обломков, взлетающих вверх в тучах пыли и падающих на крыши домов нижних кварталов; от страшного толчка весь Монмартр может превратиться в исполинскую груду развалин.
 Гильом поднялся. Стоявшая на земле свеча горела ровным высоким пламенем, огромная тень Гильома как будто заполнила все подземелье. Маленький светильник казался в непроглядном мраке печальной неподвижной звездочкой. Гильом поднес к свече руку и взглянул на часы. Пять минут четвертого. Оставался еще целый час; верный принятому решению, он не спешил. Усевшись на камень, он стал спокойно и терпеливо ждать. Пламя свечи освещало его бледное лицо, высокий, похожий на башню лоб, обрамлявшие его седые волосы, энергичное лицо, все еще молодое и прекрасное, благодаря ярким глазам и усам, не тронутым сединой. Он сидел, глядя в пустоту, и лицо его было совершенно неподвижно. Какие мысли проносились у него в голове в эти решающие минуты! Кругом ни малейшего шороха; тяжелый, нависший мрак, нерушимое молчание и глубокий покой подземелья.
Гильом поднялся. Стоявшая на земле свеча горела ровным высоким пламенем, огромная тень Гильома как будто заполнила все подземелье. Маленький светильник казался в непроглядном мраке печальной неподвижной звездочкой. Гильом поднес к свече руку и взглянул на часы. Пять минут четвертого. Оставался еще целый час; верный принятому решению, он не спешил. Усевшись на камень, он стал спокойно и терпеливо ждать. Пламя свечи освещало его бледное лицо, высокий, похожий на башню лоб, обрамлявшие его седые волосы, энергичное лицо, все еще молодое и прекрасное, благодаря ярким глазам и усам, не тронутым сединой. Он сидел, глядя в пустоту, и лицо его было совершенно неподвижно. Какие мысли проносились у него в голове в эти решающие минуты! Кругом ни малейшего шороха; тяжелый, нависший мрак, нерушимое молчание и глубокий покой подземелья.
Но вот, сдерживая биение сердца, Пьер подошел к брату. Услыхав шаги, Гильом обернулся с угрожающим видом. Но он тут же узнал брата и даже не выказал удивления.
— А! Это ты, ты шел за мной следом… Я так и думал, что ты разгадал мою тайну. Очень печально, что ты злоупотребил этим, вздумав прийти сюда… Ты должен был бы избавить меня от этих тяжелых переживаний перед концом!
Пьер умоляюще сложил дрожащие руки.
— Брат, брат…
— Нет, подожди. Если ты уж так хочешь, я потом выслушаю тебя. Времени у нас почти час, успеем еще поговорить… Но я хочу, чтобы ты понял, что убеждать меня бесполезно. У меня все давно продумано и решено, и я буду действовать, как мне подсказывают разум и совесть.
И он спокойно рассказал, как, решившись на это великое деяние, он долго размышлял, какой памятник ему взорвать. Одно время его соблазняло здание Оперы; потом он подумал, что незачем обрушивать ураган гнева и мщения на мирок прожигателей жизни, — это не имело бы глубокого смысла и можно было бы заподозрить с его стороны низменную зависть. Потом он подумал о Бирже: он смел бы с лица земли кучку денежных тузов, растлевающих общество капиталистов, под игом которых задыхается пролетариат; но не было ли и это слишком ограниченным, слишком суженным полем действия? Здание суда, и в особенности зал, где заседают присяжные, тоже привлекали внимание Гильома. Какой соблазн совершить правосудие над человеческим правосудием: уничтожить и преступника, и свидетелей, и обвиняющего его генерального прокурора, и защищающего его адвоката, и судей, которые его судят, и толпу зевак, сбежавшихся как за очередным выпуском романа-фельетона. Разве это не жестокая ирония — свершение верховного правосудия разверзшимся вулканом, который поглотит все и всех без разбора! Но больше всего ему хотелось взорвать Триумфальную арку, — как долго лелеял он эту мечту! Отвратительный памятник, увековечивающий войну, вражду народов, мнимую славу великих завоевателей, так дорого оплаченную человеческой кровью. Следовало уничтожить эту громадину, воздвигнутую в честь бесполезных, ужасных боен, унесших столько жизней! И если бы удалось его разрушить, он с радостью погиб бы один, как герой, под грудой развалин, не погубив больше ни единой души. Какая гробница! Он оставил бы по себе вечную память.
— Но Триумфальная арка оказалась недоступной, — продолжал он, — ни подвала, ни подземелья, я должен был отказаться от этого проекта. И, наконец, мне, конечно, хочется умереть одному. Но какой это был бы ужасный и вместе с тем возвышенный урок, если бы безвинно погибло множество людей, тысячи безвестных прохожих! Наше общество постоянно творит несправедливости, обрекает людей на нищету; бюрократическая машина безжалостно давит своими колесами тысячи безвинных, — вот и мне захотелось вызвать страшный взрыв, который сокрушил бы все крутом, как гром, поразил бы сотни случайно проходящих мимо людей. Это все равно что растоптать ногами муравейник.
— О брат, брат, и ты говоришь это! — воскликнул возмущенный Пьер.
Гильом продолжал.
— В конце концов я остановился на соборе Сердца Иисусова, благо он под рукой и его легко взорвать. Кроме того, он возмущает меня, приводит в отчаяние, и мысленно я давно обрек его на уничтожение. Я уже говорил тебе, что нет ничего нелепей, чем Париж, наш великий Париж, увенчанный этим храмом, который горделиво высится над ним, выстроенный во славу абсурда. Разве можно стерпеть, после долгих веков культурного развития, такую пощечину здравому смыслу, это наглое торжество на огромной высоте, среди белого дня?! Они хотят, чтобы Париж нес покаяние, расплачивался за то, что стал городом свободы, истины и справедливости. Ну, нет! Он сметет все, что его оскорбляет, что стоит на его пути к полному освобождению… Пусть рухнет этот храм вместе с его богом лжи и рабства! И пусть под развалинами его будут погребены все верующие, — пусть совершится катастрофа, подобная древним геологическим переворотам, она отзовется в сердце человечества, обновит и возродит его!
— Брат, брат, — повторял вне себя Пьер. — Неужели это говоришь ты? Ты — выдающийся ученый, ты — великое сердце! Какой вихрь бушует в твоей душе, какое безумие подсказывает тебе эти чудовищные слова? Разве ты не помнишь, как мы с тобой однажды вечером, в приливе нежности, поверяли друг другу свои тайны, ты сказал мне, что мечтаешь о некоей идеальной анархии? Ты создал себе возвышенное представление о прекрасном мире свободы и гармонии, где естественные законы жизни сами собой приведут человечество к счастью. Ты же всегда был противником грабежа и убийства; ты только объяснял и оправдывал их… Что же такое произошло, что ты из ученого и мыслителя превратился в беспощадного карателя?
— Сальва гильотинировали, — спокойно отвечал Гильом, — и его последний взгляд был завещанием. Я только исполнитель… Что произошло? Да то, от чего я страдаю и о чем кричу уже четыре месяца; нас окружает мерзость, которой необходимо положить конец!
Наступила тишина. Братья молча стояли в тени, глядя друг на друга. И внезапно Пьер все понял, увидел, что Гильом резко изменился, поддавшись революционной заразе, охватившей Париж. Причиной столь резкой перемены была двойственность его натуры: с одной стороны, ученый, с головой ушедший в наблюдения и опыты, вдумчиво и осторожно изучающий явления природы, с другой стороны — романтик, преобразователь общества, страстно мечтающий о равенстве и справедливости, братстве, человек с любвеобильным сердцем, жаждущий всеобщего счастья. Так родился на свет сначала анархист-теоретик, помесь ученого и утописта, который мечтал пересоздать общество, подчинив его закону мировой гармонии, чтобы все были свободны и жили в вольном содружестве, движимые лишь взаимной любовью. Теофиль Морен, Прудон, Конт, Баш, Сен-Симон, Фурье не удовлетворяли его, так как он стремился к абсолютной свободе; их системы казались ему несовершенными, хаотичными, исключали одна другую и были бессильны искоренить царящую в мире нищету. Только Янсен порой удовлетворял Гильома, в своих лаконичных высказываниях он заходил дальше всех, его слова разили, как убийственные стрелы, он мечтал насильственно объединить все человечество в огромную семью. И вот в этом благородном сердце, которое терзала мысль о нищете и ожесточали незаслуженные страдания малых сих, трагический конец Сальва вызвал бурный протест. Несколько недель после этой расправы у Гильома лихорадочно дрожали руки и мучительно перехватывало дыхание; грохот бомбы, брошенной Сальва, все еще отдавался у него в мозгу; продажные газеты беспощадно травили беднягу, как бешеное животное; полицейские преследовали его, гнались за ним по пятам в Булонском лесу, и, наконец, весь в грязи, обессилев от голода, он попал к ним в лапы; а там присяжные заседатели, судьи, жандармы, свидетели — вся Франция ополчилась на одного человека, который должен был расплачиваться за грехи всего народа; и чудовищная, отвратительная гильотина непоправимо и несправедливо оборвала его жизнь во имя верховной справедливости. Единственная идея овладела Гильомом — идея справедливости, доводившая его до исступления; для этого мыслителя больше ничего не существовало, он пламенно мечтал о великом акте справедливости, в результате которого зло будет уничтожено и навеки воцарится добро. Сальва бросил на него взгляд перед смертью — и вот он уже заражен, он горит безумным желанием умереть, пожертвовать собой до последней капли крови, готов пролить потоки крови других, лишь бы человечество в ужасе и страхе начало осуществлять свою мечту о золотом веке.
Пьеру было ясно, что брат во власти безумного ослепления, и он был вне себя при мысли, что ему не удастся его разубедить.
— Брат, ты совсем обезумел! Они свели тебя с ума, брат! Проносится вихрь насилия; с самого начала с террористами нелепо и беспощадно расправились, и вот они мстят; естественно, кровопролития будут продолжаться… Послушай меня, брат, прогони этот кошмар. Неужели ты станешь подражать Сальва, который стал убийцей, или Бергасу, который стал грабителем. Вспомни, как они опустошили особняк де Гарт, вспомни несчастную девушку, такую хорошенькую, белокурую, которая лежала на улице с разорванным животом… Ты же не с ними, брат! Ты не можешь быть с ними, — умоляю тебя, опомнись.
Гильом жестом оборвал его бесполезные доводы. Перед лицом смерти, которой он уже глядел в глаза, какое имеет значение, если и другие существа вернутся вместе с ним в океан вечного бытия? Наступление новой эры всегда сопровождается переворотом, который уносит миллионы жизней.
— Но ведь перед тобой великая задача! — воскликнул Пьер, пытаясь образумить его напоминанием о долге. — Ты не имеешь права покончить с собой!
Он изо всех сил старался пробудить в брате гордость ученого. Упомянул о его тайне, в которую был посвящен, о мощном орудии, способном уничтожить целые армии, стереть в порошок города, которое он хотел подарить Франции, чтобы, одержав победу в ближайшей войне, она стала освободительницей народов мира. Неужели он изменит своей цели, исполненной редкого величия, пустив в ход это ужасное взрывчатое вещество, уничтожит тысячи ни в чем не повинных людей и храм, на восстановление которого не пожалеют миллионов и в котором станут чтить память новых мучеников.
Гильом усмехнулся:
— Но я не отказался от своей задачи, она только приняла новый облик… Разве я не говорил тебе о своих сомнениях и о мучительной душевной борьбе?! О! Знать, что в твоих руках судьба мира, — и дрожать, и колебаться, и спрашивать себя, достаточно ли у тебя благоразумия, сумеешь ли ты принять мудрое решение! Меня потрясли язвы нашего великого Парижа, ошибки, которые недавно произошли на наших глазах, и я задавал себе вопрос, достаточно ли наш народ ясен духом, достаточно ли чист, чтобы можно было сделать его всемогущим; ведь какая произошла бы катастрофа, если бы такое изобретение попало в руки народа, одержимого безумием, или в руки диктатора, завоевателя, который воспользовался бы им для терроризирования и порабощения остальных народов!.. Нет, нет, я не хочу войны, я хочу уничтожить ее в корне!
Спокойным тоном он изложил брату свой новый план, и Пьер с удивлением узнал идеи, которые ему уже развивал генерал де Бозонне, только как бы вывернутые наизнанку. Война постепенно изживает себя, достигнув своего апогея. В старину, когда были наемные войска, и впоследствии, при системе рекрутского набора, судьба стать воином выпадала лишь немногим, существовало сословие военных и страсть к военному делу. Но с тех пор, как все стали обязаны воевать, уже никто этого не хочет. Все народы вооружились, и это значит, что вскоре уже не будет существовать армий, такова логика вещей. Сколько времени еще будут народы находиться в состоянии вооруженного мира, задыхаясь под бременем все возрастающих военных бюджетов, выбрасывая миллиарды для поддержания своего престижа? И какую радость, какое облегчение испытают все, когда в один прекрасный день появится могучее орудие, уничтожающее целые армии, сметающее с лица земли города, — война станет невозможной, и произойдет всеобщее разоружение. Война, убившая столько людей, будет убита! Такова была его мечта, и он горел желаньем немедленно ее осуществить.
— Все улажено. Я умру, исчезну ради торжества моей идеи… Последние дни ты не раз видел, что я долгие часы беседовал с Бабушкой, запершись у нее в комнате. Мы привели в порядок все документы и обо всем условились. Я дал ей указания, и она свято их исполнит, хотя бы ценой жизни, потому что она самый достойный и мужественный человек на свете… Когда над Парижем прогремит взрыв, который погребет меня под грудами развалин и положит начало новой эре, Бабушка поспешит передать всем великим державам формулу взрывчатого вещества, чертежи бомбы и специального орудия — все папки, имеющиеся у нее на руках. Таким образом, я подарю всем народам мира ужасное оружие, которое раньше хотел поднести только Франции, — и все нации, обладая этим разрушительным средством, сложат оружие, так как дальнейшая война превратится в бессмысленное взаимное истребление.
Пьер слушал, остолбенев, и ему казалось, что его затянуло в какой-то гигантский механизм, он был раздавлен грандиозностью замысла, в котором было столько гениального и вместе с тем ребяческого.
— Но если ты подаришь свое изобретение всем народам, тогда зачем взрывать храм и самому гибнуть?
— Для того, чтобы мне поверили.
Гильом выкрикнул эти слова неистовым голосом.
— Необходимо, — продолжал он, — чтобы эта громада рухнула и я был погребен под нею. Если не будет произведен этот опыт, если все с ужасом не убедятся в разрушительной силе этого вещества, то меня назовут фантазером, мечтателем… Нужно много жертв, много крови, чтобы больше никогда не проливалась кровь!
И, сделав широкий жест, он продолжал развивать свою мысль:
— К тому же Сальва завещал мне совершить акт правосудия. И если я решил придать ему более широкое значение, дабы положить конец войне, я действовал как исследователь, как ученый. Быть может, не нужно было долго размышлять, а, не мудрствуя лукаво, сыграть роль вулкана, опустошающего все вокруг, и предоставить самой жизни обновить человечество.
Свеча догорала, и Гильом поднялся с камня, на котором до сих пор сидел. Он взглянул на часы: оставалось десять минут. От его бурных жестов трепетал огонек огарка. Казалось, темнота еще сгустилась в подземелье над этой миной, которая могла взорваться от малейшей искры.
— Ну, что же, час настал… Давай обнимемся, братец, и ступай. Ты знаешь, как я люблю тебя, какая нежность пробудилась к тебе в моем старом сердце. И ты тоже люби меня от всей души, возьми себя в руки и дай мне умереть за мое дело, как мне велит долг… Поцелуй меня, поцелуй меня и ступай, не оглядываясь.
От волнения у него дрожал голос. Он с трудом сдерживал рыдания, все же ему удалось себя побороть, — он был уже как бы вне жизни, отрешенный от всех человеческих чувств.
— Нет, брат, ты не убедил меня, — уже не сдерживая слез, проговорил Пьер. — Именно потому, что я тоже люблю тебя, люблю всем сердцем, я не уйду… Разве допустим еще новый взрыв? Ведь ты не какой-нибудь безумец, — или ты хочешь стать убийцей?
— А почему бы и нет? Разве я не свободен? Я порвал все житейские путы… Сыновья мои выросли и больше не нуждаются во мне. Меня держала только привязанность к Марии, но я отдал ее тебе.
Пьер тотчас же ухватился за этот предлог.
— Значит, ты потому и хочешь умереть, что отдал мне Марию. Признайся, ты все еще любишь ее?
— Нет! — крикнул Гильом. — Клянусь тебе, я больше ее не люблю! Я отдал ее тебе и разлюбил.
— Тебе только так казалось, но теперь ты убедился, что все еще любишь ее, — одно ее имя взволновало тебя куда сильнее, чем все ужасы, о которых мы только что говорили… И ты хочешь умереть потому, что потерял ее.
Смущенный Гильом, весь дрожа, заговорил как бы сам с собой низким, прерывающимся от волнения голосом.
— Нет, нет, было бы недостойно моей великой цели, если бы меня толкнула на это страшное деяние несчастная любовь… Нет, нет, я действую вполне свободно, не преследуя никаких личных интересов, только во имя справедливости и человеколюбия, против войны и нищеты! — И тут же с отчаянием крикнул: — Ах, как это плохо, брат! Как плохо с твоей стороны, ты отравил мне радость смерти! Я устроил ваше счастье и уходил из жизни, радуясь, что оставляю всех счастливыми, и вдруг ты все испортил… Нет, нет, я проверял себя, сердце мое уже не кровоточит; я люблю Марию не больше, чем тебя.
Но он все еще волновался, опасаясь, что обманывает самого себя. Постепенно им овладел мрачный гнев.
— Слушай, Пьер, довольно, время не терпит… В последний раз прошу тебя, уходи! Я тебе велю, я так хочу!
— Гильом, я не послушаюсь тебя… Я остаюсь, и по очень простой причине: если ты так безумен, что на тебя не действуют никакие доводы, что ж, поджигай фитиль — я умру с тобой!
— Ты умрешь? Нет, ты не имеешь на это права, ты не свободен.
— Свободен я или нет, клянусь тебе, я умру с тобой… И если остается бросить свечу в эту яму, скажи лишь слово, я возьму ее и брошу сам.
Пьер сделал движение рукой, и Гильом подумал, что он собирается привести в исполнение свою угрозу. Он схватил брата за руку.
— Зачем тебе умирать? Какая нелепость! Пускай гибнут другие. Но ты!.. Зачем еще эта жертва? Ты хочешь меня тронуть и переворачиваешь мне всю душу…
И вдруг, заподозрив обман, он крикнул в ярости:
— Ты хотел погасить свечу и вовсе не собирался ее бросать. Ты решил, что потом я уже не смогу… Ах, недостойный брат!
— Ну конечно, — в свою очередь, крикнул Пьер, — я непременно помешаю тебе совершить этот ужасный, бессмысленный поступок!
— Помешаешь…
— Да! Я брошусь на тебя, обхвачу тебя за плечи, буду крепко держать тебя за руки.
— Ты мне помешаешь? Несчастный, ты в этом уверен?
Задыхаясь, дрожа от гнева, Гильом крепко обхватил Пьера своими мускулистыми руками. Они стояли в тесном объятии, глядя друг другу в глаза, и дыхание их смешивалось; на стенах подземного каземата плясали их гигантские тени, словно какие-то страшные призраки. Фигуры их тонули в кромешном мраке, бледный огонек свечи казался во тьме маленькой желтой слезой. И вдруг нависшая над ними тишина глубокого подземелья дрогнула, и откуда-то издалека донеслись волны звуков, словно смерть звонила в невидимый колокол.
— Слышишь, — пробормотал Гильом, — это их колокол, там, наверху! Час настал, я поклялся это совершить, а ты вздумал мне мешать!
— Да, я буду тебе мешать, пока я здесь, пока я жив!
— Будешь мне мешать, пока жив!
Наверху радостно трезвонил Савояр, и перед глазами Гильома встал величавый, переполненный паломниками собор и в клубах фимиама сверкающая ослепительными огнями дарохранительница; сердце его разрывалось от слепой, бессильной ярости перед этим неожиданным препятствием, возникшим на пути к осуществлению его неотступной мысли.
— Пока ты жив, пока жив! — повторял он, вне себя. — Ну, что ж, умри, несчастный!
В его помутившихся глазах вспыхнул зловещий огонь. Он быстро нагнулся, схватил обеими руками валявшийся на земле кирпич и замахнулся.
— Что ж, — воскликнул Пьер, — я согласен! Убей меня, убей брата, прежде чем убить остальных.
Кирпич полетел. Но руки Гильома дрогнули, он задел только плечо Пьера, и тот упал в темноте на колени.
У Гильома все плыло перед глазами, и, видя, что брат упал на землю, он решил, что тот убит. Что же произошло между ними? Что он натворил? С минуту он стоял, раскрыв рот, с расширенными от ужаса глазами. Он взглянул на свои руки, ожидая увидеть на них кровь. Потом прижал их ко лбу; голова раскалывалась от боли, словно у него вырвали с кровью из мозга бредовую идею. Внезапно он рухнул на землю и разрыдался.
— О братец, братец, что я натворил! Я чудовище!
Пьер с жаром обнял его.
— Брат, клянусь тебе, ничего не случилось, решительно ничего!.. Наконец-то ты заплакал. О! Как я счастлив! Я чувствую, что ты спасен, если мог заплакать… Как хорошо, что ты разгневался на меня, — гнев сразу рассеял эти кошмарные мысли!
— Да! Я сам себе мерзок!.. Тебя убить, тебя! Гнусная тварь, кто убивает родного брата! А другие, все другие, что там, наверху!.. О, мне холодно! Мне смертельно холодно!
У Гильома стучали зубы, его сотрясал ледяной озноб. Казалось, он только что пробудился от сна и еще не пришел в себя; он все видел в новом свете; он покусился на жизнь брата, и это привело его в такой ужас, что он отрезвел; то, что до сих пор представлялось ему великим деянием, теперь стало казаться преступной глупостью, на которую его кто-то подстрекнул.
— Убить тебя! — прошептал он. — Никогда я себе этого не прощу! Жизнь моя кончена, я навсегда утратил волю к жизни.
Пьер еще сильнее сжал его в объятиях.
— Ну что ты говоришь? Разве мы не будем теперь связаны еще крепче взаимной любовью? Ах, брат, брат, я спасу тебя, как ты спас меня, и это нас еще теснее сблизит… Помнишь вечер в Нейи, когда ты, вот так же, как я сейчас, утешая меня, прижимал к своей груди? Я поведал тебе о своих терзаниях, о пустоте и сомнениях. И ты твердил мне, что я должен жить, должен любить… А потом, брат, ты сделал еще больше — ты вырвал из сердца свою любовь и подарил мне самое дорогое. Ценой собственного счастья ты сделал меня счастливым, ты спас меня, внушив мне перу… И какое счастье, что я, в сбою очередь, могу тебя спасти, успокоить, вернуть к жизни.
— Нет, мне уже не смыть пятно твоей крови. Мне уже не на что надеяться.
— Да, да! Надейся и верь в жизнь, как ты мне внушал, верь в любовь, верь в труд!
И, крепко сжав друг друга в объятиях, обливаясь слезами, братья продолжали тихо беседовать. Свеча, незаметно догорев, погасла. В непроглядной тьме и глубоком торжественном молчании текли слезы возродившейся нежности. Один плакал, радуясь, что отплатил брату добром за добро; другой, этот человек высокого ума, с детски чистым сердцем, — рыдал, осознав, что едва не совершил ужасное преступление, поддавшись навязчивой идее, в жажде справедливости и всеобщего блага. Но еще другое вызывало эти слезы, омывшие, очистившие их душу, — то был протест против человеческих страданий, страстное желание их облегчить.
Потом Пьер сдвинул ногой на место плиту, прикрывавшую отверстие, и, нащупывая в темноте дорогу, увел, как ребенка, Гильома из подземелья.
В просторной мастерской Бабушка с бесстрастным видом сидела у окна, не выпуская из рук шитья. В ожидании четырех часов она время от времени смотрела на висевшие слева от нее стенные часы и тут же переводила взгляд на собор, недостроенная громада которого была еще закрыта лесами. Молчаливая, бледная, полная героического спокойствия, Бабушка медленно шила, делая крупные, ровные стежки. Уже раз двадцать сидевшая против нее с вышиванием Мария нетерпеливо обрывала нитку, она почему-то нервничала, находилась в тяжелом душевном состоянии, во власти какой-то беспричинной, как она говорила, тревоги, от которой у нее замирало сердце. Особенно юношам не сиделось на месте, они испытывали лихорадочное волнение. Но все же они принялись за работу: Том а стал что-то выпиливать у токарного станка, Франсуа и Антуан сели за стол, один начал решать какую-то задачу, другой — рисовать лежавшую перед ним охапку маков; но напрасно старались все трое сосредоточиться. При малейшем шорохе они вздрагивали, поднимали голову, вопросительно глядя друг на друга. В чем же дело? Чего они так опасались? Почему так трепетали в этот яркий солнечный день? Временами один из них вставал немного поразмяться и снова садился. Все молчали, не решаясь заговорить, и безмолвие становилось все более жутким и гнетущим.
За несколько минут до четырех Бабушка как будто почувствовала усталость или же о чем-то стала напряженно думать. Она снова взглянула на часы, опустила на колени работу и перевела взгляд на собор. С этого мгновения она могла только ждать, не спуская глаз с гигантских, закрытых лесами стен, гордо возносившихся в синеву неба. И вдруг, несмотря на свою твердость и мужество, она вздрогнула при звуках ликующего звона. Совершалось благословение; десятитысячная толпа паломников теснилась в храме; вот-вот должно было пробить четыре часа. Повинуясь какому-то тайному импульсу, она встала и замерла на месте, стиснув руки, глядя на собор, вся содрогаясь в томительном ожидании.
— Бабушка! Что с вами? — воскликнул Том а . — Вы вся дрожите!
Франсуа и Антуан вскочили и также подбежали к ней.
— Вам плохо? Почему вы так побледнели, ведь вы никогда ничего не боитесь?
Она не отвечала. О, если бы земля разверзлась от взрыва и пламенеющий кратер вулкана поглотил их маленький домик! Умереть бы им всем — и юношам, и ей самой вместе с Гильомом, — тогда некому будет его оплакивать! И она ждала, напряженно ждала, вся трепеща и устремив на собор свои ясные смелые глаза.
— Бабушка, Бабушка! — растерянно проговорила Мария, — вы нас пугаете; почему вы не отвечаете нам и смотрите куда-то вдаль, как будто вот-вот должно произойти какое-то несчастье!
Внезапно Том а и Антуан воскликнули в один голос в смертельной тревоге:
— Отец в опасности, отец погибает!
Что они могли знать? Ничего определенного. Правда, Том а поражало, что отец изготовляет в таком количестве взрывчатое вещество, а Франсуа и Антуану были известны революционные идеи ученого и его пламенная любовь к человечеству. Но почтительные сыновья никогда ни о чем его не спрашивали, довольствуясь тем, что он им поверял, восхищаясь всеми его поступками. И вот их осенило предчувствие, почти уверенность, что отец умрет, погибнет в какой-то ужасной катастрофе; с самого утра они чувствовали, что она надвигается, и дрожали как в лихорадке, разбитые, не в силах работать.
— Отец погибнет, отец погибнет!
Стоя плечом к плечу, трое гигантов переживали жестокую тревогу, им страстно хотелось узнать, что грозит отцу, ринуться ему на помощь, умереть вместе с ним, если нет возможности его спасти. В упорном молчании Бабушки было что-то зловещее, и вновь повеяло ледяным дыханием смерти, которое они почувствовали уже во время завтрака.
Пробило четыре, Бабушка молитвенно воздела бледные руки. Наконец она заговорила:
— Отец умрет. Ничто не может его спасти, — только сознание долга перед жизнью.
Юношам захотелось ринуться куда-то вперед, сокрушить все препятствия, победить смерть. Их терзало сознание своего бессилия, они казались такими жалкими и несчастными, что Бабушка попыталась их успокоить.
— Отец решил умереть и захотел умереть один.
Братья вздрогнули, но попытались овладеть собой, они тоже хотели быть героями. Между тем минуты убегали за минутами и больше не чувствовалось холодного веяния крыльев смерти. Случается, в сумерках в раскрытое окно влетит ночная птица, вестник беды, и, покружившись по комнате, умчится в темноту, унося с собою печаль. Так было и в этот день: собор стоял на месте, земля не разверзлась и не поглотила его. И постепенно острая тоска, сжимавшая все сердца, уступила место надежде — так зима всегда уступает место весне.
И когда появился Гильом, в сопровождении Пьера, у всех вырвался ликующий возглас, словно они увидели его воскресшим.
— Отец!
Их поцелуи и слезы окончательно доконали Гильома. Он бессильно опустился на стул. Оглядевшись по сторонам, он быстро пришел в себя, но был в отчаянии, что его насильно заставили жить. Бабушка сознавала всю горечь его поражения, она подошла и с улыбкой взяла его за руки, показывая, как она счастлива его видеть, как радуется, что он вернулся к своим обязанностям, что признал своим долгом жить, а не бежать из жизни. Он жестоко страдал, потрясенный и сломленный. Никто не стал его расспрашивать. Сам он ничего не рассказал, но ласковым словом и жестом указал на Пьера, как на своего спасителя.
В уголке Мария бросилась на шею молодому человеку.
— Пьер, милый, я до сих пор еще вас не целовала. Целую в первый раз, — и есть за что!.. Я люблю вас, дорогой Пьер, люблю всем сердцем!
В тот же день вечером, когда стемнело, Гильом и Пьер остались на несколько минут одни в большой комнате, им хотелось поговорить по душам. Сыновья куда-то вышли. Бабушка и Мария наверху разбирали белье, а г-жа Матис, принесшая выполненный заказ, сидела в темном углу и терпеливо ожидала, пока хозяйки принесут узел с бельем, отобранный для починки. Братья беседовали вполголоса в этот грустный, задумчивый сумеречный час и совершенно о ней позабыли.
Но вот их взбудоражил посетитель. То был Янсен, худощавый и белокурый, похожий на Христа. Он заходил очень редко, выплывая откуда-то из темноты, и снова исчезал в таинственном мраке. Он пропадал целыми месяцами, неожиданно появлялся, словно случайный прохожий с неизвестным прошлым, с неведомым настоящим.
— Сегодня вечером я уезжаю, — сказал он спокойным голосом, отчеканивая слова.
— Вы хотите вернуться домой, в Россию? — спросил Гильом.
Янсен пренебрежительно усмехнулся.
— О! Я всюду дома. Во-первых, я не русский, а во-вторых, я хочу быть только гражданином вселенной.
Он сделал широкий жест, подчеркивая, что у него нет родины; он разъезжал из страны в страну, поглощенный мечтой о некоем кровавом братстве. Из его слов братья как будто поняли, что он возвращается в Испанию, где его ожидают товарищи. Там дела было по горло. Он спокойно уселся и продолжал беседу; потом все тем же бесстрастным тоном, без всякого перехода добавил:
— Вы знаете, только что бросили бомбу в кафе «Юнивер» на бульваре? Убито трое буржуа.
Встревоженные Гильом и Пьер захотели узнать подробности. Тут он рассказал, что, проходя мимо кафе, услышал взрыв и увидел, как разлетелись вдребезги стекла. На полу лежало три изуродованных тела: двое убитых оказались случайными посетителями, третий был завсегдатай, из мелких рантье, забегавший каждый день сыграть свою партию. В зале царил настоящий хаос: разбитые мраморные столы, изувеченные люстры, продырявленные зеркала. А какое смятение, какой гнев, какая давка вокруг кафе! Бросившего бомбу быстро схватили, когда он, убегая, собирался свернуть за угол улицы Комартен.
— Я решил зайти и рассказать вам о взрыве, — заключил Янсен. — Вам не мешает об этом знать.
И когда Пьер, взволнованный, смутно подозревая имя, спросил, кто же этот арестованный, Янсен не спеша добавил:
— На беду, вы с ним знакомы… Это маленький Виктор Матис.
Пьеру захотелось заткнуть ему рот, но было поздно: вдруг он вспомнил, что в темном углу еще совсем недавно сидела мать Виктора. Неужели она еще здесь? Маленький Виктор, как живой, встал у него перед глазами: почти безбородый, с высоким упрямым лбом, серыми, светившимися умом глазами, острым носом и тонкими, плотно сжатыми губами, говорившими о непреклонной воле и беспощадной ненависти. Это был не какой-нибудь простачок, какой-нибудь обездоленный. Это был типичный представитель буржуазной интеллигенции, хорошо воспитанный, образованный, собиравшийся поступить в Нормальную школу. Этот чудовищный поступок ничем нельзя было оправдать: ни ненавистью к представителям враждебной партии, ни безрассудной любовью к человечеству, ни черным отчаянием бедняка. То был принципиальный разрушитель, теоретик разрушения, энергичный и хладнокровный интеллигент, который логически обосновал убийство и считал, что оно должно содействовать общественному развитию. К тому же он был поэт, фантазер, и самая ужасная разновидность фантазера, человек, одержимый чудовищным честолюбием, хотевший обессмертить себя этим злодеянием, мечтавший о грядущем возрождении, заря которого должна была воссиять над гильотиной. После него ничего не останется — смерть скосит все живое.
Несколько минут в сгущавшихся сумерках царило молчание, — все оледенели от ужаса.
— Ах, — чуть слышно пробормотал Гильом. — Он все-таки решился.
Но Пьер тут же с нежностью пожал ему руку. Он почувствовал, что Гильом тоже возмущен злодейством, против которого протестует его великодушное сердце, исполненное любви к людям. Быть может, этому страшному преступлению суждено было, опустошив его душу, окончательно ее исцелить.
Несомненно, Янсен был соучастником; он заявил, что Виктор Матис отомстил за Сальва, как вдруг в темном углу раздался болезненный стон и что-то тяжело рухнуло на пол. Это была г-жа Матис, мать Виктора, которую сразила случайно услышанная новость. В это время вошла Бабушка с лампой. Комната осветилась, все всполошились и бросились на помощь несчастной женщине, которая лежала в своем убогом черном платье, бледная как смерть.
И снова у Пьера мучительно сжалось сердце. Какая горькая, печальная судьба! Он вспомнил, какая она была, когда он встретился с ней у аббата Роза: скромная, стыдившаяся своей бедности, она с трудом жила на жалкую ренту, оставшуюся у нее после всех несчастий. Богатая провинциальная семья, пылкий роман и бегство с любимым человеком; потом — целый ряд злоключений, семейные неурядицы, смерть мужа. Овдовев, она жила весьма замкнуто, ей удалось дать образование сыну на жалкие гроши, которых она потом лишилась; и она жила только Виктором, любовью к нему, верой в него, воображая, что он усиленно занимается, весь ушел в работу и вскоре займет блестящее положение, достойное его дарований. И вдруг она узнает, что сын совершил отвратительное злодеяние: бросил бомбу в кафе и стал убийцей трех человек.
Когда Бабушке наконец удалось привести в чувство г-жу Матис, та разразилась рыданиями; долго не смолкали ее душераздирающие вопли, это было так ужасно, что Пьер и Гильом снова схватились за руки, взволнованные и исцеленные, — и души их слились в горячем порыве.
V
Спустя год и три месяца солнечным сентябрьским днем Баш и Теофиль Морен завтракали в мастерской Гильома; за окнами простирался необъятный Париж.
Возле стола стояла колыбель с задвинутыми занавесочками, в которой спал Жан, толстый, четырехмесячный сынишка Марии и Пьера. Они вступили в гражданский брак лишь для того, чтобы обеспечить ребенку положение в обществе; впрочем, если бы монмартрский мэр не согласился зарегистрировать брак бывшего священника, они обошлись бы без регистрации. Чтобы сделать удовольствие Гильому, желавшему собрать вокруг себя все семейство, они поселились в маленькой комнатке над мастерской, оставив вечно безмолвный, как бы уснувший домик в Нейи на попечение старой служанки Софи. Они жили вместе уже больше года, и все шло прекрасно.
Вокруг юной четы царили покой, любовь и труд. Франсуа, только что окончив Нормальную школу и получив соответствующие диплом и степень, собирался поступить в один из лицеев западного квартала для снискания ученой степени, чтобы в дальнейшем, оставив этот лицей, всецело отдаться науке. Антуан добился большого успеха, выставив серию прекрасных гравюр по дереву — виды и сцены из жизни Парижа; и весной должен был жениться на Лизе Жаган, как только ей исполнится семнадцать лет. Но особенно торжествовал Том а , которому наконец удалось сконструировать пресловутый маленький мотор, воспользовавшись гениальной мыслью отца. Однажды утром, после крушения своих грандиозных и фантастических замыслов, Гильом, думая об изобретенном им взрывчатом веществе, так и не нашедшем применения, решил употребить его в качестве горючего, вместо керосина, для моторчика, над которым уже давно работал его старший сын на заводе Грандидье. Он принялся за дело вместе с Том а , в творческом азарте проработал целый год, преодолевая невероятные трудности, и изобрел новый механизм. И вот созданный отцом и сыном чудесный мотор в завершенном виде стоит у, окна, привинченный к дубовому цоколю, остается закончить внешнюю отделку, и он будет пущен в ход.
В доме теперь царило безмятежное спокойствие, и Бабушка, несмотря на свой преклонный возраст, по-прежнему молча, энергично вела хозяйство и держала всех в повиновении. Она казалась вездесущей, хотя не покидала своего кресла перед рабочим столиком. Когда родился Жан, она решила его воспитать, как уже воспитала Том а , Франсуа и Антуана; мужественная и самоотверженная, она, казалось, была убеждена, что не умрет до тех пор, пока ее близким будут нужны ее руководство, любовь и помощь. Это очень радовало Марию, которая кормила ребенка и, несмотря на прекрасное здоровье, частенько уставала. Таким образом, у колыбели Жана оказались две бдительные матери, а Пьер, ставший подмастерьем Том а , раздувал мехи в кузнице и уже самостоятельно обрабатывал детали; он заканчивал свое обучение и скоро должен был стать механиком.
В этот день завтрак проходил оживленней, чем всегда, благодаря присутствию Баша и Теофиля Морена; подали кофе, когда прибежал сынишка консьержа с улицы Корто и спросил г-на Пьера Фромана. Запинаясь, он рассказал, что г-ну аббату Розу очень плохо, что он скоро умрет и послал его сказать г-ну Пьеру Фроману, чтобы тот сейчас же, сейчас же пришел.
Пьер поспешил за ним, очень встревоженный. На улице Корто в маленькой сырой квартирке на нижнем этаже, выходившей окнами в садик, лежал умирающий аббат Роз, он был еще в сознании и, как всегда, говорил мягко и неторопливо. За ним ухаживала монахиня, которая, казалось, была неприятно поражена и встревожена приходом незнакомого человека. Пьер понял, что за больным следят и старику удалось тайком послать за ним сынишку консьержа. Но когда аббат серьезным и ласковым голосом попросил сиделку оставить их одних, та не посмела отказать ему в последней просьбе и вышла из комнаты.
— Ах, мой мальчик, как мне хотелось поговорить с вами! Садитесь вот сюда, поближе, а то вам не расслышать, — близится конец, к вечеру меня не станет. У меня к вам огромная просьба!
Пьер с волнением глядел на его осунувшееся, белое, без кровинки, лицо, на котором сияли детски невинные глаза, полные любви.
— Если бы я знал, что нужен вам, — воскликнул он, — я уже давно бы пришел! Почему вы не послали за мной! Вас стерегут?
Смущенный аббат доверчиво и стыдливо улыбнулся.
— Должен сознаться, мой мальчик, я опять натворил глупостей. Да, я давал милостыню людям, которые, оказывается, совсем этого не заслуживали. Получилась скандальная история, меня бранили в архиепископате, обвиняли в том, что я компрометирую религию. И вот, когда я слег, ко мне прислали сиделку: они сказали, что если за мной не следить, то я отдам последнюю простыню и умру на соломе.
Он остановился, переводя дыхание.
— Вы понимаете, эта добрая сестра, — о, поистине святая женщина! — ухаживает за мной и следит, чтобы я напоследок не натворил каких-либо глупостей. Мне удалось обмануть ее бдительность при помощи маленькой хитрости, которую, надеюсь, господь мне простит. Все дело в моих бедняках, я так хотел видеть вас, чтобы поговорить о них.
У Пьера на глазах выступили слезы.
— Говорите, я с вами, всей душой, всем сердцем.
— Да, да, я это знаю, дорогой мой мальчик. Поэтому я и подумал о вас, только о вас. Несмотря на все происшедшее, я доверяю только вам, только вы один способны меня понять и дать мне обещание выполнить мою волю, тогда я умру спокойно.
Он позволил себе лишь вскользь намекнуть на их мучительный разрыв, встретившись с молодым человеком, который снял сутану и восстал против церкви. Узнав о женитьбе Пьера, он понял, что тот навсегда порвал с религией. Но перед лицом смерти это утратило для него всякое значение; он знал, какое горячее сердце у Пьера, ему нужен был человек, пылающий прекрасной страстью милосердия.
— Боже мой! — воскликнул он, улыбаясь через силу. — Все очень просто; я хочу сделать вас своим наследником. О! не ждите прекрасного подарка, я вручаю вам своих бедняков, ибо у меня нет ничего другого, оставляю вам своих бедняков.
Особенно беспокоили его трое; они должны были остаться без куска хлеба, так как получали пропитание только от него. Прежде всего — Долговязый Старик, тот самый, к которому как-то вечером заходил Пьер, собираясь устроить его в приют для инвалидов труда, и не застал дома. Позднее его все-таки устроили, но через три дня он сбежал, не желая подчиняться дисциплине. Это буян, сквернослов, у него отвратительный характер; и все же нельзя дать ему умереть голодной смертью. Он является каждую субботу за своими двадцатью су, которых ему хватает на всю неделю. Затем — немощная старуха, обитающая в жалкой конуре на улице Сен-Дени, за нее надо платить булочнику, всякое утро приносящему ей хлеб. А главное, на площади Тертр живет молодая женщина, которая не может работать, умирает от чахотки и с ужасом думает, что ее дочка после ее кончины окажется на мостовой; таким образом, здесь Пьеру выпадает двойная задача: поддержать мать до близкой смерти и затем устроить дочку в хорошие руки.
— Простите, мой мальчик, что я так затрудняю вас… Я попытался заинтересовать этим мирком добрую сестру, которая за мной ухаживает, но когда я рассказал ей о Долговязом Старике, она даже перекрестилась от ужаса. Точно так же и мой добрый друг аббат Тавернье, это благороднейший человек, и все же я не могу на него положиться, у него какие-то там свои идеи… Итак, дорогой мой мальчик, повторяю, я могу быть уверенным до конца только в вас, и вы должны принять мое наследство, если хотите, чтобы я умер спокойно.
Пьер плакал.
— О, конечно, с радостью! Ваша воля для меня священна.
— Прекрасно! Я так и знал, что вы согласитесь… Итак, решено: каждую субботу давать двадцать су Долговязому Старику, платить за хлеб для больной старухи, облегчить последние часы несчастной молодой матери и в свое время устроить девочку… Ах, если б вы знали, какая тяжесть спала у меня с сердца! Теперь смерть может приходить, она будет мне желанна.
Его добродушное круглое бледное лицо озарилось блаженной улыбкой. Он сжимал обеими руками руку Пьера, удерживал его у своей постели, с глубокой нежностью прощаясь с ним. Голос его совсем ослабел, и он почти шепотом договорил до конца свою затаенную мысль.
— Да, я рад, что ухожу… Я больше не могу, больше не могу. Сколько я ни давал, я всегда чувствовал, что этого недостаточно. Как бессильна благотворительность — вечно давать, не надеясь избавить людей от страданий!.. Это всегда приводило меня в отчаяние, помните? Я не раз вам говорил, мы с вами навеки связаны своей любовью к беднякам, и это правда, ведь вы со мной, вы так добры, так нежны со мной и с теми, кого я оставляю! И все же я больше не могу, больше не могу, лучше мне уйти, — потому что я слишком принимал к сердцу чужие страдания и натворил всяких глупостей, смутил верующих, вызвал негодование начальства, но мне так и не удалось вырвать хотя бы одного несчастного из потока нищеты, который все увеличивается… Прощайте, мой мальчик. Мое бедное, старое сердце надорвалось; мои старые руки устали и совсем обессилели.
Пьер от души поцеловал его и ушел весь в слезах, глубоко потрясенный. Никогда еще не случалось ему слышать такой отчаянной жалобы на беспомощность милосердия, какая вырвалась у этого старого простодушного ребенка, исполненного доброты. О, какая трагическая картина: человеческая доброта бесполезна, мир погряз в нищете и страданиях, несмотря на веками лившиеся слезы жалости и щедро раздаваемую милостыню! Как желанна была смерть христианину, как он радовался, что уходит из этого страшного мира!
Когда Пьер возвратился в мастерскую, со стола было уже давно убрано. Баш и Теофиль Морен беседовали с Гильомом, а трое сыновей вернулись к своим повседневным занятиям. Мария тоже заняла свое место за рабочим столиком против Бабушки; время от времени она вставала взглянуть на маленького Жана, который спокойно спал, прижав к сердцу ручонки. Все еще взволнованный, Пьер наклонился рядом с молодой женщиной над колыбелью, незаметно поцеловал ее в голову и, подвязав передник, стал помогать Том а регулировать мотор.
Тогда мастерская перестала существовать для него; он никого не видел и не слышал. Расстроенный до глубины души посещением умирающего аббата Роза, он ощущал лишь нежный аромат волос Марии на своих губах. Ему вспомнилось морозное утро, когда встретивший его у собора Сердца Иисусова старый священник поручил ему отнести милостыню старику Лавеву, который вскоре умер от голода, как собака в канаве. Какое грустное и далекое утро, какая мучительная борьба происходила тогда в его душе и какое потом наступило возрождение! В тот день он отслужил одну из своих последних месс и теперь с невольным содроганием вспоминал о владевшей им ужасающей тоске, о своем отчаянье, сомнениях и душевной пустоте. Это случилось после двух бесплодных попыток обрести веру: Лурд, где прославление абсурда доказало ему невозможность возврата к примитивным верованиям молодых народов, склоняющихся перед ужасом, в который повергает их неведение; и Рим, уже не способный к возрождению, умирающий среди развалин, великая тень, которая скоро будет предана забвению и канет в небытие, как религии древности. Само милосердие потерпело крах; он уже не верил в исцеление страждущего и одряхлевшего человечества посредством добрых дел и ждал, что ужасающая катастрофа, всемирный пожар, океан крови сокрушат и поглотят порочный, обреченный мир. Сутана тяжело давила ему на плечи, он горделиво укрылся за этой ложью, оставаясь неверующим священником, и целомудренно, честно охранял чужую веру. Он терзался в поисках новой религии, новой надежды, которые должны обеспечить мир демократиям будущего, и не находил разрешения этой проблемы, будучи не в силах совместить истины, установленные наукой, с горячей потребностью в вере, которую все еще испытывает человечество. И если христианская религия рушится вместе с крахом благотворительности, то остается справедливость, которой жаждут все; в огромном, затянутом пепельной дымкой Париже, овеянном жуткой тайной, происходит непрестанная борьба справедливости и милосердия, в которую втянуты его сердце и разум. Именно в Париже совершил он третью и решающую попытку, ему блеснула истина, ослепительная, как солнце, и он обрел здоровье, силу, радость жизни.
Тут размышления Пьера были прерваны, ему пришлось пойти за инструментом для Том а , и до него донеслись слова Баша:
— Сегодня утром кабинет подал в отставку. Виньон выбился из сил и решил отстраниться.
— Он продержался больше года, — заметил Морен. — И то уже хорошо.
Не прошло и трех недель после взрыва в кафе, как Виктор Матис был казнен, но в результате Монферран утратил доверие. Зачем, спрашивается, иметь главой правительства сильную личность, если по-прежнему взрываются бомбы, терроризируя население? А главное, он вызвал недовольство парламента, проявляя волчий аппетит, захватывая чужую долю. И на этот раз Виньон пришел к власти, несмотря на свою программу реформ, перед которой давно трепетали. Но при всей его честности ему удалось осуществить лишь самые незначительные реформы, он был связан по рукам и ногам и встречал бесчисленные препятствия; в конце концов он решил править подобно своим предшественникам, и вскоре все увидели, что Виньон и Монферран лишь в мелочах отличаются друг от друга.
— Вы знаете, уже снова поговаривают о Монферране, — сказал Гильом.
— Да, у него есть шансы. Его приверженцы действуют вовсю.
Потом Баш, ядовито насмехаясь над Межем, заявил, что депутат-коллективист, который наловчился свергать министерства, всякий раз остается в дураках, так как играет на руку той или иной группировке, а самому ему никогда не дорваться до власти.
— Ба! Пусть себе грызутся! — заключил Гильом. — В борьбе они преследуют личные цели, жаждут встать у кормила правления, захватить деньги и власть. Но все это не мешает эволюции, распространяются идеи и совершаются важные события. И все-таки человечество идет вперед.
Пьера поразили эти слова, и он снова погрузился в воспоминания. В мучительных поисках истины он окунулся в бездонную пучину Парижа. Париж — это гигантский бродильный чан, где бурлят жизненные соки человечества, все самое прекрасное и самое отвратительное, некая дьявольская смесь отбросов с драгоценными веществами, из которой должен получиться эликсир любви и вечной юности. В этом чане на поверхности — мутная накипь, представитель политического мирка Монферран, который задушил Барру, подкупая жадных до денег — Фонсега, Дютейля, Шенье, прибегая к помощи бездарностей — Табуро и Доверия, пользуясь всем, вплоть до сектантского фанатизма Межа и интеллектуального честолюбия Виньона. Далее орудовал всеотравляющий капитал — знаменитая афера с Африканскими железными дорогами, в результате которой восторжествовала крупная буржуазия в лице Дювильяра, развратителя нравов, разложившего парламент и подобно злокачественной язве разъедавшего финансовый мир. Но совершалось справедливое возмездие, и распространявший заразу Дювильяр заразил собственную семью: разыгралась отвратительная драма — мать соперничала с дочерью, и та похитила у нее Жерара, а сын Гиацинт уступил свою сумасбродную любовницу Роземонду модной кокотке Сильвиане, близость с которой афишировал его отец. Затем следовали бледные лица представителей старинной вырождающейся аристократии — г-жа де Кенсак и маркиз де Мориньи; генерал де Бозонне, воскрешающий давно отжившую военщину; порабощенная правительством магистратура, Амадье, делавший карьеру на громких процессах, Леман, составлявший обвинительные речи в кабинете министра, своего политического руководителя; наконец, пресса, алчная и лживая, питающаяся скандалами, непрерывный поток доносов и нечистот, изрыгаемый Санье, бесстыдный, беспринципный шутник Массо, по заказу и в силу своей профессии защищающий и ругающий все, что бы ему ни повелели. И подобно тому, как полчище муравьев, встретив на пути муравья со сломанной лапкой, приканчивает его и пожирает, эти хищники, сбежавшись, тесня друг друга, жадно набросились на поверженного в прах безумца, злополучного Сальва, совершившего бессмысленное преступление, как будто хотели разорвать на клочки его жалкое, истощенное тело и насытиться им. И вся эта острая невообразимая смесь вожделений, разнузданных страстей, бешеных порывов клокотала в колоссальном чане — Париже, откуда в свое время должно было хлынуть очистительным потоком вино будущего.
Лишь теперь Пьер осознал, какие могучие процессы происходят в недрах этого чана, полного отбросов и нечистот. Его брат сказал, что, несмотря на ярко проявляющиеся в политике пороки, эгоизм, жажду наслаждений, человечество медленно, но неуклонно движется вперед! Какое значение имеет насквозь прогнившая, обессиленная и отмирающая буржуазия, не более жизнеспособная, чем аристократия, на смену которой она пришла, если из низов непрестанно поднимаются, притекают из деревень и городов все новые силы — неисчерпаемые человеческие резервы. Какое значение имеют разврат, моральная испорченность богачей и сильных мира сего, изнеженность, разнузданность, интерес к сексуальным эксцессам, если доказано, что все великие столицы, властительницы вселенной, властвовали, лишь отдавая дань этим крайностям цивилизации, религии красоты и наслаждений! И какое значение, наконец, имеют неизбежная продажность, ошибки и глупости прессы, если та же самая пресса является великолепным орудием просвещения, неумолкающим голосом общественной совести, могучим потоком, который, хотя и загрязнен, все же стремится вперед, унося все народы в необъятный океан грядущего всемирного братства! Отбросы человечества падают на дно этого гигантского чана, и нельзя ожидать, что каждый день добро будет торжествовать над злом, ибо нередко должны пройти года, прежде чем осуществится хоть одна надежда, — медленно, неприметно совершается процесс брожения, происходят превращения извечной материи, в недрах которой зарождается обновленное будущее. И если рабочие до сих пор трудятся в зловонных цехах и наемный труд представляет собой разновидность древнего рабства, если Туссены по-прежнему умирают с голода на убогой подстилке, как разбитые клячи, все же был день, когда идеи свободы бурно вырвались из этого огромного чана и облетели весь мир. И разве нельзя допустить, что, в свою очередь, идея справедливости, таящей в себе немало противоречий, вырвется из недр чана и, освободившись от накипи, явится, ослепительно сияя, неся человечеству возрождение.
Но вот Баш и Морен, беседовавшие с Гильомом, повысили голоса и вывели Пьера из раздумья. Речь шла о Янсене, который, будучи замешан во вторичном покушении в Барселоне, бежал оттуда, без сомнения, в Париж, — Башу показалось, что он видел его накануне. Столь ясный разум, столь непреклонная воля, такие дарования расточаются во имя столь отвратительной идеи!
— И подумать только, — неторопливо заговорил Морен, — изгнанник Бартес живет в крохотной убогой комнатке в Брюсселе, трепетно ожидая, что вот-вот восторжествует свобода, а ведь этот человек ни разу не обагрил кровью свои руки и три четверти жизни просидел в тюрьмах, страдая за дело освобождения народов.
Баш слегка пожал плечами.
— Да, свобода, свобода. Но она ничто, если не будет надлежащего общественного устройства.
И завязался их вечный спор — один отстаивал идеи Сен-Симона и Фурье, другой — идеи Прудона и Огюста Конта. Смутная религиозность бывшего коммунара, в настоящее время муниципального советника, сказывалась в исканиях умиротворяющей религии; а бывший гарибальдиец, с виду усталый преподаватель, обладал строго научным мышлением и верил в математически доказуемый прогресс.
Баш долго рассказывал о недавно состоявшихся торжествах в честь Фурье: верные последователи возлагали венки, произносили речи, — трогательное собрание твердых в своей вере апостолов, убежденных в прекрасном будущем, провозвестников нового слова. Затем Морен стал извлекать из своих туго набитых карманов тощие брошюрки, пропагандирующие позитивизм, манифесты, листовки с вопросами и ответами, где превозносился Конт и доказывалось, что его доктрина — единственно возможная основа будущей религии. Слушая, Пьер вспоминал их долгие споры в его домике в Нейи, когда он, потеряв почву под ногами, в поисках достоверности, пытался подвести итог умственным достижениям века. Он окончательно запутался в противоречиях и непоследовательных высказываниях своих предшественников. Исходивший от Сен-Симона Фурье частично его отрицал; и если Фурье ударялся в своего рода мистический сенсуализм, то Сен-Симон приходил к ряду абсолютно неприемлемых радикальных требований. Прудон разрушал, не создавая ничего взамен. Конт, разработав методологию и возведя науку на должную высоту, объявил ее единственной властительницей, но он и не подозревал о социальном кризисе, грозящем смести все вокруг, и под конец стал вдохновенно воспевать любовь, преклоняясь перед женщинами. Оба эти мыслителя отчаянно боролись с Сен-Симоном и Фурье, и при всеобщем ослеплении завоеванные ими совместно истины оказались затемненными и до неузнаваемости исказились.
Но теперь, после пройденного им долгого пути, в результате которого он сам резко изменился, эти истины казались Пьеру ослепительно яркими и неопровержимыми. В евангелиях этих социальных мессий, в хаосе противоречивых утверждений встречались общие им всем мысли о защите бедняков, о новом, справедливом, распределении земных благ, соответственно качеству и количеству выполненного труда, а главное, поиски новых производственных законов, которые сделали бы возможным подобное распределение. Если все наши великие предшественники признают эти истины, то не являются ли они основой религии будущего, той веры, которую наш век завещает грядущему веку, в результате чего возникнет возвышенный культ мира, солидарности и любви!
Размышления Пьера внезапно приняли новый оборот; он снова увидел себя в церкви Мадлен, где монсеньер Март а произносил проповедь на тему о духе нового времени; в заключение епископ возвестил, что благодаря Сердцу Иисусову Париж вновь обретет подлинную веру и станет властелином мира. Нет, нет! Париж властвует лишь в силу своего свободного разума; это неправда, что им владеет мистическое безумие, что над ним царит крест и реет образ истекающего кровью сердца. Они хотят раздавить Париж этим горделивым монументом, символом своего владычества, пытаются во имя мертвого идеала затормозить прогресс наук и наложить руку на будущее столетне, но так или иначе наука сокрушит их вековое владычество, их собор рухнет под могучим ветром истины, его даже не понадобится тронуть пальцем. Великий опыт проделан; Евангелие Христа представляет собой одряхлевший кодекс социальных законов, из которого человеческая мудрость сохранит для будущего лишь несколько моральных истин. Древний католицизм повсеместно рушится; католический Рим представляет собой лишь груду развалин; народы отвернулись от него в поисках новой религии, которая не была бы религией смерти.
Некогда измученный раб жил надеждой сбросить вместе с жизнью свои оковы и обрести на небесах вечное блаженство. Но теперь, когда наука разрушила ложь о рае и о загробной жизни, современный рабочий, которому надоело ожидать блаженства после смерти, начал требовать справедливости и счастья на земле. Восемнадцать веков люди бесплодно творили дела милосердия, и вот наконец родилась новая надежда, справедливость. Через тысячу лет, когда католицизм станет лишь давно отжившим суеверием, как будут удивляться наши потомки, что мы так долго могли терпеть эту религию мучительства и отрицания жизни. Бог — палач, человек — оскопленное, запуганное, истерзанное существо; природа — враждебная сила, жизнь — проклятие; и только смерть — желанная освободительница! Целых два тысячелетия движение человечества вперед задерживалось из-за этого ужасного заблуждения — стремления отнять у человека все подлинно человеческое, желания, страсти, свободу мысли, воли и действия, — все его могущество. Какое радостное наступит пробуждение, когда девственность будет отвергнута, а плодородие станет добродетелью, когда будут ликовать освобожденные силы природы, и в союзе с ними удовлетворенные страсти, осуществленные желания, воодушевленный труд, любовь к жизни будут вечно зачинать бессмертные творения любви!
Новая религия! Новая религия! Пьер вспомнил, как этот возглас невольно вырвался у него в Лурде и как он повторил его в Риме, взирая на крушение старого католицизма. Но теперь он уже не испытывал лихорадочного стремления, болезненного ребяческого желания, чтобы новый бог явил себя немедленно, чтобы сразу создался некий целостный идеал, новые догматы и культ. Конечно, божество необходимо человеку, как хлеб насущный, как вода; человек всегда прибегал к нему, жадно стремясь к тайне, ища утешения в неведомом и словно желая в нем раствориться. Но кто знает, не утолит ли в один прекрасный день наука жажду постигнуть потустороннее? Ибо, если наука основана на уже завоеванных истинах, вместе с тем она непрерывно завоевывает и будет завоевывать все новые истины. Разве не будет она вечно стоять перед бездной непознанного, строя гипотезы, создавая себе идеалы? Далее, не является ли эта потребность в божественном — попросту желанием увидеть бога? И если наука все больше удовлетворяет жаждут познания и могущества, как знать, не утолит ли она ее когда-нибудь всецело, заменив любовью к истине? Научная религия — вот единственный, вполне определенный и неизбежный итог исканий человечества на долгом пути познания. И оно придет к этой религии, как к вратам в царство всеобщего мира, осуществленного после несчетных заблуждений и ужасных страданий. И не будет ли в этой религии преодолен дуализм, идея обособленного существования бога и вселенной, не обретет ли достоверность теория монизма, идея единства, ведущего к солидарности, единственному закону развития жизни, возникшей в результате эволюции из частицы эфира, сгустившегося, чтобы создать мир? Но если наши предшественники, философы, ученые — Фурье, Дарвин и другие, уже являлись сеятелями религии будущего, то, несомненно, пройдут века, пока доверенные ими ветрам прекрасные слова дадут обильные всходы. Постоянно забывают, что католицизм не сразу воцарился в ослепительной славе, но целых четыре столетия вел подпочвенное существование, упорно прорастая и формируясь с великим трудом. Пройдет несколько веков, и религия будущего, слабые ростки которой уже пробиваются повсюду, воцарится на земле, замечательные идеи какого-нибудь Фурье лягут в основу нового Евангелия, желание станет мощным рычагом, способным перевернуть мир, всеобщий труд, регулируемый по законам развития природы и общества, будет поднят на высоту, а энергия человеческих страстей получит наконец удовлетворение и будет использована для общего блага! Все требуют справедливости, все громче звучит вопль великого немого — испокон веков обманутого и ограбленного народа; он молит о счастье, к которому стремится все живое, об удовлетворении всех потребностей, о полноценной жизни в мире и радости, о развитии всех сил. Придет время, когда царство божие осуществится на земле, когда ложный рай будет навсегда отвергнут, даже если из-за гибели этой иллюзии и пострадают нищие духом, ибо надо мужественно и безжалостно совершить операцию, — вернуть зрение слепым, вырвать их из нищеты и беспросветного мрака неведения.
Вдруг Пьера захлестнула огромная радость. Слабый крик проснувшегося ребенка, его сынишки Жана, пробудил его к действительности; его осенила мысль, что в настоящий момент он спасен, рассеялись обманы и страхи и он вернулся к нормальной, здоровой жизни. Страшно даже подумать, что он считал себя погибшим, вычеркнутым из жизни, мучился от душевной пустоты, сознавал себя во власти бога-палача, — и вот его спасло чудо любви, он еще полон сил, хотя с ужасом считал себя отмеченным неизгладимой печатью бесплодия, — перед ним его ребенок, крепкий, смеющийся, рожденный им. Жизнь породила жизнь; восторжествовала истина, яркая, как солнце!
Третий опыт, проделанный в Париже, увенчался успехом, между тем как первые два, проделанные в Лурде и в Риме, потерпели крах, и в результате их он впал в еще горший мрак и отчаяние. Здесь он сперва познал закон труда, Пьер поставил перед собой весьма скромную задачу и хотя с опозданием, но освоил ремесло; он отныне будет жить трудами своих рук, с радостью сознавая, что он нашел свое место в жизни и выполняет свой долг, ибо сущность жизни — труд, и общество существует только благодаря объединенным усилиям людей. Затем он познал любовь, его спасли жена и ребенок. О, как долго он скитался, и в конце концов пришел к такой простой и естественной развязке! Сколько он перестрадал, сколько натворил ошибок, какие пережил бури — и наконец совершил то, что делают все люди! Глубокая потребность в любви, которую не мог подавить рассудок, душевная нежность, которую оскорбляла бессмыслица чудотворного Грота, которую ранила гордыня обветшалого Ватикана, в конце концов нашла удовлетворение в семейной жизни, он стал отцом и твердо верил в труд, считая его справедливым законом бытия. Так он пришел к несокрушимой истине, обрел счастье и уверенность в жизни.
Но вот Баш и Теофиль Морен. — эти спокойные апостолы, уверенные в светлом будущем, — поднялись, пожали, как всегда, на прощанье руку хозяину и, обещав снова зайти как-нибудь вечерком, удалились. Жан кричал все громче, Мария взяла его на руки и, расстегнув корсаж, дала ему грудь.
— О! этот малыш знает свой час, он своего не упустит!.. Посмотри, Пьер, мне кажется, он еще вырос со вчерашнего дня.
Она засмеялась, и Пьер, улыбаясь, подошел поцеловать ребенка. Он испытал прилив нежности при виде маленького розового и жадного существа, присосавшегося к прекрасной, полной молока материнской груди, и поцеловал мать. Ему пахнуло в лицо дивным ароматом счастливого материнства, и его охватила упоительная радость жизни.
— Но он же съест тебя! — весело сказал Пьер. — Смотри, как он сосет!
— Даже покусывает немножко. Но это очень мило, сразу видно, что питание ему на пользу.
В разговор вмешалась Бабушка, до сих пор сидевшая молча, с серьезным видом; лицо ее озарилось улыбкой.
— Сегодня утром я его взвешивала. Знаете, он прибавил еще сто граммов. И если бы вы знали, как он хорошо себя вел! Он будет очень умненьким, очень рассудительным человечком, как раз таким, каких я люблю. Когда ему минет пять лет, я сама буду учить его читать, а когда исполнится пятнадцать, я объясню ему, если он захочет, как должен себя вести настоящий мужчина. Верно я говорю? Что скажешь, Том а ? И ты, Антуан, и ты, Франсуа?
Все трое сыновей подняли голову, улыбнулись и кивнули головой в знак согласия, с благодарностью сознавая пользу полученных от нее уроков; казалось, они ничуть не сомневались, что она проживет еще лет двадцать и научит уму-разуму Жана, как уже научила их.
Пьер все еще стоял рядом с Марией, упоенный любовью, когда незаметно подошедший Гильом положил руки ему на плечи. Он обернулся и увидел, что брат тоже сияет, радуясь их счастью. И счастье Пьера стало еще полней, когда он убедился, что брат его выздоровел и в их трудовой семье вновь царят бодрость и надежда.
— Помнишь, братец, — мягко сказал Гильом, — я тебе говорил, что ты страдаешь только от разлада между сердцем и рассудком и обретешь утраченное равновесие, когда полюбишь сознательной любовью. Ты должен был примирить в себе материнское начало с отцовским, наши родители не понимали друг друга, и спор между ними продолжался даже после их смерти; тебе это удалось, и наконец-то они успокоились в твоем умиротворенном существе.
Слова брата глубоко взволновали Пьера. Лицо его, такое ясное и энергичное, озарилось радостной улыбкой. У него был прямой, высокий, как башня, отцовский лоб, несокрушимая твердыня разума, мягкий подбородок, рот и добрые глаза, унаследованные от матери; но теперь они гармонически сочетались на его лице, которое стало мужественным и светлым. Два первых опыта ни к чему не привели, так как он подчинялся материнскому началу, испытывая тоску и растерянность от неудовлетворенной нежности, а третий опыт принес ему счастье, так как он обрел удовлетворение в любви к жене и к ребенку и в плодотворном труде, подчинившись велениям рассудка — столь властно звучавшему в нем голосу отца. Восторжествовал разум. Если бы он всецело отдался борьбе рассудка с сердцем, он не смог бы примирить разум и чувство. Какое успокоение ощутил Пьер, примирив в себе эти силы, он почувствовал себя удовлетворенным, вполне нормальным, полным сил, могучим, как огромный, свободно растущий дуб, широко раскинувший над деревьями свои ветви.
— Ты совершил большое и хорошее дело, — ласково сказал Гильом, — не только для себя, но и для всех нас, и для покойных наших родителей, тени которых, отныне слившиеся воедино и примиренные, нашли наконец покой в маленьком домике, где протекало наше детство. Я часто вспоминаю наш славный домик в Нейи, который сторожит старенькая Софи, и мне все время чудятся наши дорогие покойники; поджидая нас, они отдыхают в полумраке просторного рабочего кабинета. Каким миром дышит для них этот маленький пустой домик! И если я из эгоизма собрал вас здесь, желая видеть ваше счастье, то в один прекрасный день твой Жан непременно поселится там и оживит его своей юностью.
Пьер взял обеими руками руки старшего брата и, глядя ему в глаза, спросил:
— Ты счастлив?
— Да, я счастлив, очень счастлив, я еще никогда не испытывал такого счастья; я счастлив, что так люблю тебя, счастлив, что ты меня любишь так, как никто еще не любил.
Их сердца слились в порыве самой прекрасной на свете, горячей, героической братской любви. Они обнялись, а жизнерадостная Мария, здоровая и чистая душой, держа младенца у груди, улыбаясь, глядела на них, и в глазах у нее блестели слезы.
Тем временем Том а , закончив отделку маленького мотора, пустил его в ход. Это было настоящее чудо, — притом при своей колоссальной мощности мотор был почти невесом. Работал он идеально, без шума и запаха. Все семейство с восхищением смотрело на него; но вот появился их ученый друг Бертеруа, которого Гильом просил зайти посмотреть, как работает мотор.
Взглянув на мотор, великий химик вскрикнул от восторга, а ознакомившись с его устройством и узнав, что в качестве горючего используется взрывчатое вещество, о чем он уже давно говорил, он горячо поздравил Том а и Гильома.
— Вы создали настоящее чудо, — ваше изобретение будет иметь колоссальное значение для общества и для всего человечества. Да, да! В ожидании электрического мотора, которого у нас пока еще нет, вот идеальный двигатель, и притом универсальный, — отныне мы имеем полное право говорить о воздухоплавании, проблема отечественного топлива разрешена. Какой гигантский шаг вперед, какой внезапный прогресс, пространство преодолевается, все пути открыты человеку; наконец-то люди почувствуют себя братьями!.. Вы сделали великое благодеяние, преподнеся прекрасный дар человечеству, дорогие мои друзья!
Потом он шутливо заговорил о новом взрывчатом веществе; он уже давно догадывался о его существовании и теперь радовался, что оно будет использовано ка благо человечеству.
— А я, по правде сказать, думал, что вы, Гильом, носитесь со своим секретом и скрываете от меня формулу этого вещества, потому что решили взорвать Париж.
Гильом нахмурился. Резко побледнев, он признался:
— Да, одно время я действительно думал об этом.
У Бертеруа пробежал по спине холодок, но он продолжал смеяться, делая вид, что принял за шутку слова Гильома.
— Ну, что ж, мой друг, хорошо, что вы предпочли подарить это чудо человечеству, — иначе из него не получилось бы ничего доброго. Подумать только, порошок, предназначавшийся для истребления людей, пойдет им на благо. Что бы ни случилось, все к лучшему — я всегда это говорил.
Гильома тронуло добродушие и возвышенная терпимость ученого. В самом деле, то, что предназначалось для разрушения, будет служить прогрессу, укрощенный вулкан станет работать на пользу цивилизации, укрепляя мир на земле. Он даже отказался от своей пресловутой военной машины, его вполне удовлетворяло это последнее изобретение, которое должно было облегчить труд человека, требуя лишь самых незначительных усилий. Ему казалось, что это изобретение в какой-то мере будет содействовать грядущему торжеству справедливости, он сознавал, что внес свою лепту в это великое дело… И когда, повернувшись к окну мастерской, Гильом увидел в окне собор Сердца Иисусова, он с удивлением задал себе вопрос, как мог он на какой-то момент поддаться безумию и замыслить нелепое, бесплодное разрушение. Его коснулось отравленное дыхание злобы и мщения, порожденных нищетой. Но какое безумие воображать, что разрушение и убийство могут принести благие плоды, способные обогатить и украсить землю! К чему приведет такое насилие? Оно вызовет дружный отпор даже тех, ради кого все это совершается. Народ, городская толпа, возмущается, когда какой-нибудь одиночка вздумает творить правосудие. Настоящий вулкан, да! Но этот вулкан — вся поверхность земли, все народные массы, которые встают в неукротимом порыве, движимые подземным огнем, и они своротят горы и воссоздадут свободное человеческое общество. Несмотря на весь свой героизм, на свою безумную жажду мученичества, убийцы так и останутся убийцами и будут только сеять ужас. Если они возрождаются из крови, если Виктор Матис отомстил за Сальва, то он окончательно погубил его в глазах общества, так как после этого нового, еще более чудовищного и бессмысленного покушения со всех сторон раздался гром проклятий по адресу анархистов.
Гильом рассмеялся и сделал широкий жест, доказывавший его полное выздоровление.
— Вы правы, все кончится хорошо, потому что рано или поздно на земле воцарится справедливость. Но, быть может, пройдут тысячелетия, пока… Что до меня, то я попросту отдам свой порошок предпринимателям, и пусть себе обогащаются те, кто добьется права его фабриковать. Отныне он принадлежит всем и каждому… И я отказываюсь от попыток перестроить мир революционным путем.
Бертеруа — этот крупнейший, официально признанный ученый, член Академии, занимающий высокие посты и украшенный орденами, указал на мотор и воскликнул со всей страстностью, на какую способен семидесятилетний старик:
— Но ведь это же революция, самая настоящая революция! Именно таким путем, а не швыряя идиотские бомбы, можно перевернуть мир! Вы поступаете как подлинный революционер, потому что созидаете, а не разрушаете. Сколько раз я вам говорил, что только наука революционна, что только она, несмотря на нелепую политику, несмотря на происки сектантов и честолюбцев, уготавливает будущее человечества, расчищая путь к истине, справедливости, миру! Ах, дорогой мой мальчик, если вы хотите перевернуть мир в надежде сделать людей чуточку счастливей, оставайтесь у себя в лаборатории, потому что счастье человечества может родиться только в горне ученого.
Он говорил шутливым тоном, но за шутками чувствовались его глубокая убежденность и пренебрежение ко всему, что не относится к науке. Бертеруа даже не удивило, когда Пьер снял сутану; сейчас тот стоял перед ним рядом с женой и ребенком, и ученый по-прежнему относился к нему с какой-то бескорыстной сердечностью.
Мотор вращался с неимоверной быстротой и чуть слышно жужжал, как большая муха на солнце. Счастливое семейство, стоя вокруг него, улыбалось, радуясь этой победе. Но вот маленький Жан, господин Жан перестал сосать, и губы у него были еще в молоке, когда он вдруг заметил машину, красивую игрушку, которая двигалась, как живая. Глаза его заблестели, на щечках появились ямочки, и с радостным криком он потянулся к ней трепещущими ручонками.
Мария, спокойно застегнув корсаж, улыбнулась и поднесла его поближе к игрушке.
— Смотри, малыш, как славно! Она вертится, она сильная и живая, видишь?
Все стоявшие вокруг забавлялись восторгом и удивлением ребенка, которому хотелось потрогать эту штуку, быть может, чтобы понять, в чем дело.
— Да, — продолжал Бертеруа, — это сила, мощная, как солнце, сверкающее над необъятным Парижем, под лучами которого созревают плоды и человеческие души. Париж тоже своего рода мотор, вернее, кипящий котел, в котором готовится будущее человечества, под ним мы, ученые, поддерживаем неугасимый огонь… Сегодня дежурным истопником у этого котла, мастером грядущего являетесь вы, дорогой мой Гильом, с вашим маленьким чудом, благодаря которому усилится влияние нашего великого Парижа во всем мире.
Пьер был до глубины души поражен этим сравнением, и перед ним встал образ гигантского чана, в котором должен родиться грядущий век из причудливой смеси прекрасного и отвратительного. И, возносясь умом над страстями, честолюбием, пороками и отбросами цивилизации, он созерцал уже проделанную грандиозную работу, героические усилия рабочих на фабриках и заводах, неустанные размышления интеллигентной молодежи, в тишине изучающей науки, используя опыт своих предшественников и пылая желанием раздвинуть его пределы. В этом было подлинное величие Парижа, здесь созидалось будущее человечества, оно зрело в его недрах и готово было вырваться на волю с первыми проблесками зари. Если в древнем мире был Рим, то теперь он умирает, и в наши дни Париж стал единственным властелином душ, средоточием культурной деятельности всех народов, переходящих от одной цивилизации к другой в своем поступательном движении с востока на запад, вместе с солнцем. Париж — мозг человечества; его великое прошлое служило предпосылкой к тому, чтобы он стал смелым инициатором, средоточием цивилизации, знаменосцем освободительного движения. Вчера отсюда прозвучал призыв к свободе, который услышали все народы; завтра он принесет им научную религию, справедливость, новую веру, которой давно ждет демократия. А сколько в нем подлинной доброты, веселья, сердечности, какая страстная жажда познания, готовность все отдать! А как велико его население, сколько рабочих в его предместьях, сколько крестьян в окружающих его селениях — неисчерпаемые человеческие резервы, которые послужат будущему. Париж завершил деяния всего столетия, он положит начало следующему веку и будет шествовать вперед, яркий свет этого маяка разольется по всей земле, повсюду разнесется слава его грандиозных свершений, из его глубин вырвутся бури, грянут раскаты громов и вспыхнет победоносный блеск конечной победы, которая принесет счастье человечеству.
Мария воскликнула с восхищением, указывая на Париж:
— Взгляните! Взгляните! Париж весь золотой, золотой, как огромная нива!
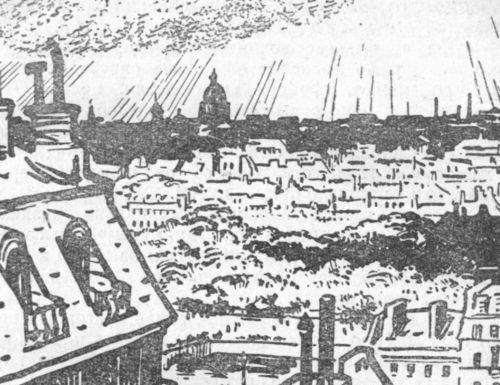 У всех невольно вырвался тихий возглас восторга; зрелище было в самом деле изумительное, Пьер раньше уже наблюдал подобную картину: косые лучи солнца заливали Париж потоками золотой пыли. Но на этот раз солнце не засевало Париж, нагромождение домов и монументов не вызывало образ бурой, развороченной гигантским плугом земли, и божественный сеятель не разбрасывал пригоршнями свои лучи, подобно золотым зернам, рассыпающимся во все стороны. Это был уже не прежний Париж с его четко очерченными кварталами; на востоке — рабочие кварталы, вечно затянутые дымом, на юге, вдалеке, — безмятежные студенческие кварталы, на западе — богатые кварталы со светлыми широкими улицами и в центре — мрачные торговые кварталы. Казалось, над городом встали налитые соками жизни нивы, и он превратился в безбрежное поле, созревшее к жатве. Колосья, колосья, целое море колосьев, золотыми волнами разлившееся от края до края небес! Косые солнечные лучи заливали весь Париж ярким сиянием, — и казалось, после посева наконец наступила пора жатвы.
У всех невольно вырвался тихий возглас восторга; зрелище было в самом деле изумительное, Пьер раньше уже наблюдал подобную картину: косые лучи солнца заливали Париж потоками золотой пыли. Но на этот раз солнце не засевало Париж, нагромождение домов и монументов не вызывало образ бурой, развороченной гигантским плугом земли, и божественный сеятель не разбрасывал пригоршнями свои лучи, подобно золотым зернам, рассыпающимся во все стороны. Это был уже не прежний Париж с его четко очерченными кварталами; на востоке — рабочие кварталы, вечно затянутые дымом, на юге, вдалеке, — безмятежные студенческие кварталы, на западе — богатые кварталы со светлыми широкими улицами и в центре — мрачные торговые кварталы. Казалось, над городом встали налитые соками жизни нивы, и он превратился в безбрежное поле, созревшее к жатве. Колосья, колосья, целое море колосьев, золотыми волнами разлившееся от края до края небес! Косые солнечные лучи заливали весь Париж ярким сиянием, — и казалось, после посева наконец наступила пора жатвы.
— Смотрите! Смотрите же! — воскликнула снова Мария. — В каждом уголке золотые колосья, самые жалкие лачуги и те богаты урожаем, — всюду зреет пшеница, и мне представляется, что это общие владения, где живут в мире братья… Ах, Жан, Жан! Смотри, маленький, смотри, какая красота!
Пьер, трепеща от волнения, подошел и обнял жену. Бабушка и Бертеруа улыбались, глядя на эту картину будущего, которого им не суждено увидеть. Гильом был растроган, а за его спиной стояли трое сыновей — трое великанов, полных надежды и трудового рвения.
Тогда Мария в порыве восторга высоко подняла младенца, как бы принося его в торжественный дар огромному Парижу.
— Подожди, Жан, подожди, малыш, придет время, и ты пожнешь этот обильный урожай, ты соберешь зерно в житницу!
Париж пылал, озаренный божественным светилом, прообразуй в сиянии славы урожай грядущей истины и справедливости.
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления