Онлайн чтение книги
Пять поэм
Сокровищница тайн
Перевод К. Липскерова и С. Шервинского
Вступление
«В прославленье Аллаха, что благом и милостью щедр!» [3] «В прославленье Аллаха, что благом и милостью щедр!» — дословно: «Во имя Аллаха всемилостивого и всемилосердного» — первые слова Корана, которые мусульмане, по обычаю, ставят в начале каждой книги. Низами ввел их в стихотворный метр поэмы.
Вот к премудрости ключ, к тайнику сокровеннейших недр. [4] Вот к премудрости ключ, к тайнику сокровеннейших недр. — Намек на то, что тайник-сокровищница, поэма «Сокровищница тайн», написана символическим языком, понятным во всех аспектах лишь посвященным, суфиям. Первые слова Корана, будучи истолкованы с помощью числовых значений букв и прочими способами, применяющимися суфиями, являются ключом к шифру «Сокровищницы тайн». Это не исключает, конечно, прямое восприятие символов и притч поэмы.
Мысли первоисток, изреченных словес завершенье —
Имя божье, и им ограничь ты свое изложенье.
Испокон пребывающий, сущего предбытие, [5] Испокон пребывающий, сущего предбытие… — Здесь начинается сложнейшее символическое изложение принятой суфиями мусульманской космогонической концепции. Предбытие — идеальный «горний мир», потусторонний мир, из которого, согласно этой концепции, путем волевого акта Аллаха-демиурга, метафорически описываемого формулой приказа «Будь!», эманировали перворазум («порядок мира»), мировая душа («источник движения»), первонатура («порядок» материального мира) и материя.
Вековечней в себе, чем явленное вслед бытие.
Вечный вечности вождь, изначально начальный над нею,
Что каламу времен [6] Каламу времен… — Калам — символическое «перо», упоминаемое в Коране, которым Аллах до творения начертал на скрижали все судьбы вселенной. ожерелье накинул на шею.
Всех творец родников, [7] Всех творец родников… — Родники — первые эманации (перворазум и т. д.), явившиеся источником следующих эманаций. источающих жизни струю,
Жизнедавец, всему давший быть бытием бытию.
Он раздернул завесу у скрытых завесой небес,
Он, держащий завесу хранителей тайны завес.
Он для пояса солнца их яхонтов создал набор,
Наряжает он землю, на воды наводит узор.
Поощряет он тех, кто свой внутренний мир изощряет, [8] Поощряет он тех, кто свой внутренний мир изощряет. — Речь идет о пророках и мудрецах-суфиях, которые, благодаря силе волевого акта Аллаха, создавшего мир, оказываются способными познать тайны этого мира. Источником глубочайшей интуиции мудреца сочтено здесь божественное вдохновение, которое Аллах посылает по своей воле, подобно тому, как он по своей воле сотворил мир. Параллельность творения и интуитивного познания — основа мусульманской концепции.
Сытых хлебом насущным сиянием дня озаряет.
Жемчуг знаний он нижет на тонкую разума нить,
Он для разума — свет, его глаза не даст он затмить.
Ранить лбы он велит правоверным в усердных поклонах,
Он дарует венцы на земных восседающим тронах.
Не дает он сбываться тому, что людьми решено,
Преступленье любое по воле его прощено.
Устроитель порядка средь гама пришедших в смятенье,
Он источник для тех, кто удачные знает решенья.
Он конец и начало извечно и впредь бытию,
Сущим быть и не сущим он может велеть бытию.
При всесилье его, что в обоих мирах не вместится,
Все, что в нас и при нас, лишь коротким мгновением мнится.
В долговечной юдоли вселенной, помимо творца,
Кто воскликнуть бы мог: «Для кого здесь сиянье венца?»
Все и было и не было, все, что высоко и низко,
Может быть и не быть, от не сущего сущее близко. [9] Все и было и не было, все что высоко и низко, // Может быть и не быть, от не сущего сущее близко. — Низами касается здесь учения о том, что истинным бытием обладает лишь Аллах, материальные формы мира же — преходящи во времени и потому не имеют абсолютного бытия.
Даже мудростью тех, кто воспитан с предвечных времен,
Этот трудный вопрос и доныне еще не решен.
Из предвечности знанье его — о пучина морская! —
Вечно божие царство, подобие степи без края.
Все, где действует жизнь, проявляя свое естество,—
Лишь служенье раба перед вечным господством его.
В сад телесный тебе посылает он гурию рая,
Свет нарциссов твоих [10] Свет нарциссов твоих… — Нарциссы — глаза, обычный образ поэзии того времени. — это воля его всеблагая.
Благодарности полн, славословит бесчисленный хор
Имя божье на шапке земли и на поясе гор.
За завесою света скрывались щедроты творенья,—
Сахар был с тростником, были с розой шипы в разобщенье.
Но лишь дал он щедротам цветенье, щедроты лия,
Тотчас цепь бытия разрешил он от небытия.
В неуемном стремленье к двум-трем деревням разоренным [11] В неуемном стремленье к двум-трем деревням разоренным — Под деревнями Низами подразумевает материальный мир, или, согласно средневековому комментарию, всю обитаемую часть земли. Мир материальный ничтожен и неустроен по сравнению с потусторонним миром, потому он подобен разоренным деревням.
Было небо в смятенье, неявное в несотворенном.
Узел, мысль сожигающий, не был еще разрешен,
Локон ночи тогда был ланитами дня полонен. [12] Узел, мысль сожигающий, не был еще разрешен, // Локон ночи тогда был ланитами (буквально: лицом) дня полонен. — В этом бейте двойной символ: ночь не была отделена от дня, свет от мрака, и плотные, материальные эманации (материя) не были отделены от тонких, духовных эманации (перворазум и т. п.). Сравнение «горнего мира» с сияющим белизной и красотой лицом красавицы, а материального мира — с ее черными вьющимися («запутанными») локонами — обычный образ суфийской поэзии.
Только жемчуг небес [13] Жемчуг небес — семь планет, семь «подвижных звезд» тогдашней астрономии. нанизал он в ряды узорочий,
Пыли небытия не оставил на локонах ночи.
Из кругов, что на небе его изволеньем легли,
Семь узлов [14] Семь узлов — семь климатических поясов обитаемой части земли — деление географии времени Низами. завязал он, деля ими пояс земли.
Стало солнце в кафтане являться, а месяц в халате:
Было этому белое, этому черное кстати.
Тучи желчный пузырь из морских он исторгнул глубин, [15] Тучи желчный пузырь из морских он исторгнул глубин. — Так Низами описывает то, что мы сейчас называем «круговорот воды в природе». Сопоставление тучи с желчным пузырем основано на распространенной во времена Низами взаимной символизации микрокосма (человека) и макрокосма (веселенной) — кости подобны горам, деревья подобны волосам, сердце — солнцу и т. д.
Светлый Хызра источник из злачных извлек луговин.
Утра полную чашу он пролил над темною глиной,
Только камня устам не достался глоток ни единый.
Из огня и воды, [16] Из огня и воды… — Низами намекает здесь на древнее учение о «четырех элементах» (огонь, ветер, вода и земля), встречающееся у Гераклита, в Упанишадах и т. п. Согласно этому учению, все материальное составлено из названных четырех элементов. их мельчайшие части смешав,
Создал яхонта зерна и жемчуга жирный состав.
Ветер слезы земли, лихорадя, загнал нездоровый
В печень камня, и яхонт родился, как печень, багровый.
Стал как небо цветущ вертоград его божьих щедрот,
Птицу речи он создал, что небу на радость ноет.
Пальме слова он финики дал, что отрадны для духа,
Жемчуг он языка не оставил без раковин слуха.
Посадил за завесу безмолвную голову сна,
Им и водному телу одежда души придана.
Кинул пряди земли он на плечи небесные прямо,
Непокорности мушку навел на ланиту Адама. [17] Непокорности мушку навел на ланиту Адама. — Мушка — черная, она символизирует землю, глину, прах, плотные эманации (Джалал ад-Дин Руми, например, называет весь материальный мир мушкой на лике Аллаха), лицо — светлое. Адам, человек, сотворен Аллахом из праха и духовных субстанций, и его материальная природа мешает ему быть только духовным, светлым, во всем покорным Аллаху.
С лика золота он отпечаток презрения смыл,
Крови лунные розы он тучкой весеннею смыл.
Ржу воздушную снять поручил он светилам лучистым.
Душу утренних ветров он травам доверил душистым.
В глине бьющую кровь там, где печень сама, поместил,
Где биение сердца, биенье ума поместил.
В утешение губ приказал появиться он смеху,
Он Венере велел стать певицею, [18] Он Венере велел стать певицею. — Планета Венера — покровительница музыки. ночи в утеху.
Полночь — божий разносчик, он мускус продаст дорогой,
Новый месяц — невольник со вдетою в ухо серьгой.
О стопу его речи, чьи силы от века велики,
Камень лоб раздробил у шатра, что достоин владыки. [19] О стопу его речи, чьи силы от века велики, // Камень лоб раздробил у шатра, что достоин владыки. — Согласно средневековому комментарию, здесь и далее речь идет о силе слова, которому нет преград, и слабости человеческого разума, неспособного познать Аллаха.
Легковесная мысль вкруг него исходила пути,
Но с пустыми руками от двери пришлось отойти.
Много троп исходив, сокровенной не вызнали тайны,
Равных с ним не нашли, все дела его — необычайны.
Появился и разум, его я на помощь призвал,—
Но постиг свою грубость и сам же его наказал.
Тот, в кого острием его циркуль однажды вонзился,
Тот, как месяц, навек к постиженью его устремился.
Кто на небе седьмом восседает, — стремятся к нему,
Кто по небу девятому ходит, — стучатся к нему.
Небосвода вершина в уборе его ожерелий,
Страстью недра земли: изначально к нему пламенели.
Те сердца, что, как души, святой чистотою горят,
Только прахом лежать притязают у божиих врат.
Но из праха у врат его зернышко вышло такое, [20] Но из праха у врат его зернышко вышло такое. — Низами под зернышком подразумевает сердце, которое материально, создано из праха, но, согласно суфийскому учению, силой любви, страсти может познать бога.
Что пред садом его сад Ирема — сказанье пустое.
Так и прах Низами, что изведал поддержку его,—
Нива зерен его и единства его торжество.
Первое моление о наказании и гневе божием
Ты, который во времени быть повелел бытию!
Прах бессильный стал сильным, окреп через силу твою.
Знамя вьется твое над живущею тварью любою,
Сам в себе существуешь, а мы существуем тобою.
Ты вне родственной связи, родни для тебя не найдешь,
Ты не сходен ни с кем, и никто на тебя не похож.
Что одно существует вовек неизменно — не ты ли!
Что истленья не знало и впредь неистленно — не ты ли!
Все мы тленны, а жизнь, что не знает предела, — тебе!
Всесвятого, всевышнего царство — всецело тебе!
Прах земной повеленьем твоим пребывает в покое,
Держишь ты без подпоры венчанье небес голубое.
Кто небес кривизну наподобье човгана возвел?
Соли духа не ты ли подсыпал в телесный котел?
Если сменою ночи и дня управляешь ты въяве,
То воскликнуть: «Я — истина!» — ты лишь единственный вправе. [21] То воскликнуть: «Я — истина!» — ты лишь единственный вправе. — Низами намекает здесь на известного суфия X века Халладжа, который, согласно преданию, достигнув мистического единения с богом, воскликнул: «Я — истина!» (то есть: «Я — бог!»), за что был жестоко казнен по решению совета духовных особ, признавших его еретиком.
И когда б в мирозданье покой не пришел от тебя,
К твоему бы мы имени влечься не стали, любя.
Благодати твоей снизойти лишь исполнилось время,
Нагрузила земля себе на спину тяжкое бремя.
Если б только земля не рожала от божьих щедрот,
То земного пупа не извергнуть не мог бы живот.
Поклонения бусы твое лишь нанижет веленье,
Поклоненье — тебе лишь, запретно другим поклоненье.
Лучше вовсе молчать тем, кто речь не ведет о тебе,
Лучше все позабыть, если память пройдет о тебе.
Кравчий ночи и тот перед чашей твоею смутится,
Славит имя твое на рассвете поющая птица.
Выйди, сдернув завесу, единый во всем искони,
Если я — та завеса, завесу скорее сверни.
Небосвода бессилье лишь ты небосводу покажешь,
Узел мира от мира единственный ты лишь отвяжешь.
Знак теперешних дней уничтожь, будь судьею ты сам,
Новый образ принять повели ты небесным телам.
Изреченным словам прикажи ты к перу возвратиться,
Снова займу земли прикажи ты в ничто обратиться.
Блага света лиши достоянье поклонников тьмы,
Отведи от случайного в сущность проникших умы.
Столик шестиугольный своим разломай ты ударом
И расправься решительно с девятиножным мимбаром. [22] Столик шестиугольный своим разломай ты ударом // И расправься решительно с девятиножным мимбаром. — Столик — земной мир, имеющий шесть сторон, шесть направлений (верхнее, нижнее, переднее, заднее, правое и левое); мимбар — престол Аллаха, покоящийся, по средневековым представлениям, на девяти небесах. Низами призывает здесь Аллаха уничтожить землю и небо, призывает приблизить день Страшного суда. В последующих бейтах он говорит об уничтожении планет, ночи и дня, вращения сфер («пыль» — ночь, «шатер» — небо, «покой» — полюс).
Глину этой печати ты лунным ларцом раздроби,
В небе чашу Венеры — Сатурна кольцом раздроби.
Ожерелье рассыпь, от которого ночи светлее,
Птице ночи и дня ты крыло обломай не жалея.
Эту глину, прилипшую к телу земли, соскреби!
Тот кирпич, образующий тело земли, раздроби!
Пыли ночи вели ты с чела у небес осыпаться,
Пусть Чело низойдет, а Шатру не вели подыматься.
Долго ль будет звучать этот новый напев бытия?
Хоть бы ноту из прежних вернула нам воля твоя.
Опрокинь же и выбрось согласье всемирного строя,
Выю неба избавь от кружения сфер и Покоя.
Пламя неправосудья — насилья огнем остуди,
Ветер волей своей ниже пыли земной посади.
В пепел ты обрати звездочетов ученых таблицы,
Почитателям солнца вели, чтоб закрыли зеницы.
Месяц ты уничтожь, не достигший еще полноты,
О, отдерни завесу с пустой и ничтожной мечты!
Чтоб явили они божества твоего непреложность,
И свою пред тобой засвидетельствовали ничтожность.
Мы — рабы, нерасцветший цветок в опояске тугой,
Мы — цветы с нетелесною плотью. Мы живы тобой.
Если пролил ты кровь, то за это не платишь ты пени,
Тот, кто в петле твоей, и подумать не смей о замене.
Можешь ночи стоянку по воле своей продлевать,
Закатившийся день поутру ты приводишь опять.
Если даже на нас ты и сильно прогневан, для жалоб
Среди нас никому ни охоты, ни сил не достало б.
Ты душе человеческой разум и свет даровал,
Ты испытывать сердце язык человечий призвал.
Небо движется, полюс недвижен твоим изволеньем,
Влажен сад бытия, не обижен твоим изволеньем.
Взгляд шиповника нежный прозрачен в предутренний час,—
Но не воздух, а пыль твоих ног — исцеленье для глаз. [23] …пыль твоих ног — исцеленье для глаз. — Распространенный поэтический образ, обозначающий высшую степень покорности. Прах под ногами того, кому поклоняются, сравнивают с сурьмой, которой подводят глаза. Сурьма, по тогдашним представлениям, улучшает зрение и исцеляет от глазных болезней.
За завесою светит последнего лотос предела,
Славословить тебя — языка человечьего дело.
О единстве твоем не умолкнет твой раб Низами,
Он в обоих мирах — только пыль пред твоими дверьми.
Так устрой, чтобы мысли его лишь тебе отвечали,
Ныне выю его ты избавь от капкана печали.
Второе моление о милосердии и всепрощении божием
В мире не было нас, ты же был в безначальности вечной.
Уничтожены мы, ты же в вечности жив бесконечной.
Твоего изволенья коня запасного ведет
Мир в круженье своем, а попону несет небосвод.
Мы — бродяги твои, о тебе мы бездомны и нищи,
Носим в ухе кольцо, словно дверь в твоем горнем жилище. [24] Носим в ухе кольцо, словно дверь в твоем горнем жилище. — Сложный образ. Рабы во времена Низами носили в ухе кольцо, серьгу; носим в ухе кольцо — значит: мы — твои рабы. Кольцо в ухе раба Низами сравнивает с кольцом на двери, которым стучат в дверь, прося отпереть. Он хочет этим сказать, что покорность делает молитву доходчивой, проникающей в «горнее жилище» Аллаха.
Мы тобой таврены, а собаку со знаком чужим
Государь не допустит к державным охотам своим.
Ты же нас допустил, ибо сад твой всевечный над нами,
Мы — с ошейником горлицы, псы мы с твоими таврами.
От создателей всех отклонили мы наши сердца,
Нас лелеешь один, не имеем другого отца.
Наше ты упованье, и ты устрашение наше.
Будь же милостив к нам и прости прегрешение наше.
О, подай же нам помощь, помощника мы лишены,—
Если ты нас отвергнешь, к кому ж мы прибегнуть должны?
Что же вымолвил я? Что сказал языком я смиренным?
Лишь раскаянья смысл в изреченном и неизреченном.
Это — сердце — откуда? Свобода свершенья — отколь?
Кто я сам? К твоему всевеличью почтенье — отколь?
Как пустилась душа в этом мире в свой путь скоротечный!
Как стремительно сердце впивало источник предвечный!
Тщась познать твои свойства, у нас ослабели умы,
Но хадис «О постигшем аллаха» [25] Но хадис «О постигшем Аллаха»… — Намек на изречение, приписываемое пророку Мухаммеду: «Кто познал Аллаха, совершенны речи его». усвоили мы.
Речь незрела у нас, своего мы стыдимся усердья,
За незрелость ее да простит нас твое милосердье!
Прибегаем к тебе мы, ничтожнее, нежели прах,
Прибегаем к тебе, на тебя уповая, Аллах.
Утешителей друг, ты утешь нас по милости многой!
О, беспомощных помощь, своей поддержи нас подмогой!
Караван удалился, отставшим вослед посмотри,
Ты на нас, одиноких, как добрый сосед посмотри!
Нет подобных тебе. Не в тебе ли защита, в едином?
Сирых ты покровитель, — к кому же иному идти нам?
Совершая молитву, мы взор обратим на тебя.
Если ты к нам неласков, то кто ж приласкает любя?
Чьи к тебе протянулись с таким упованием руки?
Кто стенает, как мы, чьи сильнее душевные муки?
Слезно молим тебя: отпущение дай нам грехов,
Будь опорой пришедшим под твой защитительный кров!
Чрез тебя Низами и господство узнал и служенье.
Ныне имя его вызывает в любом уваженье.
Дарованью приветствий наставь его скромный язык,
Сделай так, чтобы сердцем твое он величье постиг!

В похвалу благороднейшего посланника
«Алиф», только лишь был он на первой начертан скрижали, [26] «Алиф», только лишь был он на первой начертан скрижали. — Здесь и далее Низами описывает воцарение пророка Мухаммеда над миром через аллегорию последовательного написания арабских букв, составляющих его имя: алиф, ха, мим, даль — Ахмад — иная грамматическая форма имени Мухаммед, которая также значит «Прославленный».
Сел у двери, ее же пять букв на запоре держали.
Дал он петельке «ха» управленье уделом большим,
Стали «алифу»: «даль» ожерельем и поясом «мим».
И от «мима» и «даля» обрел он над миром главенство,
Власти царственный круг и прямую черту совершенства.
Осеняемый сводом из сих голубых изразцов,
Благовонным он был померанцем эдемских садов.
Таковы померанцы: они надлежащей порою
Созревают сперва, а потом зацветают весною.
«Был пророком» — хадис, [27] «Был пророком» — хадис… — Низами имеет в виду изречение, приписываемое Мухаммеду: «Я был пророком тогда, когда Адам был еще между водой и прахом». Согласно мусульманскому учению, пророк Мухаммед, хотя и явился на землю самым последним, после Адама, Авраама, Ноя, Моисея и Христа, получил свою миссию от Аллаха ранее Адама. В христианстве пришествие Христа на землю открывает во времени новую историческую эру, в исламе же временная последовательность второстепенна, на первом месте — особого рода иерархия пророков, последний из них — самый главный, и потому он в известном смысле — «ранее Адама», «выше Адама». что со знаменем вышел вперед,
Поручил он Мухаммеду кончить пророков черед.
Хризолитовым перстнем стал месяц с желтеющим светом,
А Мухаммеда знак — драгоценным его самоцветом.
В ухе мира висит его «мима» златое кольцо,
И покорно Мухаммеду мира двойное кольцо.
Ты измерил пространства, тебе и Мессия слугою,
Все — твои благовестники, все они с вестью благою.
Ты, не ведая букв, языком говоришь огневым,
Ты, в ком «алиф» Адама близ «мима» мессиева зрим.
Прям, как «алиф», он клятв не нарушит, пречестный меж честных,
Первый он и последний, всех выше посланцев небесных.
На окружности мира всех точек он ярких ярчей,
Он утонченный смысл всех на свете тончайших речей.
Всем, что он изрекал, возвеличены знаний страницы,
Измеряется небо охватом его поясницы.
Пусть главы никогда не венчал он гордыней мирской,
Пред мирскою гордыней он все ж не склонился главой.
Целомудренных сонм у него за завесой в гареме,
Целомудрие он удовольствовал яствами всеми.
Прах ступней его с глаза дурные поступки сотрет,
С Мекки дань собирает его на чужбину уход. [28] С Мекки дань собирает его на чужбину уход. — Согласно жизнеописанию Мухаммеда, его уход из родного города Мекки в чужую Медину (622 г., начало мусульманского летоисчисления) привел в конечном счете к окончательной победе и подчинению Мекки, с которой пророк впоследствии получал дань.
Немота его — речь, он безмолвием сердце чарует,
Все сжигает порочное в том, кому дружбу дарует.
Чрез него нам отрадно над смутой своей торжество,
Хоть и смуту принять неминуемо нам от него.
Был главою он всех, все главы приводил он в смятенье,
Был он полюсом, тяжким по весу и легким в движенье.
Он с божественным светом свечу своим сердцем возжег
Безначальности и бесконечности понял урок.
Солнце, жизни исток, чье лишь он оправдал назначенье,
Полумесяца меньше, светившего в день вознесенья.
В эту ночь вознесенья все знаки он власти обрел,
Сел в венце и при поясе на высочайший престол.
Там он вольно вздохнул, где ему был приют уготован,
Белый, скачущий ночью, был конь им той ночью подкован.
Словно ждали поэты, чтоб он возвратился скорей,
И стихи за уздечку держали, как пегих коней.
Но когда уже всех обскакали те пегие кони,
То удел Низами — лишь забота о конской попоне.
О вознесении пророка[29] Вознесение пророка (по-арабски — мирадж) — описано в Коране. Согласно этому преданию, вознесение было вне времени — вода из опрокинутого ногой пророка кувшина не успела вылиться, но за этот миг дух («сердце») Мухаммеда оставил материальный мир, преодолел на мифическом коне Бураке все девять небес с их планетами и созвездиями и лицезрел Аллаха.
Полунощной порой, лишь полдневного светоч владыки
Из недвижности вышел и мир озарился великий,
Стали солнцу носилками очи небес девяти,
А Венера с Луною огни обязались нести.
Он в святилище здешнем оставил все стороны света,
Бросил семь поясов и все шесть направлений предмета.
День покинули стопы его, отлетевшие прочь,
На его появленье раденьем ответила ночь.
Слиплись веки у тех, что с глубинами тайн незнакомы,
Он меж тем скакуна повернул, удаляясь от дремы.
Вместе с клеткой плотско́й из земной унеслась западни
Птица сердца туда, где покой и блаженство одни.
Птицы, даже и ангелы с ним не тягались в полете,
И радел небосвод, скинув платье с лазоревой плоти.
У божественной птицы и клетка расправила крылья,
Оболочка его, легче сердца, неслась без усилья.
Шаг за шагом, когда возносился он прочь от земли,
Ввысь и ввысь небеса его в страхе смиренном несли.
И глядели насельцы обоих миров на пророка,
И в поклоне земном головами склонялись глубоко.
Он последней ступени коснулся ногой, но за ней
Поднялся и еще на божественных сто ступеней.
Скакуна с его стойлом высоким внизу он оставил,
О попоне заботу оставшимся здесь предоставил.
Он жемчужиной стал, обретенною в мире земли,
Небеса же ее до венца божества донесли.
Ночью темной, как амбра, жемчужину неба ночного
Бык небесный похитил, изъяв из ноздри у земного. [30] Ночью темной, как амбра, жемчужину неба ночного // Бык небесный похитил, изъяв из ноздри у земного. — Один из сложнейших поэтических образов Низами. Общий смысл этого бейта таков: ночью дух пророка с земли поднялся на небо. Образ построен так: жемчужина — дух, божественная суть пророка, бык небесный — созвездие Тельца. Согласно средневековому поверью, у мускусного быка в носу есть светящаяся жемчужина, при свете которой он пасется по ночам. Этот мускусный бык — земной бык — здесь символ земли. Жемчужина — божественная суть пророка — находилась «в носу мускусного быка» — на земле, потом небесный бык — созвездие Тельца — похитил ее, — божественная суть вознеслась на небо. В последующих бейтах говорится о том, как дух пророка пролетал через различные созвездия.
И когда наступил путешествию должный конец,
Близнецы ему дали свой пояс и Рак — свой венец.
Неба Колос [31] Неба Колос… — созвездие Девы, названное по-арабски «Колос». расцвел при одном появленье пророка,
Этот Колос расцветший от Льва он отбросил далеко.
Чтоб измерить, насколько той ночи цена велика,
На Весах ее вес проверяла Венеры рука.
Но столь грузную гирю не взвесить такими весами,—
Легче гири тяжелой весы оказалися сами.
И пока проносился пророк меж сияющих звезд,
Чашу противоядья излил Скорпиону на хвост.
Вдаль метнул он стрелу, где его проходила дорога,
Ею был уничтожен губительный вред Козерога. [32] …губительный вред Козерога. — В созвездии Козерога в момент вознесения пророка находилась планета Сатурн, насылающая, по астрологическим представлениям того времени, всякие беды.
Стал Иосифом в Кладезе, солнцу подобно, пророк,
Стал Ионою Рыб, ибо Кладезь от них недалек. [33] Стал Иосифом в Кладезе, солнцу подобно, пророк, // Стал Ионою Рыб, ибо Кладезь от них недалек. — Кладезь — колодец — перевод арабского названия созвездия Водолея. Дух пророка оказался в созвездии Водолея, и Низами сравнивает это с преданием о том, как библейский Иосиф Прекрасный был брошен в колодец, затем дух пророка пролетал созвездие Рыб — и Низами снова сравнивает это с преданием о том, как библейский Иона попал во чрево кита («рыбы»).
И лишь в знаке Тельца он поставил Плеяды престолом,
Сразу войско цветов разбросало палатки по долам.
И лишь в горнем саду на лужайке раскрылся цветок,
Наступил на земле расцветания вешнего срок.
После с неба седьмого повел он почтительно речи,
У пророков прощенья просил, что зашел столь далече.
Звездный занавес неба шаги разрывали его,
На плече своем ангелы знамя держали его.
Полночь мускус наполнил дыханья его неземного,
Полумесяцем в небе коня его стала подкова.
В эту темную ночь даже молния в беге своем
Не могла бы поспеть за его быстроногим конем.
Словно сокол с шажком куропатки, с пером голубиным,
Уносился Бурак, лучезарен, к небесным глубинам.
Вечный «лотос предела» [34] Вечный «лотос предела» — сорочки пророка перед. — Лотос предела — обычный перевод арабского названия упомянутого в Коране мифического «райского древа» — «Сидрат ал-мунтаха». Это древо, по Корану, находится на краю девятого неба, перед престолом Аллаха. Коснувшись грудью «лотоса», дух пророка пролетел дальше. — сорочки пророка перед,
Край девятого неба задел он, свершая полет.
Стала днем эта ночь — дня прекрасней земля не знавала!
Стал цветок кипарисом — прекрасней весны не бывало!
Из нарциссов и роз, что в небесном саду разрослись,
Глаз-нарцисс лишь один насурьмлен был стихом: «Не косись!» [35] Глаз-нарцисс лишь один насурьмлен был стихом: «Не косись!» — В Коране Аллах говорит Мухаммеду: «Не смотри по сторонам!» По мысли Низами, пророк почтительно приложил этот стих Корана к глазам — как бы «насурьмил» этим стихом глаза — и выполнил веление Аллаха, не смотрел по сторонам.
Лишь девятых небес по ступени достиг бирюзовой
Цвет нарцисса, руками подхваченный снова и снова,—
Его спутники вдруг побросали щиты в забытьи,
Поломали воскрылья, развеяли перья свои.
А пророк чужестранцем, чья долго тянулась дорога,
В дверь смиренно кольцом постучал на пороге чертога.
И, завесою скрыты, тотчас охранявшие дверь
Пропустили его, — одинок он остался теперь.
Шел он дальше без спутников, по неизвестной дороге,
Сам теперь он не ведал, куда приведут его ноги.
А другие остались и внутрь не проникли за ним,
Он же вдруг изменился: не прежним он был, а иным.
Засияли венцом его ноги на темени мира,
И девятое небо ликуя с ним жаждало пира.
И по буквам девятого неба провел он калам,
С рукава у небес он списал сокровенный «а-лям». [36] С рукава у небес он списал сокровенный «а-лям». — «А-лям» — криптограмма, начинающая некоторые главы Корана. Смысл ее неизвестен. Суфии придавали ей глубокое мистическое значение.
Длилось мерно дыханье в своем обиталище тесном,
Обладатель души подвигался в обличье телесном.
Наконец он и края девятого неба достиг,—
И остались в пророке душа лишь и сердце в тот миг.
К дому сути своей поспешало весомое тело,
Очи стали такими, что нет изумленью предела.
Очи, коим доступен предвечный божественный свет,
Мы представить не в силах, и слов подобающих нет.
Свой возвышенный путь продолжал он, исполнен величья,—
От себя он отбросил завесу земного обличья.
Лишь на путь запредельный вступил он, его голова
Поднялась, чтоб ее не стеснял воротник естества.
Высочайшие помыслы сердца, чей свет беспределен,
Там достигли привала, где всякий привал уж бесцелен.
За завесу проникнуть стремленье объяло его,
Но смятенье пред местом вперед не пускало его.
И откинула вскоре завесу рука единенья,
И небесный стал виден дворец через дверь поклоненья.
И нога голове уступила способность войти,—
Ничего совершенней душа не могла бы найти!
Он ступил, но стопа не ступала: исчезла основа,
Он подпрянул, но места не мог обрести никакого.
Как значенье из слова, пророка был выявлен свет.
Было принято «слово» и сказано было «привет!»
Чудо вечного света, который вовек не убавить,
Лицезрел он очами, — но их невозможно представить!
Лицезренью его были чужды случайность и суть,
За случайность и суть далеко перешел его путь.
До конца, безусловно, как мудрые молвят неложно,
Бога он лицезрел: лицезрение бога возможно. [37] …лицезрение бога возможно. — Тема жарких схоластических споров эпохи Низами о том, какими глазами видел Мухаммед Аллаха во время вознесения. Низами отстаивает здесь суфийскую точку зрения, согласно которой плоть Мухаммеда претерпела такие изменения, что он видел Аллаха телесным зрением. В противоположность ортодоксальному духовенству, буквалистам, он описывает вознесение Мухаммеда не как физический полет, а как внутреннее странствие, подобное странствию Данте по кругам рая. Тело Мухаммеда физически оставалось на месте, но дух, божественная суть его, вне времени осуществила описанный Низами путь. Если принять во внимание, что, согласно суфийским астрологическим представлениям, органы человеческого тела мистически соответствуют созвездиям, входящим в двенадцать созвездий зодиака, противоречие между вознесением духа пророка на небо, участием тела пророка в этом вознесении (ср. стих: «Вместе с клеткой плотской из земной унеслась западни Птица сердца…») и физической неподвижностью тела пророка — снимается.
Да не будет же скрыто, что на́ небе видел пророк.
Да ослепнет сказавший, что бога он видеть не мог.
Он не зрел божества никакими иными глазами,
Видел этими самыми, видел земными глазами!
Вне пространства и места он эту завесу узрел,
Он вне времени шел, в недоступный проникнув предел.
Каждый, кто ту завесу узреть получил дозволенье,
Был допущен туда, где отсутствуют все направленья.
Есть и будет Аллах, но в каких-либо точных местах
Нет ему пребыванья, и кто не таков — не Аллах.
Отрицая незыблемость божью, порвешь ты с исламом,
Бога с местом связуя, невеждою будешь упрямым.
Бог вино замешал, эту чашу пригубил пророк
И на прах наш невечный из чаши той вылил глоток.
Вечносущего милость его провожала дыханье,
Милосердье его исполняло пророка желанья.
Губы сластью улыбки изволил украсить пророк,
Правоверных к молитве своим он призывом привлек.
Каждый помысл пророка изведал богатство свершенья,
И увидел пророк всех желаний своих исполненье.
Стал он мощен, побыв в той обители рядом с творцом,
И к мирской мастерской, возвратясь, обернулся лицом.
Горний путник любовь нам в подарок принес благодатно,
Он в мгновенье одно отлетел и вернулся обратно.
Ты, чьи речи печатью замкнули наш смертный язык,
Ароматом своим животворно ты в души проник.
Пусть же щедрость твоя, о всевышний, не знает предела,—
Помоги Низами до конца довести его дело.
Восхваление первое
Он украсил все девять небес и седмицу планет,
Был последним посланцем, последним пророком Ахмед.
Разум — прах под ногами его, без предела и срока
Мир, и тот и другой, к торокам приторочен пророка.
На лужайках услад гиацинту свежей не цвести,
В море тайн драгоценней жемчужины ввек не найти.
Девой звездной встает гиацинт среди неба дневного,
В алом яхонте солнца его изначальна основа. [38] Девой звездной встает гиацинт среди неба дневного, // В алом яхонте солнца его изначальна основа. — Очень сложный образ. Дева — созвездие Девы, гиацинт — черные волосы пророка («созвездие Девы» и «гиацинт» на фарси — омонимы). Сияние волос пророка породило свет солнца, подобно тому как свет солнца порождает яхонты в глуби скал (представление средневековой мусульманской минералогии).
Сахар губ не желал он в улыбке раскрыть никогда,
Чтобы жемчуг его у жемчужниц не вызвал стыда.
Сердца тверже, чем камень, вовек не поранил он грубо,—
Как же камень пророку мог выбить жемчужину зуба? [39] Как же камень пророку мог выбить жемчужину зуба? — В жизнеописании Мухаммеда рассказано о том, что во время одного из сражений с противниками ислама воин метнул из пращи камень и выбил пророку зуб.
Было каменным сердце у камня, безумствовал он:
Был поступок его лихорадочным жаром внушен.
Муфарри́ха вкусить разве камню нашлась бы причина.
Если б жемчуга он не разбил, не растер бы рубина?
Но одной из жемчужин лишил его камень врага,
Отделил от него, обездолив его жемчуга.
Из темницы ларца от него унеслась драгоценность,—
Удивляться ль, что в камне тогда родилась драгоценность?
Чем уплачивать виру? Мошна ведь у камня пуста,—
Как же вздумал он прянуть и сжатые ранить уста?
Пусть внесут самоцветы, из камня рожденные, плату
За разбитые губы, — оплатят ли зуба утрату?
Драгоценные камни, возникшие в недрах земли,
За жемчужину зуба как вирою стать бы могли?
Стала вирой победа, [40] Стала вирой победа… — то есть победа пророка в этом сражении стала вирой за его выбитый зуб. в боях добыла ее сила,
Добровольно победа главу пред пророком склонила.
Он кровавою влагой омыл свой пораненный рот,
Миру вновь показал, что своих не жалеет щедрот.
Взял он выбитый зуб и врагу, без вражды и без лести,
Отдал в знак благодарности и отказался от мести.
От желаний былых он отрекся затем, что ни в чем
Он в обоих мирах не нуждался, ни в этом, ни в том.
В управлении войск, под его воевавших началом,
Бранным стягом была его длань, а язык был кинжалом.
Зуб кинжалом извергнут его языка, потому
Что остро лезвие и зазубрины вредны ему.
Но зачем же все это? — чтоб люди от терний бежали,
Зная щедрость пророка, и розою дух услаждали.
Для чего же колючки, коль розы обильны твои?
Неужели ты четки на хвост променяешь змеи?
Откажись от ворон, если раз любовался павлином,
В сад иди, если раз был ты пеньем пленен соловьиным.
Розой дух Низами, осененный пророком, цветет,
Он над зарослью роз соловьем сладкозвучным поет.
Восхваление второе
Ты, с чьей плотью пречистые души и те не сравнимы!
Дух твой кликом взлелеян: «Всю жизнь за тебя отдадим мы!»
Мира центр, над тобой милосердия зданье взнеслось,
Ты у слова «страданье» начальную точку унес. [41] Ты у слова «страданье» начальную точку унес. — Если у написанного арабскими буквами слова «страданье» (захмат) снять одну диакритическую точку с первой буквы, получится «милосердие» (рахмат).
Караванам арабским звездою ярчайшею самой
Ты в пустыне сияешь, ты — шах венценосцев Аджама.
Им не кажешь пути, и однако же ты их ведешь.
Не живешь ты в селенье, — селенья ты староста все ж.
Те, кто щедры, как ты, — коль захватят на зрелище снеди,
Есть не будут одни, если голодны рядом соседи.
Вдоволь фиников свежих вкусил ты, — со скатерти той
Ты принес ли и нам то, что гость забирает с собой?
О, разверзни уста, чтобы сахар отведать могли мы,
Кушать финики те, что твоею слюною живимы.
О, волос твоих ночь! В ней спасения день навсегда!
Запылает твой гнев, — это пламя — живая вода.
Перед ликом твоим мой смущением ум озадачен,
Но власы твои — цепи для тех, чей рассудок утрачен.
Стал рабом небосвод, и твой пояс на вые его,
Улыбается утро от солнца лица твоего.
Мир тобою спасен, во грехе пребывавший от века,
По твоей благодати священною сделалась Мекка.
Благовонному праху последним приютом дана,
Целиком благовонной арабская стала страна.
Чудодейственней прах твой, чем ветер царя Соломона.
Что скажу о садах? — лучше рая их злачное лоно.
Кааба, тот ковер, где Аллаху вознес ты хвалы,
Жаждет розовой влаги испить из твоей пиалы.
В этом мире твой трон, и твоя здесь сияет корона.
Небеса — твой венец, а земля — основание трона.
Тени нет у тебя, ибо сам ты — величия свет,
Света божьего отблеск, — иди же, препон тебе нет!
На четыре основы твое оперлось мусульманство,
Пять молений на дню — твоего ноуба́ты султанства. [42] На четыре основы твое оперлось мусульманство, // Пять молений на дню — твоего ноубаты султанства. — Четыре основы — четыре «столпа» ислама: ежедневная пятикратная молитва, пост в месяце рамазане, налог в пользу бедных, паломничество к храму Каабы в Мекке, Пятикратную молитву Низами сравнивает с ноубат — игрой султанского оркестра перед дворцом в определенное время дня, а пророка сравнивает с султаном.
Ты причина, что прах покрывают цветы и трава,
Ты причина, что спала с очей чужестранцев плева.
Не твои ли шаги, распустившею волосы ночью,
По небесному своду [43] Не твои ли шаги… По небесному своду… — Речь идет о вознесении пророка, описанном в одной из предыдущих глав. полу провлачили воочью,
И в полу небосвода и злато и жемчуг текут,
И рубаху небес залатал уже солнца лоскут.
Ветер утренний, вея, своею рукою пречистой
Растирает в жемчужнице утра состав твой душистый.
И повсюду, где веет тот ветер, — смятенья полна,
Амбры темная рать уж бросает свои знамена.
Если запах той амбры отдашь, согласившись на мену,
За два мира, то знай: ты назначил дешевую цену.
Дивен «лотос предела» — и им твой престол окаймлен,
А девятое небо — слуга, тебе ставящий трон.
Свет предвечности первый душе твоей влился в оконце,
Что девятое небо? — пылинка в сияющем солнце!
Если б зеркала круг не был утром предвечным воздет,
То на низменный прах не упал бы твой истинный свет. [44] Если б зеркала круг не был утром предвечным воздет, // То на низменный прах не упал бы твой истинный свет. — Смысл бейта таков: если бы начало творения не отбросило божественный свет, подобно тому как зеркало отбрасывает отблеск, свет пророчества не пришел бы на землю. Ср. выше, ссылка 8 — о параллельности творения и божественного откровения.
Сливший в лоне два мира, лежишь ты, землею покрытый,—
Ты не клад драгоценный, — зачем же таишься зарытый?
И такие сокровища в низменном прахе лежат!
Вот откуда обычай глубоко закапывать клад.
Эта бедность — руина, где клад твоей сути таится,
Тень твоя мотыльком на свечу твоей сути стремится.
Цель твоя — небосвод с дуговидным изгибом его,
Дужка горней бадьи — лишь веревка ведра твоего. [45] Дужка горней бадьи — лишь веревка ведра твоего. — Бадья — переносное обозначение созвездия Водолея. Смысл бейта: самый верх созвездия Водолея все же ниже того места на небе, где восседает пророк.
Двое — черный и белый, [46] Двое — черный и белый… — то есть ночь и день. Двое — черный и белый!.. — Обращение к Мухаммеду, который родился, жил и начал проповедь новой религии — ислама в Мекке, подвергся там преследованиям и был вынужден переехать со своими сторонниками в Медину. — что вечно по кругу стремятся,
Извещают тебя, что в дорогу пора подыматься.
Разум ищет здоровья, и врач исцеляющий — ты.
Диво, месяц пленившее, в небе блуждающий, — ты.
Ночь для чающих в день обрати всемогущим веленьем,
Озари Низами нескудеющим благоволеньем!
Восхваление третье
Ты, с мединским плащом и мекканской вуалью! [47] Ты, с мединским плащом и мекканской вуалью!.. — Обращение к Мухаммеду, который родился, жил и начал проповедь новой религии — ислама в Мекке, подвергся там преследованиям и был вынужден переехать со своими сторонниками в Медину.
Доколе Солнцу сути твоей укрываться во тьме и неволе?
Если месяц ты, дай нам хоть тоненький лучик любви!
Если розой расцвел, нас в божественный сад позови!
У заждавшихся срока уж губ достигает дыханье,
Мы взываем к тому, кто взывающих слышит воззванье.
Правь к Аджаму коня, расставайся с арабской страной,—
Ждет буланый дневной, наготове ночной вороной.
Этот мир обнови, о, устрой благомудро державу,
По обоим мирам ты разлей свою добрую славу.
Сам монеты чекань, чтоб эмир их чеканить не стал,
Сам молитвы читай, чтоб хатиб их читать перестал.
Прах твой лоно земли благовонием розы овеял,—
Только ветр лицемерья сегодня тот запах рассеял.
Отними ты подушку у тех, кому сладок покой,
Ты мимбар от нечистых священным обмывом омой.
Дэвы в дом забрались, [48] Дэвы в дом забрались… — Здесь и далее Низами резко осуждает лицемерное, жадное, лживое ортодоксальное духовенство, давно отступившее, по его мнению, от истинных заветов Мухаммеда и вместо духовной религии предавшееся схоластике и приобретению мирских благ. — прогони же ты их, прогони же!
В за́кром небытия ниспровергни ты сонм их бесстыжий!
Им убавь содержанье, — и так набивают живот!
Отними их наделы — довольно им грабить народ!
Все мы — тело. О, будь нам душою, и станет светло нам.
Если мы муравьи, ты для нас окажись Соломоном. [49] Если мы муравьи, ты для нас окажись Соломоном. — Согласно легенде, муравей принес царю Соломону «посильную лепту» — высохшую лапку саранчи, но был благосклонно принят царем как потрудившийся в меру своих сил.
Таковы их повадки: и делают в вере пролом,
И они же потайно в засаде сидят за углом.
Ты над стражею главный — а где каравану защита?
Ты начальствуешь центром — и знамя лишь в центре развито?
Кликни праведным воинам клич боевой: «О Али!»,
Возгласи: «О Омар!», чтоб стопы Сатаны не прошли.
Ночь волос распусти вкруг сиянья луны, о владыка,
Из потемок плаща подыми ты сияние лика.
Препоясайся в бой, — малочисленны эти ханжи.
Вредоносной исламу, их клике конец положи!
Дней пятьсот пятьдесят мы проспали, [50] Дней пятьсот пятьдесят мы проспали… — то есть со дня смерти пророка прошло пятьсот пятьдесят лет. проснуться нам впору,
Близок мира конец, поспешай ко всеобщему сбору.
Из могилы восстань, прикажи Исрафилу задуть
Тех светильников пламя, [51] …прикажи Исрафилу задуть // Тех светильников пламя… — По Корану, в день Страшного суда архангел Исрафил вострубит в трубу и Солнце и Луна погаснут. что в небе свершают свой путь.
За завесою тайн в одиноком пребудь отрешенье.
Мы заснули давно — час настал твоего пробужденья.
Этот дом погибает, махни же рукой, отойди
От погибели дома, — но за руку нас поведи.
Все, что ты одобряешь, достойно всегда оправданья,
И никто на тебя наложить не намерен взысканья.
Если взором ты будешь глядеть благосклонным на нас,
Все, что нам на потребу, доставить ты сможешь тотчас.
Круг перстом обведи, указуя предел расстояньям,
Чтобы сущее все оказалось твоим достояньем.
Кто участвовать мог бы в вершимых тобою делах,
Чтоб помилован был уместившийся в горсточке прах?
Только занавес тайны рукой твоей будет откинут,
Власяницы свои оба мира совлечь не преминут. [52] Власяницы свои оба мира совлечь не преминут — то есть оба мира, земной и духовный, будут вне себя от радости. Суфии в момент экстаза сбрасывали с себя власяницы, которые они обычно носили.
Прежде мозг Низами о тебе был тоскою томим,—
Ныне вновь оживлен благовонным дыханьем твоим.
Верность в душу поэта вдохни в этом мире коварства
И его нищете подари Фаридуново царство.
Восхваление четвертое
Ты в короне посланцев жемчужина выше сравненья!
Тем даруешь венцы, кто возвышен по праву рожденья.
Те, кто здесь рождены или в чуждых пределах живут,
В этом доме толпясь, твоего покровительства ждут.
Тот, кем бейт бытия был во имя посланника начат,
Знал, что имя его только рифмой конец обозначит. [53] Тот, кем бейт бытия был во имя посланника начат, // Знал, что имя его только рифмой конец обозначит. — То есть Аллах, начав творить мир («писать стих бытия»), знал, что в конце концов в мир придет пророк, неизбежно появится, как рифма в конце стиха.
Мир в развалинах был, но когда указанье пришло,
Вновь тобой и Адамом отстроено было село.
В воздвигаемом доме мы лучшей красы не встречали,
Чем последний кирпич и вода, налитая вначале.
Ты — Адам, ты и. Ной, но превыше, чем тот и другой,
Им обоим тобою развязан был узел тугой.
Съел Адам то зерно, [54] Съел Адам то зерно… — По Корану, Адам, совершая грехопадение, съел зерна пшеницы, а не яблоко, как в Библии. Здесь и далее Низами утверждает превосходство Мухаммеда над всеми другими, прежними пророками, включая в их перечисление, как и некоторые другие мусульманские авторы, Давида и Иосифа. где исток первородного срама,
Но раскаянье слаще варенья из роз для Адама.
В покаянный цветник благовонье твое пролилось,
И лишь пыль твоей улицы — сахар Адамовых роз.
Лишь по воле твоей роз раскаянья сердце вкусило.
Так раскаялись розы, что сахаром их оросило.
Мяч покорности богу в предвечности был сотворен,
На ристалище сердца посланником брошен был он.
Был Адам новичком, — и, с човганом еще незнакомый,
Мяч он клюшкой повел, этой новой забавой влекомый.
Но когда его конь устремился пшеницу топтать,
Мяч пришлось ему бросить и в угол ристалища стать. [55] Но когда его конь устремился пшеницу топтать, // Мяч пришлось ему бросить и в угол ристалища стать. — Сравнения взяты здесь из игры в човган (конное поло). Конь Адама потянулся к пшенице (произошло грехопадение), и Адам не смог «повести мяч» (осуществить свою миссию пророка), «выбыл из игры». Аллах велел ему «стать в сторону», как игроку в човган, под которым заупрямилась лошадь.
Ной живою водой был обрадован, мучась от жажды,—
Но изведал потоп, потому что ошибся однажды.
Колыбель Авраамова много ль смогла обрести? —
Полпути проплыла и три раза тонула в пути. [56] Колыбель Авраамова много ль Смогла обрести? // Полпути проплыла и три раза тонула в пути. — То есть пророк Авраам не только выполнил свою пророческую миссию лишь наполовину, но и три раза в жизни лгал, отступал от покорности Аллаху. Библейское предание о Моисее, плывшем по реке в колыбели, Низами относит к Аврааму.
Лишь Давиду стеснило дыханье, он стал поневоле
Низким голосом петь, как певать не случалось дотоле.
Соломона был нрав безупречен, но царский удел
Лег пятном на него, и венца он носить не хотел.
Даже явное видеть Иосиф не мог из колодца,—
Лишь веревку с бадейкой, которой вода достается.
Хызр коня своего повернул от бесплодных дорог,
И полы его край в роднике животворном намок.
Увидал Моисей, что он чаши лишен послушанья,
И о гору «Явись мне» сосуд он разбил упованья. [57] Увидал Моисей, что он чаши лишен послушанья, // И о гору «Явись мне» сосуд он разбил упованья. — То есть Моисей не достиг той степени покорности Аллаху, которой впоследствии достиг Мухаммед. Согласно преданию, Моисей сказал богу на горе Синай: «Явись мне», — и в ответ услышал: «Ты меня не увидишь!».
Иисус был пророком, но был от зерна он далек,
А в пророческом доме не принят безотчий пророк.
Ты единственный смог небосвода создать начертанье,
Тень от клюшки один ты накинул на мяч послушанья.
На посланье — печать, на печати той буквы твои.
Завершилась хутба́ при твоем на земле бытии.
Встань и мир сотвори совершеннее неба намного,
Подвиг сам соверши, не надейся на творчество бога.
Твой ристалищный круг ограничен небесной чертой,
Шар земной на изгибину клюшки подцеплен тобой.
Прочь ничто удалилось, а бренность не вышла на поле,—
Так несись же, скачи — все твоей здесь покорствует воле!
Что есть бренность? Из чаши похитит ли воду твою?
Унести твою славу по силам ли небытию?
Ты заставь, чтоб стопа небытья в небытье и блуждала,
Чтобы бренности руку запястие бренности сжало.
Речь дыханьем твоим бессловесным дана существам,
Безнадежную страсть исцеляет оно, как бальзам.
Разум, вспомоществуем твоим вдохновенным уставом,
Спас нам судно души, погибавшее в море кровавом.
Обратимся к тебе, обратясь к девяти небесам,
Шестидневный нарцисс [58] Шестидневный нарцисс… — то есть весь материальный мир, сотворенный за шесть дней. — украшенье твоим волосам.
Наподобье волос твоих мир всколыхнется широко,
Если волос единый падет с головы у пророка.
Ты умеешь прочесть то, чего не писало перо,
Ты умеешь узнать то, что мозга скрывает нутро.
Не бывало, чтоб буквы писал ты своими перстами, [59] Не бывало, чтоб буквы писал ты своими перстами. — Согласно жизнеописанию Мухаммеда, пророк никогда ничего не писал, чтобы неверные не сочли ничтожным и не истребили написанное им.
Но они никогда не стирались чужими перстами.
Все перстами сотрется, лишится своей позолоты,—
Только речи твои не доставили пальцам работы.
Стал лепешкою сладкою прах из-под двери твоей,
Улыбнулись фисташкою губы, кизила алей.
Хлеба горсть твоего на дороге любви, по барханам,
Это на сорок дней пропитанья — любви караванам.
Ясный день мой и утро спасенья везде и всегда!
Я у ног твоих прах, ибо ты мне — живая вода.
Прах от ног твоих — сад, где душа наполняется миром,
И гробница твоя для души моей сделалась миром.
Из-под ног твоих пылью глаза Низами насурьмлю,
И попону коня на плечо, как невольник, взвалю.
Над гробницей пророка, подобной душе беспорочной,
Поднимусь я, как ветер, и пылью осяду песочной.
Чтобы знатные люди из праха могли моего
Замешать галию и на голову вылить его.
Прославление царя Фахраддина Бахрамшаха — сына Дауда
Глава содержит восхваление Бахрамшаха, правителя города Эрзинджана в Малой Азии, и посвящение ему поэмы. Низами просит Бахрамшаха принять поэму благосклонно и наградить его за труд.
О положении и достоинстве этой книги
Я, которым прославлена свежая роза моя, [60] …прославлена свежая роза моя. — Имеется в виду поэма «Сокровищница тайн». Низами, говоря в этой главе о достоинствах поэмы, сравнивает себя с соловьем, поющим хвалы розе.
В розах шахских садов распеваю звучней соловья.
Я дышу лишь тобой [61] Я дышу лишь тобой… — Обращение к Бахрамшаху. Эта глава — продолжение предыдущей. и все жарче, и все полновесней,
Словно в колокол, бью я своей призывающей песней.
Для напева слова́ мне никто бы не смел указать,
Говорю только то, что мне сердце велело сказать.
Необычные вещи сегодня показаны мною.
Новый очерк им создан, и каждая стала иною.
Много утренних зорь о премудром раздумывал я.
Из колдующих зорь ныне сшита завеса моя.
В ней высокий удел и покорное нищенство слиты,
И сокровища тайные этой завесой укрыты.
Этот сахар не видел слетевшихся мошек. Я мал,
Словно мошка, но все же я сахар чужой не сбирал.
Этот мир недоступным окажется даже для Ноя,
Даже Хызр свой кувшин разобьет у сего водопоя.
И, взыскуя прекрасного, нужных искал я примет.
Стал я жребий метать, и благой получил я ответ.
В двух краях засверкали две книги. В своей благодати
Два на них Бахрамшаха свои положили печати. [62] В двух краях засверкали две книги. В своей благодати // Два на них Бахрамшаха свои положили печати. — Низами говорит здесь и далее о двух книгах: своей «Сокровищнице тайн», поднесенной Фахраддину Бахрамшаху, правителю Эрзинджана (в Малой Азии, Руме), и поэме «Сад истин» Санаи, которая была поднесена около 1140 года правителю Газны, по случайному совпадению также носившему имя Бахрамшаха. Поэма Санаи — первое поэтическое изложение мистических суфийских учений на персидском языке, зашифрованное сложнейшими символами и понятное полностью только тем, кто эти учения знает. Другой знаменитый суфий — Джалал ад-Дин Руми (XIII в.) — написал свое «Месневи» по просьбе учеников, которые не могли попять «Сад истин», как пояснение глубокого содержания этой поэмы. Низами в этих бейтах противопоставляет «Сокровищницу тайн» «Саду истин» (указывая на много меньший объем своей поэмы), очевидно, в том смысле, что в «Сокровищнице тайн» применен совсем новый метод поэтического изложения отдельных частей учения суфиев. В небольшой поэме, тематически связанной с «Садом истин», Санаи излагает суфийское учение об аде, поразительно напоминающее «Божественную комедию». Как полагает один испанский востоковед, части того же учения, через переводы с арабского на латынь произведений суфия XIII века Ибн ал-Араби, были известны Данте. Отсюда — отдельные совпадения между «Сокровищницей тайн» и «Божественной комедией».
Книга первая — золото. Новый открылся рудник.
А вторая — жемчужина. Дар из пучины возник. [63] Дар из пучины возник. — Пучина — море, по-персидски омоним слова, которое значит «стихотворный метр». Низами говорит здесь о том, что его поэма написана другим стихотворным метром, чем «Сад истин».
Та — для всех из Газны́ понесла свое знамя. Другая —
На румийском дирхеме чекан поместила, сверкая.
Хоть звенит звонким золотом прежний блестящий дирхем,
Мой дирхем золотой ты сравнить не сумеешь ни с чем.
Пусть моих караванов не так многочисленны вьюки,
Но сдаю свой товар я в прекрасные, в лучшие руки.
Вникни в книгу мою. Книга будто чужда и странна,
Но прими ее ласково. Близкою станет она.
В ней слова — что цветы насажденного правильно сада.
В ней одно лишь свое, ничего ей чужого не надо.
Для стола твоего эти яства готовились мной.
Их прими, государь, их никто не касался иной.
Коль они хороши, то да будет тебе в них услада,
Если нет, то и помнить о яствах подобных не надо.
Ты читай мою книгу, блистая меж звездных гостей,
Со стола своего ты мне кинь хоть немного костей.
Я ведь только твой пес, и расстался я с роком угрюмым,
Услужая тебе этим лаем покорным и шумом.
Мне немало владык благосклонно внимало, но я
Их оставил. Тебе предназначена служба моя.
Будет время, я знаю, на верного глянешь ты с верой.
И, приблизив меня, наградишь меня полною мерой.
Хоть в чертог, где живут только те, чьи сверкают венцы,
Для хвалений вседневных пришли отовсюду певцы.
Оценить Низами кто из них не сумел? Одиноко
Он стоит пред певцами, стоит перед ними высоко.
На стоянке одной повстречался я с ними в пути.
На один переход я их все же сумел обойти.
Мой язык — что алмаз. Этот меч мой, — тебе ведь он ведом.
Я им головы снес, всем за мной появившимся следом.
Этот меч Низами, многим головы сбросивший с плеч,
Не стареет. Ведь он — притупленья не знающий меч.
Хоть мне равных и нет и удел мой высок настоящим,
Но для ног Низами есть предел, еще выше стоящий.
Я к зениту лечу, хоть его и высоки сады,
Но вкушу я, быть может, своих помышлений плоды.
И, быть может, твоим благосклонным утешенный словом,
Возле ног твоих царских склонюсь я под царственным кровом.
Чтоб достичь небосвода, за пыль твоих стоп ухвачусь.
До созвездий крутящихся как же еще я домчусь?
Быть с тобой два-три месяца так я хотел, чтоб хвалами
Твой порог осыпать. Но суровыми, злыми делами
Занят горестный мир; я в кольце, и заказан мне путь, [64] …я в кольце, и заказан мне путь. — Низами говорит здесь о том, что в то время, когда он пишет эти строки, кругом идет война, и он не может приехать к Бахрамшаху.
И тугое кольцо я не в силах сейчас разомкнуть.
Чтобы быть мне с тобой, чтобы встать мне у тронных подножий,—
Мне казалось, о шах, из своей мог бы выйти я кожи.
Но хоть множество львов на дорогах предчувствовал я,
Хоть мечей и кинжалов сверкали везде лезвия,
На путях, преграждаемых злыми клинками, — с тобою
Пребываю душой. Утверждаю тебя я хутбою.
Направляю к тебе я бегущую воду речей.
Я — недвижный песок, словословья звенящий ручей.
Я — пылинка. Ты — солнца на утреннем небе явленье.
Я молюсь на заре. Да услышится это моленье!
Сердце — море. В нем жемчуг. Moй жемчуг сияет огнем.
Этот жемчуг — подвески на поясе царском твоем.
Ночь твоя пусть вовек ярче звездных блестит узорочий!
Пусть твои жемчуга озаряют течение ночи!
Пусть тебя в сей обители бедствий не мучает гнет!
Пусть другая обитель тебе еще ярче блеснет!
Речь о превосходстве слова
В час, как начал надзвездный свои начертанья калам, [65] В час, как начал надзвездный свои начертанья калам. — По мусульманскому учению, предвечно сотворенный калам (тростниковое перо) начертал на скрижали в горнем мире все судьбы вселенной (ср. выше). Таким образом, первым в порядке сотворения мира было слово. Эта гностическая теория встречается в Коране (божественный приказ «будь!» ср. выше), в Евангелии от Иоанна («Вначале было слово, и слово от бога…») и других источниках. Исходя из нее, Низами придает слову особое мистическое значение.
С первой буквы о слове он начал рассказывать нам.
В час, как с тайны предвечной упали тумана покровы,
Стало первым явленьем — сиянье великого слова.
Слово в сердце проникло, к неведомой жизни спеша.
В глину вольное тело вмесить пожелала душа.
И небесный калам, золотые сплетая узоры,
Мудрым словом раскрыл мировому познанию взоры.
Если б не было слова, то кто бы о мире сказал?
Всё сказали слова, был поток их речистый не мал.
В языке у любви слово — наша душа; это слово —
Сами мы, и оно — освещенье айвана любого.
Нити связанных мыслей, ночную развеявших мглу,
Много слов привязали к стремительной птицы крылу.
В том саду, над которым предвечные звезды повисли,
Что острее, чем слово толкующих тонкие мысли?
Ведай: слово — начало, и ведай, что слово — конец.
Многомудрое слово всегда почитает мудрец.
Венценосцы его венценосцем всевластным назвали.
Мудрецы же его доказательством ясным назвали.
И порою оно величавость дает знамена́м.
И порою его прихотливый рисует калам.
Но яснее знамен оно часто вещает победы,
И калама властней вражьим странам несет оно беды.
И хоть светлое слово не явит благой красоты
Почитателям праха, чьи праздные мысли пусты,—
Мы лишь в слове живем. Нас объемлет великое слово.
В нем бесследно сгореть наше сердце всечастно готово.
Те, что были как лед, засветили им пламенник свой,
А горящие души его усладились водой.
И оно всех селений отраднее в этом селенье,
И древней, чем лазурь, и, как небо, забыло о тленье.
С цветом выси подлунной и шири не сходно оно,
С языками, что слышатся в мире, не сходно оно.
Там, где слово свой стяг поднимает велением бога,
Там несчетны слова, языков там несчитанных много.
Коль не слово сучило бы нити души, то ответь,
Как могла бы душа этой мысли распутывать сеть?
Весь предел естества захватили при помощи слова.
Письмена шариата скрепили при помощи слова.
Наше слово таил вместе с золотом некий рудник.
Пред менялою слова он с этой добычей возник.
«Что ценней, — он спросил, — это ль золото, это ли слово?»
Тот сказал: «Это слово». — «Да, слово!» — промолвил он снова.
Все дороги — до слова. Весь путь неземной для него.
Кто все в мире найдет? Только слово достигнет всего.
Слов чекань серебро. Деньги — прах. Это ведаем все мы.
Лишь газель в тороках у блестящего слова — дирхемы.
Лишь оно на престол столько ясных представило прав.
И держава его всех земных полновластней держав.
Все о слове сказать наше сердце еще не готово.
Размышлений о слове вместить не сумело бы слово.
Пусть же славится слово, пока существует оно!
Пусть же всем, Низами, на тебя указует оно!
Превосходство речи, нанизанной в должном
порядке, перед речью, подобной
рассыпанным жемчугам
Если россыпи слов, что размерной не тешат игрой
Те, что чтут жемчуга, жемчугами считают порой.
Тонких мыслей знаток должен знать, что усладою верной
Будет тонкая мысль, если взвешенной будет и мерной.
Те, что ведают рифмы, высоко влекущие речь,
Жемчуга двух миров могут к речи певучей привлечь.
Двух сокровищниц ключ, — достижений великих основа,—
Есть язык искушенных, умеющих взвешивать слово. [66] Двух сокровищниц ключ, — достижений великих основа, — // Есть язык искушенных, умеющих взвешивать слово. — Одна сокровищница — поэма Низами, вторая сокровищница — божественные тайны суфиев, изложенные символическим языком. В этом и последующих бейтах содержится намек на такую легенду. В ночь вознесения (см. выше) Мухаммед увидел над небесным престолом закрытое на замок помещение. Он спросил архангела Гавриила, что это. Тот ответил: «Это — сокровищница глубоких смыслов, а языки поэтов — ключи к ней».
Тот, кто меру измыслил к напевам влекущую речь,
Предназначил искусным блаженство дающую речь.
Все певцы — соловьи голубого престола, и с ними
Кто сравнится, скажи? Нет, они не сравнимы с другими.
Трепеща в полыханье огня размышлений, они
Сонму духов крылатых становятся часто сродни.
Стихотворные речи — возвышенной тайны завеса —
Тень речений пророческих. Вникни! Полны они веса.
В том великом пространстве, где веет дыханье творца,
Светлый путь для пророка, а далее — он для певца.
Есть два друга у Друга, [67] Есть два друга у Друга… — Друг — Аллах, два друга — пророки и поэты, несущие людям божественные тайны. чья светлая сущность едина.
Все слова — скорлупа, а слова этих двух — сердцевина.
Каждый плод с их стола — ты приникнуть к нему поспеши —
Он не только лишь слово, он часть вдохновенной души.
Это слово — душа. Клювом бренным ее исторгали. [68] Клювом бренным ее исторгали. — Клюв — рот человека, созданного, по Корану, из праха.
Мысли полно оно. Зубы сердца его разжевали.
Ключ речений искусных не стал ли водою простой?
От певцов, что за хлеб разражаются речью пустой?
Но тому, для кого существует певучее слово,
Дан прекрасный дворец. Он приюта роскошней земного.
И к коленам своим наклоняющий голову — строг.
Не кладет головы он на каждый приветный порог.
Жарким сердцем горя, на колена чело он положит, [69] Жарким сердцем горя, на колена чело он положит. — Здесь и далее описана поза мистической медитации — глубокого раздумья, — когда сидящий по-восточному, поджав ноги, склоняет в раздумье голову до самых колен, как бы замыкаясь кольцом.
И два мира руками зажать он, как поясом, сможет.
Если он, размышляя, к коленам склоняет лицо,
Он в раздумье горячем собой образует кольцо.
И, свиваясь кольцом, в бездну вод повергает он душу,
И затем, трепеща, вновь ее он выносит на сушу.
То в кольце созерцанья горит он, спешит он, — и вот
Он вдевает кольцо даже в ухо твое, небосвод! [70] Он вдевает кольцо даже в ухо твое, небосвод! — То есть человек может подчинить себе, сделать рабом (см. выше) даже небосвод, судьбу.То в ларец бирюзовый — уменья его и не взвесить! —
Только шарик вложив, из него достает он их десять.
Конь, стрекаемый словом, уносит его к высотам;
Дух его замирает и сам приникает к устам.
Чтоб достичь рудника, где свои добывает он лалы,
Семь небес он пробьет, совершая свой путь небывалый.
Как согласных детей, он слова собирает, — и рад
Их к отцу привести. Их отец — им излюбленный лад.
Свод небесный идет, изгибаясь, к нему в услуженье;
Тяжкой службы тогда незнакомо певцу униженье.
И становится благом напев его дышащих слов,
И любовью становится множества он языков.
Тот, кто образ рождает и мчится за образом новым,
Будет вечно прельщаться его вдохновляющим словом.
Пусть его Муштари чародейств поэтических чтут.
Он подобен Зухре. Им повержен крылатый Харут.
Если речи поклажа для дерзостных станет добычей,
Речь унизят они; это всадников низких обычай.
Их набеги готовы мой разум разгневанный сжечь!
Украшатели речи лишают достоинства речь.
Сердца плод, что за душу певец предлагает победный,—
Разве это вода, что за пищу вручает нам бедный?
Уничтожь, небосвод, этот ряд нам ненужных узлов,
Препоясавших пояс! Щадить ли метателей слов?
Ты мизинцем ноги развязать каждый узел во власти.
Наши руки бессильны. Избавь нас от этой напасти!
Те, что ждут серебра, а за золото на смерть пойдут,—
Лишь одно серебро, а не золото людям несут.
Кто за деньги отдаст то, что светит светлее, чем пламень,
За сияющий жемчуг получит лишь тягостный камень.
Что еще о «премудрых»? Ну, что мне промолвить о них?
Хоть восходят высоко, они ведь пониже других.
Тот, носивший парчу, тот, кто шаху казался любезным,
Все же в час неизбежный куском подавился железным. [71] …куском подавился железным… — то есть ему перерезали горло по приказу шаха.
Тот, кто был серебром, тот, кто к золоту ртутью не льнул,
От железа Санджара — ведь он серебро! — ускользнул. [72] От железа Саиджара — ведь он серебро! — ускользнул… — то есть тот, кто не унижается ради подачек шаха, может не опасаться и ого гнева, и казни.
Речью созданный мед отдавать за бесценок не надо,
Не приманивай мошек. Для них ли вся эта услада!
Не проси. Ведь за верность без просьбы получишь дары.
Для молитвы в стихах нужно должной дождаться поры.
До поры, как Закон [73] До поры, как Закон… — подразумевается шариат. не почтит тебя благостным светом,
Не венчайся ты с песней. Смотри же, запомни об этом!
Возведет тебя песня на лотос предельных высот,
И над царствами мысли высоко тебя вознесет.
Коль Закон осенит твою песню высокою сенью,
В небесах Близнецы не твоей ли оденутся тенью?
Будет имя твое возвеличено. Ведает мир,
Что «владеющий ладом в эмирстве речений — эмир».
Небосводу не надо к тебе наклоняться. В угоду
Светлым звездам твой стих будет блеском сродни небосводу.
С головою поникшей ты будь как подобье свечи.
Днем холодный всегда, пламенеющим будь ты в ночи.
Если мысль разгорится в движенье и жарком и верном,
Станет ход колеса, как движение неба, размерным.
Без поспешности жаркой свою облюбовывай речь,
Чтобы к выбору речи высокое небо привлечь.
Если в выборе медлишь и ждешь ты мучительно знанья,
Лучший лад обретешь ты: дадутся тебе указанья.
Каждый жемчуг на шею ты не надевай, погоди!
Лучший жемчуг, быть может, в своей ты отыщешь груди.
Взвивший знамя подобное — шар у дневного светила
Отобрал, [74] …шар у дневного светила отобрал… — Образ, взятый из игры в човган. Отобрать шар — значит выиграть, победить. Эти слова стали в языке фарси идиоматическим выражением. — и луна, с ним играя, свой мяч упустила.
Хоть дыханье его не горело, не мчалось оно,
То, что создано им, все ж дыханьем горящим полно.
В вихре мыслей горя, он похитил — об этом ты ведай —
Все созвездья, хоть сам пристыжен будет этой победой.
Из крыла Гавриила коня он себе сотворил,
И перо-опахало вручил ему сам Исрафил.
Пусть посевов твоих злой урон от нашествия минет!
Пусть конца этой нити никто у тебя не отнимет!
Ведь с инжиром поднос стал ненужным для нас потому,
Что все птицы из сада мгновенно слетелись к нему.
Прямо в цель попадать мне стрелою певучей привычно.
На меня посмотрите. Творенье мое — необычно.
Мною келья стихам, как основа их мысли, дана.
Дал я песне раздумье. Приемных не знает она.
И дервиш и отшельник — мои не прельстительны ль чары? —
Устремились ко мне. Не нужны им хырка и зуннары.
Я — закрытая роза: она в ожиданье, что вот
На ее лепестки ветерок благодатный дохнет.
Если речи моей развернется певучая сила —
То молва обо мне станет громче трубы Исрафила.
Все, что есть, все, что было, мои услыхавши слова,
Затрепещет в смятенье от властного их волшебства.
Я искусством своим удивлю и смущу чародея,
Обману я крылатых, колдующим словом владея.
Мне Гянджа — Вавилон, тот, которым погублен Харут.
Светлый дух мой — Зухра, та, чьи струны в лазури поют.
А Зухра есть Весы, потому-то мне взвешивать надо
Речь духовную. В этом от всех заблуждений ограда.
В чародействе дозволенном пью я рассветов багрец,
Вижу свиток Харута. Я новый Харута писец.
Я творю — Низами, — и своих я волшебств не нарушу.
Чародейством своим в песнопевца влагаю я душу.
О наступлении ночи и познании сердца[75] О наступлении ночи и познании сердца. — Сердце — в терминологии суфиев — вместилище самых высоких помыслов и чувств, той мистической любви, которая делает возможным единение с Аллахом. Вся глава представляет собой сложное символическое описание личных мистических переживаний Низами, до некоторой степени аналогичных вознесению пророка.
Солнце бросило щит, и щитом черной тени земля
Пала на́ воду неба, прохладу ночную суля.
Сердце мира стеснилось. Светило так тяжко дышало.
Ниспаданье щита все вокруг с желтым цветом смешало.
И спеша войско солнца — его золотые лучи —
Над его головою свои обнажило мечи.
Если падает бык, хоть он был ожерельем украшен,
Все клинки обнажают. Ведь он уже больше не страшен. [76] Если падает бык, хоть он был ожерельем украшен, // Все клинки обнажают. Ведь он уже больше не страшен. — Согласно средневековому комментарию, Низами сравнивает заходящее солнце с околевающим быком, которого хозяин спешит прирезать, пока он еще не издох, чтобы выпустить кровь. В образах этих первых стихов главы можно видеть отголоски древних иранских мистерий и жертвоприношений Митре — «солнцу-быку».
Месяц — нежный младенец — за ночь ухватился, а та
Погремушку мерцаний пред ним подняла неспроста:
Ей самой был тревожен сгустившийся мрак, и для мира
Не жалела она серебро своего эликсира.
И дыханьем Исы стал простор благовонный, земной;
Светлой влагой он залил пылание страсти ночной.
И смягчились настоем страдания мира больного,
И о сумраке страстном он больше не молвил ни слова.
Сколько крови он пролил! О, сколько ее он хранил!
Он простерся на ложе, и стал он чернее чернил.
И сказала судьба, все окинувши взором проворным:
«Мир с неверными схож, потому-то и сделался черным!» [77] «Мир с неверными схож, потому-то и сделался черным!» — Согласно мусульманскому представлению, у «неверных» в день Страшного суда лица станут черными.
И мгновение каждое эта ночная пора
Лицедейство творила, и кукол мелькала игра.
И луна то белела, то в розах подобилась чуду,
И Зухры яркий бубен дирхемы разбрасывал всюду.
* * *
Я в полуночной мгле, что была распростерта кругом,
Был в саду соловьем. Но мечтал я о саде другом.
С кровью сердца сливал я звучание каждого слова;
Жар души раздувал я под сенью полночного крова.
И, прислушавшись к слову, свою я оценивал речь,
И смогли мои мысли меня к этой книге привлечь.
И услышал я голос: «Ты с мыслями спорить не смеешь,
То возьми ты взаймы, что отдать ты бесспорно сумеешь.
Почему на огонь льешь ты воду приманчивых дней,
И запасный твой конь — буйный ветер мгновенных страстей?
Буйный прах позабудь, будто в мире узнал он кончину.
Но огонь ты отдай огневому, благому рубину. [78] Но огонь ты отдай огневому, благому рубину. — Под рубином Низами подразумевает человеческий язык, произносящий благие речи.
Быстрых стрел не мечи, ведь сужденье разумное — цель.
Плеть свою придержи. Неужель бить себя, неужель?
Но настала пора. Оставаться нельзя неправдивым.
К двери солнца приди водоносом с живительным дивом.
Пусть твой синий кувшин [79] Синий кувшин — небо. наши взоры утешит сполна;
Пусть он повесть хранит, и да будет отрадна она!
От пяти своих чувств, от злодеев своих убегая,
Путь у сердца узнай; иль не знать ему нужного края?»
Тем, чье чистое племя к девятому небу пришло, [80] Тем, чье чистое племя к девятому небу пришло. — Поэт говорит здесь о праведниках, приблизившихся к престолу Аллаха.
Гавриила пресветлого дивное веет крыло.
От обоих миров отвратить поспешивший поводья,
Встретив нищенство сердца, благие увидит угодья.
«Сердце — глина с водой». Если б истина в этом была,
Ты бы сердце такое у каждого встретил осла.
Дышит все, что живет, что овеяно солнечным светом.
Будь же сердцем горяч; бытие твое только лишь в этом.
Что есть уши и очи? Излишек природы они.
Слышат шорох завес, видят синие своды они.
Правды — ухо не слышит, как розы тугой сердцевина,
Очи разум смущают, они — заблуждений причина.
Что же розы с нарциссами чтишь ты в саду бытия?
Пусть каленым железом сжигает их воля твоя.
Словно зеркало — глаз: отразится в нем каждый ничтожный.
Он лишь в юности тешится мира отрадою ложной.
Знай: природа, что миру твой сватает разум, — должна
Сорок лет ожидать. [81] Сорок лет ожидать… — Суфии считали, что глубокие мистические переживания становятся доступными человеку только после сорока лет. Под сорокалетним возрастом они подразумевали срок наступления духовной зрелости. У Низами эта зрелость наступила, очевидно, около тридцати лет. Денег раньше не сыщет она.
Все же за сорок лет, чтобы стать пред желанным порогом,
Много денег она разбросает по многим дорогам.
Ныне друга зови. [82] Ныне друга зови. — Друг — Аллах, и одновременно «искренний друг», «помощник», «возлюбленная». Через любовь и искренность, согласно суфийскому учению, лежит путь к богу. Вместилище и любви, и способности познать бога — сердце. Заклинанья иные забудь.
Сорок лет подойдет, и тогда лишь всезнающим будь.
Руки сердца простри и гляди с ожиданием в да́ли.
Пусть разделит печаль тот, кто будет опорой в печали.
Не грусти! Вот и друг; он твою разделяет печаль.
Грусти шею сверни. Вместе с другом к отрадам причаль.
Распростертый в печали, подобной томленью недуга,
Помощь добрую сыщешь ты в помощи доброго друга.
Если дружат друзья так, что будто бы дышат одним,
Сто печалей, умчась, никогда не воротятся к ним.
Только первое утро забрезжит мерцающим светом,
Крикнет утро второе и звезды погасит при этом.
Знаем, первое утро не будет предшествовать дню,
Если дружба второго его не поможет огню.
Коль один ты не справишься с трудностью трудного дела,
Тотчас друга зови, чтобы дружба о нем порадела.
Хоть не каждый наш город богат, как блистательный Хар,—
Каждый найденньш друг — небесами ниспосланный дар.
Нужен каждому друг; с ним пойдешь ты в любую дорогу.
Лучший друг — это друг, что приходит к тебе на подмогу.
Два-три чувства твои не премудры; они не друзья;
Их кольцом ты стучишь только в дверь своего бытия.
Руки вдень в торока устремленного сердца! Отрада
Быть добычею сердца. Ему покоряйся. Так надо.
Царь девятого неба к тебе нисходящий в тиши,
Создал видимый мир, создал светлое царство души.
Следом души людей были созданы миром нездешним,
И души устремленье смешал он с обличием внешним.
Эти двое обнявшихся создали сердце. Оно
На земле воцарилось. Так было ему суждено.
И дано ему царством великим владеть, повсеместным.
И телесное все сочетается в нем с бестелесным.
Не Канопом ли сердца людской озаряется лик?
Облик наш, как душа, повелением сердца возник.
Лишь я стал размышлять о пылающем сердце, мой разум
Принял масло в свой пламенник. Многое понял он разом.
Дал я слуху веленье: «Прислушайся к сердцу! Спеши!»
Сделал душу свою я открытой веленьям души.
Красноречье свое напитал я возвышенным знаньем.
В душу радость вошла, а томление стало преданьем.
И взирал я не холодно. Стал я по-новому зряч.
Пламя сердца пылало, затем-то и был я горяч.
Узы сбросил я с рук. О земном я не думал нимало.
Возросла моя мощь, а грабителей сердца не стало.
Бег мой сделался быстрым, никто не поспорил бы с ним.
К двери сердца спеша я пришел переходом одним.
Я направился к сердцу, [83] Я направился к сердцу… — Далее идет символическое описание «вознесения Низами». мой дух — по дороге к исходу.
Полдень жизни прошел. Жаждал этого год я от году.
Я в священной максуре, и я размышляю. Мой стан
Изогнулся, стал шаром, а был он похож на човган.
Где тут шар, где човган, где пределы согнутого стана?
Вот кафтана пола, а прижался к ней ворот кафтана.
Из чела сделав ноги, я голову сделал из ног. [84] Из чела сделав ноги, я голову сделал из ног. — Описание сложной позы медитации, применяемой суфиями, а также йогами в Индии (ср. выше, где описана другая поза медитации).
Стал я гнутым човганом, и шаром казаться я мог.
Сам себя позабыв, покидал я себя все охотней.
Сотня стала одним, и одно мог увидеть я сотней.
Смутны чувства мои. Я один. Отправляюсь я в путь.
Мне чужбина горька; одиночеством сдавлена грудь.
Мне неясен мой путь, где-то нужная скрылась дорога.
Возвращенья мне нет, и благого не вижу порога.
И в священном пути застывала от ужаса кровь,
Но, как зоркий начальник, поводья схватила любовь.
Стукнул в дверь. Услыхал: «Кто пришел в этот час неурочный?» —
«Человек. Отопри! Я любовью ведом непорочной».
Те, что шли впереди, отстранили завесу. Они
Отстранили мой облик. Все внешнее было в тени.
И затем из большого, в богатом убранстве, чертога
Раздалось: «Низами, ты пришел! Что же ждешь у порога?»
Я был избран из многих. Мне дверь растворили, и вот
Голос молвил: «Войди!» Миновал я разубранный вход.
Был я в свете лампад, был я в блеске большого покоя. [85] Был я в свете лампад, был я в блеске большого покоя. — Речь идет о проникновении в «мир тела», об осознании, в ходе медитации, своего тела микрокосмом и затем дворцом с султаном, придворными и т. п. В соответствии с этим представлением, Низами говорит далее символически о внутренних органах своего тела: «селенье дыханья» — легкие, «царь полудня»-сердце (или мозг), «красный всадник» — печень, «некий отрок» — желчный пузырь, «мастер засады» — кишечник, «бронзовый стан» — почки, и т. п.
Глаз дурной да не тронет сиянье такого покоя!
Семь халифов блистали под ярким лампадным огнем,
Словно семь повестей, заключенных в сказанье одном.
Царство больше небес! Царство властного мощного шаха!
Как богат дивный прах — подчиненный столь дивного праха!
Вот в селенье дыханья — вдыханье. На царственный трон
Царь полудня воссел: управлял всеми властными он.
Красный всадник пред ним ожидал приказанья, а следом
Прибыл в светлой кабе некий воин, готовый к победам.
Горевал некий отрок, разведчик, пред царственным стоя,
Ниже черный стоял, пожиратель любого отстоя.
Был тут мастер засады, умело державший аркан,
И, в броне серебра, чей-то бронзовый виделся стан.
Были мошками все. Быть свечой только сердцу дано.
Все рассеяны были, но собранным было оно.
И свой отдал поклон я владыке прекрасному — сердцу.
Душу отдал свою я султану всевластному — сердцу.
Взял я знамя воителей жаркого сердца, и лик
Я от мира отвел: новый мир предо мною возник.
И сказало мне сердце: «Ты сердце обязан прославить.
Дух твой, птицам подобный, гнездо свое должен оставить.
Я — огонь. Все иное считай только дымом и сном.
Соль во мне лишь. Нету соли во всем остальном.
Я сильней кипариса с его многомощною тенью.
И над каждой ступенью вздымаюсь я новой ступенью.
Я — сверкающий клад, но Каруну не блещет мой свет.
Вне тебя не дышу, и в тебе я не кроюсь, о нет!»
Так сказало оно. И словес моих бедная птица
Позабыла о крыльях. Пришла ей пора устыдиться.
И в стыде, преклоненный, руками закрыл я лицо,
И в учтивости в ухо я рабское принял кольцо.
Благ, кто сердцем владеет. И вот я опять, как бывало,
Услыхал: «Низами!» Это небо меня прославляло.
Быть подвижником стойким — удел моего бытия.
И, склонясь перед властным, подвижником сделался я.

Первое тайное собеседование (О воспитании сердца)
И наставник высокий, как будто смирял он коня,
От узлов девяти был намерен избавить меня. [86] От узлов девяти был намерен избавить меня. — То есть Аллах хотел освободить Низами от власти девяти небес, от оков всего земного. Дальнейшее описание явно перекликается с отдельными местами «Божественной комедии».
Эти девять узлов он решил отстранять понемногу.
На веревки конец он поставил уверенно ногу,
Чтоб узлы перебрать, — все узлы, что достойны хулы,—
И тогда он с веревки последние срежет узлы.
И владеющий сердцем, в желанье высоком, едином
Мне на помощь прийти, — стал отныне моим господином.
В двух обширных мирах начал он мне указывать путь,
Захотел потому-то он в душу мою заглянуть.
Хоть от нас он достойного часто не видит вниманья,
Все же нас никогда своего не лишит состраданья.
Если я, недостойный, почтительность мог позабыть,
Научил он меня неизменно почтительным быть.
От подобного мне не пустился он в бегство. О новом
Он беседовать стал. Бедный прах удостоил он словом.
Из колодца, из мрака он вызволил душу мою,
Словно спас он Иосифа в чуждом, далеком краю.
Погасили огни многозоркой, внимательной ночи,
И чуть видной зари раскрывались блестящие очи.
Поднимался светильник, и яркого ждали огня,
И сапфирный покров стал багряным предвестником дня.
Взял наставник лампаду — мерцала отрадно лампада,—
Дал мне руку, и вот мы направились к зарослям сада.
Из полы моей тотчас он вынул колючки иглу,
И несчетные розы в мою набросал он полу.
Я смеялся, как рот приоткрытый тюльпана; с размаху,
Словно роза, в восторге свою разорвал я рубаху.
Был я крепким вином из прекрасных пурпуровых роз.
Был затянут мой пояс, как пояс затянутых роз.
Я вину был подобен, вину, что отрадно кипело;
Я был розой, чья радость найти не умела предела.
Я меж роз пробирался, спешил я, спешил я туда,
Где меж веток и листьев, журча, зарождалась вода.
И лишь только Любовь добралась до прекрасного края,
Там, где веяла верность, благой аромат разливая,
Дуновенье любимой в речениях, полных красы,
Оживило мне душу, подобно дыханью Исы.
И мой конь побежал непоспешным, умеренным бегом,
Ветерков предрассветных предавшись прельстительным негам.
Я услышал: «Кичливый, с коня ты сойди своего,
Иль я тотчас тебя увезу из тебя самого».
Я, подобный ладье, уносимой поспешной рекою,
Внемля веянью рая, пришел к золотому покою.
И, поток увидавши, немедля сошел я с коня.
И направился к берегу. Жажда томила меня.
Был поток, словно свет, знать, вовеки не ведал он бури.
Сновидения Хызра не знали подобной лазури.
И как будто во сне, вдоль жасминных он тек берегов;
И дремали нарциссы, усеяв прибрежный покров.
Этот край был причастен лазури небесного края;
Перед амброю здешней склонялось дыхание рая.
И ползучие розы — услада отрадных долин —
Высоко поднимались, порой обвивая жасмин.
Этим розам свой мускус охотно вручили газели,
А лисицы — свой мех, чтоб колючки колоться не смели.
Свежий ветер склонил над прекрасною розой главу.
Молодая газель возле розы щипала траву.
Златоцветы слились; на своем протяженье немалом
Они стали для амбры большим золотым опахалом.
Зелень тешила взоры, ведь взоры в ней радость берут.
Травы змей ослепляли: всегда их слепит изумруд. [87] Травы змей ослепляли: всегда их слепит изумруд. — Сложный образ. Согласно поверью, изложенному в средневековом комментарии, если змея посмотрит на изумруд, она ослепнет, а изумруд растечется, растает. Таким сложным путем Низами сравнивает свежую зелень лужайки с растекшимся изумрудом.
Всюду розы с жасмином для мыслен засаду сплетали.
Соловьи с сотней горлинок рифмы по саду сплетали.
Однодневная лилия — счастье для местности сей —
Подняла свою длань, будто поднял ее Моисей.
Дикий голубь лесной, что воркует всегда на рассвете,
Увидал, что вся высь в голубином раскинулась цвете.
На листке черной ивы рукою надежд ветерок
Описать прелесть розы в душистом послании смог.
И всему цветнику приносила весна благодарность.
Розы никли к шипам: ведь за мягкость нужна благодарность.
Был жасмин словно тюрок; шатром разукрасил он сад.
Над шатром полумесяц вознес он до самых Плеяд.
Сердцевины тюльпанов — индусского храма эрпаты,
Все тюльпаны в молитве великою тайной объяты.
Воды белкой казались, и были они — горностай.
Горностай рядом с белкой — отрадою взора считай.
Ветви сада из света, что слали небесные дали,
У подножий деревьев на землю дирхемы бросали.
Пятна света в тени — золотого сиянья уста,
И песок славословил прекрасные эти места.
Гиацинта лобзанья терзают фиалку; а к розам
Льнут колючки, и розы внимают их нежным угрозам.
В златоцвета колчане не сыщется колющих стрел;
Но щитом золотым все ж прикрыть он себя захотел.
Заколдована ива, дрожит, но тюльпана кадило
В дым ее облекло: чародейство оно проследило.
Весь цветник трепетал, и казалось, вот-вот улетит;
И казалось, жасмин в легком ветре куда-то спешит.
И поднялся тростник, раздавать сладкий сахар готовый;
Желтый конь лозняка, — будто в кровь опустил он подковы.
Дальше дикая роза — нам спеси ее не пресечь —
С пролетающим ветром вела торопливую речь.
Стал небесный простор зеленее листка померанца.
В этот миг захотела рассвета рука померанца.
Разукрасил свой стяг небосвод бирюзовый, но тут
С ним решил состязаться прекрасной земли изумруд.
Каждый узел ковра, что земля распростерла для пира,
Был душою земли, был и сердцем надземного мира.
Будто в свете рассвета, промолвила счастья звезда,
Наклоняясь к земле: «Будь всегда молодою! Всегда!»
Или небо велело сойти своему изумруду
Не к кораллам зари, а к земли воскрешенному чуду?
Весь источник сверкал, взоров гурий являл он привет.
Из источника солнца добыл он сверкающий свет,
И прибрежные травы свершили свои омовенья
С благодарной молитвой за светлые эти мгновенья.
Птице в веянье розы печаль Соломона слышна,
И Давидову песню, грустя, затянула она.
На ветвях кипариса за раною новая рана:
Их когтит куропатка за смерть золотого фазана.
Сад указ разгласил, пожеланий своих не тая:
«Да убьет злого ворона сладкий напев соловья».
Совы скрылись; ну что же, ведь это их рок обычайный.
Знать, погибли за то, что владели опасною тайной.
Веял мягкий Сухейль на зеленый раскинутый стан;
И земля — не шагрень; вся земля — это мягкий сафьян.
Встретить утро спеша, был тюльпан преисполнен горенья.
Сердце тяжко забилось: приводит к беде нетерпенье.
Тень ветвистой чинары, влюбленная в стройный тюльпан,
Длань к нему протянула: ей дар врачевания дан.
Лепесточек жасмина, похожий на месяца ноготь,
Ноготь ночи унес, целый мир захотел он растрогать.
Появился Иосиф, небес позлащая предел.
В подбородке жасмина он ямку с высот разглядел.
Как еврей, вся земля в ярко-желтом касабе. [88] Как еврей, вся земля в ярко-желтом касабе. — Во времена Низами евреи ходили в желтых одеждах. Белея,
Заблестела вода, как блестящая длань Моисея.
И земля вместе с влагой составила снадобье. Мгла
Благодатной земле все добытое вновь отдала.
Свет, разросшись, велел ветру свежему снова и снова
Тень деревьев гонять по смарагдам земного покрова.
Тени! Солнца уста! Был и слитен узор и красив,
И расчесывал ветер прекрасные волосы ив.
И поспешные тени мгновенно сменялись лучами,
И лужайки, смеясь, их своими ловили ключами.
Я к алоэ стремился, к нему-то и мчался мой конь.
Стал душистой курильницей пурпурной розы огонь.
Соловью стала роза зеленой мечети мимбаром,
Стал фиалковый пояс для розы пленительным даром.
Птица с песней Давида — всем сердцем ее восприми!
Роза с речью прекрасней речей самого Низами.
Плод первого тайного собеседования
Ветер смел покрывало, что мой прикрывало рассказ.
Сердце встретило розу, чей облик — отрада для глаз.
Видит сердце мое, видит розу с улыбкою сладкой;
Сахар с розой она победила мгновенного схваткой.
И в смятенье был месяц, узрев этот белый касаб.
С этим блеском бороться? Для этого слишком он слаб.
Ниспаданием локонов скрыта ее поясница.
Как прельстительна вся! Лишь во сне это может присниться,
Тот, что узрит ее, не удержит восторженных слез.
Сколько слез пролилось из-за столь восхитительных роз!
В ней и сахар и соль. Хоть красавиц на свете немало,
Для красавиц других больше сахара в мире не стало.
Ей пленять опьяненных, как свежему саду, дано.
Опьянит и отшельников крепкое это вино.
Алый рот — табархун; он багрянцем нежданным и смелым
Оттенил белый сахар. Пленен был он сахаром белым.
О тростник, полный сахара, розе пославший привет!
О сухой леденец! О душистый и влажный шербет!
И душа на алоэ, на родинку нежно взирала.
Амбру с мускусом родинка в ракушке дня растирала.
И, завидуя прелести свежей такого пятна,
Темных пятен узор для себя сотворила луна.
Жарче солнца всю душу сжигали блестящие очи.
Не луной — лалом уст озарялось все таинство ночи.
К ней обозы сердец на фарсанги тянулись, но путь
Был что рот ее узкий. Кто к розе сумел бы прильнуть?
Растерзать все сердца эта роза была бы во власти.
И утратил я сердце, и сердце распалось на части.
Рот прекрасной — что речь, и улыбка — вот сахар его.
Лик подобен молитве, а в черных глазах колдовство.
Этот пурпурный рот — словно ларчик таимых жемчужин.
Все же он приоткрыт; для беседы он также ведь нужен!
И любовь поглядела на ларчик, на жемчуг, на взор,
И для дел лицедейства спеша расстелила ковер.
Облик, зримый для глаз, снять с меня вмиг она захотела,
И на шее души узелочек распутала тела.
И, казалось, во мне человеческих не было сил,
И воды бытия для себя я уже не просил.
Колдовавший мой разум увидел возникшего Дива.
«Заковать бы его!» — пожелал я, исполнен порыва.
Сердце страстью горело, печалям глубоким грозя,
Но источник сиянья ведь глиной замазать нельзя?
Да, лишь только печаль над печалью склоняется нашей.
Исцеляют хмельных только новою винною чашей.
Что ты морщишь свой лоб? Ты на мне видишь множество ран?
Но ведь ты не проведал, что сад мне живительный дан.
Сад мне небом вручен, а тепло его — блещущим оком.
Был мне розой рассвет, были слезы — отрадным потоком.
И, укрытый за тканью меня окружавших завес,
Был мне подлинным другом. Он послан был волей небес.
Многодневно чело на свои опускал я колени,
Чтобы нить путеводная злые рассеяла тени.
И теперь я пошел по прямому, благому пути.
Друг мой, следуй за мною, за мною ты должен идти.
Ты не избран вести. Нужен опыт вседневный, богатый.
Все доверь Низами, — это опытный, верный вожатый.
Второе тайное собеседование (О ночном наслаждении)
Повелитель сердец начал пиршество в некую ночь;
Побеседовать с равными был он в ту пору не прочь.
Ночь сияла зарей, и на небе мерцали Плеяды.
И к молитвам отзывчивой скоро достиг он услады.
И собрания прелесть был бы всем вёснам в упрек.
И услада была неизбежна, как благостный рок.
Ароматы курильниц в оконца дыхание бросив,
Говорили о ткани, вещавшей, что прибыл Иосиф. [89] Говорили о ткани, вещавшей, что прибыл Иосиф. — Ткань — рубашка Иосифа. Согласно Корану, отец Иосифа Иаков, ослепший от горя об утраченном сыне, прозрел, вдохнув запах рубашки Иосифа. Так стало известно, что Иосиф скоро вернется. Этот стих — гиперболическое описание аромата неизъяснимой прелести.
Ночь велела уйти всем отрядам охранных частей
И всех мошек смела. Да ничто не тревожит гостей!
Как за тканью узорной напевы звучали — о диво!
Знатоки песнопений, дивясь, восклицали: «О диво!»
Руки кравчих в шелках. Блещет золотом каждый кувшин.
И в жемчужные чаши расплавленный льется рубин.
Гасла печень, сгорая, и гасли светильники ночи.
Пламень сердца пылал, словно пламени рдяные очи.
И на плоских курильницах, блеском ласкающих взгляд,
Аромат создал сладкое, сладкое жгло аромат.
Сахар с розой в сосудах творил животворные чары.
Свет свечей, колыхаясь, бросал, золотые динары.
Было там и вино, что нас тешит и гасит печаль,
Рот и очи любимой и сахар несли и миндаль.
Рот и очи смеялись. И счастьем любовным и ликом
Восхищалась Зухра, предаваясь беседе с Маррихом.
Обещанья любовные слышал влюбленный, и смех
Стал сбирать с милых уст подаянье полночных утех.
Леопарду подобная, мускус душистый газели
Вниз бросает Зухра. Косы черные льва одолели.
Друг схватил ее ворот, его драгоценный рукав
Бросил искры каменьев, к пленительной шее припав.
Словно кравчий — свеча. Пламень — чаша. И кружится пьяный
Мотылек, и вином уже залиты все дастарханы.
Сна не стало, о нет, он сгорел, как сгорел мотылек.
И свеча благодарна, и клонит она фитилек.
И Зухра, запылав и созвучий предавшись усладам,
Жадный слух веселила стремительным, радостным ладом.
Два мышленья друг другу давали мгновенный ответ,
Брал светильник, светя, у другого светильника свет.
То, что многим давало медлительной жизни теченье,
Другом другу дарилось в одно золотое мгновенье.
Посылали дары — ведь восторга нельзя превозмочь! —
Сердце — сердцу, дух — духу и плоти влюбленная плоть.
Иль из пышных чертогов, которые к пиршеству звали,
Все, в чем нет бытия, за предел бытия побросали?
Птица радости ввысь полетела с отрадным письмом,
Чтоб Зухры благодатной обрадовать радостный дом.
Пламень птицы рассвета, [90] Пламень птицы рассвета… — Речь идет о солнце, которое в древности изображалось в виде крылатого диска. попавшей на вертел, прохладу
Даровал двум влюбленным, смиряя разлуки досаду.
Словно петел погибший, был скрытый рассвет недвижим.
Месяц был полонен, и застыл свод небесный над ним.
В дверь кольцом не стучали. Чужой! О, да будет далек он!
Обвивал шею милого нежной красавицы локон.
Что дверное кольцо, хоть мало оно очень? Смотри:
Меньше перстня обычного стала душа Муштари.
Те, что схожи с пери́, те, что будто назначены негам,
Все свободные души сломить порешили набегом.
Средь жасминов и роз, чтобы души попадали ниц,
Все колючки они заменили шипами ресниц.
О плоды! Ведь сердца не вкушали столь сладких ни разу.
Млели души. Пери́ не подобны ли гибкому вязу?
Сладкий рот что орешек! И взоров миндаль. И предлог
Для лобзанья — фисташка, [91] Для лобзанья — фисташка… — Приоткрытый рот красавицы часто сравнивают в поэзии на фарси с раскрывшейся фисташкой. и нежный над нею пушок!
В ночь, что слаще пушка, волхвовали: колдун Вавилона —
Черный взор, да индус — прелесть родинки. Бойся полона!
Ведь от родинки черной, от взоров, таящих обман,
Вся земля — Вавилон и любая страна — Индостан!
Взгляд ответил на взгляды, и сердце в решении скором
В путь священный пошло, чтоб склониться пред блещущим взором.
Но язык быстрых взоров опасней был множества стрел,
Кудри были запутанней всех человеческих дел.
Каждый взгляд был как лучник, влюбленный, и нежный, и смелый.
Тяжко сердце разили еще не летящие стрелы.
Не дыханье ль Исы оживляло сердца? И могуч
Из комков красной глины бежал воскрешающий ключ.
Запах роз и жасмина струился влюбленным в угоду,
И попона служенья легла на плечо небосводу.
Сахар сладких ланит… миндали рассыпающий лал…
О, какой сладкий сахар на лике прекрасном лежал!
Каждый взгляд открывал в целый мир неожиданно дверцу.
В каждой черной реснице был храм, предназначенный сердцу.
Был у белой щеки черный локон безмерно красив!
Словно мускус лежал на серебряных листиках ив.
Подбородок округлый был с нежною ямкой. Но что же
Ты сравнил бы с лицом? На него только солнце похоже.
Авраамовы кудри — к светилу приникли они.
Исмаила глаза, а ресницы — кинжалам сродни.
Но ресницы чаруют, и милая блещущим ликом
Все сердца опьяняет: душистым он стал базиликом.
Поцелуи томят, убивают. Ну что ж? Ведь уста,
Как Иса, воскресят — чаша жизни не будет пуста.
Капли пота на розе влюбленного радуют взгляды.
Это — жатва луны, и блестят они, словно Плеяды.
Растворилась калитка на вороте гурии. Свет,
Что нежнее зари, нежным взорам направил привет.
Каждый муж многоопытный, каждый бездумный, немудрый
Обезумел от света, что бросил кумир чернокудрый.
Говорили глаза, коль смолкала усталая речь;
Им хотелось уста от их связанной речи отвлечь.
Золотое вино в светлой чаше — нарцисс. Ароматом
Все оно заполняло в чертоге большом и богатом.
Разум быстро хмелел. Круг за кругом прошел он, и вдруг
Все терпенье, увы, у него ускользнуло из рук.
Все уста пировавших полны были только лишь смеха.
Было трудно вздохнуть… бесконечная длилась утеха.
Не смиренным найти в этих звуках источник услад.
Только буйным звучал этой песни возвышенный лад.
И сумел этот лад в полнозвучном и мерном рассказе
О Махмуде сказать и сказать о прекрасном Аязе.
И стихи Низами разбросали и сахар и хмель,
Воспевая пери́, за газелью поющих газель.
Плод второго тайного собеседования
Жизни той, что цвела на разостланном богом ковре,
Вновь не стало. Смотри: сколько смен в этой вечной игре!
Ухо сердцу писало о всем, что даровано слуху.
Взор склонялся к земле, всем явлениям близкий по духу.
Сахар сладость утратил от смеха тюрчанок, а глаз
Горячее сверкал, видя гурий, настроивших саз.
И мой тюрок, — мой месяц в касабе сверкающем белом
Разорвал мое сердце набегом внезапным и смелым.
Полумесяц, на темень махнувший с презреньем рукой,
Нам бессменно сиял, осветив наш отрадный покой.
Если взор ее быстрый во взор мой кидался с размаху,
Вся душа, преклоняясь, мгновенно подобилась праху.
Так светила она, что свеча истекала в слезах,
А светильник мигал и от горестной зависти чах.
Пусть чинила она мне любую обиду, я в этом
Видел только лишь благо, и ночи казались мне светом.
И она предо мною сияла прибрежным цветком,
Я, смиренно склонясь, расстилался пред ней ручейком.
Но в те ночи с любимой, лобзанья вкушая с ней вместе,
Словно фиников сладость, не внял я таинственной вести.
Я не ведал, что месяц, которого сладостней нет,
Тайный месяц скрывал, — тот, который воистину свет.
Был влюблен я в себя, но любим был я месяцем дальным.
Он грустил обо мне, но меня заставал беспечальным.
Сердце в страсти шептало: «О, если бы пламенный день
Нашей ночи не сжег, не спугнул ее сладкую тень!»
Но ведь ночи мои не сулили покоя. С испугом
Вдаль гляжу: в Судный день их сочту ли ходатаем, другом?
Жду я ночи, сияющей в солнечном, в дивном огне!
Но желанная ночь мне не видится даже во сне.
Лишь в подобную ночь мне была бы доступна отрада.
Я возжаждал ее, и других мне ночей уж не надо.
И шепчу я: «Господь, ты мне все помоги превозмочь,
Лишь бы только увидел я эту горящую ночь!»
Эта ночь — озаренье, над тягостной тьмою победа,
Эта ночь — словно ночь для надзвездных путей Мухаммеда.
Чтобы яхонт добыть, месяц роет небесный рудник;
Дивной ночи желая, к кирке он с упорством приник.
День, что только и дышит своей неприязнию к ночи,
Также к ночи благой устремляет горящие очи.
Я проснулся, и солнце, свой меч на дороге зари
Поднимая, промолвило: «Небо, мне дверь отвори!»
И от пламени солнца, узрев эти рдяные розы,
На айвана ковер пролил я бесконечные слезы.
В небе облако встало. Омыло оно с высоты
Ткань, скрывавшую солнце, — душистых деревьев листы.
В голубом водоеме, запруженном солнцем, кувшины
Мы разбили б свои, уцелеть бы не смог ни единый.
Небосвод, полный звезд, отказался от их серебра,
Молвив: «Чистого золота уж наступила пора!»
Утро быстро проснулось и в свете сверкающем, алом
Вслед кровавой заре побежало с блестящим кинжалом.
Битвы с ним я страшился. Я тотчас же бросил свой щит,
Сделав душу щитом. Злое утро смертельно разит.
Перепрыгнув ручей, на мою оно душу напало,
И ночной звездный мост предо мною оно разломало.
И зажглось мое сердце, и так закричало, горя:
«Разве ты — отомщенье? Иль ты — воздаянье, заря?
Знал я много услад, видел нежные очи, бывало,
Я лампады имел, озарявшие ночи, бывало.
Но те ночи ушли, тех лампад мне не видится свет;
Их как будто бы не было, нет их уж более, нет!
Так ужаль мою грудь, ты, мне бывшая сладким напитком,
Ты, что нежила сердце, предай меня сладостным пыткам.
На несветлого сердцем направь свой безжалостный меч,
Ведь того, кто сожжен, без труда можно пламенем жечь!»
Так не мог удержать я ни горького плача, ни стона,
И кровавые слезы заря полила с небосклона.
И сгорел светлый день от моей беспросветной тоски.
Ключ светила замерз, и холодные сжал я виски.
Но хоть яд я вкушал, небеса мои ведали муки,
И ночная змея светлый камень мне бросила в руки.
И когда растворился я в светлом сиянье зари,
Я забыл обо всем и услышал: «Душой воспари!»
Те, чьи взоры могли многоцветной достичь колыбели,
Света больше, чем зори, принять в свои души сумели.
Как бесславны твои беспросветные ночи! Огнем
Им гореть со стыда перед новым ликующим днем.
Я постиг эту ночь, я постиг этой ночи призванье,
Мне в моем постиженье мое помогало познанье.
Ткань завесы безмолвия! Мир одиночества — ночь!
А свеча — наше зренье. Нам сумрак дано превозмочь.
Розы страстных ночей, их душистый джуляб и алоэ —
Многих раненных в сердце беда и мучение злое.
То, что благом ты счел, то, чему оказал ты почет,—
Было только преддверьем той ночи, которая ждет.
Кто во тьме, что чернее, чем негр, провлачил свои годы,
Ржою тот изъязвлен, все нутро ему съели невзгоды.
Но зарей, что к свече так влеклась, как любой мотылек,
Свет свечи заблестел, и к прозренью меня он повлек.
Так возьми же свечу, хоть она угрожает ожогом.
Светоч взял Низами. Этот светоч вещает о многом.
Речь первая — о сотворении человека
До поры, как любовь не явила дыханье свое,
В бездне небытия не могло засиять бытие.
Но счастливец великий в своей непостижной отчизне
Захотел бытия, и завесы раздвинул он жизни.
Он был сыном [92] Он был сыном… — Течь идет об Адаме. последним воздушных, летучих пери,
Первым сыном людским в озарении первой зари.
Получил он от неба халифства величье, но следом
Свой утратил он стяг. [93] Свой утратил он стяг. — Намек на грехопадение. После снова пришел он к победам.
«Он творцом был научен». О, сколько в нем чистого есть!
«Бог месил его глину». Какая безмерная честь!
Он и чистый и мутный, хоть золото в нем засияло,
Он и камень для пробы, и он же — пытливый меняла.
Он — любимец крылатых, смутивший их райский покой.
Со щеками в пушке, этот юноша — образ людской.
Взять опястье Адама! Для каждой души это — счастье!
На запястье ему семь небес ниспослали опястье.
Две больших колыбели Адама баюкать могли:
В нем все помыслы неба и все помышленья земли.
В сорок дней он дитя; мир познанья младенцу не дорог.
Он — великий мудрец, если лет ему минуло сорок.
Он предвестник любви, он, любовь порождая, возник.
Он, как розовый куст благодатного рая, возник.
Это — взора всезрящего отблеск; исполнен он света;
Это — птица с ветвей, что над миром раскинулись где-то,
Птиц небесных привлек он к своих поучений зерну.
И глядят они вниз, постигая всю их глубину.
Но ведь он в небесах за пшеничное зернышко [94] Пшеничное зернышко… — По Корану, Адам, совершая грехопадение, съел зерна пшеницы, а не яблоко, как в Библии. Здесь и далее Низами утверждает превосходство Мухаммеда над всеми другими, прежними пророками, включая в их перечисление, как и некоторые другие мусульманские авторы, Давида и Иосифа., зная,
Что на землю сойдет, отдал все наслаждения рая.
Он попался в силок, хоть одно лишь он видел зерно.
О, как было мало, о, как было ничтожно оно!
И пришел он с молитвою в мир бытия, и в поклоне
Все склонилось пред ним. На земном воцарился он лоне.
Он для всех был кыбло́й, он для всех был в сиянии зрим.
Лишь один возмутившийся пасть не хотел перед ним. [95] Лишь один возмутившийся пасть не хотел перед ним. — Намек на Иблиса, дьявола, согласно Корану, не пожелавшего поклониться Адаму и извергнутого за это Аллахом из сонма ангелов.
Лепестки, что он сыпал, что прежде в Эдеме блистали,
Стали негой для всех, а для дьявола — углями стали.
Но без рода людского он счастья не знал бы совсем.
Для него, одинокого, цвел бы напрасно Ирем.
У кого бы другого была столь великая сила,
Чтобы дел человеческих горе его не сломило?
Было сердце его страстью к светлой пшенице полно.
Как пшеницы зерно, от огня раскололось оно.
И стремленье уйти, и забыть о лазоревом крове,
Есть пшеницу земную — и сладко все было и внове.
Ни отца, ни детей. Как зерно, должен он прорасти
И в камнях быть измолотым. Ждал он такого пути.
Только брошенный в землю, надеждою стал он земною,
Светлоликим он стал. Ведь прощен был он силой иною.
И на тело его зной набросил — пшеничную тень.
Как на лунном шагрене, на ней был заметен ячмень.
Ячменю и пшенице ужель не постыла их ссора?
Вновь ячмень загрустил. Ведь пшеница отрадней для взора.
Лишь в эдемском саду съел нежданно пшеницу Адам,
Вскрылось сердце его, и желаньем он был уж не там.
Как унижен он был; жаждал этого демон двурогий.
Съел пшеницу Адам, и свернул он с надежной дороги.
К тяжкой жесткости сердца пшеничное клонит зерно.
Тяготенье к пшенице. К безумью приводит оно.
И лишь только пшеница всеобщею стала едою,
Рот раскрыла она, угрожая всеобщей бедою.
Где истоки души? Миновал им назначенный срок.
Да, пшеничное зернышко — это опасный силок.
Ешь лепешки ячменные. Надо ль к иному стремиться?
Вспомни участь Адама: его обманула пшеница.
Обладающий сердцем! Ты дьяволу молви — не лги!
Мощный лев шаханшаха, не стань ты собакой слуги!
Не свершай омовений; сперва ты избавься от срама
Прегрешений своих; в этом следуй примеру Адама.
Благотворно раскаянье. Шествуй по древним следам.
Испытавши раскаянье, многое понял Адам.
Вожделенье направив к сверканью увиденных зерен,
Стал он нивам земли, стал он темному праху покорен.
Он обман свой увидел. И грех был не легок, не мал:
Соблазненный пшеницей, в силок он навеки попал.
Смятой розе греха многослезный поток он направил
И свой царский шатер в Сарандибе затем он поставил.
От греха он бежал, и свой черный направил он лик
В эту землю, чтоб в ней черный род возле моря возник.
Брал индиго он там из небесного хума, одежды
Красил им в Индустане: еще он не ведал надежды.
Но греха синеву он с ладоней отмыл, и у ног
Новый злак он узрел. А индиго текло, как поток.
Стал он тюрком китайским. Он месяцем стал белоликим,
Спрятав кудри греха покаяния шапкой. Великим
Овладел на земле он престолом, когда от грехов
Он смиреньем избавился. Ждал его царственный кров.
На земле справедливости сеял он истины семя,
Дал он правду в наследье народам на долгое время.
У хранителя рая сокровища взял он и, рай
Покидая, принес их в земной новонайденный край.
Так воспользуйся, смертный, с такого богатства доходом!
Он посеял, а жатву он всем предоставил народам.
От Дыханья кадила алоэ дышать тяжело.
Мастер седел виновен, что ослику тяжко седло.
Но ведь все ж не напрасно, о смертный, ты призван для жизни,
Милосердье в своей ты порою встречаешь отчизне.
На реке юных дней, в свежих розах, стремится ладья.
Зацепиться страшись за шипы своего бытия.
Будет осень, так в путь ты весной устремляйся, счастливый,
Ты боязни не знай: все сгорят и сгорит боязливый.
Ты не лев, о трусливый; нет, ты не подобие льва.
И душе твоей робкой отважные чужды слова.
Можно льва написать под высокой дворцового сенью,
Но и сотней ударов его не принудишь к движенью.
Человеку прекрасных, небесных одежд не дано.
Праху — прах. Никаких ему светлых надежд не дано.
Как бессильна звезда, что горит обещанием счастья.
Плачет сердце твое. А печали не видят участья.
Почему же тебя, разрушителя вражеских стен,—
Огневой небосвод захватил в неожиданный плен?
Ты в круженье небесном, так будь с препоясанным станом
В услуженье покорном. Его не избегнуть обманом.
Будь подобен огню, ничего нет быстрее огня.
Не отстань от созвездья, свою устремленность храня.
Будь водою ты легкой, которою славятся долы.
Ведь вода не тяжелая много ценнее тяжелой.
Только тонкостью стана людской обольщается глаз.
Только легкие души ценны и желанны для нас.
Ветер мира свершает движенья свои круговые,
Ты, что Каф, недвижим. Где ж порывы твои огневые?
Иль в стремлении к розе шипов одолеть ты не смог?
На себя не гляди, как фиалки склоненный цветок.
Ты лишь только собой населяешь земные просторы,
На себя самого направляя беспечные взоры.
В этом доме обширном ты каждый одобрил предел,
Но ты в доме — ничто. Ведь не этого все ж ты хотел?
Сам в себя ты влюблен, перед зримым в восторге великом.
И, как небо, ты зеркало держишь пред блещущим ликом.
Если б соль свою взвесил, ты спесь бы свою позабыл;
И тогда бы за все небесам благодарен ты был.
Позабудь притесненье. Отправься в иную дорогу.
Что есть люди, скажи? Устремляйся к пресветлому богу.
Ты познай его благость, лишь этим себя мы спасем.
Ты познай свою скверну и небу признайся во всем.
Если ты устыдишься, к молитвам в слезах прибегая,
Милосердной и щедрой окажется сила благая.
Повесть о падишахе, потерявшем надежду
и получившем прощение
Некий муж справедливый и чтимый в обширной стране
Справедливость не знавшего как-то увидел во сне
И спросил: «Что творец совершает в своей благостыне
С днями злости твоей в ночь, тебя охватившую ныне?»
Тот ответил: «Когда смертный час я готов был принять,
Я весь мир оглядел; мне в томленье хотелось узнать,
Кто бы смог указать мне надежды благую дорогу
Иль поведать, что милость великому свойственна богу.
Но ни в ком из живых состраданья не встретилось мне,
И помочь в моих бедах желанья не встретилось мне.
Стал я иве подобен, в испуге охваченный дрожью,
Пристыженный, смущенный, и я милосердию божью
Всей душой предался, только в нем свой увидев оплот.
На крученье воды я бесплодный оставил расчет
И промолвил творцу: «Я стыжусь, я познал униженье,
Посрамленному, боже, любое прости прегрешенье.
Хоть я воле твоей не внимал до последнего дня,
Хоть отвергнут я всеми, но ты не отвергни меня.
Иль, карая меня, шли любого ко мне лиходея,
Иль мне помощь подай, обо мне в милосердье радея!»
И покинутых друг, избавляющий их от тревог,
Тяжкий стыд мой увидел и мне благосклонно помог.
Отвечая стенаньям, благой преисполнен заботы,
Он приподнял меня и свои оказал мне щедроты».
Тот, кто ведал раскаянье, грешные мысли гоня,
Будет стражем порядка в сумятице Судного дня.
Тот, кто взвешивал ветер, [96] Тот, кто взвешивал ветер… — то есть занимался бесполезным делом, предавался страстям. забудет свои упованья;
Он в убытке всегда, он узнает одни лишь страданья.
Если ветер ты взвешивал долгие годы, не год —
Сколько знал ты убытка и сколько узнаешь невзгод!
Камень с жемчугом взвешивать страсти твои да устанут!
Пусть весы будут пусты, а дни твои полными станут!
Этот камень земли ты на мыслей весы не клади;
Ведь земля — шарик глиняный, тешиться им погоди.
Лишь дирхем — жалкий мир, что в тебя поселяет желанья.
Все, чем дышишь в миру, — твоего легковесней дыханья!
Все, что в жизни находишь, что в ней обретаешь — отдай;
Все, пока на земле ты еще пребываешь — отдай,
Чтобы в день воскресенья ты был бы от груза свободен,
Чтобы ты не молчал, чтоб, ответив, стал небу угоден,
Чтоб ты не был в долгу у детей, свой утративших кров,
Чтобы совесть твою не тягчили стенания вдов.
Брось потертый ковер, уходи из обители мглистой.
Дорожить ли полой, что давно уже стала нечистой?
Иль, чтоб странником стать, собери свой дорожный припас,
Иль, вослед Низами, скройся в тень от назойливых глаз.
Речь вторая — наставление шаху о справедливости
О властитель, чьи мысли царят над любым из царей,
Что несметным венцам шлет жемчужины многих морей,
Если ты — государь, ты ищи драгоценного крова;
Если ты — драгоценность, венца ты ищи неземного.
Из предвечного света, которым овеян простор,
На тебя не один благодетельный бросили взор.
Ты ценнее всего. Словно городом, правишь ты миром.
Все, что ныне на свете, тебя почитает кумиром.
О, какою страною владеешь безмерною ты!
О, гордись, над страной возвышаешься верною ты.
Времена твои выйдут из круга столетий; с тобою
Не сравнится вселенная ширью своей голубою.
Знаем: зеркало в небе заря поднимает, чтоб ты
В золотом этом зеркале царские видел черты.
Колыбель небосвода затем и забыла про бури,
Чтобы ты, как дитя, отдыхал в безмятежной лазури.
Ты — Иса наших душ, птица сердца, и скажет любой,
Что сравнить тебя можно бесспорно с одним лишь тобой!
Солнце в пламени страсти твоим восторгается ликом,
Потому-то оно и сверкает в пыланье великом.
Месяц так истощился! Он был уж совсем невелик.
Но опять он сияет: он снова увидел твой лик.
Ты превыше других. Наслаждайся всем жизненным миром.
Все печали отбрось. Не склонен, словно раб, ты пред миром.
Будь ко всем снисходителен, будь благодарнее вод.
Будь, как ветер свободный, свободен от тяжких забот.
Будь спокойной землею. Страстей не поддайся насилью.
Если землю встревожить, земля станет черною пылью.
Преклони пред создателем жаркую душу свою.
Вот как царствовать, царственный, должен ты в нашем краю.
Жду ответа, о шах! Отвечай же, вопросам внимая.
Где находимся все мы? Где скрыта обитель иная?
Все известно душе, что возвышенной веры полна,
И о мире ином все доподлинно знает она.
Этот мир ты обрел. Ты о вере подумай. Быть может,
Область веры найдешь, и она тебе в мире поможет.
Если ж мир ты отдашь, чтобы веру купить, — никогда
Не внимай слову дьявола: может нагрянуть беда.
Знай, крупица алмазная веры, ведущей из плена,
Камня магов грузней, хоть он был бы увесистей мена. [97] Знай, крупица алмазная веры, ведущей из плена, // Камня магов грузней, хоть он был бы увесистей мена. — То есть крупица веры ценнее мена (около трех килограммов) «философского камня» алхимиков («камень магов»), превращающего свинец в золото.
Камень темный отдай, а сверкающий камень возьми:
С ним и золото веры, что блещет, как пламень, возьми.
Тот, дающий припасы, — ну трудно ли нам это взвесить? —
Взяв припас твой единый, припасов пошлет тебе десять.
Состоянье свое поместить как бы лучше ты смог?
Сколько прибыли верной на свой ты положишь порог!
Стало долгом твоим воспитание праведной веры.
Мудрецы правосудные к этому приняли меры.
Вознеси правосудье, и всех осчастливишь людей.
Угнетателей свергни. Об этом бессменно радей.
Должен городу с войском ты блага желать, и на это
Город с войском ответят. Плохого не будет ответа.
Угнетающий царство — его разрушает, а тот,
Кто внимателен к людям, его к процветанью ведет.
Знай, развязка придет, и пред ней, не знававшей преграды,
Пусть твои будут мысли всему, что содеял ты, рады.
Дай спокойствие всем. Никому не чини ты обид.
Что за ними придет? Что за ними почувствуешь? Стыд.
Пьяный разум уснет, и, беды не увидев причину,
Правосудья ладья в неизбежную канет пучину.
Если б скорбным и бедным зажал ты безжалостно рот,
Если б отнял ты силой имущество нищих сирот,
Для себя отыскать ты какие бы смог оправданья
В день суда, на который придут все земные созданья?
Лик свой к вере направь, и опору найти будешь рад;
К солнцу стань ты спиной, не молись ему, словно эрпат.
Вышли ветер на мир. Чтоб лампада соблазнов угасла,
Своего в ней ни капли не должен оставить ты масла.
Разве мы — мотыльки? Мир блестит, но не думай о нем.
Не бросай же свой щит перед этим ничтожным огнем!
К той завесе, к которой Иса возлетел без усилья,
Ты стремись, чтоб ты сам за спиной мог почувствовать крылья.
Кто, подобно Исе, бросит душу в надзвездный полет,
Тот весь мир завоюет. По праву его он возьмет.
Притесняя подвластных, ты править страной не сумеешь.
Лишь призвав правосудье, ты царством своим овладеешь.
То, в чем нет справедливости, твой не умножит доход,
То, в чем нет правосудья, как ветер, тебя унесет.
Справедливость — гонец, что спешит наш обрадовать разум;
Тот работник, что в царстве все нужное сделает разом.
Справедливость твоя укрепляет сверкающий трон.
Если ты справедлив, вечно будет незыблемым он.
Повесть о Нуширване и его визире
На охоте одной Нуширван был конем унесен
От придворной толпы; с пышной знатью охотился он.
Только царский визирь не оставил царя Нуширвана.
Был с царем лишь визирь из всего многолюдного стана.
И в прекрасном краю — там, где все для охоты дано,
Царь увидел селенье. Разрушено было оно.
Разглядел он двух сов посреди разрушений и праха.
Так иссохли они, будто сердце засохшее шаха.
Царь визирю сказал: «Подойдя друг ко другу, они
Что-то громко кричат. Их беседа о чем? Разъясни!»
И ответил визирь: «К послушанию сердце готово.
Ты спросил, государь. Ты ответное выслушай слово.
Этот крик — некий спор; безотрадно его существо.
Этих сов разговор — не простой разговор, сватовство.
Та — просватала дочь, и наутро должна ей другая
Должный выкуп внести, и внести, ни на что невзирая.
Говорит она так: «Ты развалины эти нам дашь
И других еще несколько. Выполнишь договор наш?»
Ей другая в ответ: «В этом деле какая преграда?
Шахский гнет не иссяк. Беспокоиться, право, не надо.
Будет злобствовать шах, — и селений разрушенных я
Скоро дам тебе тысячи: наши просторны края».
И, услышав про то, что предвидели хищные совы,
Застонал Нуширван, к предвещаньям таким не готовый.
Он заплакал навзрыд, — он, всегдашний любимец удач.
За безжалостным гнетом не вечно ли следует плач?
Угнетенный, в слезах, закусил он в отчаянье палец.
«Ясно мне, — он сказал, — что народ мой — несчастный страдалец.
Мной обижены все. Знают птицы, что всюду готов
Я сажать вместо кур лишь к безлюдью стремящихся сов.
Как беспечен я был! Сколько в мире мной сделано злого!
Я стремился к утехам. Ужель устремлюсь я к ним снова?
Много силы людской, достоянья людского я брал!
Я о смерти забыл! А кого ее меч не карал?
Долго ль всех мне теснить? Я горю ненасытной алчбою.
Посмотри, что от жадности сделал с самим я собою?
Для того полновластная богом дана мне стезя,
Чтоб того я не делал, что делать мне в жизни нельзя.
Я не золото — медь, хоть оно на меди заблистало.
И я то совершаю, что мне совершать не пристало.
Притесняя других, на себя обратил я позор.
Сам себя я гнету, хоть иных мой гнетет приговор.
Да изведаю стыд, проходя по неправым дорогам!
Устыдясь пред собой, устыдиться я должен пред богом.
Притесненье свое я сегодня увидел и жду,
Что я завтра позор и слова поруганья найду.
В Судный день ты сгоришь, о мое бесполезное тело!
Я сгораю, скорбя, будто пламя тебя уж одело!
Мне ли пыль притесненья еще поднимать? Или вновь
Лить раскаянья слезы и лить своих подданных кровь!
Словно тюркский набег совершил я, свернувши с дороги.
Судный день подойдет, и допрос учинится мне строгий.
Я стыдом поражен, потому повергаюсь я в прах.
С сердцем каменным я, потому я с печалью в очах.
Как промолвлю я людям: «Свои укоризны умерьте!»
Знай: до Судного дня я в позоре, не только до смерти.
Станут бременем мне те, кого я беспечно седлал.
Я беспомощен! Помощь мне кто бы сейчас ниспослал?
Устремляться ли в мире к сокровищам блещущим, к самым
Дорогим? Что унес Фаридун? Что припрятано Самом?
Что указы мои, что мое управленье, мой суд
Мне навеки вручат? Что надолго они принесут?»
Взвил коня Нуширван. Сожигал его пламень суровый.
От огня его сердца коня размягчились подковы. [98] От огня его сердца коня размягчились подковы. — То есть шах так распалился и так погнал коня, что подковы чуть не расплавились от бешеной скачки.
И лишь только владыка примчался в охотничий стан,
Запах ласки повеял. Приветливым стал Нуширван.
В том краю он сейчас же тяжелый калам уничтожил. [99] В том краю он сейчас же тяжелый калам уничтожил. — Калам — здесь, в переносном смысле, налоговая запись. То есть он исключил тот край из налоговых списков, снял с него тяжелые налоги.
И поборы, и гнет, и насилье он там уничтожил.
Разостлав правосудье, насилья ковер он свернул.
Блюл он заповедь эту, покуда навек не уснул.
Испытаний немало узнал он под небом, — и веки
Он смежил, и добром поминать его будут вовеки.
Многомудрого сердца он людям оставил чекан.
И указ правосудья на этом чекане был дан.
Много благ совершивши, с земным разлучился он станом, [100] …с земным разлучился он станом… — то есть умер.
Справедливого каждого ныне зовут Нуширваном.
Дни земные свои проводи ты на благо сердец,
Чтоб тобой ублажен, чтоб тобой был доволен творец.
Следуй солнечным всадникам, [101] Следуй солнечным всадникам… — то есть иди за теми, от кого исходит свет добра. в свете благого устоя.
Беспокойством горя, для других ты ищи лишь покоя.
Ты недуги цели, хворым снадобья ты раздавай,
Чтоб вести ты достоин был небом дарованный край.
Будь горячим в любви, лютой злостью не будь полоненным.
Словно солнце и месяц, ко всем ты пребудь благосклонным.
Кто добро совершит, будь он мал или будь он велик,
Тот увидит добра на него обратившийся лик.
От указа творца небеса не отступят ни шагу:
Воздадут они злу, воздадут они каждому благу.
Проявляй послушанье, греха избегай, чтоб не быть
В посрамленье глубоком и скорбно прощенья просить.
Наши дни — лишь мгновенье; вот наше великое знанье.
Ты пребудь в послушанье. Превыше всего послушанье.
Оправданья не надо, не этого ждут от тебя.
Не безделья, в слова разодетого, ждут от тебя.
Если каждое дело свершалось бы с помощью слова,
То дела Низами достигали бы звездного крова.
Речь третья — о свойстве мира
О хаджа горделивый, хотя бы на краткие дни
Людям благо подай, рукавом ты над миром взмахни!
Будь не горем для всех, а блаженством живительным, коим
Утешают скорбящих. Отрадою будь и покоем.
Все в великом вниманье, и ты все величье души
На служение бедным направить, хаджа, поспеши.
Соломоново царство ты ищешь напрасно: пропало.
Царство есть, но ведь знаешь: царя Соломона не стало.
Вспомни брачный покой, что украсила пышно Азра,
Где влюбленный Вамик пировать с ней хотел до утра.
Только брачный покой, только кубки остались златые.
А Азра и Вамик — погребли их пределы чужие.
Хоть немало столетий над миром проплыло, мы зрим,—
Он такой же, как был; ни на волос не стал он другим.
Как и древле, земля нам враждебна. И все год из года
Нас карает палач — многозвездный простор небосвода.
С миром злобным дружить разве следует смертным сынам?
Он всегда изменял. Разве он не изменит и нам?
Прахом станет живущий на этом безрадостном прахе.
Прах не помнит о всех, на его распростершихся плахе.
Облик живших скрывается в зелени каждой листвы.
Пядь любая земли — некий след венценосной главы.
Нашу юность благую мы отдали миру. За что же
Нам он старость дает и ведет нас на смертное ложе?
Ведь всегда молодым оставался прославленный Сам,
Хоть склонял свои взоры он к сына седым волосам. [102] Ведь всегда молодым оставался прославленный Сам, // Хоть склонял свои взоры он к сына седым волосам. — Речь здесь идет о легендарных богатырях Саме и его сыне Зале — персонажах «Шах-наме». По легенде, Сам прожил много сот лет. Его сын Заль родился с белыми («седыми») волосами.
Синий купол бегущий свой круг совершает за кругом,
В вечном споре с тобою, твоим быть не хочет он другом.
То он в светоча мира мгновенно тебя обратит,
То в горшечника глину надменно тебя обратит.
На двуцветном ковре [103] На двуцветном ковре… — Двуцветный ковер — коварный, быстротечный, переменчивый материальный мир, в котором темную (черную) ночь постоянно сменяет ясный (белый) день. быстросменного мира, в печали
Все, что дышат на нем, все стремятся в безвестные дали.
По равнине идущие молвили: «Счастливы те,
Что по морю плывут, — все твердят о его красоте».
Те, что на море страждут, сказали: «О, если бы ныне
Мы могли находиться в спокойной безводной пустыне!»
Все, живущие в мире, встречают опасные дни.
На воде и на суше злосчастия терпят они.
Юных дней караван на заре поднимается рано.
Но ведь кончится путь. Не сберечь нам поклаж каравана.
От верблюдов отставший, из города юности ты
Будешь изгнан в предел, где стареют людские черты.
Но на всех утомленных во тьме наступающей ночи
Из нездешних пространств уж глядят благосклонные очи.
Трон покинь. Ведь тщеславье опаснее многих сует.
Это — черная тень, от тебя заградившая свет.
Ты отдался утехам, конца им не зная и края,
Ты живешь и играешь, о горестях будто не зная.
Синий купол, вращаясь, похож на забаву, но он
Не для наших забав, не для наших утех укреплен.
До пришествия разума в мире царила беспечность.
О, какая в тебе благодатная сила, беспечность!
Ясный разум взглянул на вершину созданий творца,
И владычество радости тотчас достигло конца.
Не от знанья беспечна мелькающих дней скоротечность.
Безрассудства, возникнув и множась, рождают беспечность.
О беспечность, очнись, очини поскорее калам,
И царапай листок, и предайся отрадным делам.
Будь меж теми, чья мудрость известна от края до края,
Стан людей просвещенных с отрадой рукой обнимая.
Если с добрым мы дружим, то добрый нам выпадет час;
И поможет нам друг, и все нужное будет у нас.
Где же скрылись все добрые? Встречусь ли я хоть с единым?
Стол, что медом прельщал, ныне сделался ульем пчелиным.
Где ж теперь человечность? Ужель удалилась навек?
Человека любого страшится любой человек.
Где ж познание то, что в сердцах человечьих блистало?
Человеческих свойств в человеке давно уж не стало.
Скрылся век Соломона. О смертный, вокруг посмотри!
Где теперь человек? Он исчез. Он — бесследней пери́.
Хоть дыханье мое слиться с общим дыханьем хотело,
Все же, бегство избрав, совершил я хорошее дело.
Где бы тень я сыскал, что явилась бы тенью Хумы?
Где бы верность нашел? Где бы честные встретил умы?
Если б сеяли верность, прекрасными стали бы нравы.
Надо верность хранить — вот что чести достойно и славы.
Земледелец зерно бросил в землю весною, и вот
Наступает пора — и созревший вкушает он плод.
Повесть о Соломоне и поселянине
Как-то царь Соломон не имел государственных дел.
И случилось, что ветер светильник задуть захотел.
Царь свой двор перенес в ширь степного просторного дола,
Там вознес он к лазури венец золотого престола.
Скорбен стал Соломон: он увидел, теряя покой,
Старика земледельца, который в равнине скупой,
Зерна в доме собрав — хоть добыча была и убога,—
Поручил закрома одному милосердию бога.
И повсюду в степи разбросал эти зерна старик,
Чтоб из каждого зернышка радостный колос возник.
Но все тайны зерна и все тайны творящего лона
Говор птиц сделал внятными слуху царя Соломона.
Царь промолвил: «Старик! Будь разумным! Коль зерен не счесть,
Можно зерна бросать. Но твои! Их ты должен был съесть.
Для чего ж ты надумал напрасно разбрасывать зерна?
Предо мной быть неумным ужели тебе не зазорно?
Нет мотыги с тобой, что ж царапаешь глину весь день?
Тут ведь нет и воды, для чего же ты сеешь ячмень?
Мы бросали зерно в землю, полную влаги, и что же?
То, что мы обрели, с изобилием было несхоже.
Что же будет тебе под пылающим солнцем дано
На безводной земле, где мгновенно сгорает зерно?»
Был ответ: «Не сердись, мне не нужно обычного блага!
Что́ мне сила земли, что́ посевам желанная влага!
Что́ мне зной, что́ дожди, хоть бы длились они без конца!
Эти зерна — мои, а питает их воля творца.
Есть вода у меня: на спине моей мало ли пота?
И мотыга со мной. Это — пальцы. О чем же забота?
Не пекусь я о царствах, мне область ничья не нужна,
И пока я дышу, моего мне довольно зерна.
Небеса мне мирволят, добычу мою умножая.
Сам-семьсот я беру. Я бедней не снимал урожая.
Надо сеять зерно без мольбы у дверей сатаны,
Чтоб такие всегда урожаи нам были даны.
Только с должным зерном, только с небом нам следует знаться,
Чтобы колоса завязь, как должно, могла завязаться.
Тот, кто с разумом ясным был призван творцом к бытию,
Тот по мерке своей ткет разумно одежду свою.
Ткань одежды Исы не на каждого ослика ляжет,
Не на каждого царь, как на помощь престола, укажет.
Лишь одни носороги вгрызаются в шею слону.
Что пожрет муравей? Саранчовую ножку одну,
От нашествия рек море станет ли злым и угрюмым?
А ручей от потоков наполнится яростным шумом.
Человеку, о царь, все дает голубой небосвод.
Все, чего он достоин, себе он под небом найдет.
Государственный муж быть не крепким, не стойким не может;
Иль под бременем тягостным до смерти он изнеможет.
Нет, не каждый живущий родился для сладостных нег,
И великие тайны не каждый таит человек».
Пусть несдержан юнец. Я же прожил немалое время,
Низами молчаливо несет свое тайное бремя.
Речь четвертая — о благожелательном отношении шаха к подданным
Ты — боец без щита. Ты — в гордыне один. Иль тебя
Гуль в пустыню загнал, отчужденную душу губя?
Ты — в венце золотом. Но венцы существуют ли вечно?
Ты — в цвету бытия. Но припомни: оно — скоротечно.
О, спешащий за теми, которым лишь в пиршествах свет,
О, покорный игре бесконечно бегущих планет!
Ты, отбросивший саблю, забывший о чтенье Корана,—
Для чего? Лишь для чаши веселья, для винного жбана.
То ты с гребнем, то с зеркалом, счастлив ты ими вполне.
О ценитель кудрей, ты подобен манящей жене.
Рабию́ ты припомни; она ведь в пустыне однажды
Разлучилась с косой для собаки, понурой от жажды. [104] Рабию ты припомни; она ведь в пустыне однажды // Разлучилась с косой для собаки, понурой от жажды. — Речь идет о персонаже легенды — благочестивой женщине, по имени Рабия, которая, увидев в пустыне умирающую от жажды собаку (для мусульманина — поганое животное) отрезала свою косу, привязала к ней свою рубашку, опустила в колодец и выжатой из мокрой рубашки водой напоила собаку.
В стыд вгоняешь ты доблесть. Деянья твои таковы!
Устыдился б деяния той сердобольной вдовы.
Будешь славить себя или силой кичиться доколе?
Этой сильной жены быть сильней ты, как видно, не в воле.
Человеческий разум и светлая доблесть — одно.
Надо всем правосудье. Всех доблестей выше оно.
Не в твоем ручейке стали воды прозрачными. Стала
Миловидною родинка в блеске чужого овала.
Ты не злой небосвод. Лишь о благе раздумывай ты.
Помни вечно о бедах, что к людям спешат с высоты.
Лишь добро проявляй, отдаваясь крутящимся годам.
Лишь такое имущество радует верным доходом.
На себя ты не должен людскую обиду навлечь,
Бойся честь обескровить и кровью людей пренебречь.
Притязали иные на честь и на доблесть. Быть может,
Честным двум или трем твой пример появиться поможет?
Правосудье твори; бойся мощных карателей зла.
Ночью ждет притеснитель: возмездья ударит стрела.
Мысли зорких грозят. Все подверглись их мощному сглазу.
Сглаз опасен, поверь, не простил он виновных ни разу.
Могут все испытать его страшный, негаданный суд.
Забывать ты не должен: ему подвергался Махмуд. [105] Сглаз опасен, поверь… // …ему подвергался Махмуд. — По легенде, прославленный завоеватель — султан Махмуд из Газны (XI в.) во время похода в Индию заболел, так как два индийских колдуна наслали на него «порчу», «сглаз».
Сглаз людей беспорочных застигнет тебя ненароком,
И увидишь, бессильный, что ты наказуешься роком.
Те, что схожи с крылатыми, те, что душой в небесах,—
На пути черепашьем не меньше других черепах.
Пусть насилья мечом их дорога не будет задета,
Иль узнаешь стрелу, что метнут они в блеске рассвета.
Если ценишь владычество — ты правосудье цени!
Ты на беды от гнета, что царствуют в мире, взгляни!
Человек, чья душа в доме этом ко благу готова,
Все свершает к ночи к устроению дома второго.
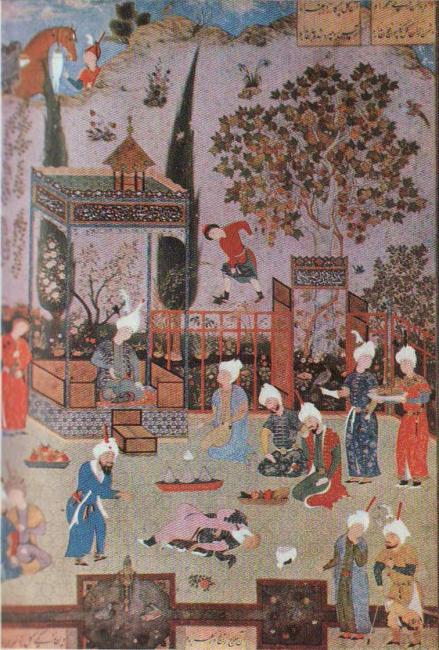
Повесть о старухе и султане Санджаре
Как-то шаха Санджара седая старуха одна
За полу ухватила, и в гневе сказала она:
«Справедливость являть, видно, властный, тебе не угодно,
И обида твоя настигает меня ежегодно.
Пьяный стражи начальник вбежал в наш спокойный квартал
И напал на меня. Избивал он меня и топтал.
И, за волосы взявши, меня он повлек от порога,
И царапала щеки мне жесткая наша дорога.
И обидам ужасным меня он речами подверг,
Кулаками позору пред всеми очами подверг.
«Прошлой ночью, — кричал он, исполненный пьяного пыла,—
С кем-то тут сообща человека не ты ли убила?»
Он обшарил весь дом. Беззаконье мы терпим и гнет!
Где же спины людей произвол еще тягостней гнет?
О напившемся страже ужели не верил ты слуху?
Он и был во хмелю, потому-то избил он старуху.
Те, стучащие кубками, весь твой расхитили край,
И ни в чем не повинных уводят они невзначай.
Тот, кто видит все это, и все же помочь нам не хочет,
Тот порочит народ, но тебя ведь он тоже порочит.
Я изранена вся. Еле дышит разбитая грудь.
В ней дыхания нет. Но смотри, государь, не забудь:
Если быть справедливым тебе в этот час неохота,
Все ж получишь мой счет. Ты получишь его в день расчета. [106] Ты получишь его в день расчета — то есть в день Страшного суда, когда все люди получат справедливое воздаяние за хорошие и дурные поступки.
Правосудья и правды я вовсе не вижу в тебе;
Угнетателя подданных я ненавижу в тебе.
От властителей правых поддержка приходит и сила,
От тебя — только тяжесть, что всех нас к земле придавила.
Разве дело хорошее — грабить несчастных сирот?
Человек благородный у нищих добра не берет.
На дорогах больших не воруй ты поклажу у женщин.
Не бери, государь, ты последнюю пряжу у женщин.
Притязаешь на шахство! Но ты не властитель, ты — раб!
Лишь вредить ты умеешь, а в помощи людям ты слаб.
Шах, внимательный к людям, порядок наводит в округе,
И о подданном каждом он думает, словно о друге.
Чтоб указом любым всех он радовал в нашем краю,
Чтобы шахскою дружбою нежили душу свою.
Ты всю землю встревожил! Иль я неразумно толкую?
Ты живешь. Ну, а доблесть, скажи мне, явил ты какую?
Стала тюрков держава лишь доблестью тюрков сильна,
Правосудьем всегдашним в веках укрепилась она.
Но грабеж и бесчинство ты в каждую вносишь обитель.
Нет, ты больше не тюрк, ты, я вижу, индусский грабитель.
Города посмотри-ка: в развалинах наша страна.
Хлебопашец ограблен, оставлен тобой без зерна.
Ты припомни свой рок! Приближенье кончины исчисли.
Где от смерти стена? Вот на что ты направил бы мысли!
Справедливость — лампада. Лампады пугается тень.
Пусть же с завтрашним днем будет дружен сегодняшний день!
Пусть же слово твое будет радовать старых готово!
Ты же дряхлой старухи, властитель, запомнил бы слово:
Обделенным судьбой никакого не делай ты зла,
Чтоб их громких проклятий в тебя не попала стрела.
Стрелы всюду не сыпь иль дождешься недоброго часа!
Есть припасы молитв у несчастных, лишенных припаса.
Чтоб раскрылась вся правда, с железом ключа ты пришел.
Не за тем, чтобы правду ударить сплеча, ты пришел.
Ведай, взявший венец, ты вовек не покроешься срамом,
Если раны недужных ты благостным тронешь бальзамом.
Пусть обычаем немощных станет тебя восхвалять,
А твоим, повелитель, — ласкать их опять и опять.
Береги, словно милость, возвышенных душ благостыню.
Охраняя немногих, что в тихую скрылись пустыню».
Что же стало с Санджаром, что встарь захватил Хорасан?
Знай: не внявшему старой урок был губительный дан. [107] Что же стало с Санджаром, что встарь захватил Хорасан? // Знай: не внявшему старой урок был губительный дан. — Султан Санджар сперва завоевал область Хорасан и другие края, достиг могущества, а потом потерпел поражение и попал в плен к правителю из династии Гуридов.
Где теперь правосудье? Все черным бесправьем объято.
Знать, на крыльях Симурга оно улетело куда-то. [108] Знать, на крыльях Симурга оно улетело куда-то. — Симург — сказочная птица, которую никто никогда не видел. Правосудие улетело на крыльях Симурга — то есть исчезло бесследно.
Стыд лазурному своду, всегда пребывавшему в зле!
Вовсе чести не стало на где-то висящей земле.
Слезы лей, Низами, удрученный такою бедою,
Ты над сердцем их лей, что кровавою стало водою.
Речь пятая — о старости
Глава содержит описание старости и ее немощей. Нужно знать цену молодости, говорит Низами, и пользоваться ею для свершения благих дел — старику они уже будут не под силу. Пока есть силы, надо трудиться, чтобы не зависеть от других и иметь свой кусок хлеба. Только труд обеспечивает честную жизнь.
Повесть о старике кирпичнике
Слабый старик лепил кирпичи для сооружения склепов на кладбище, Юноша посоветовал ему не гнуть зря спину — кусок хлеба старику всегда кто-нибудь подаст. Тот ответил: он для того только и трудится, чтобы не протягивать руку к чужому хлебу.
Речь шестая — о свойствах сотворенного
В главе говорится о бренности тела и о ценности нетленного сердца — носителя высших духовных способностей (см. сноску 75).
Сердце очищается страданиями, и потому не надо страшиться несчастий — за ними не может не прийти радость.
Повесть о собаке, охотнике и лисице
У охотника была прекрасная собака. Она пропала, и он скорбел, но не жаловался. Лисица стала издеваться над ним, а он ей ответил, что в этом мире ни горе, ни радость долго не длятся. В этот миг неожиданно прибежала пропавшая собака и схватила лису.
Речь седьмая — о превосходстве человека над животными
Мир — единое целое, где все занимает определенное место. Не может быть твари, лишенной ценности, всякая тварь — звено в сцеплении мира. Твари служат человеку, но из этого не следует, что он может считать себя свободным от обязательств по отношению к ним. Заботься о животных, говорит Низами, и они отплатят тебе добром.
Повесть о Фаридуне и газели
Царь Фаридун на охоте преследовал газель и был так пленен ее красотой, что рука его дрогнула и его стрела не попала в цель. Он разгневался, но вдруг услышал голоса стрелы и коня, возвещавшие, что ради забавы нельзя истреблять бессловесную тварь.
Речь восьмая — о сотворении мира
В этой главе речь идет об отношении человека к миру. Грех внесен в мир человеком, поэтому нельзя поддаваться его, мира, «лести», надо спокойно идти своим путем.
Повесть о воре и лисице
Вор пытался обмануть лисицу, сторожившую фруктовый сад. Ему удалось это сделать только тогда, когда он притворился спящим и так усыпил бдительность лисы.
Речь девятая — об оставлении мирских дел
В этой главе Низами говорит о том, что человек в земной жизни должен подготовить себе припас для жизни вечной. Этот припас может быть создан только трудом.
Повесть о подвижнике, нарушившем зарок
Набожный человек внезапно закутил, стал пить вино, превратился в гуляку. Он горько жаловался на судьбу, но получил указание, что должен не жаловаться, а искренне раскаяться и молить о прощении.
Речь десятая — о конце мира
Ты последний свой круг не спеши совершить, небосвод!
О земля! Отдали ты беды неизбежный приход!
После золота дня вечер стелит багряную ризу.
То, что было вверху, неуклонно склоняется книзу.
Дышат недра земли, смутный ужас во мраке храня.
Будет страшно земле сотрясение Судного дня.
Забушует безумье; и вот не пройдет и мгновенья,—
И небесных цепей разотрет оно крепкие звенья.
Вихри взвихрят весь мир, набежав из нездешних степей,
И земля, обезумев, сорвется с небесных цепей.
Так безумна земля (кто иначе о бешеной скажет?),
Что на стане своем пояс неба мгновенно развяжет.
Вечер цвет позабудет, а утренний час — аромат,
Небосвод от човгана, земля от мяча отлетят.
И ударит земля по лазури тяжелым ударом,
Небосвод ей ответит ударом и ловким и ярым.
И, пылая огнем, он ударит опять и опять,
Он захочет всю землю, удар за ударом, разъять.
Разорвет он свой плащ в этой смене гремящих событий,
И жемчужины звезд разорвут свои светлые нити.
И падет небосвод, и земные взметет он поля,
И, крутясь в исступленье, поднимется кверху земля,
Небосвод и подлунную люди томить перестанут,
Под стопами людей все дороги пылить перестанут.
Высь не будет в заботах о людях и ночью и днем,
И забудет земля о безумном коварстве людском.
Будет стыдно созвездьям за то, что почтительны были
К малой горстке земли — к человеку, подобному пыли.
Как змея, небосвод изовьется лазурным кольцом,
Чтобы землю пожрать пред своим неизбежным концом.
Страждет печень земли: ей безмерно наскучили люди!
Да, одни только вы эту землю измучили, люди!
Почему же земля в этой чаше печали лежит?
Почему эта чаша, синея, о смерти твердит?
Если вам не дано, в вашей скорби тревожной и бурной,
Этот прах ненадежный исторгнуть из чаши лазурной,—
То в потоках семи от нее вы омойте полу,
Чтобы стать непричастными черным невзгодам и злу.
Рвите рубище звезд вы с лазурных высот. Во мгновенье
Зачеркните весь мир. Да настанет его разрушенье!
И над черной землей в быстрых звездах крутящийся свод,
Не промедлив, укажет великих событий приход.
Для всего, что грядет, для прощений, для грозных возмездий
Мы найдем указанье в круженье горящих созвездий.
Если голову рубят, она отлетает, — и вот
Уж готова земля в этот страшный и мрачный полет.
В черной ракушке неба немало жемчужин, но скрыла
Эта мгла в черном сердце грозящего нам крокодила.
Злая ракушка — небо. Не радость — ее жемчуга.
Звезды взор наш отводят: созвездья — лукавей врага.
Посмотревший на них, как на блеск непонятного чуда,
Как змея, спрячет взор за зеленую мглу изумруда.
Да, прозрения мира у взора воздетого нет.
Сотни раз поглядит, знанья все ж и от этого нет.
Путь в неведомый край ты всегда, человек, ненавидел,
Потому что глазами его — не своими ты видел.
Ноги только свои утомляй ты в нелегком пути;
Ведь нельзя по дорогам ногами чужими идти.
Пусть высоко взойдет, сыпля золото, мощный, но хмура
Будет участь его: смертный час наступил и для Гура.
Не закроешь ворота на улицу смерти; нельзя
Избежать ее кровли. Твоя неизбежна стезя.
Пребывай в этом доме, где заперты окна и двери,
Что на пользу болящим, по слову старинных поверий.
Водяным колесом купол неба поднялся, [109] Водяным колесом купол неба поднялся… — Водяное колесо — гидравлическое колесо, поднимающее воду из каналов на поля в восточных оросительных системах. Низами сравнивает его с вращающимся небосводом. но ты,
Тесный круг оставляя, безмерной желай высоты.
Разум самый подвижный и самый пытливый и строгий
Пристыжен и смущен вечной тайной безвестной дороги.
Размышленья бессильны: ты зорок, внимателен будь,
Разгадать попытайся для взора неведомый путь.
Ты за волосом каждым другой не разглядывай волос:
Все земное прими, иль разлуки послышится голос.
Коль тебе благодатное в звездной завидится мгле,
Станет грустно тебе оставаться на темной земле.
Мир! О, глиняный холм! Где тут верность и где тут услада?
И глядеть на него вожделеющим взором не надо.
Для чего твой венец? Он сверкнет над поникнувшим лбом,
В ярком поясе ты, но покорным ты станешь рабом.
Дарование каждое тяжкие слышит укоры.
Даже в сахаре яд. Посмотри, как сверкают узоры
Этих зорь. Яркий пурпур — то сам полыхающий ад!
Из поварни подземной на землю подняться он рад.
Месяц поднял светильник, но, нищий, сверкая над миром,
Не своим он, а солнечным полон украденным жиром.
Влага облака, травам неся благодатный расцвет,
Кровь людей разбавляя, приносит им тягостный вред.
Хоть вкушают у вод утешенье спокойные души,
Корабли знают беды вдали от спасительной суши.
Мастерская земная великих изъянов полна.
Посмотри, ведь она тяжких бед и обманов полна.
На пороки свои ты не смотришь, и людям порочным
Служишь зеркалом ты, перед ними поставленным, точным.
Недостатки других не лови, словно зеркало. Ты
Помутишься, приняв отраженных пороков черты.
Что ж, доволен собой, ты своих не таишь недостатков?
Лучше всем покажи, что своих не хранишь недостатков.
От пороков других ты поспешно глаза отведи,
На себя поглядев, от пороков своих отойди.
Всюду доблести скрыты, и всюду пороков немало,
Ты пороки забудь, чтоб достоинство видимо стало.
Разве яркий светильник не можешь найти ты в ночи?
Если сладостен день, то о вороне темном смолчи.
Видя перья павлина, покрытые блеском, о строгий,
Разве можно твердить про его некрасивые ноги?
Перья ворона мрачны. Красив его блещущий взор.
Ты о перьях забудь. На глаза погляди ты в упор.
Повесть об Исе
После многих дорог, по которым скитался Иса,
На базар неизвестный его привели небеса.
Там собака валялась; душа уже в ней не ютилась,
Как Юсуф из колодца, из мертвой она удалилась.
И прохожие люди — сказанья о том говорят —
Перед павшей стояли, как сумрачных коршунов ряд.
Молвил кто-то: «О тлен! Удивляться, приятели, надо ль,
Что в наш мозг веет мраком пред нами лежащая падаль?»
И добавил другой: «Здесь не только для разума мгла,
Мне глаза она жалит, и душу она мне сожгла».
Каждый песню пропел все того же печального лада.
Поношенье в ней было, и горечь была, и досада.
Но Иса понимал, что людская толпа не права,
И сказал не о мрачном — о светлом сказал он слова.
И сказал он с красой сокровенной, невидимой дружен:
«Эти белые зубы прекраснее светлых жемчужин».
Улыбнулись прохожие: мрака распался покров,—
И блеснули их зубы от света услышанных слов.
* * *
Ты других не кори и себя не считай без порока.
Опусти свои очи. В злоречии много ли прока!
Держишь зеркало ты, отраженье родное любя.
Ты разбей это зеркало. Надо ли славить себя?
Ты в наряде весеннем, стоишь ты с весельем во взоре.
Как бы время тебя не заметило в этом уборе!
Чтоб укрыть твой порок, чтоб от ангелов был он вдаль,
Девять синих завес милосердно тебя облекли.
Где в лазурном кругу утоленье найдешь и веселье?
Многозвездная цепь — не твое, человек, ожерелье.
Ты — не пес, не тебе предназначен ошейник Плеяд, [110] Ты — не пес, не тебе предназначен ошейник Плеяд. — По представлениям астрологов, созвездие Плеяд охватывает созвездие Пса.
Ты — не ослик Исы, что же вьюки тебя тяготят?
Небосвод — вдовий плащ; над земным он склоняется лугом.
Что есть видимый мир? Это плод, пораженный недугом.
Мир, со всем, что придет, и со всем, что исчезло давно,—
Преходящ. Это — малое, это — пустое зерно.
Горький мир ты вкушаешь, хаджа! Разве есть в нем услада?
Не с тобой Низами: для меня его больше не надо.
Речь одиннадцатая — о неверности мира
В этой главе Низами говорит о том, что чрезмерного Значения красотам и прелестям мира (тема десятой речи) придавать нельзя. Жизнь человека все равно прекратится.
Повесть о прозорливом мобеде
Некий мобед любовался весенним садом, но, увидев тот же сад осенью опустошенным, понял, что в этом мире все непрочно и тленно.
Речь двенадцатая — о прощании со стоянкой праха
В этой главе Низами говорит о том, что преодолеть соблазны этого мира может всякий, у кого есть мудрость и сила воли.
Повесть о двух поспоривших мудрецах
Два мудреца поспорили о том, кто из них более мудр. Они решили испытать друг друга. Первый поднес второму чашу со смертельным ядом. Тот выпил яд, сразу понял, из чего он состоит, и уничтожил его действие противоядием. Затем он поднес первому мудрецу цветок, над которым сперва немного пошептал. Первый мудрец так боялся чар второго, в силе которых уже убедился, что, понюхав цветок, сразу умер, хотя никакой отравы в нем не было.
Речь тринадцатая — о порицании мира
В ней говорится о золоте — кумире, влекущем к себе людей. Оно, говорит Низами, способно приносить пользу, но оно полезнее всего для тебя тогда, когда ты не берешь, а отдаешь, тратишь его.
Повесть о хадже и суфии
Некий муж уехал в хадж и оставил все свое золото на хранение суфийскому шейху. Тот прокутил его до последней монетки. Вернувшись, паломник узнает, что деньги растрачены, но не требует у шейха их возврата. Шейх теперь стал нищим, а требовать золота можно только у богатых, а не у нищих.
Речь четырнадцатая — порицание беспечности
О довольный! Ты к миру, в спокойствии сладком, привык.
Ты — осел на лугу, ты к кормушке склонившийся бык.
Что тебе это солнце, лазурных высот сердцевина,
Что тебе эта синь, эта выси просторной равнина!
Это только для тех, в чьем познанье сияющий свет.
У не знающих мира — о нем помышления нет.
Подними же свой взор, не довольно ль ты тешился дремой?!
Ты назначен идти по дороге, тебе незнакомой.
Почему же ты спишь, иль засада тебе не страшна?
Смертных, полных раздумья, всегда устрашала она.
Очи вскинь, рассмотри эти синие своды печали,
На ничтожность твою не они ли тебе указали?
Твой рассудок — старик, он рассеян. Предался он снам,
Он тебя позабыл. Ну так что ж! Призови его сам,
Кто бы знал о тебе, если б разума свет величавый
О тебе не вещал? Только с ним и добился ты славы.
Разум светлый — мессия; всегда он к познанию вел.
Без него ты — погрязший в дорожную глину осел.
По дороге ума ты иди за сияющим светом
Иль домой возвратись и забудь о скитальчестве этом.
Не пьяни мирный разум, его на пирушках поя.
Разве соколом ловчим ты будешь кормить воробья?
Даже там, где вино восхваляется словом приветным,
Разум сделал его нелюбезным тебе и запретным.
О вино! В пьяной чаше людская качается честь,
Но припомни о том, что вино древней мудрости есть.
Хоть сжигает вино все земные печали, но все же
Не вкушай ты вина; ясный разум сожжет оно тоже.
Ви́на — разум лозы, но вкушать огневое вино
Для утехи души лишь одним неразумным дано.
Всё желая постичь, не вкушай ты в томлении томном
То, что может все в мире таинственным сделать и темным.
Неразумным считай человека, вкусившего то,
Что каламом неведенья все обращает в ничто.
Ослепи ты глаза всех мечтаний непрошеных, чтобы
Вправить ноги в колодки глупцам, устремленным в трущобы.
Ты «алиф», что влюблен в свой высокий пленительный стан,
Ты безумною страстью к себе самому обуян.
Коль с «алифом» ты схож — птицей будь, потерявшею крылья,
Ты склонись буквой «ба», своего не скрывая бессилья.
Украшая собранье, стоишь ты, «прекрасный алиф»,
И к себе ты влечешь благосклонности общей прилив.
Не подобься шипу, что в лазурь устремился спесиво,
Ты склонись кроткой розою: роза смиренна на диво.
Не стремись поиграть, будь разумен. Ведь ты не дитя.
Помни: дни пробегают, не вечно блестя и цветя.
День уходит, и радостных больше не будет мгновений.
Солнце юности гаснет, и длинные тянутся тени.
Это ведомо всем, — ведь когда удаляется день,
Все, что в мире, бросает свою удлиненную тень.
Чтить не следует тени, как чтут ее заросли сада.
Будь светильником: тень уничтожить сиянием надо.
Эту тень побори, а поборешь — и в этот же день
Твой порок от тебя мигом скроется, будто бы тень.
Что сияет в тени? Чья во мраке таится основа?
Мы в тени трепетанье источника видим живого.
О поднявший колени, в колени склонивший лицо,
В размышленье глубоком себя обративший в кольцо!
Солнце таз золотой на воскресшем зажгло небосклоне,
Чтоб омыть от себя ты свои смог бы тотчас ладони.
Если в этом тазу будешь мыть ты одежду свою,
Из источника солнца в него наливай ты струю.
Этот таз для мытья, на который приподнял я вежды,
Стал кровав, стал не чист от твоей заскорузлой одежды.
От большого огня, что в тебе злые выжег следы,
В сердце жизни твоей не осталось ни капли воды.
Если плоть не чиста и томилась алканием страстным,
Что ж! Не всякое золото может быть самым прекрасным.
Если каждый вещать будет только лишь истину рад,
То с утробой пустой ненасытный останется ад.
Прямота не защита пред холодом иль перед жаром,
Но прямой не сгорает в аду, в этом пламени яром.
Если будешь кривить, будешь роком подавлен ты злым.
Беспечален ты будешь, покуда ты будешь прямым.
Будь подобен весам, будь в деяниях точен, размерен.
Взвесив сердце свое, в верном сердце ты будешь уверен.
Все крупинки, что ты будешь в жизни бегущей готов
Бросить в мир, их снимая с твоих благородных весов,—
Обретут свое место, и страшное будет мгновенье:
Пред тобой их размечут в грохочущий день воскресенья.
Надо всем, что ты прятал, суровый послышится глас.
Как немного ты роздал! Как мною хранил про запас!
Так не трогай весов — все на них указуется строго —
Иль побольше раздай, а себе ты оставь лишь немного.
Стебель розы согнулся, и шип в эту розу проник.
Лишь своей прямотой добывает усладу тростник.
Водрузи прямоту, — это знамя, угодное богу.
И протянет он руки, склоняясь к тебе понемногу.
Повесть о царе-притеснителе и правдивом человеке
Жил властитель один, был с людьми он безжалостно строг.
Словно злобный Хаджадж, издеваться над всеми он мог.
Все, что ночь порождала, наследуя дню, — на рассвете
Открывалось царю. Все пред яростным были в ответе.
Неким утром к владыке явился один человек.
Был он зорче, чем утро. Учился он долгий свой век
У луны хитрым играм, у зорь — появляться с доносом.
Он, с притворною злобой, горящей во взоре раскосом,
Прошептал: «Некий старец убийцею назвал тебя,
Он сказал, что ты правишь, людей неповинных губя».
И, пугая придворных своим изменившимся ликом,
Царь воскликнул: «Казнить!» И умолк он во гневе великом,
Нат мгновенно постлали, песком весь посыпали нат. [111] Нат мгновенно постлали, песком весь посыпали нат. — Когда казнь производилась во дворце, в присутствии шаха, жертву ставили на колени на небольшой кожаный коврик и перерезали ей ножом горло. Песком засыпали лужи крови.
Даже дэв, ужаснувшись, бежал бы из царских палат.
В тот же час от юнца старец злое узнал повеленье,
Услыхал он: «Владыка возвел на тебя обвиненье».
Омовенье свершив, в белом саване старец пошел
Во дворец, и пред ним засверкал величавый престол.
Царь, в решениях быстрый, потер свои руки, и очи
Опустил он на землю, и был он угрюмее ночи.
Молвил он: «Я слыхал, что я очень прогневал тебя.
Ты твердишь, говорят, что я правлю, невинных губя.
Ведь известно тебе, что мой суд — мудрый суд Соломона,
Почему ж ты твердишь, что наш край полон плача и стона?»
И ответил старик: «Говорил я, о царь, не во сне,
И сказал я не все, что известно доподлинно мне.
Всюду юные в страхе, и в страхе не каждый ли старый,
Городам и селеньям грозят беспрестанные кары.
Все пороки твои я собрал воедино, но я
Только зеркало. Я — лишь неправда и правда твоя.
Ты увидел, что образ, показанный зеркалом, — верен.
Иль сломаешь ты зеркало? Будь и во гневе умерен!
Светлой правды возжаждай, и жажду твою утолю,
Иль на шею мою повели ты накинуть петлю».
И правдивого старца такое бесстрашное слово
Смелой правдой своей образумило сердце царево.
Вспомнил царь обо всем, что свершал он в подвластном краю.
И, застигнутый правдой, он понял неправду свою
И сказал: «С мудреца скиньте саван! Парчовым халатом
Вы его облачите, парчу напитав ароматом».
И в царе с той поры пламень гнева и злобы утих,
Справедливым он стал, вспомнил подданных, пекся о них.
И правдивого слова никто не скрывал, и невзгоды
Не томили правдивых, и мирные начались годы…
Ты не бойся погибнуть. Правдивым ты будь до конца.
Побеждает правдивый по воле благого творца.
Если будет правдивость всегдашней твоею повадкой,
Много горького скажешь: ведь правда не кажется сладкой.
Если к речи правдивой сердца ты захочешь привлечь,
Вседержитель поддержит твою благотворную речь,
Знай: сияние правды душой Низами овладело,
И великою правдой его озаряется дело.
Речь пятнадцатая — порицание завистников
В этой главе Низами жалуется на стариков, очевидно, придворных поэтов, завидующих его таланту и мешающих ему получить свою долю.
Притча о молодом царевиче и его старых врагах
Молодой царевич после смерти отца вступил на престол. Он только тогда смог начать спокойно править страной, когда отделался от старых сановников своего отца.
Речь шестнадцатая — о быстрейшем прохождении пути
Здесь Низами снова говорит о себе. Он считает, что одолеть завистников можно только путем известной изворотливости.
Повесть о раненом ребенке
Мальчик играл с друзьями, упал и сильно разбился. Его друг хотел бросить мальчика в колодец, чтобы все скрыть и не отвечать перед родителями. Его враг побоялся, что подозрения тогда падут на него, пошел к отцу мальчика и все рассказал ему. Ребенок был спасен.
Речь семнадцатая — о поклонении и уединении
В этой главе речь идет о «низшем я», о земной индивидуальности человека. Она существует лишь до последнего вздоха, после смерти же уничтожается.
Повесть о старце и мюриде
Некий старец шел с толпою мюридов по дороге. Желая испытать их преданность, он внезапно выпустил громкий ветер из живота. Пораженные его невоспитанностью, мюриды разбежались. Остался лишь один из них. На вопрос старца, почему он не последовал за остальными, мюрид ответил: «Если не ветром меня принесло к тебе, то покину ли я тебя из-за первого же ветра?»
Речь восемнадцатая — в осуждение двуличных
Говоря о своем времени, Низами горько жалуется на падение нра» вов и двуличность современников. Истинным же другом можно считать лишь того, кто умеет беречь тайны.
Повесть о Джамшиде и его приближенном
Царь Джамшид приблизил к себе некоего юношу и доверил ему свои тайны. Юноша так тщательно оберегал эти тайны, что, боясь проговориться, вообще перестал говорить и заболел.
Речь девятнадцатая — о приятии загробной жизни
Хоть земное «я» и конечно, но час ухода из мира — не конец всего, а момент расплаты за все. Нашедший правильный путь в жизни, поправший земные блага, может подняться выше ангела.
Повесть о Харун Ар-Рашиде и цирюльнике
У Харун Ар-Рашида был брадобрей, который, выполняя свои обязанности, внезапно начинал говорить халифу дерзости. Решили, что он, очевидно, случайно наступает на место, где зарыт клад, ибо человека, наступившего на клад, даже если он не знает об этом, всегда обуревает гордыня. Подняли пол, раскопали землю и действительно нашли клад.
Речь двадцатая — о заносчивости современников
Низами осыпает современников горькими упреками. Они не только не хотят признать его заслуг, но стремятся его опорочить. Поэтому лучше вообще замолчать, чтобы не подвергать себя больше нападкам.
Повесть о соловье и соколе
Сокол потому пользуется почетом и сидит на царской руке, что он безгласен, а сладкогласный соловей живет в унижении и питается червями.
Заключение книги
О писец, да пошлет тебе доброе утро Аллах!
Вот я узником стал, как перо у поэта в руках.
Этот род стихотворства превыше небесного свода.
Дал стихам мой калам все цвета, что являет природа.
Я алмазы расплавил, единым желаньем горя,
Коль не сделать кинжал, то хоть ножик сковать для царя.
Ибо в камне таилась руда для меча моих песен,
И кузнечный мой горн был для дела великого тесен.
Если б небо послало мне счастье, простив за грехи,
То полжизни своей не истратил бы я на стихи.
Сердце мне говорит, что я грех совершил в самом деле:
Под каламом моим этой книги листки почернели.
Здесь шатер новобрачных, и все, что таится внутри,
Под пером заблистало за три иль четыре зари.
Вот шашлык из ягненка — что ж дым ты глотаешь и ныне?
Что ты в вяленом мясе находишь, в сухой солонине?
Так иди же и сделай неспешность своим ремеслом,
А начнешь размышлять — размышляй с просветленным умом.
Если в слове моем отойти от добра — искушенье,
Это слово рукою сотри, я даю разрешенье.
Если поднял я стяг, где не истина знанья, а ложь,
То и слово мое, и меня самого уничтожь.
Если б я полагал, что мои сочинения низки,
То по всем городам я не слал бы в подарок их списки.
Стихотворчеством скован, я в этой сижу стороне,
Но все стороны света охотно покорствуют мне.
И сказало мне время: «Ведь ты не земля, — подвигайся!
Что бесплодно лежишь, как в пустыне земля? Подвигайся!»
Я сказал: «Сокровеннейшим, девственным мыслям моим
Не в чем выйти: по росту одежды не сделали им.
Есть лишь полукафтан, до колен он доходит, не боле,
Потому-то они на коленях стоят поневоле.
Им бы надо украсить нарядной одеждою стан,
Встать им было б прилично, забыли бы полукафтан».
Молодой или старый, в одном все окажутся правы:
Ничего до сих пор не добился я — разве лишь славы.
Ни волненья толпы, ни червонцев не вижу за труд,—
Знай торгуй на базаре! Добьешься ли большего тут?
Как петлею Гянджа захлестнула мне шею; однако
Я, хоть петель не плел, покорил все богатства Ирака.
«Эй ты, раб! — этот крик повсеместно был поднят людьми.—
Что еще за Гянджа? И откуда и кто — Низами?»
Богу слава за то, что дописана книга до точки
Прежде, нежели смерть отказала в последней отсрочке.
Низами эту книгу старался украсить как мог —
В драгоценных камнях утопил с головы и до ног.
Благодатно да будет, что светлую россыпь жемчужин
Подношу я царю, что не менее с щедростью дружен.
Книгу птица пера в высоту от земли вознесла,
Над бумагою птица раскрыла два легких крыла,
Головою ступая, жемчужины с губ расточала:
О сокровищах тайн драгоценную книгу кончала.
Эту книгу пометить, чтоб верно судить о былом,
Надо первым рабиа и двадцать четвертым числом.
Пять веков пролетело со времени бегства пророка,
Года семьдесят два ты прибавишь для точности срока.
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления