Онлайн чтение книги
Пять поэм
Семь красавиц
Перевод В. Державина
Восхваление
Ты, чьей благодатной мощью создан мир живой,—
Все в тебе! Во всех явленьях виден образ твой.
Ты — начало сотворенья и конец вещей,
В бесконечном — завершенье и конец вещей.
Это ты привел в движенье вечный круг светил,
Мир и жизнь в нерасторжимый круг объединил.
В беспредельном светит щедрость вечная твоя,
О создавший, населивший лоно бытия,
Зодчий мира, устроитель всех частей его,
Ты — во всем, ты — созидатель сущего всего!
Жизнь и смерть — и все начала мира и концы —
Всё в тебе, — так в откровеньях молвят мудрецы.
Но не в зримой оболочке ты — всегда, везде —
В бесконечности явлений, в вечной их чреде.
Тайной сутью жизни живы в мире существа,
Но тобой — твоею сутью, жизнь сама жива,
О великий, сотворивший мир из ничего,
Ты питаешь все живое и хранишь его.
Имя — всех имен начало — тайное творца —
Начинания начало и конец конца.
Самый первый ты средь первых на счету веков.
И последний из последних при конце концов.
Необъятный круг свершая, льется бытие,
Возвращаясь снова в лоно вечное твое.
На незыблемых, ведущих к истине вратах
Никогда не оседает разрушенья прах.
Ты вовеки не рождался, породив других…
Ты велик. Другие — ветер на путях твоих.
Ты единой мыслью дальний озаряешь путь.
Ты предвидения светом наполняешь грудь.
Но врата твои закрыты множеством замков
Пред мольбою лицемерной низких и лжецов.
Утру ты даешь сиянье, цвет и блеск — весне.
Ты повелеваешь солнцу, звездам и луне.
Черный ты шатер и белый над землей простер,—
Белый — солнцу дал, а черный — месяцу шатер.
Как рабы твои, посменно пред твоим дворцом
Ночь и день чредой проходят пред твоим лицом
И добро и зло твоею волею творят,
Ничего своею волей в мире не вершат.
Разум яркий, как светильник, ты в мозгу вместил —
Он светлее всех горящих на небе светил.
Но светящий ярко разум — так устроил ты —
Смотрит в глубь себя и светит вне своей черты,
Если разум будет твердым на твоем пути,
Не забудется в сомненьях на любом пути.
Жизни суть — душа, и в тело наше вмещена,
Но никто из нас не знает, где живет она.
В мире всё — от мрака ночи до дневных лучей,—
Все нуждается в могучей помощи твоей.
Ты рождаешь из гранита и бесплодных глин
Жар огня рубиноцветный, огневой рубин.
Весь вращающийся в мире звездный небосвод
Суетится и кружится у твоих ворот.
Разве доброе и злое людям — от светил?
Сами звезды под влияньем злых и добрых сил.
Среди многих звездочетов разве ты встречал
Одного, что путь по звездам к кладу отыскал?
Тайны звездного движенья и пути планет
Изучал я — и в науке мне открылся свет.
Но напрасно в древних книгах тайну я искал…
Ты открылся мне! И новый путь мне заблистал.
Ты, под чьей благой защитой дух живой окреп,
Сам для нас в печи бессмертья выпекаешь хлеб.
У ворот своих, о боже, ты меня возвысь,
У ворот людской гордыни в прахе не унизь.
Сам, о боже, дай мне хлеб мой — не из рук чужих,
Ты — кормящий птиц небесных и зверей степных.
С юных лет не отвращал я от тебя мой взгляд,
Не ходил к вратам другим я от заветных врат.
И дверей своих пред нищим я не закрывал,
Ибо хлеб мой и достаток сам ты мне давал.
Я состарился на службе у тебя в саду,
Помоги мне — чтобы вновь я не попал в беду!
Ты, могучий, чьей защиты просит Низами,
У него своей опоры ты не отними.
Ты возвысь его превыше всех земных владык,
Пусть он будет благородством истинным велик
До поры, когда предстанет он перед тобой
Вместе с сонмом пробужденных судною трубой.
Восхваление Пророка Мухаммеда
Глава содержит восхваление Мухаммеда и изложение мусульманской религиозно-философской концепции пророчества.
О мирадже Пророка
Описание вознесения Мухаммеда на небо, аналогичное содержащемуся в «Сокровищнице тайн» (см. «О вознесении Пророка»).
О причине составления книги
В день, когда, благоволеньем истинным даря,
Прибыло ко мне посланье тайное царя, [271] Прибыло ко мне посланье тайное царя… — Речь идет о прибытии гонца от правителя Мераги из династии Аксонкоридов Алла ад-дина Корпа-Арслана (1174–1208) — заказчика поэмы «Семь красавиц».
Ощутил я за спиною крылья, как орел,
Перья на широких крыльях новые обрел.
Было в свитке начертанье царственной руки:
«Друг, из бездны этой ночи месяц извлеки!
Но чтобы его завесой гений твой облек,
Чтоб его непосвященный увидать не мог.
Воск преданий над багряным жаром размягчи,
Мы за то тебе вручаем милости ключи.
Не тащись в носилках тесных, в этой пыльной мгле,
О певец мой, полно ездить на хромом осле!
Ты деянием нелегким будешь утружден,
Но сокровищами шаха будешь награжден.
Ждем начала представленья! На людей взгляни,
Темный занавес раздерни и зажги огни!»
Я в тот день, когда посланье это прочитал,
С мирной радостью простился и в смятенье впал.
Тут искать я в старых книгах начал без конца
Быль и сказки, что могли бы радовать сердца.
К «Шах-наме» я обратился. Прочитал я в ней
О деяньях древних шахов и богатырей.
Фирдоуси — певец великий — все в стихах своих
Сладкозвучно нам поведал о веках былых.
И когда он драгоценный выгранил рубин,
Многие обогатились от его крупин.
И от «Шах-наме» — рубина — я осколок взял
И оправил, чтоб осколок ярко засверкал,
Чтобы люди во вселенной песнь мою прочли,
Чтоб мою перед другими книгу предпочли.
Что учитель подсказал мне — я договорил
И в забвенье пребывавший жемчуг просверлил.
Углубился я в сказанья, стал вникать во тьму
Тайн, рассеянных когда-то по свету всему.
На арабском прочитал я все и на дари,
Книгу Бухари прочел я, книгу Табари. [272] На арабском прочитал я все и на дари, // Книгу Бухари прочел я, книгу Табари. — Дари — иное название языка фарси. Бухари (ум. в 870 г.) — знаменитый собиратель изречений Мухаммеда и преданий о нем (хадисы), составитель их сборника под названием «Правильный». Табари (ум. в 923 г.) — автор огромного исторического свода под названием «История пророков и царей», переведенного в X веке на язык дари (фарси), а также автор обширного комментария на Коран. Упоминание имен Бухари и Табари рядом как будто говорит о мусульманских источниках, однако упоминание языка дари, скорее, указывает на персидский перевод хроники Табари, где упоминаются герои «Шах-наме» и «Семи красавиц». Неясно, что взял Низами из Бухари — прямого использования преданий о пророке в поэме нет.
Чтобы не было пробелов, не было потерь,
Переполненных хранилищ отпирал я дверь.
Пехлевийские в подвалах свитки я искал,
Со свечою — по листку их бережно сшивал.
И когда все книги предков изучил я сам,
Изощрился, окрылился быстрый мой калам.
Я сказал, что подобает мудрому сказать,
А не то, что мудрый может после осмеять.
Словно Зенд, я сказ украсил пламенным пером.
Юных семь невест блистают красотою в нем.
Пусть Небесные Невесты [273] Пусть Небесные Невесты… — то есть семь планет, с которыми символически сопоставлены в поэме семь красавиц, упомянутые далее в семи притчах. раз на них взглянут
И еще светлей и чище над землей блеснут!
Хоть Бахрама нить в сказаньях криво шла досель,
Правда в мире не исчезла и ясна мне цель.
Я — певец — по этой нити в лабиринт спущусь,
В сторону от этой нити верной не собьюсь.
В сотнях речек омовенье, верный, соверши,
Лишь тогда найдешь источник света и души.
Низами! Вот твой Мессия, твой живой калам!
Память же твоя подобна пальме Мариам. [274] …подобна пальме Мариам. — См. сноску 232.
Ты плодоноси, покамест ты и бодр и жив.
Счастье ты познаешь, ибо ты уже счастлив.
Хвала счастливому падишаху, да озарит его Аллах
В начале этой книги, говорит Низами, идут четыре главы: восхваление Аллаха, восхваление пророка, молитва о шахе и советы шаху… Затем он переходит к восхвалению заказчика поэмы Корпа-Арслана, за восхвалением следуют молитвы о нем.
Обращение целующего землю
Глава начинается с восхваления могущества и щедрости Корпа-Арслана, которое постепенно переходит в поучения и наставления. Дух выше тела, говорит Низами, будь же душою государства, будь справедливым и мудрым, милосердным, слушай советы Низами, заключенные в этой книге, как слушали мудрые советы великие шахи прошлого. Затем следует посвящение книги Корпа-Арслану и речь о нетленности стихов, которые ценнее сокровищ. Глава завершается добрыми пожеланиями шаху.
Восхваление слова и несколько слов о мудрости
Мира древнего древнее то, что вечно ново,—
Много сказано об этом, ибо это — слово.
Вечность — древняя праматерь — землю создала
И творенья увенчанье — слово нам дала.
Слово тайны, слово мощи, чистое, как дух;
Страж сокровищ. К тайне слова приклони свой слух…
Ведь оно неслыханные повести скрывает,
В мире ненаписанные повести читает.
Все, что ныне народится, завтра прочь уйдет,
Кроме слова. Только слово в мире не умрет!
Сад иссохнет, шелк истлеет, рухнет зданья свод.
Слово вечно. Остальное — ветер унесет.
Вникни, мудрый, в суть растений, почвы и камней,
Вникни в суть существ разумных, в суть природы всей,—
И в любом живом творенье можешь ты открыть
Главное, что и по смерти вечно будет жить.
Все умрет, все сгубит время, прахом истребя.
Вечно будет жить познавший самого себя.
Обречен на смерть, кто сути жизни не прочтет;
Но блажен себя познавший [275] Но блажен себя познавший… — Познавший самого себя обретает бессмертную душу.: будет вечен тот.
Если ты себя, как свиток, правильно прочтешь,
Будешь вечен. В духе — правда, остальное — ложь.
Коль не обретешь познанья высшего теперь,
В дверь одну вошедший, выйдешь ты в другую дверь.
Дом жилой, но лишь над кровлей не клубится дым.
Здесь живут, но знанья польза неизвестна им.
Кто доволен преходящим — слеп, как жалкий крот,
И чертога вечной жизни он не возведет.
Повод для духовной лени выдумать легко;
И не скажут здесь: «Прокисло наше молоко».
Опытом вооруженный, сведущий в делах
Муж порой не смыслит в сути дела и в корнях.
Видит далеко, кто знаньем наделен средь нас,
А незнанье пеленою скроет мир от глаз.
Если, человек богатый, ты собрался в путь —
От разбойников охрану взять не позабудь.
И купцы, что из Китая мускус к нам везут,
В оболочке из камеди мускус берегут.
Хоть перед орлом могучим слаб и мал удод,
Но, в полете быстр, всегда он от орла уйдет.
Вкруг прославленного зависть злобная шипит,—
Эта злоба, эта зависть бедных не страшит.
Коршун мчится за добычей, позабывши страх,
А посмотришь — обе лапы у него в сетях.
Жадный тигр, задрав корову, верно, будет сыт,
Не пожрет он пищи больше, чем нутро вместит,
Не проесть амбаров мира, даже на зерно
Не уменьшатся запасы; столько нам дано.
Сколько бы ячменных зерен птицам ни скормить [276] Сколько бы ячменных зерен птицам ни скормить… — Обычный суфийский образ вечности: птица без крыльев сидит у амбара и клюет в год по одному зерну. Птица — солнце, зерно — дни. Образ идет из какой-то древней мифологии. —
Все вернется! Как и звездам, зернам не убыть.
Золотым венцом ты хочешь, как свеча, блистать,
Но подумай, как придется под конец рыдать!
В этом зелье веселящем — так уж повелось —
Смеха радостного меньше, больше горьких слез.
Но, рассеянные в мире, есть друзья у нас,
Что подать нам помощь могут в самый трудный час.
Разум — главный наш помощник, наш защитник — он.
Муж разумный всем богатством мира наделен.
Кто от разума и мысли духом отвращен —
Человек он по обличью, див по сути он.
Люди разума подобны ангелам с небес,
Дар провидения дан им — чудо из чудес.
Все начертано заране, что произойдет.
И никто предначертанья судеб не уйдет.
Делай дело здесь, задачу исполняй свою;
Дело и в аду почтенней праздности в раю.
Но и доброе деянье вряд ли будет впрок,
Если делом поглощенный человек жесток.
Кто злоумышляет втайне, ближних невзлюбя,
Жало зла он обращает сам против себя.
Благородный, мыслей добрых полный человек,
Зла не делая, запомнит доброе навек.
Так живи, чтоб в час кончины в хоре голосов
Не услышать ни упреков, ни хулы врагов;
Чтоб один из них не молвил: «Смерть в его дому!»
Чтоб другой не засмеялся: «Поделом ему!»
Пусть тебя и не поддержат под локоть рукой,
Так живи, чтоб не валяться ни под чьей ногой.
Тот, кто доброе запомнит средь твоих друзей,
Лучше тех, кто рад печальной участи твоей.
Хлеб не ешь среди голодных. Если будешь есть,
За накрытый стол с собою пригласи их сесть.
Пред завистником сокровищ не считай своих,
Чтобы, как дракон на кладе, он не сел на них.
Если друг твой, как весенний ветер, мягок, все ж
Знай — лампаду и под легким ветром не зажжешь.
Создан не для пожиранья мяса и хлебов
Человек. Нет, он источник умственных даров.
И собака благородней низкого того,
Кто живет лишь для услады брюха своего.
Мудрый, будь полезен людям, мир добром укрась!
Это — выше всех сокровищ и сильней, чем власть.
Будь открыт добру, как роза! От твоих щедрот
Пусть всегда благоуханье по земле идет.
Помнишь мудрого реченье? Что сказал нам он:
«Кто заснул, добро содеяв, видит добрый сон».
В чьей душе укоренится зло и возрастет,
Тот во зле всю жизнь влачится и во зле умрет.
Тот же, в чьей душе открытой возрастет добро,
Проживет в добре и миру принесет добро.
Бойся алчности и помни: небосвод не спит,—
Сонмы алчных истреблял он и тебя сразит.
В пору оскуденья веры правду зло гнетет,
Хищным волком стал Иосиф, а отшельник пьет.
Ныне жить двояко можно: совершая зло
Или — с чистою душою — одобряя зло.
И не дай Аллах всевышний, чтоб рабы твои
Наложили эти цепи на ноги свои!
Полно в мире божьем пламя ада разжигать,
Полно гаснущее пламя нефтью поливать!
Встань же, растопчи нечестье, смуту потуши
И всевышнего веленье в мире соверши!
Полно бедствовать у вечных, полных злата скрынь!
Все сокровищниц засовы смело отодвинь.
На тюльпан взгляни, — как ветер истрепал его,
Из-за трех монет фальшивых [277] Из-за трех монет фальшивых… — то есть из-за трех золотистых тычинок. Образ продолжается в следующем стихе, но там он непереводим. Полынь на фарси — «дермене», она, говорит Низами, не имеет монет — «дерам»; в арабской графике, даже не в звучании, получается красивое поэтическое «сопротивопоставление», по-русски, разумеется, непередаваемое. ощипал его.
А полынь растет, как прежде; у полыни нет
Ни поддельных, ни червонных золотых монет.
Я оружье сбросил, словно лепестки цветок,
И от зависти язвящей и от зла далек.
Что мне тлеющая зависть? Что мне дым ее? —
Пусть огни ее потушит рубище мое.
Мир — далекий и опасный путь, из мрака в мрак,
И пройти дорогой дивов можно только так,—
Помни: кто свое обжорство сможет обуздать,
Снова перлом драгоценным сможет заблистать.
Очищается и крепнет сильный дух в беде,
Гребешок тысячезубый нужен бороде.
Тысячи отрав изведать в мире нужно нам,
Чтоб вкусить животворящий времени бальзам.
Погляди: в обширной этой лавке мясника
Ты добытого без муки не найдешь куска.
Тысячи надежд погибли, многих сгублен век,
Чтоб один обогатился в мире человек.
Сто голов мечом палачьим где-то снесено,
Чтоб седло баранье было избранным дано.
Золото ногами топчет человек один,
Тысячи за грош потеют в муках до седин.
Благо ль, что всего достиг ты и желаний нет?
В неисполненных желаньях свет грядущих лет.
Коль желанного достигнет поздно человек,
Это весть ему, что долгий проживет он век.
Пусть же поздно долговечный цели досягнет.
Кто всего достигнет быстро, рано тот умрет.
Образуется веками лал, живет века,
А тюльпан весенний гибнет и от ветерка.
В двери древние входящий небу говори:
«Гость я, странник здесь! Ты волю сам свою твори!»
Низами, доколь в оковах этих пребывать?
Не пора ль оковы сбросить, не пора ль восстать?
Встань, не бойся наважденья мира отвести,
Чтобы вечное блаженство в мире обрести!
Наставление своему сыну
Низами обращается к сыну с мудрыми поучениями. Только знание, говорит он, истинный друг. Приобрети доброе имя, советует он далее, Дружи только с мудрыми, избегай плохих людей — они тебя могут опорочить. Стремись с единобожию, избегай соблазнов христианства и зороастризма. Избери светлый путь… В заключение главы Низами жалуется на старость и слабость. Но он все же полон решимости завершить свой труд.
Начало повествования о Бахраме
Тот, кто стражем [278] Тот, кто стражем… — то есть рассказавший повесть о Бахраме — сюжет «Семи красавиц». сокровенных перлов тайны был,
Россыпь новую сокровищ в жемчугах раскрыл.
На весах небес две чаши есть. И на одной
Чаше — камни равновесья, жемчуг — на другой.
А двуцветный мир [279] А двуцветный мир… — то есть черный и белый мир, в котором черная ночь сменяется ясным днем. то жемчуг получает в дар
Из небесных чаш, то — камня павшего удар.
Таково потомство шахов. Камнем тусклым стать
Может шахский сын — и перлом ценным заблистать.
Не во всем отцу подобен сын и не всегда.
И жемчужину рождает камень иногда.
Есть в былом пример подобный, в поученье нам,—
Яздигерд был грубым камнем, жемчугом — Бахрам.
Тот — карал, казнил, а этот одарял добром,—
Был булыжник рядом с перлом, острый шип с плодом.
Тем, кто в кровь о тот булыжник ноги разбивал,
Сын его для исцеленья свой бальзам давал.
И когда в глазах Бахрама первый луч дневной
Омрачен был этой ночи славою дурной,
Мудрецы и звездочеты вещие страны,
Искушенные в деяньях солнца и луны,
Взвесили созвездья неба, думая, что тут
Лишь дешевый блеск свинцовый вновь они найдут,
Но они чистейшей пробы золото нашли, [280] Но они чистейшей пробы золото нашли… — описанное далее положение планет, найденное астрологами, предвещает, согласно этой науке, счастье, о чем и сказано далее.
Жемчуг в море, драгоценность в камне обрели.
И увидели величье, славный путь побед,
Лучезарный свет в тумане предстоящих лет.
Пламенел тогда в созвездье Рыбы Муштари,
А Зухра горела справа, под лучом зари.
Поднялась в ту ночь к Плеядам месяца глава,
Апогей звезды Бахрама был в созвездье Льва.
Утарид блеснул под утро в знаке Близнецов,
А Кейван от Водолея отогнал врагов.
Встал Данаб против Кейвана, отгоняя тень,
Мирно в знак Овна входило Солнце в этот день.
Так сошелся в гороскопе вещий круг светил.
Муштари в созвездье Рыбы счастье возвестил.
Со счастливым гороскопом, что описан вам,
При благоприятных звездах родился Бахрам.
Яздигерд — его родитель, неразумный шах,
Стал раздумывать в прискорбье о своих делах.
Что ни делал он — все тщетно, прахом все ушло,
Ибо семена насилья порождают зло.
Хоть имел детей и раньше этот властелин,
Умирали все, остался лишь Бахрам один.
И к решенью звездочеты мудрые пришли,
Что воспитывать Бахрама надобно вдали,
Что его в страну арабов надо отослать,
Что его у мужа чести надо воспитать. [281]…в страну арабов надо отослать, // …у мужа чести надо воспитать. — Эти строки у Низами, очевидно, отпет на обвинении в том, что он воспевает героев иранской древности, не «просвещенных светом ислама». Страна арабов, откуда вышел основатель ислама Мухаммед, оказывается здесь краем чести и доблести. О том, что обвинения в недостаточном уважении к исламу и пристрастии к древнему Ирану Низами приходилось выслушивать, он сам подробно говорит в поэме «Хосров и Ширин».
Молвили, что там, быть может, счастье он найдет
И друзей в Арабистане верных обретет.
Вопреки установленьям строгой старины,
Перенесть росток решили в сад иной страны.
Яздигерд себялюбивый сына не любил,
Он спокойно на чужбину сына отпустил.
Для него решил в Йемене он поставить трон,
Чтоб от смут земли Аджама был он удален.
И в страну Йемен к Нуману он послал гонца,
Чтобы царь Нуман Бахраму заменил отца,
Он просил, чтобы Бахрама взял к себе Нуман,
Чтоб в саду Нумана вырос и расцвел тюльпан,
Чтоб его наукам царским обучили там,
Чтоб страною научился управлять Бахрам.
Сам Нуман за ним приехал и увез домой
Сына шаха, — скрыл в чертоге месяц молодой.
Тот родник, чей морем позже разлился поток,
Сохранил и как зеницу ока он сберег.
Минуло четыре года; мальчик подрастал;
Как степной онагр, он резвым и красивым стал.
И тогда Мунзиру — сыну — молвил властелин:
«Он растет, но огорченьем скован я, мой сын.
Климат здесь сухой, весь край наш солнцем раскален,
Он же — с севера, и нежен по природе он.
Нам возвышенное место надо отыскать,
Нам его в прохладе горной надо содержать,
Где бы северный лелеял тело ветерок,
Где бы отдых был приятен, сон ночной глубок,
Чтобы в климате хорошем рос он, как орел,
Чтобы крылья он и перья крепкие обрел,
Чтобы запятнать природу шаха не могли
Этот зной и сухость праха, дым и пыль земли».
О построении Хаварнака и о достоинствах строителя Симнара
Ездил шах Нуман с Мунзиром среди гор и скал,
Мест хороших для Бахрама долго он искал,
Где б от солнечного зноя не было вреда,
Где бы ветерок прохладу приносил всегда.
Не могли в стране такого места отыскать,
Где бы вырастить Бахрама им и воспитать.
И решили светлый замок с башней возвести.
Нужно было для постройки зодчего найти.
Много было иноземных зодчих и своих,
А для дела не годился ни один из них.
Но однажды до Нумана долетела весть:
«Шах! Такой, тебе пригодный, мастер в Руме есть.
Слава дел его по странам катится рекой;
Словно воск, податлив камень под его рукой.
Строить быстро и красиво он имеет дар,
Он из рода Сима, имя славному — Симнар. [282] Он из рода Сима, имя славному — Симнар. — Низами вольно возводит архитектора Симнара к библейскому Симу. На самом деле имя его вавилонского происхождения: Син-иммар — от древнего божества Син. «Н» и «м» у Низами поменялись местами.
Красотой его построек всякий изумлен,
В Сирии, в горах Ливанских зданья строил он,
И в стране, где Нил лазурный падает с небес,
Каждое его созданье — чудо из чудес.
Хоть себя Симнар лишь зодчим скромно называл,—
Он художников славнейших миру воспитал.
Стоя там, где строить зданье он предполагал,
Паутину балок в небе взором он свивал.
Он, как Булинас Румийский, разумом глубок;
Открыватель талисманов, маг и астролог,
Знает он о нападенье яростной луны
И о мести солнца — тайну звездной вышины.
Он для вас дворец, как платье царское, соткет.
На дворце такой высокий купол возведет,
Что созвездья, словно пояс, купол обовьют,
И ему Плеяды сами светоч отдадут».
Сердце вспыхнуло в Нумане, жгли его, как жар,
Эти вести, это имя чудное — Симнар.
Он послал гонца, который бойко говорил
По-румийски. Тот Симнара быстро соблазнил
Бросить Рум. И вот к Нуману зодчий привезен.
Услыхав, чего хотели от него, и он
Воспылал желаньем — дело начинать скорей,
Возвести дворец, достойный отпрыска царей.
Пятилетие трудился над постройкой он.
Был рукою златоперстой дивно возведен
Замок, башенки вздымавший к звездам и луне,
Сновиденьем возникавший в синей вышине.
И второй Каа́бой в мире этот замок стал.
Был резьбой он весь украшен, золотом блистал,
Горного лазурью, краской, что красней зари.
Наподобье неба сделан купол изнутри;
Опоясывали небо девять сфер вокруг.
Полный образов, что создал Север, создал Юг,—
Купол был тысячеликим, сказочным Лушой [283] …сказочным Лушой. — Луша, или Танкалуша, — искаженное имя астролога Тевкра Вавилонского (I в.), автора книги «Об эклиптике и зодиаке», снабженной рисунками. Перевод этого труда пользовался на Востоке большой известностью. Низами хочет сказать, что на куполе были изображения созвездий, как в книге Танкалуши..
Созерцая свод, усталый отдыхал душой.
Дивною дарил прохладой он и в летний зной.
А когда горел, как солнце, купол под зарей,
Гурия завязывала очи полотном. [284] Гурия завязывала очи полотном. — То есть гурий, находящихся в раю, на небе, так слепило блистание купола, что им приходилось завязывать глаза.
Словно рай, красив, удобен был прекрасный дом.
Будто небо в славе солнца, свод горел огнем.
Бычьей кровью камень с камнем скован в своде том.
Был подобен купол небу, влаге и огню;
Трижды цвет свой и сиянье он менял на дню.
Как невеста, он одежды пышные сменял.
Синим, золотым и снежным светом он сиял.
Пред зарей, когда лазурным небосвод бывал,
Плечи мглою голубою купол одевал.
А когда вставало солнце над земной чертой,
Свод пылал, как солнце утра, — ало-золотой.
Тень от пролетающего облачка падет —
Снежно-белым делается весь дворцовый свод.
Цвета неба — он миражем в воздухе висел,
То румийцем белым был он, то, как зиндж, чернел.
Вот Симнар работу кончил — снял леса со стен,
Красотой своей постройки взял сердца он в плен.
Стен и купола сиянье разгоняло мрак.
Замку новому названье дали — «Хаварнак».
И великую награду шах Симнару дал.
Половины той награды он не ожидал.
С золотом и жемчугами длинный караван
Тяжко вьюченных верблюдов дал ему Нуман,
Чтоб и в будущем работал на него Симнар.
Если впору не раздуешь ты в тануре жар,
Злополучное жаркое будешь есть сырьем,
Но сторицей возвратится, что за труд даем.
А когда такую милость зодчий увидал,
Молвил: «Если б ты мне раньше столько обещал,
Я, достойное великой щедрости твоей,
Зданье создал бы — красивей, выше и пышней!
Багрецом, лазурью, златом башни б расцветил,
И поток столетий блеска б их не погасил.
Коль желаешь — будет мною зданье начато
Завтра ж! Этот замок будет перед ним ничто.
В этом здании — три цвета, в том же будет сто!
Это — каменное, будет яхонтовым то.
Свод единственный — строенья этого краса,
То же будет семисводным — словно небеса!»
Пламенем у падишаха душу обняла
Эта речь и все амбары милости сожгла.
Царь — пожар; и не опасен он своим огнем
Только тем, кто в отдаленье возведет свой дом.
Шах, что розовый кустарник, ливнем жемчугов
Сыплет. Но не тронь — изранит жалами шипов.
Шах, лозы обильной гроздья на плечи друзей
Возложив, их оплетает силою ветвей.
И, обвив свою опору, верных слуг своих,—
Из земли, без сожаленья, вырвет корень их.
Шах сказал: «Коль этот зодчий от меня уйдет,
Он царю другому лучший замок возведет».
И велел Нуман жестокий челяди своей
Зодчего схватить и сбросить с башни поскорей.
О, смотри, как небосводом кровожадным он
Сброшен с купола, который им же возведен!
Столько лет высокий замок он своей рукой
Строил. И с него мгновенно сброшен был судьбой!
Он развел огонь и сам же в тот огонь попал.
Долго восходил на кровлю — вмиг с нее упал.
В высоте ста с лишним гязов замыкая свод,
Он не знал, что, труд закончив, гибель там найдет.
Выше хижины он замка строить бы не стал,
Если бы свою кончину раньше угадал,—
Возводя престол, расчисли ранее всего,
Чтобы не разбиться, если упадешь с него.
И взвилось петлей аркана до рогов луны
Имя грозное Нумана с дивной вышины,
И молва, что он волшебник, с той поры пошла.
И владыкой Хаварнака шаха нарекла.
Описание дворца Хаварнака и исчезновение Нумaнa
Хаварнак, когда он домом для Бахрама стал,
Чудом красоты в подлунном мире заблистал.
И, прославленный молвою, окружен хвалой,
Назвался «Кумирней Чина», «Кы́блою второй». [285] Назвался «Кумирней Чина», «Кыблою второй» — то есть дворец был необыкновенно разукрашен, и его красота вызывала преклонение (см. словарь — Чин, кыбла).
Сотни тысяч живописцев, зодчих, мудрецов
Приходили, чтоб увидеть лучший из дворцов.
Тот, кто видел, восхищенья удержать не мог
И вступал с благоговеньем на его порог.
Там — на всех дверях чертога, что вздымался ввысь,
Изречения узором золотым вились.
Над Йеменом засияла вновь Сухейль-звезда [286] Над Йеменом засияла вновь Сухейль-звезда… — Снова метафорическое описание красоты замка (см. словарь — Йемен, Сухейль).
Так светло, как не сияла прежде никогда.
Полн красавиц, как под звездным куполом Йемен,
Стал тот замок, словно полный жемчугом Аден.
И, прославленный молвою, стал известен всем
Хаварнаком озаренный берег, как Ирем.
Как Овен на вешнем небе ярко светит нам,
Хаварнак светил, и рядом с ним светил Бахрам [287] …светил Бахрам. — Игра слов: Бахрам — имя царевича и название планеты Марс. Замок сравнен по красоте с созвездием Овна, а царевич — с планетой..
Проводил Бахрам на кровле ночи до утра.
В небе чашу поднимала за него Зухра.
Видел стройные чертоги в отсветах зари,
Полная луна — над кровлей, солнце дня — внутри.
В глубине палат сияли факелы в ночи,
С кровли путникам светили, как луна, в ночи.
И всегда отрадный ветер веял меж колонн,
Запахом садов, прохладой моря напоен.
Сам Бахрам, лишь постепенно обходя дворец,
Дивное его величье понял наконец.
За одной стеной живую воду нес Евфрат,
Весь в тени дерев цветущих и резных оград.
А за башней, что, как лотос, высока была,
Молока и меда речка, скажешь ты, текла.
Впереди была долина, сзади — свежий луг,
Пальмы тихо шелестели и сады вокруг.
Сам Нуман, что здесь Бахраму заменил отца,
Часто с ним сидел на кровле своего дворца.
Над высокой аркой входа он на зелень нив
Любовался с ним часами, светел и счастлив.
Даль пред ними — вся в тюльпанах, как ковер, цвела,
Дичью полная — к ловитве души их звала.
И сказал Нуман Бахраму: «Сын мой, рад ли ты?
Хорошо здесь! Нет подобной в мире красоты».
Рядом был его советник. Чистой веры свет
Мудрому тому вазиру даровал Изед.
И сказал вазир Нуману: «В мире все пройдет,
Только истины познанье к жизни приведет.
Если свет познанья брезжит в сердце у тебя,
Откажись от блеска мира — правду возлюбя!»
И от жара этой речи, что, как пламя, жгла,
Содрогнулся дух Нумана, твердый как скала.
С той поры как семь небесных встали крепостей, [288] …семь небесных… крепостей… — семь сфер семи планет тогдашней астрологии.
Не бывало камнемета этих слов сильней.
Шах Нуман спустился с кровли в час полночной мги,
Молча он, как лев, к пустыне устремил шаги.
Он отрекся от сокровищ, трона и венца.
Прелесть мира несовместна с верою в творца.
От богатств, какими древле Сулейман владел,
Он отрекся; сам изгнанья он избрал удел.
Не нашли нигде ни шаха, ни его следов,
Он исчез, ушел от мира, словно Кей-Хосров.
Хоть Мунзир людей на поиск тут же снарядил,
Не нашли, как будто ангел беглеца укрыл.
Горевал Мунзир, потерей удручен своей,
Он провел в глубокой скорби много долгих дней.
Выпустил кормило власти из своей руки…
Стал дворец его высокий черным от тоски.
Но утихло в скорбном сердце горе наконец;
Власть его звала, к правленью призывал венец.
Он искоренил насилье твердою рукой,
Ввел законы, дал народу счастье, мир, покой.
А когда он полновластным властелином стал,
Яздигерд ему признанье и дары послал.
А Бахрама, словно сына, шах Мунзир растил,
Был отцом ему. Нет, больше и роднее был.
Сын Нуман был у Мунзира; вырастал, как брат,
Он с Бахрамом. Оба шахский радовали взгляд.
Ровня был Бахрам по крови, одногодок с ним,
Он не разлучался с братом названым своим.
Вместе обучаться стали грамоте они,
За игрой веселой вместе проводили дни,
На охоту выезжали вместе в дни весны,
Никогда, как свет и солнце, не разделены.
Так Бахрам в высоком замке прожил много лет,
Помыслы его премудрый направлял мобед.
К знанью был Бахрама разум с детства устремлен.
Как достойно сыну шаха, был он обучен.
Изучал Бахрам арабский, греческий язык,
Старый маг его наставил тайне древних книг.
Сам Мунзир, многоученый и разумный шах,
Объяснял ему созвездий тайны в небесах.
Ход двенадцати созвездий и семи светил
Ученик его прилежный вскоре изучил.
Геометрию постиг он, вычислял, чертил,
Алмагест и сотни прочих таинств изучил.
Он, ночами наблюдая звездный небосвод,
Стал читать светил движенье и обратный ход.
Ум его величьем мира стройным был объят.
Знанья перед ним раскрылись, как бесценный клад.
И, увидя в восхищенье, что его Бахрам
Зорок мыслью, в постиженье знания упрям,
Шах ему меридиана показал отвес
И открыл пред ним науку высшую небес.
Все, что разум человека за века постиг,
Все, чем стал он перед небом и землей велик,—
Все Мунзир законов стройных кругом вместе слил
И, как книгу, пред Бахрамом наконец открыл.
И Бахрам, учась прилежно, стал в конце концов
Искушен во всех науках — даре мудрецов.
Были внятны все таблицы звездные ему,
Сокровенное он видел сквозь ночную тьму.
Астролябией и стержнем юга он владел,
Он узлы деяний неба развязать умел.
И когда наукой книжной был он умудрен,
Боевым владеть оружьем стал учиться он.
Он игрою в мяч, искусством верховой езды
Мяч выигрывал у неба [289] Мяч выигрывал у неба… — то есть побеждал судьбу (небо), своим умением преодолевал неблагоприятные случайности игры в поло (човган). и его звезды.
А когда в степи он ветер начал обгонять,
На волков и львов с арканом начал выезжать.
А в степи заря рассвета и лучи ее
Пред копьем его бросали на землю копье.
Вскоре он в стрельбе из лука равного не знал,
Птицу в высоте небесной он стрелой пронзал.
Полный весь колчан порою, посылал он в цель,
Каждою своей стрелою попадал он в цель.
Так пускал он стрелы густо, так рубил мечом,
Что никто бы не укрылся от него щитом.
На скаку, в пылу охоты он копье метал,
На скаку в кольцо копьем он метким попадал.
Острием копья колечко с гривы льва срезал
И кольцо с замка сокровищ он мечом снимал.
На ристалище, когда он лук свой брал порой,
В волосок он за сто гязов попадал стрелой.
Все, что в поле на ловитве взгляд его влекло,
От летящих стрел Бахрама скрыться не могло.
Так в науках и в охоте перед ним всегда
Реяла его удачи яркая звезда,
Доблестью его гордились ближние царя,
С похвалою о Бахраме всюду говоря.
Говорили: «То он в схватку с ярым львом вступил,
То он барса на охоте быстрого сразил».
И такие о Бахраме всюду речи шли,
И его «Звездой Йемена» люди нарекли.
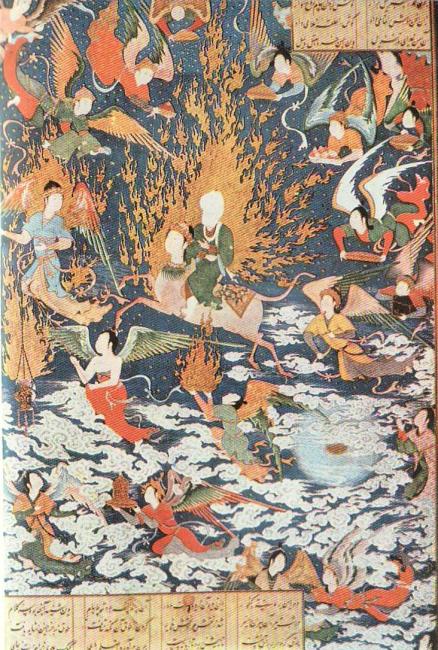
Охота Бахрама и клеймение онагров
Мунзир и Бахрам дружат, как родные братья. Они ездят вместе на охоту, пируют. Бахрам больше всего любит охотиться на онагров верхом на своем рыжем коне. Жеребят-онагров, пойманных во время охоты, Бахрам щадит, клеймит их шахским тавром и отпускает в степь.
Бахрам одной стрелой убивает льва и онагра
Бахрам во время охоты видит льва, напавшего на онагра. Он искусно пронзает их обоих одной стрелой. Арабы, пораженные его умением стрелять из лука, дают ему прозвание «Бахрам-Гур» («Бахрам-онагр»). Подвиг Бахрама изобразили на стене в Хаварнаке.
Бахрам убивает дракона и находит клад
Бахрам пьет вино. Опьяненный, он отправляется в степь охотиться на онагров. Он целый день преследует необыкновенно быстроногую самку онагра и никак не может ее догнать. Неожиданно онагр исчезает в пещере среди скал. Приблизившись к пещере, Бахрам видит, что вход в нее охраняет огромный дракон, который проглотил ускользавшего от него онагра. В возмездье за онагра Бахрам решает убить дракона. Сперва он ослепляет дракона стрелой с двужалым наконечником, затем пронзает его копьем и отсекает ему мечом голову. Распоров дракону брюхо, Бахрам освобождает проглоченного онагра. Онагр бежит в пещеру, шах идет за ним и находит там несметные сокровища. Онагр исчезает. Подоспевают спутники Бахрама. Они разрывают пещеру и вывозят клад на трехстах верблюдах. Этот клад — воздаяние Бахраму, спасшему онагра из утробы дракона. Обретенные сокровища Бахрам раздаривает. И этот подвиг Бахрама изображают на стене в Хаварнаке.
Бахрам находит изображение семи красавиц
В Хаварнак однажды прибыл из степей Бахрам,
Предался отдохновенью, лени и пирам.
По бесчисленным покоям как-то он блуждал,
Дверь закрытую в проходе узком увидал.
Он ее дотоль не видел и не знал о ней;
Не входил в ту дверь старейший царский казначей.
Тут не медля ключ от двери шах у слуг спросил.
Ключник ветхий появился, ключ ему вручил.
Шах открыл и стал на месте — сильно изумлен;
Будто бы сокровищницу там увидел он.
Дивной живописью взоры привлекал покой.
Сам Симнар его украсил вещею рукой.
Как живые, семь красавиц смотрят со стены.
Как зовут, под каждой надпись, из какой страны.
Вот Фурак, дочь магараджи [290] Вот Фурак, дочь магараджи… — то есть индийская красавица., чьи глаза черны,
Словно мрак, и лик прекрасней солнца и луны.
Вот китайского хакана дочерь — Ягманаз,—
Зависть лучших дев Китая и твоих, Тараз.
Назпери — ее родитель хорезмийский шах.
Шаг ее как куропатки окрыленный шаг.
В одеянии румийском, прелести полна,
Насринуш идет за нею — русская княжна. [291] В одеянии румийском… русская княжна. — В оригинале — «дочь шаха саклабов». «Саклаб» — так называют обычно арабские источники юго-западных славян. Низами говорит, что она одета в «румийские одежды». Очевидно, ему было что-то известно о связях Киевской Руси с Византией (см. словарь — Рус).
Вот магрибского владыки дочь Азариюн,
Словно утреннее солнце девы облик юн.
Дочь царей румийских — диво сердца и ума,
Счастье льет, сама счастлива, имя ей — Хума.
Дочь из рода Кей-Кавуса [292] Дочь из рода Кей-Кавуса — иранская царевна., ясная душой
Дурасти — нежна, как пальма, и павлин красой.
Этих семерых красавиц сам изобразил
Маг Симнар и всех в едином круге заключил.
А посередине круга — будто окружен
Скорлупой орех — красивый был изображен
Славный витязь. Бирюзовым осенен венцом,
Он блистал, как солнце утра, молодым лицом.
Словно кипарис, он строен, с гордой головой.
Взгляд горит величьем духа, ясный и живой.
Семь кумиров устремили взгляды на него,
Словно дань ему платили сердца своего.
Он же ласковой улыбкой отвечает им,
Каждою и всеми вместе без ума любим.
А над ним Бахрама имя мастер начертал.
И Бахрам, себя узнавши, надпись прочитал.
Это было предсказанье, речь семи светил [293] Это было предсказанье, речь семи светил… — В символике, примененной здесь Низами, семь красавиц символизируют семь климатических областей земли тогдашней географии (Индия, Чин, Хорезм, Саклаб, Магриб, Рум, Иран), семь планет астрологии того времени, семь цветов радуги.:
«В год, когда воспрянет в славе витязь, полный сил,—
Он добудет семь царевен из семи краев,
Семь бесценных, несравненных, чистых жемчугов.
Я не сеял этих зерен, в руки их не брал;
Что мне звезды рассказали, то и написал».
И любовь к семи прекрасным девам день за днем
Понемногу овладела молодым царем.
Кобылицы в пору течки, буйный жеребец —
Семь невест и льву подобный юный удалец.
Как же страстному желанью тут не возрастать,
Как же требованьям страсти тут противостать?
Рад Бахрам был предсказанью звездному тому,
Хоть оно пересекало в жизни путь ему.
Но зато определяло жизнь и вдаль вело,
Исполнением желаний дух его влекло.
Все, что нас надеждой крепкой в жизни одарит,
Силу духа в человеке удесятерит.
Вышел прочь Бахрам, и слугам дал такой наказ:
«Если в эту дверь заглянет кто-нибудь из вас,
Света солнечного больше не видать тому:
С плеч ему я без пощады голову сниму».
Стражи, слуги, и вельможи, и никто другой
Даже заглянуть не смели в тайный тот покой.
Только ночь прольет прохладу людям и зверям,
Взяв ключи, Бахрам к заветным подходил дверям,
Отпирал благоговейно и, как в рай, вступал:
Молча семь изображений дивных созерцал.
Словно жаждущий, смотрелся в чистый водоем.
И, желаньем утомленный, забывался сном,
Вне дворца ловитвой вольной щах был увлечен,
Во дворце же утешался живописью он.
Бахрам узнает о смерти отца
Отцу Бахрама доносят о возрастающей мощи его сына. Яздигерд, злобный и подозрительный, начинает опасаться Бахрама. Внезапно Яздигерд умирает. В Иране собирается совет. Решают не пускать в страну Бахрама, сына грешного и злого отца, получившего к тому же воспитание среди арабов. Мобеды возводят на иранский трон старца, дальнего родственника Бахрама… В стране смута. Бахрам узнает об этом. Он решает завоевать трон отца и установить в Иране покой и справедливость.
Бахрам приводит войско в Иран
Низами начинает эту главу с небольшого отступления, в котором говорит, что, хотя он и не любит повторять чужие слова, ему придется сейчас повторить многое из рассказанного до него Фирдоуси. Он надеется превзойти его красотой стиха… Бахрам идет на Иран с арабскими войсками. В Иране узнают об этом. Сидящий на троне старец напуган. Собирается совет. Решают нe пускать Бахрама в Иран и отправить ему письмо. Старцы, посланные из Ирана, передают письмо Бахраму.
Письмо иранцев Бахраму
Глава начинается велеречивым традиционным посланием старика шаха Бахраму. Он стар, его томят тяготы царских забот. На трон он взошел только потому, что его упросили, сам он этого не хотел. Он завидует беззаботной жизни Бахрама, отданной охоте и пирам. Сам он не ведает сна от забот. Далее он говорит о тяжкой вине грешного отца Бахрама и советует ему не пытаться захватить престол — его все равно не примут вельможи. Он предлагает Бахраму выкуп. В конце письма он лицемерно соглашается стать наместником Бахрама… Бахрам в гневе, но он не теряет рассудка. Следует его мудрый ответ гонцам. «Трон принадлежал моему отцу, — говорит Бахрам. — Я признаю, что отец был грешен. Но нельзя упрекать сына за грехи отца, и не надо говорить дурно об умершем. Я — другой человек и править буду иначе, буду милостив, справедлив, разумен, не буду мстить за старое, не буду никого обирать, буду прислушиваться к советам мудрецов». Гонцы признают, что Бахрам прав, его речи — речи истинного шаха, к тому же происхождение его безупречно. Но они выдвигают новые препятствия: они присягнули старику и не могут нарушить клятву. Бахрам отвечает, что он сам силой лишит старика престола, и им не придется нарушать присягу. Пусть устроят испытание: выведут двух свирепых львов и положат между ними шахский венец. Кто сможет его взять — тот и будет шахом. Условие записывают и отправляют в Иран. Старик, прочитав его, тут же снимает с себя корону и отказывается от престола в пользу Бахрама. Вельможи и мобеды удерживают его. Пусть Бахрам попытается взять венец, говорят они. Если это ему не удастся, престол достанется старику.
Бахрам берет венец
Утро. Предводители арабских и иранских войск подъезжают к шахскому зверинцу. Выводят львов, между ними кладут царский венец. Бахрам, не дрогнув, подходит к львам, убивает их и завладевает отцовским венцом.
Бахрам восходит на престол отца
Бахрам вступает на престол. Звездочеты составляют гороскоп — он, как и гороскоп рождения Бахрама, оказывается счастливым. Бахрам добр и щедр; Даже свергнутый им старец восхваляет его. Мобеды нарекают его «Шахом мира». Весь народ его хвалит.
Хутба справедливости Бахрама-Гура
По обычаю иранских царей, Бахрам произносит тронную речь, которую Низами называет арабским словом «хутба» (см. словарь).
В этой речи он возносит хвалу богу, который даровал ему шахский венец, обещает быть справедливым, идти правым путем и карать всякую неправду и несправедливость. В заключение главы Низами говорит, что Бахрам следовал своим обещаниям.
О том, как правил Бахрам-Гур
Счастливо на трон Ирана шах Бахрам взошел,
Совершенством и величьем озарил престол.
На семи златых подножьях трон его стоял,
Поясом с семью значками стан он повязал.
Шах в румийских был одеждах белых и парчах,
Чинский шелк переливался на его плечах.
Он добром с пределов Рума подати взимал,
Благом он с хакана Чина обложенье брал.
Он законы правосудья учредил в стране,
Злобу покарал, а правду наградил вдвойне.
Справедливых и гонимых сам он ограждал,
Угнетателей унизил, алчных покарал.
И ключом к замку печалей стал его дворец,
Благоденствие настало в царстве наконец.
Государство процветало, обретя покой,
И при нем дышать свободно стал народ простой.
Овцы множились, богатый расплодился скот,
На полях лилось живое изобилье вод.
Всякий плод пошел обильно на деревьях зреть,
Чистым золотом монеты» начали звенеть.
Шах Бахрам вникал повсюду сам во все дела;
Если видел зло, искал он тайный корень зла.
И последовали шаху все князья земли,
И окраины Ирана также расцвели.
Все, что глохло в запустенье в дни его отца,
Расцвело и разрешилось у его дворца.
Стражи кладов и владельцы замков крепостных
Крепости ему вручили и ключи от них,
Дневники приказов свыше каждый обновлял,
Каждый жизнь свою на службу шаху отдавал…
Шах делами государства окружал себя,
Подданным добра желая, утруждал себя.
Разоренные хозяйства вновь обогатил,
Беглецов в родное лоно лаской возвратил.
Он овец своих от волка злого защитил,
Сокола своею властью с голубем сдружил.
Обольщенья старой смуты он изгнал навек,
Хищничество, лихоимство всякое пресек.
Сокрушил, разбил опоры он врагов своих,
Поддержал друзей надежных он в делах мирских.
Человечность он законом для себя избрал.
«Лучше благо, чем обида», — людям он сказал.
«Оскорбленье унижает. Лучше убивать
Ненавистников, но душу их не оскорблять.
Лучше смерть, чем оскорбленье. Коль нельзя простить
Нераскаянных злодеев, лучше уж казнить.
И бичи и униженье — гибели лютей».
Справедливостью своею он привлек людей.
Был он щедр. И по величью духа своего
Не оставил без вниманья в царстве никого.
Видел он: лишь пыль печали, скорби и забот
Древняя обитель праха мудрому несет.
Но душой своей в печали не поник Бахрам,
Предался веселью, неге, ласкам и пирам.
Да, в непрочности вселенной убедился он,
И душою в наслажденья погрузился он.
Он лишь день один в неделю отдавал делам.
Шесть же дней — любви и неге отдавал Бахрам.
Без любви теперь не мог он даже дня дышать,
В ворота любви стучал он. Как же не стучать?
Есть ли смертный, что любовью не был бы пленен?
Кто лишен любви, ты скажешь, жизни тот лишен.
И любви провозгласил он в мире, торжество,
И четы влюбленных стали свитою его.
Засуха и милосердие Бахрама
Были в некий год жарою спалены поля,
И зерна не уродила щедрая земля.
Был такой во всем Иране страшный недород,
Что голодный пахарь начал есть траву, как скот.
Мир от голода в унынье голову склонил,
Хлеб у скупщиков для бедных недоступен был.
Весть о бедствии народном шаху принесли,
Молвили: «Простерся голод по лицу земли.
Смерть, страданья, людоедство на земле царят;
Словно волки, люди падаль и людей едят».
И Бахрам решил немедля бедствие избыть,
Двери всех своих амбаров он велел открыть.
А правителям окраин отдал он приказ,
Чтобы людям царских житниц роздали запас.
Написал: «Во всех селеньях пусть и в городах,
Люди хлеб берут бесплатно в наших закромах.
У богатого за деньги забирайте хлеб,
Голодающим бесплатно раздавайте хлеб.
А когда не будет ведать голода страна,
Птицам высыпьте остатки вашего зерна.
Чтоб никто в моих владеньях голода не знал,
Чтоб никто от недостатка пищи не страдал!»
А когда голодных толпы к житницам пришли
И домой мешки с пшеницей царской унесли,
Шах зерно в чужих владеньях закупать велел
И закупленное снова раздавать велел.
Он усердствовал, сокровищ древних не щадя,
Милости он сыпал гуще вешнего дождя.
Хоть подряд четыре года землю недород
Посещал, зерно от шаха получал народ.
Так в беде он истым Кеем стал в своих делах,
И о нем судили люди: «Подлинный он шах!»
Так избыл народ Ирана горе злых годин;
Все ж голодной смертью умер человек один.
Из-за этого бедняги шах Бахрам скорбел,
Как поток, зимой замерзший, дух в нем онемел.
И, подняв лицо, Яздана стал он призывать,
И о милости Яздана стал он умолять:
«Пищу ты даруешь твари всяческой земной!
Разве я могу сравняться щедростью с тобой?
Ты своей рукой величье малому даешь,
Ты величью истребленье и паденье шлешь.
Как бы я ни тщился, хлеба в житницах моих
Недостанет, чтоб газелей накормить степных.
Только ты — победоносной волею своей —
Кормишь всех тобой хранимых — тварей и людей.
Коль голодной смертью умер человек один,
То поверь, я неповинен в этом, властелин!
Я не ведал, что бедняга жил в такой нужде,
А теперь узнал, но поздно, не помочь беде».
Так молил Бахрам Яздана, чтобы грех простил,
И Бахраму некий тайный голос возвестил:
«За твое великодушье небом ты прощен,
И в стране твоей отныне голод прекращен.
Да! Подряд четыре года хлеб ваш погибал,
Ты ж свои запасы людям щедро раздавал,
Но четыре года счастья будет вам теперь,
Ни нужда, ни смерть не будут к вам стучаться в дверь!»
И четыре круглых года, как сказал Яздан,
Благоденствовал и смерти не видал Иран.
Счастлив шах, что добротою край свой одарил
И от хижин смерть и голод лютый удалил.
Люди новые рождались. Множился народ.
Скажешь: не было расхода, был один доход.
Умножалось населенье. Радостно, когда
Строятся дома; обильны, людны города.
Дом за домом в эту пору всюду возникал,
Кровлею к соседней кровле плотно примыкал.
Если б в Исфахан из Рея двинулся слепец,
Сам по кровлям он пришел бы к цели наконец. [294] Если б в Исфахан из Рея двинулся слепец, // Сам по кровлям он пришел бы к цели наконец. — Исфахан отстоит от окраины Тегерана, того места, где стоял древний Рей, приблизительно на четыреста километров. Между ними лежит пустыня. Низами хочет сказать этим бейтом, что во времена Бахрама вся местность от Исфахана до Рея была населена. Разумеется, это гипербола, как явствует из последующих стихов. Низами сам не решается верить такому преувеличению, взятому из хроники.
Если это непонятно будет в наши дни,
Ты, читатель, летописца — не меня — вини.
Народился люд, явилось много новых ртов,
Пропитанья было больше все ж, чем едоков.
На горах, в долинах люди обрели покой,
Радость и веселье снова потекли рекой.
На пирах, фарсанга на два выстроившись в ряд,
Пели чанги и рубабы и звучал барбат.
Что ни день — то, будто праздник, улица шумна.
Возле каждого арыка был бассейн вина.
Каждый пил и веселился, брань и меч забыл,
И, кольчугу сняв, одежды шелковые шил.
Ратный шум, бряцанье брани невзлюбили все,
О мечах, пращах и стрелах позабыли все.
Всякий, у кого достаток самый малый был,
Радовался, услаждался и в веселье жил.
Ну, а самым бедным деньги шах давать велел
На потехи. Всех он видеть в радости хотел.
Каждого сумел приставить к делу он в стране.
Чтобы жизнь была народу радостна вдвойне,
На две части приказал он будний день разбить,
Чтоб сперва трудиться, после — пировать и пить.
На семь лет со всей страны он подати сложил,
Ствол семидесятилетней скорби подрубил.
Тысяч шесть созвать велел он разных мастеров:
Кукольников, музыкантов, плясунов, певцов.
Он велел их за уменье щедро наградить
И по городам, по селам им велел ходить,—
Чтоб они везде бывали с песнею своей,
Чтобы сами веселились, веселя людей.
Меж Тельцом и Близнецами та была пора,—
Рядом шла с Альдебараном на небе Зухра.
Разве скорбь приличествует [295] Разве скорбь приличествует… — В предшествующем и этом стихах снова описано счастливое, с точки зрения тогдашней астрологии, стечение планет и созвездий. людям той порой,
Как Телец владычествует на небе с Зухрой?
Бахрам и рабыня
Знаменитый эпизод предания о Бахраме, имеющийся в другом изложении в «Шах-наме» Фирдоуси, — сюжет многочисленных миниатюр, изображений на чащах, кувшинах и т. п. Бахрам едет на охоту со своей любимой певицей — рабыней Фитне. Он показывает ей искусство в стрельбе из лука, но она замечает, что тут нет ничего удивительного: всякий, мол, кто долго упражняется в каком-либо искусстве, достигает в нем совершенства. Тут видна выучка, а не сила. Бахрам в гневе хочет убить рабыню, но не считает возможным пролить своей рукой кровь женщины и поручает убить ее своему военачальнику. Тот уводит Фитне. Она умоляет его отложить исполнение приказа Бахрама. Пусть он доложит Бахраму, что убил Фитне. «Если шах выразит удовлетворение, убей меня, если же он огорчится — я спасена», — говорит рабыня. Военачальник поступает так, как она его просила. Бахрам раскаивается в своей жестокости и горько рыдает… Военачальник отправил Фитне в свою деревню, около которой была высокая башня. В деревне родился теленок. Фитне стала брать каждый день этого теленка на спину и относить на вершину башни. Теленок рос, но росли и силы рабыни и через некоторое время она носила уже на вершину башни взрослого быка. Прошло шесть лет. Как-то раз Бахрам на охоте заехал в эту самую деревню. Фитне просит военачальника пригласить Бахрама на пир. Пир устраивают на верхней площадке башни. Во время пира военачальник говорит Бахраму, что в соседней деревне есть девушка, которая поднимается на эту башню, неся на спине быка. Бахрам поражен. Зовут Фитне, и она, закрыв лицо покрывалом, показывает свое умение. Бахрам говорит, что в этом нет ничего удивительного: просто она долго упражнялась, все дело в выучке. Фитне отвечат: «Когда хорошо стреляют из лука, то это не благодаря выучке, а когда носят быка на башню, то это только благодаря выучке, а не силе». Бахрам по этому ответу узнает Фитне, срывает с нее покрывало и заключает ее в объятия. Военачальник получает щедрую награду, а Фитне становится женой шаха. (Намек на вторую часть этой легенды, очевидно, очень древнюю, имеется в «Сатириконе» Петрония: «Снесла теленка, снесет и быка». У Фирдоуси этой части нет. Бахрам в гневе растаптывает рабыню конем.)
Хакан Чина вторгается в Иран
Бахрам поручает управление страной трем везирам, а сам веселится. Хакан Чина прослышал, что Бахрам предался одним забавам и любовным утехам. Он решает, что Иран не сможет защищаться, собирает огромное войско — триста тысяч лучников и с востока вторгается во владения Бахрама. Войско Бахрама долгие годы бездействовал-о, обленилось, двинуть его на врага просто опасно. Наместники вступили в тайные сношения с хаканом. Бахрам не принимает боя и бежит из столицы. Хакан торжествует и на радостях устраивает пиршества. Бахрам же, отобрав триста лучших всадников, внезапно ночью нападает на ставку хакана и одерживает блестящую победу. Войска Чина бегут в панике, хакану с трудом удается спасти жизнь. Бахрам возвращается в столицу.
Бахрам порицает начальников войска
Бахрам, воссев на престол, собирает своих военачальников и обращается к ним с гневной речью. «Я не видел вас во время недавних сражений, — говорит Бахрам, — вы способны, очевидно, лишь хвастаться древностью рода и знатностью, а не воевать! Да, я пью вино, — продолжает Бахрам, — но я, как видите, не забываю и о благе государства, мой враг побежден». Военачальники обращаются к Бахраму с подобострастными речами. Победа Бахрама, говорят они, затмила все подвиги древних царей. Шах всегда настороже, он не дремлет, страна при нем процветает. Затем слово берет везир Бахрама Нуман, сын Мунзира, царя Йемена. Он просит отпустить его на родину. Бахрам щедро одаривает Нумана, и тот уезжает.
Бахрам женится на дочерях падишахов семи стран
Всей душою в наслажденья погрузился шах,
Ибо он устал в походных пребывать трудах.
Судьбы подданных устроил сам сперва Бахрам,
А уж после приступил он и к своим делам.
Он попрал врагов Ирана твердою пятой
И предалея неге мира с чистою душой.
И пристрастие былое стал он вспоминать.
Что в трудах — за недосугом — начал забывать.
Как Аржанг, семи блиставший мира поясам,—
Образы семи красавиц вспоминал Бахрам.
И в душе Бахрама-Гура разгорелась вновь
К этим гуриеподобным девушкам любовь.
Семь волшебных эликсиров в мире он открыл
И семью огнями пламя страсти погасил.
Первая была — царевна Кеева дворца, [296] …царевна Кеева дворца… — то есть иранская царевиа.
Но у ней в живых у ту пору не было отца.
Он засватал перл бесценный рода своего
И за тысячи сокровищ получил его.
А потом к хакану Чина он послал гонцов
И письмо с угрозой, скрытой средь любезных слов.
Дочь просил он у хакана и казну с венцом
И вдобавок дань двойную на году седьмом.
Отдал дочь хакан Бахраму и послал дары:
Груз динаров и сокровищ, чаши и ковры.
Вслед за тем Бахрам кайсару вдруг нанес удар,—
Вторгся с войском в Рум. Немалый там зажег пожар.
Спорить с ним не стал объятый ужасом кайсар,
Выдал дочь свою и с нею дал богатый дар.
И людей в Магриб к султану шах послал потом
С чистым золотом в подарок, с троном и венцом.
Что ж! Магрибскую царевну получил Бахрам.
Посмотри, как в той женитьбе ловок был Бахрам.
А когда был кипарис им стройный увезен,
В край индийский за невестой устремился он.
Разумом раджу индусов так пленил Бахрам,
Что и дочь индийца в жены получил Бахрам.
И когда в Хорезм направил шах Бахрам посла,
Хорезм-шaxa дочь женою в дом к нему вошла.
Он царя саклабов даром дорогим почтил,
Дочь его — алмаз чистейший — в жены попросил.
Так вот — от семи иклимов — у семи царей
Взял он в жены семь прекрасных перлов-дочерей;
И привез к себе, и с ними в счастье утопал,
Юности и наслажденью полностью воздал.
Зимние пиры Баxрама и построение семи дворцов
В некий день, едва лишь солнце на́ небо взошло,
Небосвод в сребристом блеске обнажил чело.
Радостен и лучезарен, ярко озарен
Был тот день. Да не затмится он в чреде времен!
В это утро щах собранье мудрецов созвал.
Как лицо прекрасной девы, дом его блистал.
Не в саду садились гости, а входили в дом,
Ибо день тот был отрадный первым зимним днем.
Все убра́нство в дом из сада унесли. И сад
Опустел, погасло пламя множества лампад.
Смолкли соловьи на голых, мокрых деревах.
Крик ворон: «Держите вора!» — слышится в садах.
От индийца родом ворон, говорят, идет,—
Диво ль, что индиец вором стал и сам крадет. [297] От индийца родом ворон, говорят, идет, // Диво ль, что индиец вором стал и сам крадет. — В персидской поэзии «индиец» в значении «грабитель» — обычная метафора (см. словарь). Лица у индийцев томные, ворон — черный. Смысл этого и следующего бейта таков: наступила зима, и черные, как индийцы, вороны, подобно грабителям, забрались в сады. В прекрасных садах Ирана действительно зимой много огромных черных воронов с красноватыми лапами и клювами.
Вместо соловьев вороны царствуют в садах.
Вместо роз шипы остались на нагих кустах.
Ветер утренний — художник, что снует везде,
Он серебряные звенья пишет на воде.
Холод у огня похитил мощь, — и посмотри:
Из воды мечи кует [298] Холод… из воды мечи кует… — Низами имеет в виду либо сосульки, либо замерзшие реки, ручьи, похожие на изогнутые сверкающие мечи. он под лучом зари.
И с копьем блестящим вьюга всадником летит,
Над затихшей речкой острым снегом шелестит.
Молоко в кувшинах стало твердым, словно сыр.
Стынет в жилах кровь живая, воздух мглист и сыр.
Горы в горностай оделись, долы — в белый пух,
Небосвод в косматой шубе дремлет, хмур и глух.
Хищник зябкий травоядных стал тропу следить,
Чтоб содрать с барана шкуру, чтобы шубу сшить.
Голова растений сонно на землю легла,
Сила их произрастанья в глубь пещер ушла.
Мир-алхимик на деревьях лист позолотил
И рубин огня живого в сердце камня скрыл.
В благовонья тот алхимик розы превратил [299] В благовонья тот алхимик розы превратил… — Речь идет либо о розовой воде, либо о вине, красном, как розы, и заключенном в кувшины.
И в кувшине под печатью крепкой заключил.
Словно ртуть, вода густая стынет на ветру
И серебряной пластиной скрыта поутру.
Теплый шахский дом, блистая стеклами окон,
Совмещал зимою свойства четырех времен.
Золотым углем жаровен и живым огнем
Леденящий зимний воздух нагревался в нем.
А плоды и вина сладко усыпляли ум,
И от сердца отгоняли рой докучных дум.
На углях горел алоэ, жарко тлел сандал;
Как индийцы на молитве, дым вокруг вставал. [300] Как индийцы на молитве, дым вокруг вставал. — То есть дым был черный, как темнолицые индийцы, и стоял вокруг огня, как индийцы-огнепоклонники на молитве. Зная, очевидно, о культе Агни, современники Низами часто называли вообще всех индийцев огнепоклонниками, что, конечно, неправильно.
Для поклонников Зардушта рдел живой огонь,
Был источником веселья золотой огонь.
В золоте, в дыму алоэ брачный был чертог,
Пиршественный, как гранатный розовел цветок.
Яркие шелка блистали в зале пировом.
Куропатка с перепелкой над живым огнем
Вместе жарились, вращаясь. С ними чередой,
Оперенье сняв, кружился вяхирь молодой.
Желтый пламень дров горящих, дымом окружен,
Кладом золотым казался, дым на нем — дракон [301] …дым на нем — дракон. — По представлению времен Низами, отраженному и в одной из глав этой поэмы, змеи, драконы, охраняют клады. Это представление характерно и для славянского фольклора..
Адом был огонь и раем. В суть огня вникай:
Ад он — жаром пепелящим, ярким светом — рай.
Обитателям кумирен он — горящий ад,
Сад он райский для прошедших узкий мост — Сират.
Древний Зенд Зардушта гимны пламени поет,
Маг, как мотылек крылатый, вкруг огня снует.
В славный зимний день с друзьями пировал Бахрам,
Пил вино, как подобает пить вино царям.
Вина сладкие, жаркое, музыка, друзья,—
Это зимнею порою одобряю я.
Как улыбка уст румяных, в чаше блеск вина,
Коль вином горячим в стужу чаша та полна.
Музыкой разгорячен был у застольцев мозг,
Сердце в теплоте отрадной таяло, как воск.
Мудрецы путем веселья за вином пошли,
Искрящийся остроумьем разговор вели.
Каждый радостно, открыто шаху говорил
То, что в сердце благородном ото всех таил.
Некий славный иноземец среди них сидел,
Князь по крови, он, великий, знанием владел.
Светлый ликом, словно солнце, звался он Шида;
Живописец — чувств исполнен, вдохновлен всегда,
Геометр и математик, врач и астроном,
Был он в зодчестве прославлен дивным мастерством.
Словно воск, податлив камень был в его руках,
Яркий блеск его мозаик не погас в веках.
Он узорною резьбою зданья украшал
И по извести картины красками писал.
Поднялся он из застолья, перед шахом встал,
Поклонился, сел на место и царю сказал:
«Если будет мне согласье шаха и указ —
Устраню я от Ирана наговор и сглаз.
Я ученый и астролог. До высоких звезд
Мною знанья тайн небесных перекинут мост.
Был провидения дан мне при рожденье дар,
Зодчеству меня премудрый научил Симнар.
Предначертано мне было, чтобы я пришел
И для шаха семь высоких здесь дворцов возвел.
Чтобы семь цветов небесных радуги я взял,
Чтобы дом семи чертогов семицветным стал.
Семь прекрасных жен Бахраму судьбами даны,
Семь красавиц; каждой свойствен цвет ее страны.
Надо, чтоб дворец у каждой ей по цвету был,
Чтобы с цветом сочетался цвет семи светил.
В соответствии с движеньем неба и планет,
За семь дней своих неделя изменяет цвет.
И в согласии с движеньем вечных звезд и дней,
Каждый день пускай приходит шах к жене своей.
Шах ответил: «Я согласен. Эти семь дворцов
Златоверхих ты построишь средь моих садов.
Но и мне в свой срок придется к богу отойти,
Так зачем же здесь заботы лишние нести?
Говоришь, что семь чертогов мне построишь ты,
Что внутри, подобно раю, их устроишь ты?
В тех чертогах поселится только страсть моя,
Ну, а где же буду бога славословить я?
Коль в семи чертогах славить буду божество,
Где же будет храм? Где бога встречу моего?»
Но подумал про себя он: «Заблуждаюсь я,
Маловер, во всюду сущем сомневаюсь я.
Тот, кто землю наполняет и небесный свод,
Слово искренней молитвы всюду он поймет».
И, представ с душой открытой пред лицом творца,
Заложил Шида основу первого дворца.
Семь чертогов он два целых года возводил,
Ежедневно на рассвете на леса всходил.
Да! Поистине — ты скажешь — зодчий был велик!
Семь невиданно прекрасных он дворцов воздвиг.
Был у каждого свой тайный гороскоп, свой цвет.
С честью выполнил строитель данный им обет.
Шах Бахрам, придя, увидел средь своих садов
Семь дворцов, как семь небесных светлых куполов.
Знал он, что достигли слухи отдаленных стран,
Как безжалостно с Симнаром поступил Нуман.
Был Нуман за то сурово всюду осужден,
Что премудрого Симнара смерти предал он.
Чтоб Шида был им доволен, счастлив был весь век,
Шах ему богатый город подарил — Бабек.
Он сказал: «Нуман ошибку тяжкую свершил,
Я судить его не волен, — знал он, что творил».
Не по скупости Нуманом был Симнар убит,
Не по щедрости так щедро и Бахрам дарит.
Таково предначертанье в жизни сей земной,—
Здесь всегда один в убытке, с прибылью — другой.
Этот жаждою томится, гибнет тот в воде,
И награду за Симнара воздают Шиде.
Мудрый ведает: грядущий день от нас закрыт.
Поражен своей судьбою — человек молчит.
Описание семи дворцов
Встало семь дворцов — до неба — в пышных куполах,
Каждый купол был воздвигнут на семи столбах.
Окружил дворцы стеною зодчий. И Бахрам
Поднялся на эту стену, словно к небесам.
Семь дворцов Бахрам увидел, словно семь планет.
В соответствии планетам у дворцов был цвет.
И во всем Шида премудрый дал отличья им
В соответствии великим поясам земным,
Первый купол, что Кейвану зодчий посвятил,
Камнем черным, словно мускус, облицован был.
Тот, который был отмечен знаком Муштари,
Весь сандаловым снаружи был и изнутри.
А дворец, что был Бахрамом красным озарен,
Розовел порфиром, красен был в основе он.
Тот, в котором зодчий знаки Солнца усмотрел,
Ярко-желтым был, как солнце, золотом горел.
Ну, а купол, чьим уделом был венец Зухры,
Мрамором лучился белым, как венец Зухры.
Тот же, чьею был защитой в небе Утарид,
Бирюзой горел, как в небе Утарид горит.
А построенный под знаком молодой луны
Зелен был, как счастье шаха, как наряд весны.
Так воздвиг Шида для шаха славных семь дворцов,
Семь цветных, как семь планетных в мире поясов.
Цвет свой Семь пределов мира шаху принесли.
Как хозяйки семь царевен в семь дворцов вошли.
Каждая царевна замок выбрала себе
По ее происхожденью, цвету и судьбе.
Внутреннее все убранство в каждом из дворцов
Свойственных ему оттенков было и цветов.
В те дворцы по дням недели шах Бахрам входил
И с одною из красавиц время проводил.
Он в Субботу, в день Кейвана, в черный шел дворец,
Как ему по гороскопу предсказал мудрец.
В воскресенье — желтый замок посещал Бахрам,
И по очереди в каждом пировал Бахрам.
И в каком дворце за чашей ни садился он,
В цвет дворца и цвет планеты был он облачен.
И, полна очарованья, блеска и ума,
Госпожа дворца садилась близ него сама.
Каждая хотела сердце шахское пленить,
Привязать его, халвою шаха накормить.
И они ему, за пиром тайным без гостей,
Рассказали семь волшебных старых повестей.
Хоть воздвиг Бахрам когда-то дивных семь дворцов,
Но не спасся все ж от смерти он в конце концов.
Низами! От сада жизни отведи свой взгляд!
В нем шипами стали розы, и шипы язвят.
Вспомни: в ад поверг Бахрама рай его страстей
В этом царстве двух обманных, мимолетных дней.
Повесть первая. Суббота
Индийская царевна
Образы семи красавиц сердцем возлюбя,
Шах Бахрам в неволю страсти отдал сам себя.
В башню черную, как мускус, в день субботний он
Устремил стопы к индийской пери на поклон.
И в покое благовонном до ночной поры
Предавался он утехам сладостной игры.
А когда на лучезарный белый шелк дневной
Ночь разбрызгала по-царски мускус черный свой,
Шах у той весны Кашмира сказки попросил —
Ароматной, словно ветер, что им приносил
Пыль росы и сладкий запах от ночных садов,—
Попросил связать преданье из цветущих слов,
Из чудесных приключений, что уста слюной
Наполняют, приклоняют к ложу головой.
Вот на мускусном мешочке узел распустила [302] Вот на мускусном мешочке узел распустила… — то есть начала рассказ, прекрасный, как благоухание мускуса.
Та газель с глазами серны и заговорила:
«Пусть литавры шаха будут в небесах слышны
Выше четырех подпорок золотой луны!
И пока сияет небо, пусть мой шах живет,
Пусть к его ногам покорно каждый припадет.
Пусть не будет праздно счастье шахское сидеть,
Пусть он все возьмет, чем хочет в мире овладеть!»
Рассказала, взор потупя в землю от стыда,
То, о чем никто не слышал в мире никогда.
Сказка
«Мне поведал это родич царственный один,
Величавый старец, в снежной белизне седин:
«Некогда сияла в сонме райского дворца
Гурия с печальным видом нежного яйца.
Каждый месяц приходила в замок наш она,
И была ее одежда каждый раз черна.
Мы ее расспрашивали: «Почему, скажи,
В черном ты всегда приходишь? Молим: удружи
И открой, о чем горюешь, слиток серебра?
Черноту твоей печали выбелить пора! [303] И открой, о чем горюешь, слиток серебра? // Черноту твоей печали выбелить пора! — Слиток серебра — белое тело красавицы. Серебряный слиток до очистки — черного цвета, печаль — «черная» («черная меланхолия»), «выбелить слиток» — разогнать печаль красавицы.
Ты ведь к нам благоволеньем истинным полна;
Молви, почему ты в черном? Почему грустна?»
От расспросов наших долгих получился толк.
Вот что гостья рассказала: «Этот черный шелк
Смысл таит, имеет повесть чудную свою.
Вы узнать ее хотите? Что ж, не утаю,
А от вас расспросов многих я сама ждала.
Я невольницею царской некогда была.
Этот царь был многовластен, справедлив, умен;
В памяти моей живет он — хоть и умер он.
Скорби многие при жизни он преодолел
И одежду в знак печали черную надел.
«Падишах в одежде черной» — в жизни наречен,
Волей вечных звезд на горе был он обречен.
Весел в юности — печальным стал он под конец.
Смолоду он наряжался в золото, в багрец;
И, за ласку и радушье всюду восхвален,
Людям утреннею розой улыбался он.
Замок царский подымался до Плеяд челом.
Это был гостеприимный, всем открытый дом.
Стол всегда готов для пира — постланы ковры.
Гостю поздней или ранней не было поры.
Знатен гость или не знатен, беден иль богат —
Всех равно в покоях царских щедро угостят.
Царь расспрашивал пришельца о его путях,
Где бывал и что изведал он в чужих краях.
Гость рассказывал. И слушал царь его рассказ,
До восхода солнца часто не смыкая глаз.
Так спокойно год за годом мирно протекал.
От закона гостелюбья царь не отступал.
Но однажды повелитель, как Симург, пропал,
Время шло. Никто о шахе ничего не знал.
Горевали мы; в печали влекся день за днем,—
А вестей, как о Симурге, не было о нем.
Но внезапно нам судьбою царь, был возвращен;
Словно и не отлучался, снова сел на трон,
Молчалив он был и в черном — с головы до пят.
Были черными — рубаха, шапка и халат.
После этого он правил многие года,
Только в черное зачем-то облачен всегда.
Без несчастья — одеяньем скорби омрачен,
Вечно, как вода живая, в мраке заключен. [304] …как вода живая, в мраке заключен. — По легенде, изложенной в «Искендер-наме» Низами, источник сказочной «живой воды» находится в царстве вечного мрака.
С ним была я, и светили мне его лучи…
И однажды — с глазу на глаз — горестно в ночи
Он мне голосом печальным жаловаться стал:
«Посмотри, как свод небесный на меня напал,
Из страны Ирема силой он меня увлек
И навеки в этот черный погрузил поток.
И никто меня не cnpoсил: «Царь мой, где ты был?
Почему седины черной ты чалмой покрыл?»
И, ответ обдумывая и словам его
Молча внемля, прижималась я к ногам его.
Молвила: «О покровитель вдов и горемык…
О властитель справедливый, лучший из владык!
Искушать тебя — что небо топором рубить,—
Кто дерзнет? Один ты волен тайное открыть».
Что достойна я доверья, понял властелин —
Мускусный открыл мешочек, просверлил рубин
И сказал: «Когда я в мире сделался царем,
Возлюбил гостеприимство, всем открыл свой дом.
И у всех, кого я видел, — добрых и дурных, —
Спрашивал о приключеньях, что постигли их.
И пришел однажды ночью некий гость в мой дом,
Были плащ, чалма и туфли — черные на нем.
По обычаю, велел я угостить его.
Угостивши, захотел я расспросить его.
Начал: «Мне, не знающему повести твоей,
Молви, — почему ты в платье — полночи темней?»
Он ответил мне: «Об этом спрашивать забудь:
Никогда к гнезду Симурга не отыщешь путь».
Я сказал: «Не уклоняйся, друг, поведай мне,
Что за чудеса ты видел и в какой стране?»
Отвечал мой гость: «Ты должен, царь, меня простить,
Мне ответа рокового в слово не вместить».
Но, увидев, как встревожен я, как угнетен,
Своего молчанья словно устыдился он.
Вот что он поведал: «Город есть в горах Китая.
Красотой, благоустройством он — подобье рая,
А зовется «Град Смятенных» и «Скорбей Обитель».
В нем лишь черные одежды носит каждый житель.
Люди там красивы; каждый ликом что луна,
Но, как ночь без звезд, одежда каждого черна.
Всякого, кто выпьет в этом городе вина,
В черное навек оденет чуждая страна.
Что же значит одеяний погребальный цвет,—
Не расскажешь, но чудесней дел на свете нет.
И хотя бы ты велел мне голову снести,
Больше не могу ни слова я произнести»,
Молвил это и пожитки на осла взвалил,
Двери моего желанья наглухо закрыл.
Проходила предо мною странников чреда.
Всех я спрашивал. Никто мне не открыл следа…
И решил я бросить царство, — хоть бы навсегда!
Родичу вручил кормило власти и суда,
Взял запас одежд и денег я в своей казне,
Чтоб нужда в пути далеком не мешала мне.
И пришел в Китай. И многих встречных вопрошал
О дороге — и увидел то, чего искал.
Город убранный садами, как Ирема дом.
Носит черные одежды каждый житель в нем.
Молока белее тело каждого из них,
Но как бы смола одела каждого из них.
Дом я снял, расположился отдохнуть в пути
И присматривался к людям целый год почти.
Но не встретил я доверья доброго ни в ком,
Губы горожан как будто были под замком.
Наконец сошелся с неким мужем-мясником.
Был он скромен, благороден и красив лицом.
Дружбы с ним ища, за ним я следовал, как тень.
И встречаться с новым другом стал я каждый день.
А как с ним сумел я узы дружбы завязать,
Я решил обманом тайну у него узнать.
Часто я ему подарки ценные дарил,
Языком монет о дружбе звонко говорил.
И мясник под непрерывным золотым дождем,
Стал к закланию готовым жертвенным тельцом.
Наконец меня однажды он в свой дом привел.
Был там сказочно богатый приготовлен стол.
А когда мы, пир окончив, речи повели,—
Множество подарков ценных слуги принесли.
Счесть нельзя богатств, какие мне он расточил.
Все мои — к своим подаркам присоединил.
Отдав мне дары с поклоном, сел и так сказал:
«Столько, сколько ты сокровищ мне передавал,
Ни одна сокровищница в мире не вмещала!
Я доволен и своею прибылью немалой.
Стану, как ты пожелаешь, я тебе служить.
Жизнь одна во мне, но: если смог бы положить
Десять жизней я на чашу тяжкую весов,—
Я не смог бы перевесить данных мне даров!
Слушай же — отныне буду я твоим рабом,
Иль свои дары обратно унеси в свой дом».
И когда я убедился в дружбе мясника,
Увидал, что бескорыстна дружба и крепка,—
Я ему свою поведал горестную повесть,
Ничего не скрыв, поведал, как велела совесть.
А когда мясник почтенный выслушал меня,
Стал овцой. Овцой от волка, волком от огня —
Он шарахнулся, и, словно сердце потерял,
Словно чем-то пораженный, долго он молчал.
И промолвил: «Не о добром ты спросил сейчас.
Но ответ на все должник твой нынче ж ночью даст».
И когда под амброй ночи скрылась камфора [305] И когда под амброй ночи скрылась камфора… — Амбра — черная, символизирует ночь; камфора — белая, символизирует день. То есть наступила ночь.
И к покою обратились люди до утра,
Мой хозяин молвил: «Встанем, милый гость, пора,
Чтоб увидеть все, что видеть ты хотел вчера.
Встань! Неволей в этот день я послужу тебе,
Небывалое виденье покажу тебе!»
Молвив так, со мною вышел из дому мясник,
Вел меня средь сонных улиц, словно проводник.
Шел он, я же — чужестранец — позади него.
Двое было нас. Из смертных с нами — никого.
Вел меня он, как безмолвный некий властелин.
За город привел, в пределы сумрачных руин.
Ввел в пролом меня, где тени, как смола, черны,
Словно пери, скрылись оба мы в тени стены.
Там увидел я корзину. И привязан был
К ней канат. Мясник корзину эту притащил
И сказал: «На миг единый сядь в нее смелей.
Между небом и землею будешь поднят в ней.
Сам узнаешь и увидишь: почему, в молчанье
Погруженные, мы носим ночи одеянья.
Несказанная корзине этой власть дана,
Сокровенное откроет лишь она одна».
Веря: искренностью дружбы речь его полна,
Сел в корзину я. О — чудо! Чуть ногами дна
Я коснулся — словно птица поднялась она,
Понеслась корзина, словно вихрем взметена,
И в вертящееся небо повлекло меня;
Чары обняли корзину поясом огня.
До луны вздымавшаяся башня там была.
Сила чар меня на кровлю башни подняла.
В узел, черною змеёю, свился мой канат.
Брошен другом, там стоял я, ужасом объят.
Я стонал, об избавленье господа моля.
Сверху небо — и во мраке подо мной земляк
Высоко на кровле башни, в страхе чуть дыша,
Я сидел. От этой казни в пуп ушла душа.
Было страшно мне на небо близкое взглянуть,
А глядеть на землю с неба как я мог дерзнуть?
И от ужаса невольно я глаза закрыл,
И покорно темным силам жизнь свою вручил,
И раскаивался горько я в своей вине.
Горевал я об отцовском доме и родне…
Не было от покаянья радостнее мне.
Полный горьких сожалений, я горел в огне,
Надо мною проплывало время, как во сне,
Вдруг примчалась птица с неба, села на стене,
Где один я плакал в горе. Села, как гора,
Велика, страшна, громадна, — черного пера.
Хвост и крылья, как чинары — густы и тенисты.
Лапы, как стволы деревьев, толсты и когтисты.
Как колонна Бисутуна — клюв ее велик,
Как дракон в пещере — в клюве выгнулся язык.
И чесалась эта птица, перья отряхала,
Расправляла хвост и шумно крыльями махала.
И когда она подкрылье черное чесала,—
Раковину с перлом алым на землю бросала,
Пыли мускусной вздымала облако до звезд
Каждый раз, как расправляла крылья или хвост.
Вскоре птица погрузилась надо мною в сон,
И в ее пуху дремучем был я схоронен.
Думал: «Коль за птичью ногу крепко ухвачусь,
С помощью ужасной птицы наземь я спущусь,
Пусть внизу беду любую для себя найду…
Силой же своей отсюда вовсе не сойду.
Злобный человек со мною подло поступил,
Предал мукам, клятву дружбы низко преступил.
Или он моим богатством завладеть желал —
И затем меня на гибель верную послал?..»
Так томился я, покамест не зардела высь.
Смутно голоса земные снизу донеслись.
Сердце птицы застучало бурно надо мной.
Птица крыльями всплескала бурно надо мной.
Крылья шире корабельных поднятых ветрил.
Встал я, лапу страшной птицы крепко обхватил.
А она поджала лапы, крылья развела
И, как буря, сына праха к солнцу понесла.
И меня с утра до полдня птица та носила.
Солнце гневно жгло. От зноя я лишился силы.
Вдруг — увидел: небо стало надо мной вращаться;
То — огромными кругами начала спускаться
Птица на землю. Земная тень ее влекла:
И когда копья не выше высота была,
Возблагодарил я птицу: «Ну, спасибо, друг».
И ее кривую лапу выпустил из рук.
Словно молния, упал я на цветущий луг,—
Весь в росе благоуханной, он блестел вокруг.
Добрый час, смежив зеницы, я в траве лежал.
Где я, что со мною будет, я тогда не знал.
В сердце у меня тревога улеглась не вдруг,
Наконец открыл я веки, поглядел вокруг.
Цвета бирюзы небесной почва там была.
Пыль земная на густую зелень не легла.
Сотня тысяч разновидных там цветов цвела.
Зелень листьев бодрствовала, а вода спала.
Тысячами ярких красок взоры луг пленял.
Ветер, полный благовоний, чувства опьянял.
Гиацинт петлей аркана брал гвоздику в плен,
Юной розы рот багряный прикусил ясмен;
И язык у аргавана отняла земля,
Амброю благоуханной там была земля.
По долине той струился голубой поток,
А на дне ручья лучился золотой песок.
У его кристально-светлых и холодных вод
Блеска, словно подаянья, клянчил небосвод.
А в ручье играли рыбы ярче серебра.
Берега как два огромных сказочных ковра.
Изумрудные предгорья в полукруг сошлись.
Лес в предгорьях — дуб индийский, кедр и кипарис.
Там утесы были чистым яхонтом, опалом.
Дерева горели цветом золотым и алым.
Сквозь кустарники алоэ пахнущий сандалом
Ветер веял по долине и окрестным скалам.
Чащей шел я; чуя голод, рвал плоды и ел.
Отдохнуть под кипарисом свежим захотел.
Лег, уснул, тревог не зная и докучных дел,
Небеса благословляя за такой удел.
Только полночь погрузила землю в синь и тьму
И, убрав багрец, на тучи нанесла сурьму,
Мне в лицо пахнул отрадно с горной вышины
Легковейный и прохладный ветерок весны.
Пронеслась гроза, апрельской свежестью полна,
Быстрым дождиком долину взбрызнула она.
Напоился дол широкий свежестью ночной
И наполнился красавиц молодых толпой.
Прелестью была любая гурии равна,
Шли они передо мною, как виденья сна.
Будто чудом породила ночи глубина
Мир красавиц светозарных, свежих, как весна,
Золотых запястий змеи на руках у них.
Перлы крупные на шее и в серьгах у них.
А в руках красавиц свечи яркие горят;
Хоть нагара не снимают, — свечи не коптят.
Стана гибкостью любая в плен брала мой взгляд,
Обещая и скрывая тысячи услад.
На траву ковер постлали, водрузили трон.
Ждал я, что же будет дале, — словно видел сон.
Только время миновало малое с тех пор,
Нечто ярко засияло, ослепляя взор.
Будто бы луна спустилась наземь с высоты,
Легким шагом приминая травы и цветы.
То владычица красавиц — не луна была.
Эти пери лугом были, а она была
Кипарисом среди луга и над их толпой,
Словно роза, возвышалась гордой головой.
Вот воссела, как невеста, госпожа на трон,
Спал весь мир, а только села — мир был пробужден.
Еле складки покрывала совлекла с лица —
Некий падишах, казалось, вышел из дворца,
Белое румийцев войско [306] Белое румийцев войско… — то есть лицо ее бело, как у жителей Византии, а кудри черны, как лица индийцев. впереди него,
Черное индийцев войско позади него.
А когда одно мгновенье, два ли миновало,
Девушке, вблизи стоявшей, госпожа сказала:
«Я присутствие чужое ощущаю здесь.
Чую — существо земное между нами есть.
Встань скорее и долину нашу обойди
И, кого ни повстречаешь, — всех ко мне веди».
Та, рожденная от пери, мигом поднялась,
Словно пери над долиной темной понеслась.
Изумясь, остановилась, лишь меня нашла,
За руку меня с улыбкой ласково взяла
И сказала: «Встань скорее, полетим, как дым!»
Ждал я этих слов, ни слова не прибавил к ним.
Как ворона за павлином, я за ней летел,
Перед троном на колени встать я захотел.
Стал я в самом нижнем круге средь подруг ее.
Молвила она: «Ты место занял не свое.
Не к лицу тебе, я вижу, выглядеть рабом;
Место гостя — не в скорлупке, а в зерне самом.
Подымись на возвышенье, рядом сядь со мной.
Ведь приятно и Плеядам плыть перед луной».
Я ответил: «О царица из страны зари,
Своему рабу подобных притч не говори!
Трон Валкие ему не место, это знает он.
Только Сулейман достоин занимать твой трон».
Молвила: «Здесь ты хозяин. Подойди и сядь.
Станешь ты у нас отныне всем повелевать.
Буду властна над тобою только я одна.
Сокровенное открою только я одна.
Ты мой гость, а мой обычай — почитать гостей».
Понял я, что мне осталось покориться ей.
Стол для пира повелела госпожа принесть.
Принесли нам стол служанки, — яств на нем не счесть.
Чаши были — цельный яхонт, стол же — бирюза.
Вызывал он вожделенье, радовал глаза.
А когда я сладкой пищей голод утолил
И напитком благовонным сердца жар залил,—
Появились музыканты, кравчие ушли.
И неведомое бедным жителям земли
Счастье, думал я, доступно, близко стало мне…
Нежно песня дев хвалою зазвучала мне.
Струны руда зазвенели, бубен забряцал.
Вихрь веселой многоцветной пляски засверкал.
Не касаясь луга, несся легкий круг подруг.
Будто ввысь их поднимали крылья белых рук.
А потом — поодаль сели девы пировать.
Кравчие не успевали чаши наполнять.
От вина и сильной страсти обезумел я.
Мне казалось — закипела в жилах кровь моя.
К госпоже сахароустой руки я простер,
У нее живым согласьем засветился взор.
Начал я у девы милой ноги целовать,
Возразит — я с большей силой стану обнимать.
Уж надежды птица пела мне из тьмы ветвей,
Если б двести душ имел я, — все бы отдал ей.
«О скажи, услада сердца, — я молил ее,—
Кто ты, сладостная? Имя назови свое!»
«Я тюрчанка с нежным телом, — молвила она.—
Нежною Тюркназ за это в мире названа».
Молвил я: «Как дивно сходны наши имена!..
Звуком имени со мною ты породнена.
Ты — Тюркназ, что значит — Нежность. Я — Набег — Тюрктаз.
Я молю тебя: немедля нападем сейчас
На несметных дивов горя — их огнем сожжем,
Утолим сердец томленье колдовским вином!
Все забудем… Обратимся к радости любви…
И душою погрузимся в радости любви!»
Я прочел в ее улыбке и в игре очей:
«Видишь — счастие судьбою занялось твоей!..
Видишь, час благоприятен… Нет вокруг людей…
Снисходительна подруга — так целуй смелей!»
Предо мною дверь лобзаний дева отперла —
Тысячу мне поцелуев огненных дала.
Вспыхнул я от поцелуев, словно от вина.
Шум моей кипящей крови слышала луна.
«Нынче — только поцелуи, — молвила она,—
Взявши в руку эту чашу, пей не вдруг до дна.
И пока еще ты можешь сдерживать желанья —
Кудри гладь, кусай мне губы, похищай лобзанья.
Но когда твой ум затмится страстью до того,
Что узды уже не будет слушать естество,—
Из толпы прислужниц, — в коей каждая девица,
Словно над любовной ночью вставшая денница,—
Ту, какую б ты ни выбрал, я освобожу,
И служить твоим желаньям тут же прикажу,
Чтоб она в шатре укромном другу моему
Предалась, была невестой и слугой ему.
Чтобы притушила ярость твоего огня,
Но — чтобы в ручье осталась влага для меня.
Каждый вечер, только с неба сгонит мрак зарю,
Я тебе один из этих перлов подарю».
Молвив так, толпу прислужниц взором обвела.
Ту, которую для ласки годною сочла,
Мановеньем чуть заметным к трону позвала
И ее, с улыбкой нежной, мне передала.
И луна, подаренная мне, меня взяла
За руку и в сумрачную чащу увела.
Был пленен я родинкою, стал рабом кудрей.
Под навесом листьев шел я, как во сне, за ней.
И меня в шатер богатый привела она.
Я поладил с ней, как с нижней верхняя струна.
Там постель была роскошно раньше постлана,
Легким шелком и коврами ярко убрана.
И затылками подушки ложа смяли мы.
Целовались и друг друга обнимали мы.
Отыскал я роз охапку между ивняков,
Потонул в охапке белых, алых лепестков.
Редкий жемчуг, сокровенный в раковине был,
Я жемчужницы бесценной створки отворил.
И ласкал свою подругу до дневной поры
В ложе, амброю дышавшем, полном камфоры.
Встал я из ее объятий при сиянье дня.
Приготовила проворно дева для меня
Чистый водоем, сиявший яхонтовым дном.
И водой благоуханной я омылся в нем.
Знойный полдень был, когда я вышел из шатра.
Гурии, что пировали на лугу вчера,
Все исчезли. Я остался там у родника
Одинокий — наподобье желтого цветка.
Наступает вторая ночь. Повторяется все то, что произошло в первую. Тюркназ снова отказывает царю. Страсть его возрастает. Наступает третья, четвертая, наконец, тридцатая ночь. Царь, «обладая блаженством, ищет большего». Его снова приводят к Тюркназ.
Дивы похоти с каната снова сорвались,
Бесноватого канатом связывать взялись.
В паутине кос тяжелых мухой я застрял,
В эту ночь канатоходцем я невольно стал.
Как осел, я бесновался, видящий ячмень,
Или — словно одержимый в новолунья день. [307] …словно одержимый в новолунья день. — См. сноску 216.
И, как вор сребролюбивый пред чужим добром,
Весь дрожа, я потянулся вновь за серебром.
Обнял стан ее. Ослаб я. Так мне тяжко было.
Руку на руку тогда мне дева положила.
Руку эта зависть гурий мне поцеловала,
Чтоб убрал от клада руку. И, смеясь, сказала:
«Не тянись к запретной двери, ибо коротка,
Чтоб ее достать, любая длинная рука.
Вход в рудник закрыт печатью, и печать крепка,
И нельзя сорвать печати с двери рудника.
Пальмою ты обладаешь — так терпи, крепись,
Фиников незрелых с пальмы рвать не торопись.
Пей вино и знай, жаркое скоро вслед придет.
На зарю гляди, за нею солнца свет придет».
Я ответил ей: «О солнце сада моего,
Свет очей моих, услада взгляда моего!
У меня душа, ты видишь, подошла к губам.
Жарче поцелуй!.. Не надо слов холодных нам.
Как мне быть, коль вьюк с верблюда моего упал?
Помоги, избавь от муки, ибо час настал.
Скоро волк свирепых высей — хищный небосвод —
И по-волчьи и по-лисьи нападать начнет.
Словно лев голодный, прянет прямо на меня.
И повергнет ниц, как пардус пламенный, меня.
Если дверь не отопрешь мне нынче, знай, к утру
От томления и муки жгучей я умру.
Как цари и падишахи к гостю снизошли б,
Снизойди к моим моленьям, ибо я погиб!..
Изнемог я… И терпенья у меня не стало!»
«Руку удержи… Все будет… — госпожа сказала,—
Увенчать твое желанье — в том моя судьба.
Ибо ты — мой повелитель, я — твоя раба.
Бедный дар такому гостю будет ли хорош?
Все же — то, что ищешь ныне, позже обретешь.
У меня бери сегодня все, что сердцу любо:
Щеки, грудь и губы, — кроме одного, что грубо.
Кроме перла одного лишь — всей моей владей
Кладовой. И помни: ждет нас тысяча ночей,
Полных счастья. Но коль сердце пышет от вина,
Дам тебе служанку, словно полная луна,
Но чтоб нынче ты подол мой выпустил из рук».
Я, не разумея смысла, слышал только звук
Сладкой речи. Сам себе я говорил: «Не тронь!»
Но железо было остро и горяч огонь.
Молвил я: «Ты, струны тронув, их лишила лада,
Тысячи погибли с горя, не нашедши клада.
Слышишь? Кровь во мне бушует… Так поторопись
С казнью, чтоб палач скорее оборвал мне жизнь!»
Тут — как мне кипенье крови и безумья пыл
Повелели — на цветок я натиск совершил.
Страсть мою, что пламенела, не утолена,
Страсть мою меня молила удержать она.
И она клялась мне: «Скоро будет все твое.
Завтра ночью ты желанье утолишь свое.
Потерпи одни лишь сутки. Завтра — говорю —
Дверь к сокровищу сама я завтра отворю.
Ночь одну лишь дай мне сроку! Быстро ночь пройдет.
Ведь одна лишь ночь — подумай: только ночь, не год!»
Так она мне говорила. Я же, как слепой
Иль как бешеный, вцепился в пояс ей рукой,
И во мне от просьб желанной девы возросло
Во сто раз желаний пламя. До того дошло,
Что рванул я и ослабил пояс у нее.
А царица, нетерпенье увидав мое,
Мне сказала: «На мгновенье ты глаза закрой.
Отомкну сейчас сама я двери кладовой.
Отомкнув перед тобою дверь, скажу: «Открой…»
И тогда, что пожелаешь, делай ты со мной».
Я на сладкую уловку сразу пойман был,
Выпустил из рук царицу и глаза прикрыл.
И — доверчиво — ей сразу дал я миг, другой.
И когда услышал слово тихое: «Открой…»
Я, с надеждою на деву бросив быстрый взгляд,
Увидал: пустырь, корзину и над ней канат.
А перед моей корзиной друг мясник предстал.
Заключил меня в объятья, извиняться стал.
«Если бы сто лет твердил я, — мне мясник сказал,—
Ты б не верил, если б это сам не испытал.
Тайное ты нынче видел, — что нельзя узнать
Иначе. Кому ж об этом можно рассказать?»
И, палимый сожаленьем горьким, я вскипел,
В знак тоски и утесненья черное надел.
Пребывающим в печали черной и в молчанье —
Черное лишь подобает это одеянье.
Шелк на голову набросив черный, словно ночь,
Я из града вечной скорби ночью вышел прочь.
С черным сердцем появился я в родном дому.
Царь я — в черном. Тучей черной плачу потому!
И скорблю, что из-за грубой похоти навек
Потерял я все, чем смутно грезит человек!»
И когда мой шах мне повесть эту рассказал,
Я — его раба — избрала то, что он избрал.
В мрак ушла я с Искендером за живой водой!.. [308] В мрак ушла я с Искендером за живой водой!.. — то есть по примеру царя я облачилась в черное, ища духовного просветления.
Ярче месяц — осененный неба чернотой.
И над царским троном черный должен быть покров. [309] И над царским троном черный должен быть покров. — Черный — придворный цвет аббасидских халифов (750—1258) и их вассалов Сельджукидов, правивших во времена Низами.
Ибо цвет прекрасен черный — лучший из цветов. [310] …цвет прекрасен черный — лучший из цветов. — Персидская поговорка гласит: «Выше черного цвета нет», то есть любой цвет можно окрасить в черный, но черное ни в какой цвет не перекрасить.
Рыбья кость бела, но скрыта. Спины рыб черны.
Кудри черные и брови юности даны.
Чернотой прекрасны очи и осветлены.
Мускус — чем черней, тем большей стоит он цены.
Коль шелка небесной ночи не были б черны,—
Их бы разве постилали в колыбель луны?
Каждый из семи престолов свой имеет цвет,
Но средь них сильнейший — черный. Выше цвета нет».
Так индийская царевна в предрассветный час
Пред царем Бахрамом дивный кончила рассказ.
Похвалил красу Кашмира шах за сказку-диво,
Обнял стан ее и рядом с ней заснул счастливый.
Повесть вторая. Воскресенье
Туркестанская царевна
В час, когда нагорий ворот и пола степей
Позлатились ярким блеском солнечных лучей,
В воскресенье, словно солнце поутру, Бахрам
В золотое одеянье облачился сам.
И, подобен солнцу утра красотой лица,
Он вошел под свод высокий желтого дворца.
Сердце в радости беспечной там он утопил,
Внемля пенью, из фиала золотого пил.
А когда померк лучистый тот воскресный день
И в покое брачном шаха воцарилась тень,
Шах светильнику Китая нежному сказал,
Чтоб она с прекрасным словом свой сдружила лал.
Попросил звезду Турана повесть рассказать
Сказочную, — дню, светилу и дворцу под стать.
Просьбу высказав, он просьбы исполненья ждал,
Извинений и уверток шах не принимал.
И сказала дочь хакана Чина — Ягманаз:
«О мой шах, тебе подвластны Рум, Туран, Тараз.
Ты владык земли встречаешь пред дворцом твоим,
И цари хвалу возносят пред лицом твоим.
Кто тебе не подчинится дерзостной душой,
Под ноги слону да будет брошен головой».
И рассказ царевны Чина зазвучал пред ним;
Он струился, как кадильниц благовонный дым.
Сказка
«В неком городе иракском, я слыхала, встарь
Жил и правил добрый сердцем, справедливый царь.
Словно солнце, благодатен был и ясен он,
Как весна порой новруза, был прекрасен он.
Всякой доблестью в избытке был он наделен,
Светлым разумом и знаньем был он одарен.
Хоть, казалось, от рожденья он счастливым был,
В одиночестве печальном жизнь он проводил.
В гороскопе, что составил для него мобед,
Он прочел: «Тебе от женщин угрожает вред».
Потому и не женился он, чтоб не попасть
В бедствие, чтоб не постигла жизнь его напасть.
Так вот, женщин избегая, этот властелин
Во дворце и дни и ночи проводил один.
Но владыке жизнь такая стала докучать,
По неведомой подруге начал он скучать.
Несколько красавиц юных он решил купить.
Только не могли рабыни шаху угодить.
Он одну, другую, третью удалить велел.
Ибо все переходили данный им предел.
Каждая хотела зваться — «госпожа», «хатун».
Жаждала богатств, какими лишь владел Карун.
В доме у царя горбунья старая жила,
Жадной, хитрой, словно ведьма, бабка та была.
Стоило царю рабыню новую купить,
Как старуха той рабыне начинала льстить.
Начинала «госпожою Рума» называть,
Принималась о подачке низко умолять.
И была любая лестью той обольщена,
И царю невыносимой делалась она.
А ведь в мире этом речи льстивые друзей
Многим голову кружили лживостью своей.
Лживый друг такой — в осаде, не в прямом бою,
Как баллиста, дом разрушит и семью твою.
Шах иракский, хоть и много разных он купил
Женщин, но средь них достойной все не находил.
На которую свой перстень он ни надевал,
Видя: снова недостойна, — снова продавал.
С огорченьем удаляя с глаз своих рабынь.
Шах прославился продажей молодых рабынь.
Хоть кругом не уставали шаха осуждать,
Не могли его загадки люди разгадать.
Но в покупке и продаже царь, от мук своих
Утомившись, утешенья сердцу не достиг.
Он, по воле звезд, супругу в дом ввести не мог,
И рабыню, как подругу, в дом ввести не мог.
Провинившихся, хоть в малом, прочь он отсылал,
Добродетельной рабыни, скромной он искал.
В этом городе в ту пору торг богатый был,
И один работорговец шаху сообщил:
«От кумирен древних Чина прибыл к нам купец
С тысячей прекрасных гурий, с тысячей сердец.
Перешел он через горы и пески пустынь,
Вывез тысячу китайских девственных рабынь.
Каждая из них улыбкой день затмит, смеясь,
Каждая любовь дарует, зажигает страсть.
Есть одна средь них… И если землю обойти,
Ей, пожалуй, в целом мире равных не найти.
С жемчугом в ушах; как жемчуг, не просверлена.
Продавец сказал: «Дороже мне души она!»
Губы как коралл. Но вкраплен жемчуг в тот коралл. [311] Но вкраплен жемчуг в тот коралл. — То есть губы ее как кораллы, а зубы — как жемчуг.
На ответ горька, но сладок смех ее бывал.
Необычная дана ей небом красота.
Белый сахар рассыпают нежные уста.
Хоть ее уста и сахар сладостью дарят,
Видящие этот сахар втайне лишь скорбят.
Я рабынями торгую, к делу приучен,
Но такою красотою сам я поражен.
С веткой миндаля цветущей схожая — она
Верная тебе рабыня будет и жена!»
«Покажи мне всех, пожалуй, — шах повеселел,—
Чтобы я сегодня утром сам их посмотрел!»
Тот пошел, рабынь привел он. Быстро шах пришел,
Долгий с тем работорговцем разговор повел.
Оглядел рабынь. Любая как луна была,
Но из тысячи — прекрасней всех одна была.
Хороша. Земных красавиц солнце и венец,—
Лучше, чем ее бывалый описал купец.
Шах сказал торговцу: «Ладно! Я сойдусь с тобой!
Но скажи мне — у рабыни этой нрав какой?
Знай, купец, когда по нраву будет мне она,
И тебе двойная будет выдана цена…»
Отвечал купец китайский шаху: «Видишь сам —
Хороша она, разумна, речь ее — бальзам.
Но у ней — дурная, нет ли — есть черта одна:
Домогательств не выносит никаких она.
Видишь: китаянка эта дивно хороша,
Истинно она, скажу я, во плоти душа.
Но откроюсь я: доныне, кто б ни брал ее,
Вскоре — неприкосновенной — возвращал ее.
Кто б ее ни домогался, шах мой, до сих пор,
Непреклонная, давала всем она отпор.
Коль ее к любви хотели силою склонить,
На себя она грозила руки наложить.
Нрав несносный у рабыни, прямо я скажу,
Да и сам, о шах, придирчив ты, как я гляжу.
Если так ты непокладист нравом, то навряд
С ней дела пойдут, о шах мой, у тебя на лад.
Если ты ее и купишь и к себе возьмешь,
То, поверь, ко мне обратно завтра отошлешь.
Прямо говорю — ты эту лучше не бери,
Из моих рабынь другую лучше присмотри.
Если выберешь согласно нраву своему,
То с тебя и за покупку денег не возьму»,
Шах всю тысячу красавиц вновь пересмотрел,
Ни одной из них по сердцу выбрать не сумел.
Вновь он к первой возвратился. В сердце шаха к ней
С каждым взглядом страсть живая делалась сильней.
Полюбил ее, решил он в дом рабыню взять,
Хоть не знал еще, как в нарды будет с ней играть.
Раз увидев, не хотел он расставаться с ней.
Ласково решил он мягко обращаться с ней.
Он свою предосторожность в сердце усыпил,
В нем любовь возобладала, деву он купил.
И велел он казначею заплатить скорей
Серебром за ту, чьи ноги серебра белей.
Чтоб убить змею желанья, взял рабыню он,
Но ему разлуки с нею угрожал дракон.
Периликая, в гареме шахском поселясь,
Как цветок на новой почве в доме прижилась.
Как бутон, она раскрылась — в ярких лепестках,
Но ни в чем ее влюбленный не неволил шах.
И, в домашние заботы вся погружена,
Исполнительной хозяйкой сделалась она.
Все она в своих покоях двери заперла,
Только дверь одна — для шаха — отперта была.
Хоть вознес ее высоко шах, как кипарис,
Но она, как тень, клонилась головою вниз.
И явилась та горбунья и взялась ей льстить,
Чтоб согнуть тростник высокий и ее сгубить.
Что ж рабыня? Волю гневу тут дала она;
Разбранив в сердцах, старуху прогнала она.
«Я невольница простая, не царица я,
Быть не госпожой, служанкой доля здесь моя!»
Падишах, когда все это дело разобрал,
Понял все он и старуху из дому прогнал.
А к невольнице такая страсть горела в нем,
Что своей рабыни вскоре сам он стал рабом.
И, прекрасную тюрчанку сильно полюбя,
Он любви не домогался, сдерживал себя.
Хоть в ту пору, несомненно, и сама она
Уж была, должно быть, втайне в шаха влюблена.
С нею был в опочивальне как-то ночью шах,
Завернувшись в шелк китайский, кутаясь в мехах.
Окружил ее — как крепость, скажешь, ров с водой,
Страстью изнывал влюбленный рядом молодой.
И не менее, чем в шахе, страсть пылала в ней.
И, открыв уста, с любовью так сказал он ей:
«О трепещущая пальма в шелесте ветвей,
О живое око сердца и душа очей!
Кипарис перед тобою крив, — так ты стройна!
Как отверстие кувшина пред тобой луна!
Знаешь ты сама — тобою я одной дышу…
На вопрос мой дать правдивый я ответ прошу.
Если от тебя услышу только правду я,
То, как стан твой, распрямится и судьба моя».
Чтоб ее расположенье разбудить верней,
Розы свежие и сахар стал он сыпать ей.
И такую рассказал он притчу: «Как-то раз
О Валкие и Сулеймане слышал я рассказ.
Радостью их и печалью сын прелестный был,
Только не владел руками он и не ходил.
Молвила Валкие однажды: «О любимый мой,
Посмотри — здоровы телом оба мы с тобой.
Почему же сын наш болен? Силы рук и ног
Он лишен! За что так горько покарал нас бог?
Надо средство исцеленья для него открыть.
Ты премудр, и ты сумеешь сына исцелить.
И когда придет от бога Джабраил к тебе,
Расскажи ему о нашей бедственной судьбе.
А когда от нас на небо вновь он улетит,
Пусть в «Скрижаль запоминанья» там он поглядит: [312] Пусть в «Скрижаль запоминанья» там он поглядит. — «Скрижаль Запоминанья» — лаух ал-махфуз — скрижаль, на которой, согласно Корану, предвечный калам начертал до сотворения все судьбы мира (ср. сноски 3–8).
Есть ли средство исцеленья сына твоего?
Пусть он скажет: что за средство? Где достать его?
Может быть, наш сын любимый будет исцелен,
Может — жар моей печали будет утолен!»
Сулейман с ней согласился и поклялся ей
Все исполнить. Джабраила ждал он много дней.
И когда к нему спустился с неба Джабраил,
Он его об исцеленье сына попросил.
Скрылся ангел и вернулся вскоре в дом его,
От кого же? Да от бога прямо самого.
Джабраил сказал: «Два средства исцеленья есть —
Редкие, но под рукою оба средства здесь,—
Это — чтобы, сидя рядом со своей женой,
Был ты с ней во всем правдивым, а она с тобой.
Коль правдивыми друг с другом сможете вы быть,
Вы сумеете мгновенно сына исцелить».
Встал тут Сулейман поспешно и Валкие позвал,
Что от ангела он слышал, ей пересказал.
Радовалась несказанно тем словам Валкие
И что средства исцеленья сыну их нашлись.
Молвила: «Душа открыта пред тобой моя!
Что ни спросишь ты, отвечу только правду я!»
Сулейман — вселенной светоч — у нее спросил:
«Образ твой желанья будит, всем очам он мил.
Но скажи мне, ты желала только ли меня
Всей душой и сердцем, полным страстного огня?»
И ответила царица: «Верь душе моей:
В мире ты источник света! Кто тебя светлей?
Но хоть молод и прекрасен ты и мной любим,
Хоть никто с тобой в подлунном мире несравним,
Хоть красив ты, добр и нежен, повелитель наш,
Хоть велик и лучезарен, словно райский страж,
Хоть над явным всем и тайным назван ты главой
И хоть властен над вселенной дивный перстень твой,
Хоть прекрасен ты, как солнце яркое в лучах,
Хоть счастливый ты владыка и вселенной шах,
Но коль юношу-красавца вижу — то не лгу:
Побороть своих желаний все ж я не могу!»
И едва лишь прозвучало слово тайны сей,
Сын ее безрукий с ложа руки поднял к ней.
«Мать! Руками я владею! — громко крикнул он.—
Исцелен я и от чуждой помощи спасен!»
Потрясенная смотрела пери на него,
Исцелившегося видя сына своего.
И сказала: «О владыка духов и людей,
Ты всех доблестней, всех выше в мудрости своей!
Ты открой мне тайну, сына нашего любя!
Ноги исцелить — зависит ныне от тебя.
На единственный вопрос мой дай ты мне ответ:
Счета нет твоим богатствам и числа им нет.
Горы золота собрал ты, перлов, серебра,
Молви: втайне ты чужого не хотел добра?»
И пророк творца вселенной так ответил ей:
«Да, богат я, всех богаче я земных царей.
И сокровища от Рыбы все и до Луны
Под моей лежат печатью в тайниках казны.
Здесь меня богатством щедро вечный одарил,
Но и все же, кто б с поклоном в дом мой ни входил,
На руки ему смотрю я: с чем, мол, он идет?
И хороший ли подарок мне, царю, несет?»
Только Сулейман великий те слова сказал,
Сын пошевелил ногами, поднялся и встал.
Он сказал: «Отец! Взгляни-ка, вот я стал ходить!
Ты меня сумел, премудрый, словом исцелить!»
«Если сам посланник бога, — деве шах сказал,—
Сухоруких и безногих дивно исцелял,
То правдивыми, конечно, нам не стыдно быть
И стрелу в добычу прямо с тетивы спустить.
О единственная в мире, о моя луна,
Я люблю тебя, но что же так ты холодна?
Я страдаю и тоскую, мукой я горю,
На тебя в томленье сердца издали смотрю.
Ты прекрасна несравненной, дивной красотой!..
Почему же так сурова и жестка со мной?»
И красавица владыке своему вняла,
И ответа лучше правды чистой не нашла.
«Это все, — она сказала, — не моя вина!
А у нас в роду, к несчастью, есть черта одна:
Мать, и бабка, и прабабка у меня, о шах,
Все, едва лишь выйдя замуж, умерли в родах.
Знать, на нас на всех проклятье — в браке умирать,
Потому — мужчине сердце я боюсь отдать.
Не хочу я, мой владыка, — я не утаю,—
Ради радостей мгновенных жизнь губить свою.
Жизнь дороже мне. И лучше мне безмужней жить,
Чем испить отраву страсти и себя сгубить.
Не любви, о шах, я жажду — жизни жажду я!
Вот тебе и явной стала тайна вся моя.
Крышку с тайны сняв, как хочешь, так и поступай,
У себя оставь, коль хочешь, а не то продай.
Вот, о царь, я все сказала, правду возлюбя,
Я не спрятала, не скрыла тайны от тебя.
Я надеюсь, шах вселенной, что и ты теперь
Предо мной своей загадки приоткроешь дверь:
Почему рабынь прекрасных падишах берет
В дом к себе — и их меняет чуть не сотню в год?
И недели не живет он ни с одной из них,
И души не отдает он ни одной из них?
Приголубит и приблизит к своему лучу,
А потом ее поспешно гасит, как свечу?
До небес сперва возносит, холит и дарит,
И с презрением отбросит, и не поглядит?»
Шах ответил: «Путь возвратный открывал я им,
Так как не был ни одною искренне любим.
Поначалу все бывали очень хороши;
А потом — куда девалась доброта души?..
В царском доме, как царицы, привыкали жить.
Мне они переставали преданно служить.
Ведать меру должен каждый, кто душой не слеп,
Не для всякого желудка годен чистый хлеб.
Нет, железный лишь желудок может совладать
И с несвойственною пищей, чтоб не пострадать.
Если к женщине мужчина страстью ослеплен,
Много ей недостающих свойств припишет он.
Но ведь женщина — былинка, ветер мчит ее,—
Как же сердцем положиться можно на нее?
Если золото увидит, то — в конце концов —
Голову она склоняет чашею весов.
Скажем: жемчугом незрелый полон был гранат,
А когда созрел он — зерна ладами горят.
Женщина, что виноградник, — нежно зелена,
Недозрев; когда ж созрела, то лицом черна.
Наполняет ночь сияньем яркий блеск луны,
И в достоинстве мужчины чистота жены.
Все рабыни, что бывали здесь перед тобой,
Были заняты всецело только лишь собой.
Мне из всех из них служила только ты одна,
Вижу — истинным усердьем ты ко мне полна.
Хоть любви твоей лишен я, все же я не лгу,—
Без тебя теперь спокойно жить я не могу».
Много шах своей рабыне слов таких сказал,
Но к желаемому ближе ни на пядь не стал.
От него она, как прежде, далека была.
Как и прежде, не попала в цель его стрела.
И под бременем печали этот властелин
Шел по каменистым скалам день за днем один.
Рядом был родник желанный, жаждой он горел
Нестерпимой. Проходило время, он терпел.
Та горбунья, что когда-то во дворце жила
И которую рабыня в гневе прогнала,
Услыхала, что несчастье дома терпит шах,
Что пред собственной рабыней он склонен во прах,
Что лишился, околдован, сил могучий муж,
И сказала: «Ну, старуха! Мудрость обнаружь!
Не пора ли на гордячку чары навести
И заставить эту пери в дивий пляс пойти?
Я-то в паланкине солнца живо брешь пробью!
Не гордись, луна! Разрушу крепость я твою,
Чтобы мною не гнушались, чтоб ничья стрела
Угодить в мою кривую спину не могла!»
Весь свой ум пустила бабка в ход и наконец
Умудрилась и проникла к шаху во дворец.
Чтобы пал и посрамился гордый тот кумир,
К хитрости она прибегла древней, словно мир.
Шаху молвила: «Неужто с молодым конем
Ты не сладишь, чтоб ходил он под твоим седлом?
Ты послушайся старуху: два-три дня пред ней
Ты оседлывай бывалых под седлом коней.
Иль тебе не приходилось самому, видать,
Норовистого трехлетка в табуне хватать?»
И попался шах на хитрость, и подумал: «Что ж,
Из такой колодки будет и кирпич хорош!..»
Вскоре новая явилась дева во дворце —
Огнеокая, с улыбкой милой на лице.
Хороша она, учтива и ловка была,
Нравом добрая, живая, всем она взяла.
В доме живо осмелела, осмотрясь, она,
И игрой азартной с шахом занялась она.
Сам хозяин ставить нарды стал проворно ей
И проигрывать все игры стал притворно ей.
С первой девою, как прежде, дни он проводил,
Со второй — в опочивальню на ночь уходил.
Целый день бывал с одною, ночь бывал с другой.
Нежен был с одной, желанья утолял с другой.
Оттого, что со второю уходил он спать,
Стала первая пожаром ревности пылать.
И хоть шаха ревновала все сильней она
Омрачилась, как за тучей ясная луна,
Но она ему, как прежде, преданной была,
И ни на волос от службы шаху не ушла.
Думала: «Судьба, как видно, чудеса творит!
Не из печки ли старушки мне потоп грозит?» [313] Не из печки ли старушки мне потоп грозит? — Согласно мусульманской легенде, всемирный потоп начался из печи старухи, жившей в Куфе.
И терпела и таила жар она в крови,
Но — ты знаешь — от терпенья пользы нет в любви.
Улучивши время, к шаху раз она пришла
И такую речь смущенно с шахом повела:
«О хосров благословенный! [314] О хосров благословенный!.. — В данном случае хосров — в значении «царь», «владыка». — начала она.—
Ведь тобой живут законы, вера и страна!
Ты со мной однажды начал правду говорить,
Так со мной и дальше должен ты правдивым быть.
Если радостны и ясны дни весны с утра,
Так зачем же так ненастны, мглисты вечера?.
Я хочу, мой шах, чтоб вечно дни твои цвели,
Чтоб тебе любовь и счастье вечера несли.
Поутру ты мне напиток сладкий дал… Так что ж
Ты мне этот едкий уксус вечером даешь?
Не вкусив, ты мной пресыщен и меня отверг.
В жертву льву меня ты отдал, в пасть дракона вверг.
Был так нежен ты, но что же стал ты так жесток?
Иль не видишь, что от муки дух мой изнемог?
Ты змею завел, — ты хочешь гибели моей?
Коль убить меня задумал, так мечом убей!
В дом к себе меня привел ты, сильно полюбя?..
Кто такой игре жестокой научил тебя?
Так открой же мне всю правду! Я изнемогла! —
Коль не хочешь, чтобы здесь я тут же умерла!
Заклинаю, шах мой, жизнью и душой твоей —
Если правду скажешь — снимешь ты замок с дверей,—
Я и свой замок открою, небом я клянусь,
Что во всем тебе, о шах мой, нынче ж покорюсь!»
Шах, ее в своих оковах крепких увидав,
Эти речи, эти клятвы девы услыхав,
Ничего от милой сердцу укрывать не стал,
Все, что нужно и не нужно, он ей рассказал:
«Страсть к тебе — давно, как пламя, обняла меня,
Довела до исступленья и сожгла меня.
Я терпел, но все сильнее сердцем тосковал,
Я от муки нестерпимой полумертвым стал.
И горбатая старуха мне помочь пришла
И, как зелье колдовское, мне совет дала.
И велела мне похлебку бабка та сварить,
Той похлебкою сумел я душу исцелить.
Но была тебе, как видно, ревность тяжела.
Ты ее душой и сердцем, видно, не снесла.
А ведь воду нагревают только над огнем,
И железо размягчают только над огнем.
С горечью на это средство все ж решился я.
И прости — твоею болью исцелился я.
Охватил от малой искры жизнь мою пожар,
А старуха, как колдунья, раздувала жар.
Но теперь, когда со мною ты чиста, как свет,
Больше в старой той колдунье надобности нет.
Надо мной сегодня солнце подошло к Тельцу, [315] …солнце подошло к Тельцу… — то есть наступила весна.
И, как видно, зимний холод не грозит дворцу».
Так он много слов прекрасных деве говорил
И вниманием тюрчанки очарован был.
Звезды счастья над главою шахскою сошлись,
Он с любовью тонкостанный обнял кипарис.
Соловей на цвет, росою окропленный, сел,
И расцвел бутон, певец же сладко опьянел.
Попугай взлетел из клетки, как крылатый дух,
И поднос сластей увидел без докучных мух.
Рыба вольная из сети в водоем ушла,
Сладость фиников созревших в молоко легла.
Сладостна была тюрчанка, прелести полна,
Отвечала страстью шаху своему она.
Шах завесу с изваянья золотого снял,
Под замком рудник, сокровищ полный, отыскал.
Драгоценностей нашел он много золотых,
Золотом своим богато он украсил их.
Золото нам наслажденья чистые дарит.
И халва с шафраном, словно золото, горит.
Не гляди на то, что желтый он такой — шафран!
Видишь смех, что вызывает золотой шафран? [316] Видишь смех, что вызывает золотой шафран? — Согласно медицине времен Низами, шафран прогоняет грусть, веселит.
Золото зари рассветной по душе творцу.
Поклонялись золотому некогда тельцу.
И в румийских и багдадских банях — только та
Глина ценится, что, словно золото, желта». [317] Глина ценится, что, словно золото, желта. — Речь идет о глине, которой в те времена мылись в бане. Особенно ценилась мягкая желтая глина.
Так кумир прекрасный Чина сказку завершил,
Шах Бахрам ее с любовью обнял и почил.
Повесть третья. Понедельник
Хорезмская царевна
Только свет свой понедельник над землей простер,
Шах Бахрам разбил зеленый поутру шатер.
И зеленую зажег он для себя звезду,
Как зеленый дух в зеленом ангельском саду.
Утром во дворец зеленый шах Бахрам вступил,
Наслажденью и веселью день свой посвятил.
А когда погас над миром дня того закат
И на небе изумрудном вспыхнул звездный сад,
Стал хорезмскую царевну шах Бахрам просить
Сладкого повествованья тюк пред ним раскрыть.
И в шелку зеленом пери просьбе той вняла
И пред Сулейманом двери тайны отперла.
Начала она: «Ты душу в жизнь вдохнул мою,
Пусть все души мира будут жертвой за твою.
Твой престол — опора счастья милостью творца,
Слава прошлого — преддверье твоего дворца.
Высоко венец Бахрама в мире вознесен.
Солнце счастья озарило твой высокий трон.
Света, мира и величья дух — в твоей судьбе,
Солнце вечное опору обрело в тебе!..»
Кипарис Хорезма славу шаху завершил
И средь яхонтов источник сахарный открыл.
Сказка
Начала царевна: «В Руме жил когда-то муж,
Был хорош собой, и весел, и умен к тому ж.
Всем, что может человека в мире украшать,
Обладал он, — и душою телу был под стать.
Перлом был он, украшеньем всей его страны;
И желал он чистой, доброй для себя жены.
У людей других примером почитался он
И «Душою чистым Бишром» — назывался он.
Беззаботно Бишр, — а был он издавна таков,—
Шел однажды меж тенистых городских садов.
Но нежданной встречей разум Бишра был смущен.
Был внезапно он любовью в сердце поражен.
Пред собою он увидел женщину одну,
Как завернутую в облак полную луну.
Кто была она, откуда? Бишр не знал ее…
Ветер кисею откинул покрывал ее,
Из-за облака взглянула светлая луна,
Взглядом Бишра поразила, как стрелой, она.
Подкосились ноги Бишра; был он потрясен,
Будто выстрелом на месте был он пригвожден.
Лик увидел, пред которым ни один аскет
Не задумался б нарушить данный им обет.
Стан стройнее кипариса, а в глазах — любовь,
На щеках румянец свежий, как фазанья кровь.
Словом, кто б ее увидел, был бы уязвлен
И утратил бы навеки свой покой и сон.
И, как будто на колючку наступил ногой,
Бишр невольно вскрикнул громко, словно сам не свой.
Подхватила покрывало быстро та луна,
И, напуганная Бишром, скрылась вмиг она.
Так, когда кровопролитье втайне совершит,
Полн смятения — убийца от людей бежит.
Бишр, как ото сна очнулся, вдаль вперил свой взор:
Улица пуста; ограблен дом, а вор ушел.
Он сказал: «Ее теперь я вовсе упустил!
Где искать? А для терпенья мне не хватит сил…
Но терпеть мне и терзаться молча надлежит.
По следам за нею гнаться — нестерпимый стыд.
Муж я — не умру от горя. Должен все снести.
Страсть к жене меня не может совратить с пути.
Мощь духовная в уменье — страсти побеждать…
Это главное условье можно ль забывать?
На осла шатер навьючив, не пора ли с ним
Двинуться к святому дому мне — в Иерусалим? [318] Двинуться к святому дому мне — в Иерусалим? — Мусульмане совершают паломничество в Иерусалим к мечети, построенной на скале, на которой останавливался, по преданию, пророк Мухаммед во время вознесения на небо.
Та десница, что небесный утвердила свод,
Я надеюсь, облегченье мукам принесет!»
Воротясь домой, он сборы быстро завершил
И к святым местам, гонимый горем, поспешил.
Он бежал в безумном страхе пред самим собой.
Свой смятенный дух он воле поручил святой.
В древнем храме умолял он, плача, божество
Защищать от дивов страсти скорбный дух его.
Так он долго там молился богу и святым,—
И домой решил вернуться, к берегам родным.
Спутник на пути обратном увязался с ним,
Внешне добрый, а в душе он низким был и злым.
Страшный спорщик и придира тот попутчик был,
В каждом благе он изъяны мигом находил.
Начинал ли Бишр о добром мысли излагать,
Принимался этот спутник доброе ругать.
«Нет, не так!» и «Нет, не эдак!», «Не болтай-ка зря!» —
Обрывал его попутчик, злобою горя.
Хоть в пути добросердечный Бишр молчать решил,
Спутника он и молчаньем в ярость приводил.
Он спросил: «Как ты зовешься? Я желаю знать,
Как по имени тебя мне, о попутчик, звать?»
Тот ответил: «Божий раб я. Имя же мое
Бишр. Теперь ты, друг, мне имя назови твое».
«А, ты — Бишр презренный? Слава у тебя плоха!
Ну — а я, я вождь духовный смертных — Малиха!
Все творение — небесный мир и мир земной —
Это все объял могучий, дерзкий разум Мой.
Я в познанье всеобъемлющ, как никто — велик!
И добро, и зло, и тайны мира я постиг.
Выше дюжины мудрейших — мудрости я друг.
Знай, невежда! Я двенадцать изучил наук!
Для меня нигде сокрытой тайны в мире нет.
Я — о чем меня ни спросишь — дам на все ответ.
Если капища науки все ты обойдешь,
Равного среди ученых мне ты не найдешь!»
Так дорогою надменно похвалялся он,
Хвастовством его бесстыдным Бишр был поражен.
Тут от гор вдали большая туча отошла,—
Этой тучи дымно-черен цвет был, как смола.
Малиха спросил: «Вон — туча! Почему черна,
Как смола, она? Ведь свойство облак — белизна!»
Бишр ответил: «То — Яздана воля. Он творит
Непостижное. Явленьям свойства он дарит».
Малиха сказал: «Увертки про себя оставь!
Если можешь, отвечая, в цель стрелу направь!
Тучи черные рождает пережженный дым,—
Это признано бесспорно разумом самим».
Вдруг повеял им в ланиты ветер невзначай,
И промолвил тот зазнайка: «Ну-ка, отвечай,—
Знаешь ли, что движет ветром? Надо размышлять!
А во мраке, как скотине, стыдно пребывать!»
Бишр ответил: «Это — воля бога самого.
Не свершается без воли божьей ничего».
Тот сказал: «Пора бы в руки повод знаний взять,
А не бабушкины сказки вечно повторять!
Сущность ветра — это воздух; он течет рекой
И земные испаренья гонит пред собой».
Тут гора большая встала пред глазами их.
«Почему, — спросил он, — эта выше всех других?»
Бишр ответил: «Так Язданом решено самим,
Что одним горам быть ниже, выше быть другим».
Тот ответил: «Доказательств не приводишь ты,—
Все от божьего калама производишь ты!
Знай: рождаясь от потоков бурных дождевых,
Сели размывают горы, разрушают их.
Та вершина, что всех выше над лицом земли
Поднялась, стоит от силей дождевых вдали».
Бишр не выдержал и в гневе спутнику вскричал:
«Не противься воле неба! Лучше б ты молчал!
Ведь пути к завесе древней здесь не знаем мы,
Что ж о тайнах за завесой рассуждаем мы?
Я боюсь, когда завеса эта упадет,
Дерзких и высокоумных гибель злая ждет.
В листьях шепчущих на вечном древе бытия
Тайны веют! Да не тронет их рука твоя!»
И хоть Бишр заклятьем этим дал отпор греху,
Див зазнайства не покинул все же Малиху.
Долго шли они. В пустыне путь им предстоял.
Малиха не унимался, спорил и болтал.
А в пустыне раскаленной, средь песков нагих,
От бессонницы и зноя мозг испекся их.
Еле шли они, стеная, охая в пути,
И казалось, что жару им не перенести.
Наконец они к большому дереву пришли
И в тени ветвей могучих отдыхать легли.
К небу подымалась древа шумная глава,
У подножья зеленела мягкая трава.
У корней кувшин огромный в землю был зарыт,
Кем-то доверху водою чистою налит.
Малиха в кувшине этом воду увидал,
Повернулся живо к Бишру и ему сказал:
«Погляди-ка, друг любезный! Молви наконец,—
Что, кувшин с водою тоже здесь зарыл творец?
Здесь кувшин с водою в землю до краев зарыт,
Но скажи мне — почему он крышкой не покрыт?
И скажи — откуда взяться чистой здесь воде?
Видишь сам, вокруг пустыня, нет воды нигде».
Бишр ответил: «Некто — добрый — здесь кувшин зарыл,
Чтоб идущий по пустыне жажду утолил.
А чтоб как-нибудь случайно не был он разбит,
Потому кувшин и в землю до краев зарыт».
Малиха, смеясь, ответил: «Ох ты, голова!
Недомыслие пустое все твои слова.
Никому, поверь, до нашей дела нет беды!
Здесь за тысячу фарсангов не найдешь воды,
Знай, охотники зарыли в землю здесь кувшин.
Это же — капкан для дичи средь нагих равнин!»
Бишр ответил: «О проникший в тайну бытия,
Люди все различны; розно мыслим ты и я.
Знать, подозревают люди в помыслах других
Доброе или дурное — го, что в них самих».
Сели, скатерть расстелили в лиственной тени,
Ели, воду из кувшина черпали они.
Им обоим показалась та вода вкусна,
Как хрусталь чиста, прозрачна, дивно холодна.
Малиха тут крикнул Бишру: «Ну-ка, отойди
От воды и там в сторонке малость посиди.
В воду чистую я тело погрузить хочу,
Освежиться, пыль пустыни с тела смыть хочу.
Обжигающим, соленым потом я покрыт,
Покрывающая тело грязь меня томит.
Я очищусь и отмоюсь. А потом с тобой
Двинусь дальше, освеженный, с легкою душой.
Но кувшин перед уходом должен я разбить,
Чтоб животных от ловушки этой защитить.
Бишр сказал: «О благонравный, не злоумышляй!
Ты дурного понапрасну здесь не совершай!
Нам кувшин был дан судьбою — жажду утолить,
Как же можно эту божью воду загрязнить?
Кто живительную воду из колодца пьет,
Если он не злой безбожник, в воду не плюет.
Сам подумай, ведь другие путники придут,
Здесь же вместо чистой влаги грязь они найдут».
Но, злокозненный, упорен муж в нечестье был,
Подлую свою натуру вновь он проявил.
Снял с себя тюрбан и сумку, в плащ их завернул,
И, согнувшись, как в источник, он в кувшин нырнул.
Не кувшин в земле, колодец то глубокий был,
И до дна того колодца путь далекий был.
В «мудрости» своей спасенья мудрый не нашел,
Он на дне того колодца смерть свою обрел.
Наглотался он, нырнувши храбро в глубину,
Изнемог и опустился наконец ко дну.
Бишр приблизился, тревогой тайною смутясь,
Стал товарища искать он — к влаге наклонясь.
И увидел, что бедняга утонул давно,
Как кувшин, сложив покорно голову на дно.
Бишр утопленника вынул. В скорби, хоть без слез,
Из воды в колодец праха тело перенес;
И, засыпав и камнями тело заложив,
Над могилою бедняги сел он, молчалив.
«Где же был твой ум и разум, — скорбно думал он,—
Ты хвалился, что в раскрытье тайн ты изощрен.
Хвастал, что небес высоких тайну ты прочтешь,
Что арканом ты вселенной тайну захлестнешь.
Говорил, что ты не знаешь, что такое страх…
Где же мужество? Величье? Ты теперь лишь прах.
Ты считал: взамен капкана тут поставлен жбан,
Что же? — сам, как дичь стеная, ты попал в капкан.
За глоток воды я небу благодарен был…
Не за это ли всевышний жизнь мне сохранил?..»
Так сказал добросердечный Бишр. И встал с земли,
И погибшего пожитки подобрал с земли.
И египетского шелка плащ его цветной,
И тюрбан его, и пояс поднял дорогой.
А когда с его одежды он печать совлек,
То увесистый оттуда выпал кошелек.
Жаром в кошельке блеснуло, увидавши свет,
Больше тысячи магрибских золотых монет.
Бишр сказал: «Его пожитки мне нельзя бросать,
Это все связать я должен и с собою взять.
Сохранить, не растерявши ничего в пути,
И на родине бедняги родичей найти».
Так пустыней, невредимый, шел он много дней
И в знакомый прибыл город на краю степей.
Ночь он в караван-сарае отдохнуть решил.
Выспался, потом едою силы укрепил.
На люди потом с тюрбаном вышел он с утра,—
Мол, не знают ли владельца этого добра?
Некий честный муж одежду Малихи признал:
«Как же, знаю! Здесь живет он!» — Бишру он сказал.
Как пойдешь ты по такой-то улице в конец,
Там увидишь ты богатый царственный дворец.
Это дом его. О странник, ты иди смелей —
И стучись, не сомневайся, у его дверей!»
И немедля Бишр с тюрбаном, с золотом, с узлом
В путь направился. И вскоре отыскал тот дом.
Постучался в двери. Вышла некая жена,
Как задернутая белым облаком луна.
«Что за надобность, — спросила, — у тебя ко мне?»
И ответил Бишр с поклоном важной той жене:
«Я, о госпожа, с хозяйкой должен говорить,
Я тюрбан и узел этот должен ей вручить.
Если только это можно, в дом меня пусти,
Я, увы, рассказ печальный должен повести.
Малиха несчастный вместе был в пути со мной —
И погиб, убит коварно грозною судьбой».
Женщина его с собою привела в покой,
На краю ковра велела сесть перед собой.
Села женщина, покровом белым лик свой скрыв,
Молвив: «Слушаю. Да будет твой рассказ правдив».
По порядку Бишр подробно молвил обо всем,
Как с беднягой повстречался он в краю чужом,
И добавил: «Утонул он. Вечный мир ему! —
Он в земле. А ты хозяйкой будь в его дому.
Я собрал его пожитки. Думал: разыщу
Где-нибудь его жилище и родне вручу».
Тут он узел принесенный развязал, простер
Золото, одежды, пояс пестрый на ковер.
Женщина была, как видно, опытна, умна,—
Слово за словом тот свиток весь прочла она.
Молча слезы изронила из очей своих,
Слез она лила немного и отерла их.
И ответила: «О добрый сердцем, чистый муж,
Благомысленный и честный, в вере истый муж!
Как приятен, откровенен, благороден ты.
Сердцем редкостный, для доли лучшей годен ты.
Кто бы так же благородно в мире поступил
В отношенье к негодяю, что весь мир сквернил?
Благородство в том, чтоб в чести бреши не пробить,
Блеском чуждого богатства душу не прельстить.
Малиха живых покинул, превратился в прах,
А душе его укажет место сам Аллах.
Он, к несчастью, хоть недолго, мужем был моим,
Но из всех, кого я знала, самым был дурным.
Вижу — бог меня избавил, я вольна теперь,
Я от злобы и насилья спасена теперь.
Но тому, что было, видно — надлежало быть…
И не следует о мертвых плохо говорить.
Он ушел, его далеко увела судьба.
Брак мой с ним сама отныне прервала судьба.
Ты же мужествен и верен — это вижу я,
И с любовью избираю я тебя в мужья».
И она с лица густую кисею сняла,
Будто бы печать сухую с лала сорвала.
Он узнал ее мгновенно, был он потрясен,
То была она, что прежде как-то встретил он.
Вскрикнул он и без сознанья рухнул на ковер,
Он у ног ее, как мертвый, голову простер.
Поняла она, что страстно Бишр любил ее,
И возрос десятикратно страстный пыл ее.
Нежно Бишра обласкала женщина… А там
Вышел из дому он в город по своим делам.
Он по вере и закону с нею в брак вступил,
За сокровище Яздана возблагодарил.
С пери той вкушал он счастье у нее в дому,—
И завидовали втайне многие ему.
Царственную он от злого наважденья спас,
Ясную луну младую от затменья спас.
Разницы меж ной и пери он не находил
И зеленые ей платья, как у гурий, сшил.
Зелень одеяний лучше желтой полосы.
Стройный кипарис в зеленом — образец красы.
Скорбь сердечную зеленый утешает цвет.
Светлых ангелов зеленый украшает цвет.
И душа другим зеленый предпочла наряд.
Рощам и лугам зеленым радуется взгляд.
Любит цвет листвы зеленой свежая весна,—
Потому — всегда и всюду — свежесть зелена».
А когда луна Хорезма кончила рассказ,
Обнял шах отраду сердца, утешенье глаз.

Повесть четвертая. Вторник
Славянская царевна
В некий Дея месяца день, что был короче
Ночи Тира месяца, самой краткой ночи,—
Хоть все дни недели он красотой затмил,
Это пуп недели был — красный вторник был,
День Бахрама — рдел он, блеском равен был огню, [319] День Бахрама — рдел он, блеском равен был огню… — Бахрам — имя собственное и старое иранское название планеты Марс, покровителя вторника (ср. французское Mardi — Martis dies; на Востоке эта традиция не сохранилась). Вторнику соответствует красный цвет.
Ну, а шах Бахрам был тезка и звезде и дню…
В этот день все красное шах Бахрам надел,
К башне с красным куполом утром полетел,
Там розовощекая славянская княжна [320] Там розовощекая славянская княжна… — В подлиннике даже «краснолицая», что, однако, имеет по-персидски и значение «радостная, счастливая». Славяне и русы у Низами всегда упоминаются в сочетании с красным цветом. Трудно, однако, решить, случайно это или у Низами были сведения об одной этимологии слова «рус» («красный») и роли красного цвета в славянском фольклоре. Возможно, он почерпнул такие сведения в трудах арабских географов X века. —
Цветом сходна с пламенем, как вода — нежна —
Перед ним предстала, красоты полна,
Словно заблистала полная луна.
Только ночь высоко знамя подняла
И на своде солнца шелк разорвала,
Шах у девы-яблони, сладостной, как мед,
Попросил рассказа, что отраду льет
Слушателю в сердце. И вняла она
Просьбе, и рассказывать начала она:
«Ясный небосвод — порог перед дворцом твоим,
Солнце — только лунный рог над шатром твоим.
Кто стоять дерзнет перед лучом твоим?
Пусть ослепнет тот под лучом твоим!»
И, свершив молитвы, яхонты раскрыла
И слова, как лалы, к лалам приобщила.
Сказка
Начала: «В земле славянской был когда-то град,
Разукрашен, как невеста, сказочно богат.
Падишах, дворцы и башни воздвигавший в нем,
Был единой, росшей в неге, дочери отцом,
Околдовывавшей сердце, чародейноокой,
Розощекой, стройной, словно кипарис высокий.
А вздохнет — и кипарисом всколыхнется стан,
Лик прекрасный разгорится, как заря румян.
Не улыбкой сладкой только и красой она,—
Нет, — она в любой науке столь была сильна,
Столь искушена, что в мире книги ни одной
Не осталось, не прочтенной девой молодой.
Тайным знаньям обучалась; птиц и тварей крик
Разумела, понимала, как родной язык.
Но жила, лицо скрывая кольцами кудрей,
Всем отказом отвечая сватавшимся к ней.
Та, которой в мире целом равной не сыскать,
Разве станет о безвестном женихе гадать?
Но когда молва по свету вести разнесла,
Что с высот Ризвана к людям гурия сошла,
Что ее луна и солнце в небе породили,
А созвездья и планеты молоком вскормили,—
Каждый был великой страстью к ней воспламенен,
И мольбы любви помчались к ней со всех сторон,
Взять один пытался силой, золотом другой,
Ничего не выходило. Падишах седой,
Видя дочки непреклонность, выбился из сил,
Но спастись от домогательств средств не находил.
А красавица, которой был на свете мил
Только мир уединенья, чьей душе претил
Пыл влюбленных, отыскала гору в тех краях —
Крутобокую, с вершиной, скрытой в облаках.
Замок на горе воздвигла, где клубится мгла…
Скажешь ты: на круче горной выросла скала.
И она отца просила — отпустить ее.
Тот, хоть не желал разлуки, детище свое
Отпустил: как соты меда, спрятал в замке том,
Чтоб назойливые осы не влетали в дом.
Этот замок над обрывом каменным стоял,
В небо бронзовые башни грозно он вздымал.
В высоте над облаками он витал, как сон,
Опоясан пропастями, крепко защищен.
И оттоль княжна разбою тропы заперла,
Глотки алчные заткнула, хищных изгнала.
Но когда в том замке стихли все тревоги в ней,
Диво-дева отвратила душу от людей.
И поставила у входа в горное нутро
Много грозных талисманов, созданных хитро.
Из гранита и железа — замка сторожа
Высились, мечи в ладонях кованых держа.
Смельчака, который входа в замок тот искал,
Талисман — меча ударом — тут же рассекал.
А врата твердыни, к небу высившей отвес,
Для людей незримы были, как врата небес.
И была хозяйка замка — пери красотой —
Рисовальщицей китайской царской мастерской.
Челке гурии подобный — был калам ее
Полем раковин, дающим перлам бытие.
И княжна однажды краски и калам взяла,
В рост на белый шелк свой образ светлый нанесла.
На шелку, как бы из света, тело соткала,
И в стихах прекрасных надпись, как узор, сплела:
«Если в мире кто желает мною обладать
И твердынею, которой силою не взять,
Пусть, как бабочка, бесстрашно он летит на свет,
Пусть он будет храбрым. Места здесь для труса нет.
Пусть вся жизнь на трудный будет путь устремлена,
И четыре ты условья соблюди сполна:
Имя доброе, во-первых, доброту имей.
Во-вторых, умом раскинув, победить сумей
Чары грозных талисманов, ставших на пути.
В-третьих, — коль, разрушив чары, сможешь ты пройти,
То найди ворота. Мужем станет мне лишь тот,
Кто ко мне не через крышу, через дверь войдет.
И четвертое: направься в город. Буду там
Ждать тебя я и загадки трудные задам.
Только тот, кто все условья выполнит вполне,
Только тот отважный витязь мужем будет мне.
Но погибнет тот, кто, взявшись, дела не свершит.
Пусть он был велик, — унижен будет и убит».
К городским воротам лунный образ прикреплен,
Кто его хоть раз увидел — навсегда влюблен.
И молва о нем все страны мира обошла,
Вновь князей и падишахов с места подняла.
Бросив трон, презрев величье, из любой страны
Скачут, притчей необычной воспламенены.
Этих нрав сгубил горячий, молодость — других.
Всякий жизнь бросал на ветер. И не стало их.
Всюду строится из камня городов стена,—
Этот город окружила черепов стена.
Некий юноша в то время благородный жил,
Хитроумный и прекрасный, смелый, полный сил.
Для его стрелы добыча — что онагр, что лев,
Как-то, жаждою охоты в сердце возгорев,
Он поехал в поле — сходен с юною весной,
Увидал волшебный облик девы над стеной,
Но, прекрасный женский облик с головы до пят
Окружая, угрожая — головы висят.
«Как бегу? Куда укроюсь, — юноша вздохнул,—
От жемчужины, хранимой стаею акул?
Если страсть моя от сердца прочь не отойдет,
Голова на плахе жертвой страсти упадет.
И хоть облик тот прекрасный душу мне томит,
Но змея лежит у клада, пальму шип хранит.
Коль не унесешь из плена голову свою,
Оцени не выше тлена голову свою!
Нет! Навстречу мощным чарам грозной красоты
Не ходи без чар сильнейших, иль безумен ты.
Нет! Сперва такое средство должен я найти,
Чтобы мог свою отару от волков спасти.
Что ни день пройдет, то с плахи голова падет,
А палач ее насадит на кол у ворот.
К двери тайны подбирал он тысячи ключей.
Нить в руках держа, искал он кончика у ней.
Находил концов у нити сразу тысяч сто,
Где ж один и настоящий, не сказал никто.
Он наперсников повсюду мудрых стал искать,
Кто помог бы этот узел хитрый развязать.
Он искал, забыв про гордость, друга… Наконец
Услыхал — есть заклинатель дивов и мудрец,
И старик его заветным знаньем подарил.
И всезнающего витязь возблагодарил.
В путь он выступил, одежды красные надев —
Крови знак и гневных жалоб на небесный гнев.
Ты сказал бы: в море крови плащ он обагрил,
И глаза его горели, как в ночи берилл.
Объявил: «Не для себя я путь пробить хочу,
Я за кровь ста тысяч храбрых отомстить хочу!»
Вот за городской чертою, под пятою гор,
Пред железным замком девы он разбил шатер.
И едва о том в народе протекла молва,
Что явился юный мститель мужественней льва,—
Всяк ему в великом деле помогать хотел,
Чтоб скорее он чудесным замком овладел.
Так заботами народа и умом своим
Он облекся, как надежным панцирем стальным.
И затем идти на подвиг разрешенья он
Испросил у падишаха, как велел закон.
Вот в ущелье талисманов удалец шагнул,
Брешь пробил и заклинанье первое шепнул.
Разом чары талисмана первого разбил,
Связи прочих талисманов он разъединил.
И искать в стене ворота начал он, ремянной
Колотушкой ударяя в шкуру барабана.
Вслушался, как отдается звук вокруг стены.
И по отзвуку ворота были найдены.
Откликаясь барабану, пел подземный ход.
Он подвел подкоп и выше к створам тех ворот.
Лишь о том хозяйка замка мудрая узнала,
Тут же человека с вестью к витязю послала:
«Я тебя в дому отцовском повстречать хочу,—
Я загадками твой разум испытать хочу.
У тебя четыре тайны стану я пытать;
Коль ответы на вопросы ты сумеешь дать,—
О, навек тогда ты другом будешь для меня.
И желанным и супругом будешь для меня».
И когда свою удачу витязь увидал,
Повернул коня и в город быстро поскакал.
Шелк сорвал с ворот высоких и рабу вручил,
Оживил в сердцах веселье, горе умертвил.
Головы со стен на землю опустить велел,
И оплакать, и с почетом схоронить велел.
И, благословляем всеми, воротясь домой,
Горожан велел к себе он звать на пир большой.
И рассказывала дева все, что было с ней,
Что судьба за это время совершила с ней.
Вспоминала тех, что в битве сбиты ею были,
Яму рыли ей и сами в яму угодили.
О влюбленных, что отважно, словно львы, рвались
И вотще теряли силы и теряли жизнь.
Вот жених перед невестой сел лицом к лицу,—
Мол, в какой игре лукавый спор придет к концу?
Вот за витязем царевна стала наблюдать,
Им, как куклою таразской, начала играть.
Из ушей своих два перла вынула сперва
И такие казначею молвила слова:
«Гостю нашему два перла эти отнеси —
И ответа на вопрос мой у него проси».
И посланец не замедлил выполнить приказ.
Гость объем жемчужин смерил, взвесил их тотчас.
И из драгоценных перлов, что с собой носил,
Три других, подобных первым, сверху положил,
Дева-камень, вместо первых двух увидев пять,
Взявши гирьку, также стала вес их измерять.
Взвесив и узнав, что равен вес у пятерых,
Той же гирькой раздавила, в пыль растерла их.
Пыли сахарной щепотку бросила туда,
Все смешала и послала гостю вновь тогда.
Но ему была загадка трудная легка,
У прислужника спросил он чашу молока,
Сахар с жемчугом в ту чашу всыпал, размешал.
Принял все гонец и чашу к госпоже помчал.
Этот дар пред ней поставил. Выпила невеста
Молоко, а из осадка замесила тесто.
И на пять частей, по весу равных, разделила.
И сняла свой перстень с пальца и гонцу вручила.
То кольцо надел на палец витязь и в ответ
Отослал пославшей перстень — дивный самоцвет,
Яркий, чистый и блестящий, как полдневный свет,
Изнутри лучил он пламень, блеском был одет.
Этот камень положила дева на ладонь,
Ожерелье распустила. Яркий, как огонь,
Самоцвет в нем отыскала, первому во всем
Равный, блещущий во мраке солнечным лучом:
Третьего не подобрать к ним, их не подменить:
На одну их нанизала золотую нить.
И когда на них разумный взоры обратил,—
Самоцвет от самоцвета он не отличил.
Дать себе он голубую бусину велел,
С самоцветами на нитку бусину надел.
Воротил их той, что с пери спорит красотой.
Та же — бусину на нитке видя золотой —
Сладко рассмеялась, губок распечатав лалы,—
Бусину на ожерелье тут же навязала,
Самоцветы в уши вдела и отцу сказала:
«Встань, отец, и делай дело, — спор я проиграла!
Две жемчужины послала я ему сначала:
«Жизнь — два дня лишь! Понимаешь?» — я ему сказала.
К двум моим он три прибавил. Это говорит:
«Если даже пять — так тоже быстро пролетит».
Я растерла и смешала сахар с жемчугом
И в ответ ему послала сахар с жемчугом.
Пыль жемчужная, что с пылью сахарной смесилась,
Означает жизнь, что сильной страстью омрачилась,
Оторвать их друг от друга, разлучить нельзя,
Ни заклятьем, ни наукой отделить нельзя.
В чашу молока тогда он всыпал эту смесь,
И на дно тяжелый жемчуг опустился весь,
И растаял легкий сахар в чаше молока.
И была ему загадка трудная легка.
А как молоко из чаши этой испила,
Я себя пред ним дитятей малым назвала.
А когда ему я перстень свой отослала,
Тем на брак со мной согласье витязю дала.
Самоцвет мне дав бесценный, он хотел сказать,
Что ему во всей вселенной пары не сыскать.
Я вернула вместе с первым равный самоцвет.
«Видишь, мы с тобою пара», — мой гласил ответ.
К самоцветам этим третий подбирать он стал,
Третьего ж на белом свете он не отыскал,
Бирюзой меня решил он чистой одарить,
Чтобы счастье от дурного глаза защитить.
И украсилась я тою светлой бирюзой,
Пред его склонилась волей, словно пред судьбой».
Шах, увидев, что объезжен конь и укрощен,
Что под плеткой сыромятной выровнялся он,
По обрядам брачных празднеств, тут же поутру
Приготовил все, рассыпал сахар на пиру.
Как звезду Зухру Сухейлю, отдал дочь свою.
Пир устроил несказанный, как пиры в раю.
Благовоньями в чертоге пол осыпан был.
Там он кипарис и розу рядом посадил.
Вот последний гость покинул падишахский дом.
Витязь наконец остался с милою вдвоем.
И когда искавший лалы россыпей достиг,
Умирал и воскресал он в свой предсмертный миг,
Целовал в ланиты, в губы он стократ ее,
Он покусывал то финик, то гранат ее.
Жил он в радости с любимой, лучших не просил.
Цвета щек ее — он платья красные носил,
Ибо в первый день успеха, в белый день надежды,
Предзнаменованьем выбрал красные одежды,
Ибо тою красотою он рассеял мрак.
Он всегда имел убранство красное, что мак.
«Шах в багряных бармах» — был он прозван потому,
Что в багряном цвете радость выпала ему.
Красный цвет красою блещет, коей в прочих нет,
Этим лал ценней алмаза — алый самоцвет.
Если красоты телесной в мире ищешь ты,
Помни: розы щек — основа всякой красоты.
Роза лучшая не будет ханшею садов,
Если нет у ней горящих кровью лепестков!»
А когда рассказ царевна кончила чудесный,
Словно россыпь роз, зарею вспыхнул мрак небесный.
И лицо Бахрама в этом блеске алых роз
Стало красным, с ароматным сходно соком роз.
Он к славянской красной розе руку протянул,
Обнял стан ее и в неге близ нее уснул.
Повесть пятая. Среда
Магрибская царевна
В среду, только озарилась солнцем высота
И блеснула бирюзою неба чернота,—
В бирюзовом одеянье к башням голубым
Шах направился — призывом сладостным томим.
День был короток, да долог про него рассказ.
Только в черном покрывале полночь поднялась,—
Попросил Бахрам царевну сказку рассказать.
И сняла луна Магриба с повести печать,—
Молвила: «У шаха стремя держит небосвод,
Круг созвездий славословье перед ним поет.
Я и сотни дев прекрасных — пери красотой —
Рады целовать, о шах мой, прах перед тобой.
Пред тобою, перед чистым родником живым,
Торговать не подобает уксусом простым.
Коль мою ты благосклонно выслушаешь речь,
Я могла б тебя одною повестью развлечь».
Сказка
«Жил один купец в Египте — именем Махан,
Золотой луне подобен, строен и румян.
Красотой, умом, богатством, как Юсуф, блистал.
Тысячу отважных тюрков стражей он держал.
Так Махана все любили, что в саду своем
Каждый рад бывал устроить в честь его прием.
Некий знатный горожанин раз к нему пришел,
В загородный сад свой гостем юношу увел.
В свежем том саду, друзьями тесно окружен,
Целый день вином, беседой утешался он.
Пир их был великолепен и прекрасен сад,
А друзья его прекрасней были во сто крат.
Вслед забаве их забава новая ждала,
Что ни час, то лучше прежней смена блюд была.
Вот и полночь мускусное знамя подняла,
Серебро смолой покрыла и луну зажгла.
Но в стемневшей чаще сада продолжался пир,
Сладким звуком флейт и песен оглашался пир.
Будто гости саду сердце отдали в залог,
Обновлял сердец веселье пенных вин поток.
Ярко озаряла небо полная луна,
Лучезарностью — полудню ночь была равна.
И Махан, разгоряченный чарами вина,
Увидал: луну качает быстрая волна.
Он побрел, шатаясь, в чащу — от вина тяжел.
Заплутался. К незнакомой роще пальм пришел.
И увидел человека он вдали сквозь тьму.
Этот человек с приветом подошел к нему.
Внешность же его знакома юноше была,—
Вел он за морем с Маханом общие дела.
Сразу друга по торговле в нем Махан узнал
И воскликнул: «Как! Откуда ты сюда попал?»
Молвил тот: «По завершенье дальнего пути —
Не терпелось мне, — тебя я захотел найти,
Рассказать, что свыше меры наши барыши.
Ты мне будешь благодарен — знаю — от души!
Я не рано с караваном к городской стене
Подошел. Ворота были заперты, и мне
Перенесть пришлось богатства позднею порой
В караван-сарай, лежащий за градской стеной,
В темном поле. И, оставив стражу при тюках,
Я к тебе пришел, проведав, что ты здесь в гостях.
Вовремя тебя нашел я: о, пойдем со мной,
Не замедлив! Мы, возможно, в темноте ночной
Грузы в город переправим, пошлин избежим!»
И Махан был рад богатству и пошел за ним.
Тайно отперли калитку. И — как вихри взвились —
Понеслись… Пока две стражи ночи не сменились,
Быстро, быстро — друг Махана впереди шагал,
А Махан, как пыль от пяток, позади бежал.
Уж последние остались за спиной дома.
И пустыня перед ними, и ночная тьма.
«Что я — сплю? — Махан подумал. — Близится рассвет,
И сейчас от нас до Нила сотни гязов нет!
Пройдена дорога нами пятичасовая,
А до сей поры не видно караван-сарая;
Лишь пустыня перед нами, и над ней — туман».
И еще Махан подумал: «Может быть, я пьян…»
Мчались так они, покамест первый не пропел
Вдалеке петух. Последний призрак улетел
По следам дремучей ночи, снов растаял дым.
И внезапно стал Махану друг его незрим.
Увидал Махан смущенный: сбился он с пути.
Сразу отказались ноги вдаль его нести.
Догорающей свечою юноша упал,
Плача, наземь и до полдня жаркого проспал.
А от солнечного зноя голова его
Раскалилась жарче муки той, что жгла его.
Сел, пустыню воспаленным взором он обвел,
Сада роз искал глазами, сада не нашел.
Будто собственное сердце в ранах видит он —
Тысячей пещер изрытый видит горный склон,
И змея в пещере каждой — больше, чем дракон,
Он бежать хотел, но страхом силы был лишен.
Ногу ставит на дорогу, а нога тяжка,
Как свинец; в пути безвестном нет проводника.
Брел он и пугался тени собственной своей.
Вот расставил свой треножник властелин ночей.
Снова тьма деяний черных образы сплела,—
Дню-белильщику до света отдохнуть дала.
У пещерного упал он черного жерла,
И в глазах его былинка каждая ползла,
Как змея. Лежал он долго, памяти лишен.
Звуки голоса живого вдруг услышал он,
И, открыв глаза, увидел двух людей вдали.
Женщина с мужчиной ношу на плечах несли.
И, лежащего увидя на своем пути,
Сразу поспешил к Махану путник подойти.
Он купца окликнул: «Кто ты и откуда есть?»
Тот сказал: «Я иноземец, погибаю здесь,
Хоть меня Маханом мудрым прежде всякий звал».
Путник вновь спросил: «А как же ты сюда попал?
Людям здесь бывать опасно. Дивы здесь живут.
Даже львы, встречаясь с ними, в ужасе ревут».
И тогда Махан воскликнул: «Кто ты — я не знаю:
Добрый человек иль демон! Богом заклинаю,
Дело человеколюбья ныне соверши,
Выведи меня отсюда! Скорбь моей души
Утиши! Вчерашней ночью в сладостных садах
На ковре в садах Ирема я сидел в гостях.
И когда свой ум затмил я чашей пировой,
Мне явился некто, молвив: «Я товарищ твой»,
Он привел меня из рая в ад. А только день
Наступил — мой друг растаял, как ночная тень.
То ли — в дружбе нерадивый — промах совершил,
То ли в злобе против нашей дружбы погрешил…
Дело доброе, прохожий, соверши — молю!
В город верную дорогу укажи — молю!»
Молвил путник: «Ты от верной гибели ушел.
Дива, страшного для смертных, человеком счел.
Этот див — «Хаиль пустынный». Он с пути сбивал
Сотни путников. В пустыне каждый погибал.
Но твои друзья мы оба. Мы спасем тебя,
Сбережем в пути и в город приведем тебя.
Так мужайся! Встань меж нами, веселей шагай
По дороге шаг за шагом! Лишь не отставай!»
И поплелся шаг за шагом им вослед Махан.
А когда петух рассвета грянул в барабан
И ударило в литавры утро на верблюде,—
Без ключа темницей темной стали эти люди
И растаяли, как тени… А Махан упал,
Изнуренный, и до полдня на песке проспал.
Встал Махан, побрел по склону, ужасом томим.
Видит: скалы, — львов и тигров логово пред ним.
Шел, теряя силы, ибо не имел еды,
Кроме воплей и страданий, кроме слез — воды.
Истомленный, не решался он прервать пути.
По пустыне без дороги продолжал брести.
И когда небесный белый купол черным стал,
В яму вполз и до полночи в яме он проспал.
И далекий конский топот в полночь услыхал.
На коне горячем всадник по степи скакал,
В поводу держал другого доброго коня,
С буйной гривой и закосом глаз, как два огня.
Подскакал, к Махану всадник взоры обратил.
«Эй, хитрец, сидящий в яме, кто ты? — он спросил.—
Что ты ждешь? Коль скажешь правду — пощажу тебя,
А солжешь — мечом вот этим поражу тебя!»
И затрепетал от страха перед ним Махан.
Быстро горсти слов рассыпал, как мешок семян.
Молвил он: «О гордый всадник, выслушай раба!»
Все поведал, что с ним злая сделала судьба,
Как в пустыне беспредельной заблудился он.
Всадник был его рассказом сильно изумлен,
Молвил: «За тебя молитву, друг, я произнес!
Знай, что ты от двух чудовищ голову унес.
Это гули-людоеды, самка и самец,
По степи тебя кружили, чтобы наконец
Съесть тебя живьем в ужасном логове своем,
Но промедлили. Спасен ты первым петухом!
Знай: Хала прозванье самки, а самца — Гила.
Поблагодари светила, что избегнул зла.
А пока ты жив, отсюда убегай со мной.
Вынесет тебя из ада конь мой заводной.
Но в пути храни молчанье. Повод подтяни,
От меня не отставая, скакуна гони».
Всадником могучей птицы злополучный стал:
Так скакал, что за собою ветер оставлял.
Путь они в ущельях грозных миновали длинный,
Наконец с горы открылась их глазам долина.
Как ладонь гладка, просторна. И со всех сторон
Раздавались песни, руда и барбата звон.
«К нам иди, прекрасный!» — справа голоса слышны.
Слева крики: «К нам! За чашу — гость чужой страны!»
Не цветы и не деревья, — нет! В долине той
Гуль на гуле громоздились черною горой,
Дивов тысячи на дивах, копошась, сидели,
Подымая вой. Другие лезли из ущелий.
Словно смерчи, головами к тучам взметены,
Как огромные пиявки, длинны и черны.
Так плясал их сонм ужасный, так рукоплескал,
Так вопил, что мозг от шума в черепе вскипал.
Что ни миг, то шум сильнее, вой и плеск страшней,
Через час вдали блеснули тысячи огней.
И толпа громадных, страшных чудищ подошла.
Губы как у негров. Платья, шапки как смола.
Каждый с хоботом, с рогами, — сразу — бык и слон.
Каждым чудищем горящий факел принесен.
Каждый безобразен, словно адский страж. Клубясь,
Вылетало пламя — только див разинет пасть.
Пели все они, в трещотки черные треща,
И вокруг плясали скалы, в лад рукоплеща.
Громче взвыла, заплясала дивов черных рать.
Под Маханом злополучным начал конь плясать.
В страхе он на пляшущего скакуна взглянул.
Увидал, что конь кривые крылья развернул.
Увидал беду и горе под собою он:
Семиглавый и двукрылый был под ним дракон.
Словно осенивший землю свод семи небес,
Сделался семиголовым этот див иль бес.
Заплясал дракон крылатый, разыгрался — лют.
Топал он и извивался, словно длинный кнут.
А Махан был как валежник, что потоком вод
Бурный силь в весенней балке с крутизны несет.
Сокрушенным и бессильным злополучный стал,—
Так его дракон свирепый вниз и вверх швырял.
Вверх подбрасывал, — и снова на лету сажал
Юношу себе на шею, и трубил, и ржал.
Издевался над Маханом — на сто сот ладов.
А когда раздался голос дальних петухов
И раскрылся львиным зевом алый край небес,
Этот змей семиголовый, словно тень, исчез.
Хор чудовищ стих, умолкли руд и барабан,
И отклокотал в долине черных гулей чан.
И Махан, упав на землю, память потерял.
Словно ранен был смертельно, словно умирал.
И без чувств, не помня — где он, что творится с ним,
Он лежал в пустыне, солнцем яростным палим.
А когда от зноя полдня голова вскипела,
Воротилась жизнь в больное, страждущее тело.
Поднялся Махан, стеная, и глаза протер.
Огляделся он, увидел лишь степной простор,
Слева — даль пустынь, а справа — скал бесплодный скат.
Все кругом, как кровь, багрово-знойно, словно ад.
Как ковер пред казнью стелют кожаный у ног
И палач угрюмый сыплет на него песок,
Так же, только знак для казни подал полдня взор,
Был песок насыпан, постлан кожаный ковер.
На усталой шее чудом разорвав аркан,
Выход с площади погибших отыскал Махан.
Зелень свежую скиталец, воду увидал.
Сердцем был от горя стар он, снова юным стал.
Напился воды, умылся и, хвалу судьбе
Вознеся, для сна пещеру стал искать себе.
Тысячеступенный кладезь в глубине пещерной
Отыскал. Лишь тень спускалась в кладезь тот, наверно.
Как Юсуф, в глубокий кладезь опустился он
И, дойдя до дна, мгновенно погрузился в сон.
Ты б сказал: достигла птица своего гнезда.
В безопасности улегся там он. А когда
Выспался, во мрак пещеры вглядываться стал,
Будто образы на черном шелке увидал.
Разглядел, что раскололся той пещеры свод,
А луна с ночного неба в щель сиянье льет.
Начал расширять отверстье, и сквозь потолок
Вскоре голову наружу высунуть он смог.
Голову в дыру просунул и увидел сад,
Свежих цветников учуял сладкий аромат.
Свод разрыл еще, на волю выбрался совсем
И увидел сад цветущий — словно сад Ирем.
Сад мерцал, сиял, лучился — в лунный свет одет.
Думалось: деревьям свежим в нем и счета нет.
И к плодам он потянулся, рдеющим в листве,
Эти ел, а те рассыпал по сырой траве.
Вдруг: «Держите вора!» — слышит он громовый крик.
Гневный, яростью кипящий, выбежал старик,
На плече держа дубину. «Кто ты? — заорал.—
Как ты, див, плоды крадущий, в сад ко мне попал?
Как посмел ты? Здесь немало прожил я годов,
Но не ведал беспокойства от ночных воров!
Кто такой? Что ты такое? Как тебя зовут,—
Говори по правде. Помни: я во гневе лют».
Обмирал Махан от страха. Он сказал: «Беда
Надо мной стряслась. Невольно я попал сюда.
Заблудившегося призри! Не гони в беде,
Чтоб тебя за гостелюбье славили везде!»
Оправданиям Махана гневный внял старик.
Подобрел его суровый бородатый лик.
В сторону свою дубину старец отложил
И, усевшись перед гостем, ласково спросил:
«Расскажи, что ты изведал в странствиях твоих,
Сколько ты обид увидел от глупцов и злых?»
Увидал Махан, что старец гнев сменил на милость.
Рассказал он по порядку все, что с ним случилось;
Как, блуждая, попадал он из беды в беду:
Ночь — горел в огне, другую — замерзал во льду.
Как на верном очутился наконец следу,
Как от бед укрылся в этом сладостном саду.
Молвил старец изумленный: «Мы должны судьбу
Возблагодарить и небу принести мольбу,
Что от чудищ, подлых нравом, ты освобожден
И от горя этим добрым кровом огражден!
Ты с себя, злосчастный, сбросил цепи наважденья,
Заповедного достиг ты места избавленья.
А лежит за этим садом дикая страна,
Зелени, воды и жизни лишена она.
Ты, счастливец, чудом спасся от великих бед!
Джинны здесь живут и дивы; каждый — людоед.
В лжи — бессилье. Только в правде — божья благодать.
Чудеса от наважденья должно отличать.
Вижу я — простосердечен по природе ты.
Жертвой лжи бывают люди, что душой просты.
Злобный дух в ночной пустыне на тебя напал
И, твоим воображеньем овладев, играл.
Но коль позади осталась призраков страна,
Не глотай осадок, выпей чистого вина!
Этой ночью ты как будто заново рожден,
Из иного мира наземь снова приведен.
Вот богатый сад — награда за твои мученья.
Я же — сам хозяин сада, в этом нет сомненья.
Каждый кустик тут я знаю. Эти все плоды
Мною взращены с любовью. Лучшие сады
Поясов земных мне дали саженцы дерев,
Самых щедрых в пору сбора сладостных плодов.
Прокормился б целый город их осенним даром.
У меня в саду обширный есть дворец с амбаром.
Словно обмолоченные зерна на току,
Горы золота хранит он и — мешок к мешку —
Жемчуга и самоцветы пламенней огня…
Я богат, и только нету сына у меня.
Но, на счастие, с тобою повстречался я,
И к тебе, как к сыну, сердцем привязался я.
Если ты захочешь сыном стать мне — о, тогда
Полноправным властелином ты войдешь сюда!
Завтра ж на твое я имя все переведу,
Чтобы ты, вкушая негу, жил в моем саду.
А захочешь, и невесту я тебе найду;
Отведу от милых сердцу всякую беду,
И служить я буду вашим прихотям любым.
Коль согласен, дай мне руку, — договор скрепим!»
И Махан сказал: «Как можешь это говорить?
Может ли терновник сыном кипариса быть?
Но когда меня ты верно примешь в сыновья,
То — поверь — тебе примерным сыном буду я!»
Радостно поцеловал он руку старика.
Радостно ему сказал он: «Вот моя рука!»
И старик Махана руку быстро ухватил,
Дал обет ему и клятвой договор скрепил.
Молвил: «Встань». Махан поднялся. И повел его
Старец в глубину густого сада своего.
Ввел его в чертог высокий: стены в нем и пол —
Мрамор, а суфа коврами крыта, как престол.
Галерея в нем просторна; и, как свод, над ней
Переплет ветвей платанов, ив и тополей.
Водоем блестит под сводом. И звездой своей
Небосвод целует кольца медные дверей.
Широковетвящееся — над суфой стояло
Дерево сандаловое. До земли свисало
Благовонное убранство листьев, как пола
Занавеса. На развилье мощного ствола,
Там, где ветвь от ветви толстой в сторону ушла,—
В высоте тахта из досок сделана была.
На тахте — ковры, подушки, словно ложе хана,
Как листва сандала мягки и благоуханны.
И старик сказал: «На это дерево залезь;
Отдохни пока с дороги. Если пить иль есть
Пожелаешь ты, — там скатерть с белым хлебом есть,
И кувшин с водой лазурной. Оставайся здесь,
И — покуда не вернусь я — терпеливо жди,
Из опочивальни этой наземь не сходи.
Кто б ни говорил с тобою — ухо уклоняй,
Кто б ни соблазнял — соблазны молча отгоняй.
Ни на чей вопрос лукавый — слова не роняй.
А не стерпишь — сам тогда ты на себя пеняй.
Лишь когда назад приду я, — зорче ты вглядись
И уверься — я ли это. И тогда спустись.
Я пойду, тебе покои во дворце устрою.
Клятва крепкая — навеки — меж тобой и мною;
Молока и меда наши обещанья чище,
И теперь мое жилище — и твое жилище.
Берегись дурного глаза нынешнюю ночь…
Утром отойдут навеки все несчастья прочь».
Так старик его наставил, слово с гостя взял,
И исполнить наставленья гость пообещал.
Там ременная свисала лестница с ветвей.
«Подойди, — сказал хозяин, — и взберись по ней!
Будь сегодня ремненогом, [321] Будь сегодня ремненогом… — Ремненог — нечистый дух, обитающий в пустынных местах. Это по виду слабый старик, ноги у него тонкие и гибкие, как ремень или плеть, стоять на них и ходить он не может. Завидев путника, он начинает жаловаться на жажду и просит взять его на спину и донести до воды. Стоит путнику согласиться, как он крепко обвивает его своими ремнями-ногами и начинает гонять по пустыне до тех пор, пока, выбившись из сил, путник не погибает. а потом ремни
Эти длинные с собою кверху подтяни.
Опоясайся сегодня кожаной змеей,
Чтоб никто шутить не вздумал снова над тобой.
Утром ты доволен будешь! Хоть халва у нас
С вечера была готова, — есть нельзя сейчас».
Разговор старик закончил и пошел домой,
Чтобы гостю приготовить во дворце покой.
Гость на дерево взобрался, лестницу убрал.
Там сандал листвою свежей так благоухал,
Что, когда Махан из легких воздух выдыхал,
Он, как ветер, ароматы миру посылал.
Сверток хлебцев золотистых и лепешек белых
Развернул, почуяв голод, путник и поел их.
Из прохладного кувшина, что студил ночной
Ветер, жажду утолил он чистою водой.
И на той тахте румийской, под густой листвой,
На ковре китайском, мягком он нашел покой.
На руку облокотился; озираться стал.
И вдали семнадцать ярких свеч он увидал.
Шли красавицы по саду, светочи несли.
Преклонился бы пред ними каждый до земли.
Светочи в руках у каждой, платья их богаты.
Полотно скрывает розу, кисея — гранаты.
Шли — стройны, светлы, как свечи, озирая мир.
На суфе они уселись за веселый пир.
Столько блюд, напитков столько — знает только
Ледяной шербет с шафраном и гранатный сок.
Там барашек был, поенный только молоком,
И откормленная птица, и форель, и сом;
Хлебы — камфоры белее и светлей луны,
Как спина и груди гурий, мягки и нежны.
О пирожных не умолкла до сих пор молва.
Сахарная напоследок подана халва.
И когда на стол такие блюда принесли,—
Словно мир, где все явленья чудо, принесли,—
Госпожа невест сказала девушке одной:
«Чувствую я: скоро четом станет нечет мой.
На меня алоэ дышит, от сандала вея.
К дереву сандаловому подойди скорее.
Так иди и к нам пришельца ласково зови.
Молви: «Ждет тебя подруга, полная любви;
Стол накрыт, поставлен кубок чистого вина;
Но без гостя не коснется вин и яств она.
Поспеши, вкуси блаженство от союза с ней.
Не держи ее в оковах, приходи скорей!»
К дереву сандаловому дева подошла.
Узок рот ее, а просьба широка была.
Отворив уста, запела, словно соловей.
Как цветок с куста, Махана сорвала с ветвей.
Речь посредницы услышав, он пошел за ней.
Сам посредника искал он для любви своей.
Но как только пред соблазном душу он открыл,
Тут же предостереженья старца позабыл.
И любовь метлой с дороги стыд и долг смела.
И Махан к луне спустился, что его ждала.
Груди мягче молодого творога у ней,
Слаще сахара и меда, молока нежней.
Яблоки ланит — услада для живых сердец,
Где под кожей — сок багряных роз и леденец.
Вся она как ртуть живая или как ручей,
А глаза светлей и ярче пламенных свечей.
Средь подруг своих сияет, как свеча, она,
Взглядом насмерть поражает без меча она,
Полною луной блистает, горяча, она,
Двери сердца отмыкает без ключа она.
Во сто тысяч раз в Махане страсть к ней возросла.
Розу уст ее сосал он, как сосет пчела.
И когда рука Махана стан ей обвила,
Диво-дева застыдилась, взоры отвела.
Но как розу прижимает к сердцу соловей,
Он прижал Китая чудо ко груди своей.
А когда взглянул на этот сладостный поток,—
Он от ужаса дыханье перевесть не мог.
Перед ним — от пят до пасти скаляся — сидит
Порожденный божьим гневом адский дух ифрит.
По рогам — свирепый буйвол, по клыкам — кабан.
Не дракон — страшней дракона, это — Ахриман!
От надира до зенита пасть его разъята;
А спина — спаси нас боже! — как гора горбата.
Словно лук, хребет зубчатый выгнут; рачья морда.
На сто верст кругом зловонье от него простерто.
Нос — как печь, где обжигают кирпичи огнем.
Пасть — как чан, где известь гасят, чтобы красить дом.
Губищи ифрит разинул, словно крокодил;
Гостя ухватил, колючей грудью придавил,
Целовал в лицо смердящей пастью, и душил
Смертным дыхом, и, целуя, гостю говорил:
«А-а! Ты в лапы мне попался! Грудь твою сейчас
Разорву! Гулял сегодня ты в последний раз.
Ты меня хватал руками, зубы в ход пускал,
Ты мне нежный подбородок, губы целовал!
Видишь: когти — словно копья, зубы — как ножи!
Где еще такие зубы ты видал — скажи?
Ах, как горячо сначала страсть твоя пылала,
А теперь куда девалась? Почему пропала?
Эти губы — те же губы, полные огня,
Личико мое — все то же, так целуй меня!
Не пируй в кругу коварных, где царит позор!
Дома не снимай, в котором управитель вор!»
Так шутил и издевался злобный див над ним,
Хохотал, пускал из пасти то зловонный дым,
То огонь в лицо Махану. И увидел он:
Что красавицею было, то теперь — дракон.
Среброногая внезапно стала вепреногой
Гадиной — с хвостом воловьим, черной и двурогой.
И, упав, под тем драконом он лежал, крича,
Как дитя. Текла от страха из него моча.
Но едва забрезжил смутно темный край небес
И пропел петух далекий, сгинул черный бес.
Ночь ушла, влача с собою черный шелк завес.
Дымом унеслись виденья, пышный сад исчез.
Ниц поверженный, лежал он у дверей дворца.
Сокрушался, предавался горю без конца.
И от зноя дня в сознанье он пришел. И вот
Осмотрелся: горе! Видит свалку нечистот.
Видит он на месте рая — раскаленный ад.
Нет свирелей, лишь стенанья ужаса звучат.
Ну, а то, что прошлой ночью он дворцом считал,
Стало грудой безобразно взгроможденных скал.
Стал кустарником колючим благовонный сад,
А взамен суфы лишь камни голые лежат.
Грудки птиц, плоды и спины жареных козлят
Стали падалью зловонной, гнусною на взгляд.
Стали руды и свирели тех ночных певцов
Грудою костей верблюдов и степных ослов.
Сделался гнилою лужей чистый водоем.
Все, что с блюда золотого ел он за столом,
И вино, что пил вчера он, это, — бог с тобой! —
Это было только мерзость, и навоз, и гной.
Вонью стал благоухавший на столе рейхан.
Вновь запутался в невзгодах мученик Махан;
Стал молиться. В путь пуститься сил он не имел,
Но и оставаться в месте страшном не хотел.
«Удивительное дело, — он себе сказал,—
Это что за круг, в который я теперь попал?
Прошлой ночью пировал я в сказочном саду,
А сегодня вижу снова ужас и беду.
Чем в руках пышнее роза, тем острей шипы.
Вот так урожай приносят нам сады судьбы!»
И Махан несчастный думал: «Лишь уйду от зла,
Изберу я целью жизни добрые дела!»
Брел он, горькими слезами щеки обливал,
Каялся, что не всечасно справедлив бывал.
Чистых вод достигши, слезы смыл и пот с лица.
Униженно пал на землю и молил творца:
«Вяжешь ты и разрешаешь! Боже, развяжи
Узел бед моих, — дорогу к дому укажи!
Указующий правдивым верные пути,
Мне — идущему стезею темной — посвети!»
Так, в молениях простертый, долго он лежал.
Наконец, лицо поднявши, путник увидал
Пред собою человека, — был он, как Нисан,
Весь в зеленом, словно утро свежее, румян.
И Махан спросил: «О, кто ты, в этот горький час
Мне явившийся? О, кто ты, ясный, как алмаз?»
Тот сказал: «Я — Хызр, скорбящий о твоей судьбе.
Я пришел, благочестивый, чтоб помочь тебе.
Донеслись твои обеты к сердцу моему,
И они тебя доставят к дому твоему;
Будь им верен! Крепче руку мне сожми рукой
И закрой глаза — и снова через миг открой».
В руку Хызра, не замедля, руку он вложил;
И глаза свои зажмурил, и тотчас открыл.
Там, откуда был впервые дивом уведен,—
В том саду благословенном очутился он.
Он открыл калитку сада, в свой дворец пришел,
И друзей в молчанье, в скорби у себя нашел.
Каждый в синей был одежде [322] Каждый в синей был одежде… — У Низами синий цвет — всегда цвет траура. — скорби знак по нем.
Он о горестном поведал им пути своем.
Люди, что его любили, с ним душой сжились,
Милого оплакивая, синим облеклись.
А Махан во всем согласным с ними быть хотел:
Он лазурные одежды на себя надел.
Цветом бирюзы до смерти был он облачен;
Цветом времени покрылся, словно небосклон.
Высота небес одежды лучшей не нашла.
И лазурный шелк одеждой вечной избрала.
У людей, что избирают цвет лазурный неба,
Солнце на столе сияет, как лепешка хлеба.
Голубой цветок, [323] Голубой цветок… — Согласно комментарию, речь идет о голубом лотосе. что платье носит голубое,
Сердцевиною имеет солнце золотое.
И куда свой огнезарный лик ни устремит
Солнце, — все цветок лазурный на него глядит,
И любой цветок, что цветом голубым цветет,—
«Поклоняющимся солнцу» Индия зовет».
А когда луной Магриба сказ окончен был,
Шах в объятия с любовью пери заключил.
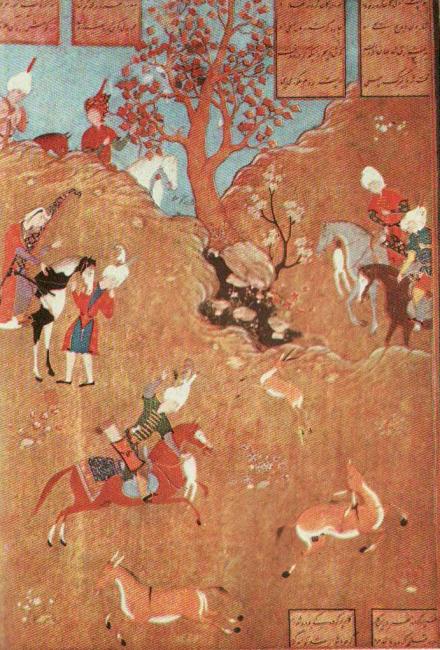
Повесть шестая. Четверг
Румийская царевна
День четверг ничем от века злым не омрачен,
Муштари — планете светлой — древле посвящен. [324] День четверг… Муштари… древле посвящен. — Муштари — планета Юпитер, она — покровитель четверга (ср. французское jeudi из Jovis dies — день Юпитера).
Лишь сандаловый с зарею заклубился прах,
В цвет сандаловый оделся утром славный шах.
Из чертогов бирюзовых золотом тропы
Он к сандаловым чертогам устремил стопы.
И царевною румийской чистое вино,
Словно гурией, Бахраму там поднесено.
И пока не омрачился ясный небосклон,
В том сандаловом чертоге веселился он.
Только раковина ночи, встав из океана,
Перлами наполнила пасть Левиафана, [325] Только раковина ночи, встав из океана, // Перлами наполнила пасть Левиафана… — то есть наступила звездная ночь. Ночь сравнивается с раскрытой пастью чудовища, в которой сверкнули зубы-жемчуга.—
Ту, которая в прекрасном Руме расцвела,
Попросил Бахрам, чтоб с сердца пыль она смела.
Юная княжна морщинку согнала с чела
И из финика источник сладкий извлекла. [326] И из финика источник сладкий извлекла. — То есть из ротика, сладостного, как финик, повела сладостные речи.
Так сказала: «Дух вселенной жив душой твоей,
Первый ты из падишахов, славный царь царей.
Больше, чем песка в пустыне и воды в морях,
Дней счастливых в этой жизни да получит шах!
Ты, как солнце, свет даруешь, троны раздаешь.
Я боюсь, что для рассказа слог мой нехорош.
Все же, если сердцу шаха надобна утеха
И шафрана съесть сегодня хочет он для смеха, [327] И шафрана съесть сегодня хочет он для смеха. — По представлениям тогдашней медицины, шафран прогоняет печаль, радует.
Я раскрою свиток — пусть он писан вкривь и вкось, [328] Я раскрою свиток — пусть он писан вкривь и вкось… — то есть красавица не умеет хорошо говорить на том языке, на котором говорит Бахрам, и просит прощения за ошибки.
Может быть, развеселится мой прекрасный гость.
Может быть, ему по вкусу быль моя придется,
И запомнится, и в сердце долго не сотрется».
Завершила славословье юная луна,
И поцеловала руку шахскую она.
Сказка
«Двое юношей, покинув как-то город свой,
По делам торговым в город двинулись иной.
Первый звался — Хейр, что значит — Правда. А другой? —
Шерр, что значит — Кривда. Каждый в жизни шел стезей,
С именем своим согласной. Путь их был далек.
Хейр в пути свои припасы ел, а Шерр берег.
Так, идя, они вступили через два-три дня
В знойную пустыню, словно в полную огня
Печь огромную, где бронза плавилась, как воск,
В голове вскипал от зноя пышущего мозг.
Ветерок степной ланиты обжигал огнем,
Не было воды в пустыне, — ведал Шерр о том,
И в дорогу мех немалый он воды припас
И берег его, как жемчуг, не спуская глаз.
Хейр пустыней шел беспечно и не ждал беды,
И не знал он, что в пустыне вовсе нет воды.
Он в ловушку, как в колодец высохший, попал.
День седьмой уже дороги трудной наступал.
Кончилась вода у Хейра. А у Шерра был
Мех воды, что он от взглядов друга утаил.
Видел Хейр, что Шерр коварный, полный водоем
У себя воды скрывая, пьет ее тайком,
Как благоухающее светлое вино.
Он, хотя сгорал, палимый жаждою давно,—
Губы до крови зубами начинал кусать,
Чтоб язык от недостойной просьбы удержать.
Так терзался Хейр, когда он на воду глядел,
И, как трут, от лютой жажды иссыхал и тлел.
Два прекрасных чистых лала он имел с собой,
Их вода ласкала зренье блеском и игрой,—
Так сияла ярко влага — в лал заключена.
Но была усладой взгляда, а не уст она.
Вынул Хейр свои рубины, Шерру предложил,—
На песок, впитавший воды, камни положил.
«Друг! Спаси меня, — сказал он, — от лихой беды!
Я от жажды умираю… Дай глоток воды!
Естество мое водою чистой освежи,
А взамен — мои рубины в пояс положи!»
А жестокий Шерр, — да грянет божий гром над ним,—
Развернул пред Хейром свиток с именем своим. [329] Развернул пред Хейром свиток с именем своим — то есть проявил таившееся в нем зло (его имя «Шерр» — значит «зло»).
Он сказал: «Из камня воду выжать не трудись,
И, как я, от обольщений ты освободись.
Без свидетелей рубины ты мне хочешь дать,
Чтобы в городе на людях взять себе опять?
Я не глуп! Я на приманку эту не пойду.
Я, как див, кого угодно сам в обман введу.
Сотни хитростей, хитрее, тоньше, чем твоя,
Над хитрейшими когда-то сам проделал я.
Мне такие самоцветы не накладно взять,
Коих ты не сможешь позже у меня отнять!»
«Молви, что за самоцветы? — Хейр его спросил.—
Чтоб я за воду скорее их тебе вручил!»
«Это пара самоцветов зренья твоего! —
Шерр сказал. — И нет ценнее в мире ничего.
Дай глаза мне и водою жар свой охлади.
Если ж нет, — от сладкой влаги взгляды отведи
И не жди! Не дам ни капли!» Хейр сказал: «Земляк!
Неужель меня на муки и на вечный мрак
За глоток воды осудишь? Сладостна вода
Жаждущим! Зачем же очи вырывать тогда?
Ты счастливее не станешь, я же, свет очей
Потеряв, несчастным буду до скончанья дней.
О, продай за деньги воду! Всю казну мою,—
В том расписку дам, — тебе я здесь передаю
И такою сделкой счастлив буду весь свой век.
Дай воды, глаза оставь мне, добрый человек!»
Шерр ответил: «Эти басни слышал я не раз.
У тебя, видать, немалый выдуман запас.
Мне глаза нужны! Что толку мне в твоей казне?
Для меня глаза живые выше по цене!»
Растерялся Хейр и понял, что он здесь умрет,
Что из огненной пустыни ног не унесет.
Он взглянул на мех с водою, сердца не сдержал
И, вздохнув, промолвил Шерру: «Встань, возьми кинжал,
Огнецветные зеницы сталью проколи!
И за них огонь мой влагой сладкой утоли!»
Молвив так, имел надежду Хейр в душе своей,
Что не выколет угрюмый Шерр его очей.
Но клинок в руке у Шерра мигом заблестел.
Он к измученному жаждой вихрем подлетел,
В светочи очей стальное жало он вонзил
И не сжалился — и светоч зренья погасил.
Сталью дал он двум нарциссам — розы цвет кровавый.
Словно вор выламывает лалы из оправы,—
Яблоки глазные ранил он своим клинком,
Но потом не поделился влагой со слепцом.
Платье, ценности, пожитки отнял у него
И безглазого беднягу бросил одного.
Понял Хейр, что вероломным Шерром брошен он.
Жженьем ран палим и жаждой, наг, окровавлен,—
Он упал на раскаленный огненный песок.
Хорошо еще, что видеть он себя не мог.
Некий из старейшин курдских, знатный муж, тогда
От него неподалеку гнал свои стада.
Без числа у курда было доброго скота.
Кони — вихрь, верблюды — чудо, овцы — красота!
Курд, как ветер, — друг равнины, легкий странник гор, —
По степям своим кочует, любит их простор.
Место, где трава и воды, он облюбовал
И на месте том недолгий делает привал.
А съедят траву и воду выпьют наконец,—
Дальше гонит он верблюдов и стада овец.
Этот курд случайно, за два дня до злодеянья,
Там, как лев, расправить когти возымел желанье.
Дивной красоты имел он молодую дочь.
Родинка у ней — индиец, очи — словно ночь.
У отца родного в неге дева возросла,
Под палящим небом степи розой расцвела.
Как тяжелые канаты, за собой влекла
Косы цвета воронова черного крыла.
Кудри тенью осеняют золото ланит.
Лик у выросшей на воле свету дня открыт.
Взгляд ее чудесным блеском души обжигал,
Силу обольщений рока, дивов побеждал.
Тот, кто в сети вавилонских чар ее попал,
Счастлив был и лучшей доли в мире не желал.
Черноту в кудрях у девы — полночь обрела.
А луна у лика девы свет взаймы брала.
Вот она кувшин с высоким горлышком взяла,
К потаенному колодцу за водой пошла.
Доверху кувшин холодной налила водой,
На плечо его поставив, понесла домой
И внезапно услыхала стоны вдалеке.
И пошла и увидала Хейра на песке,—
Весь в крови, в пыли лежал он, раной истомлен,
И стонал от жгучей боли, и метался он,
Бил руками и ногами оземь, умолял
Бога, чтоб от мук избавил, смерть скорей послал.
И, беспечная, беспечность мигом позабыв,
Подошла к нему с участьем, ласково спросив:
«Молви — как сюда попал ты? Кто ты — объяви,
Здесь без помощи лежащий, весь в пыли, в крови?
Кто насилие такое над тобой свершил?
Молви, кто тебя коварством адским сокрушил?»
Хейр сказал: «Земная, с неба ль ты — не знаю я;
Повесть необыкновенна и длинна моя.
Умираю я от жажды; зноем я спален:
Коль не дашь воды — я умер; напоишь — спасен».
И ключом спасенья стала дева для него.
Чистой влагой оживила Хейра естество.
Он, внезапно ободренный, как живую воду,
Воскрешающую мертвых, пил простую воду,
И воспрянул понемногу в нем увядший дух.
Тем был счастлив и случайный мученика друг.
А когда водою чистой дева смыла кровь,
То на раны глаз взглянула; хоть покрыла кровь
Их белки и туз их белый рделся, как порфир, [330] Их белки и туз их белый рделся, как порфир… — Туз — очень прочная кора белого тополя, применявшаяся для обмотки луков. Низам» хочет сказать, что белки Хейра были, на его счастье, крепки, как туз, и оказались лишь рассеченными по поверхности, глазные яблоки же сохранились, глаза не вытекли.
Цел был яблоки глазные облекавший жир.
Склеив ранки глаз поспешно, дева наложила
Чистую на них повязку. Сил еще хватило
У него подняться с места с помощью своей
Избавительницы милой и пойти за ней.
Жалостливая — страдальца за руку взяла
И, поводырем слепому ставши, повела
К месту, где шатер отцовский на холме стоял
Среди пастбища и голых раскаленных скал.
Нянюшке, которой было все доверить можно,
Поручив слепца, сказала: «Няня! Осторожно —
Чтоб ему не стало хуже — гостя доведи
До шатра!» И побежала быстро впереди.
И, войдя в шатер прохладный — к матери своей,
Все, что видела в пустыне, рассказала ей.
Мать воскликнула: «Зачем же ты с собой его
Не взяла? Ведь там загубит зной дневной его!
Здесь же для него нашлось бы средство, может быть,
Мы б несчастному сумели муки облегчить!»
Девушка сказала: «Мама, если не умрет
У порога он, то скоро он сюда придет.
Я его и напоила, и с собой взяла».
Тут в шатер просторный нянька юношу ввела.
Хейр усажен на подушки и обласкан был,
Отдохнул и отдышался, голод утолил.
Жаждой, ранами и зноем изнуренный, он,
Голову склонив, невольно погрузился в сон.
Из степей хозяин прибыл вечером домой,
Необычную увидел вещь перед собой.
Он устал, проголодался долгим жарким днем,
Но при виде раненого желчь вскипела в нем.
Словно мертвый, незнакомец перед ним лежал.
Курд спросил: «Отколь несчастный этот к нам попал?
Где, зачем и кем изранен он так тяжело?»
Хоть никто не знал, что с гостем их произошло,
Но поспешно рассказали, что его нашли
Ослепленного злодейски, одного, вдали
От жилья в пустыне знойной. И сказал тогда
Сострадательный хозяин: «Может быть, беда
Поправима, если целы оболочки глаз.
Дерево одно я видел невдали от нас.
Надо лишь немного листьев с дерева сорвать,
Растереть те листья в ступке, сок из них отжать.
Надо место свежей раны смазать этим соком,
И слепое око снова станет зрячим оком.
Там, где воду нам дающий ключ холодный бьет,—
Чудодейственное это дерево растет.
Освежает мысли сладкий дух его ветвей.
Ствол могучий раздвоился у его корней;
Врозь расходятся широко два ствола его,
Свежие, как платья гурий, листья одного
Возвращают зренье людям, горькой слепотой
Пораженным. А соседний ствол покрыт листвой
Светлой, как вода живая. Он смиряет корчи
У страдающих падучей и хранит от порчи».
Только эту весть от курда дочка услыхала,—
Со слезами на колени пред отцом упала,
Умоляя, чтоб лекарство сделал он скорей.
Тронут был отец мольбами дочери своей;
К дереву пошел и вскоре листьев горсть принес,
Чтоб от глаз любимой дочки воду горьких слез
Отвести, а воду мрака вечного — от глаз
Юноши. И молодая дева в тот же час
Листья сочные со тщаньем в ступке измельчила,
Осторожно, без осадка, сок их отцедила.
Юноше в глаза пустила чудодейный сок.
Крепко чистый повязала на глаза платок.
Тот бальзам страдальцу раны, словно пламя, жег.
Лишь под утро боль утихла, и больной прилег.
Так пять дней бальзам держали на его глазах
И повязку не меняли на его глазах.
И настал снимать повязку час на пятый день.
А когда лекарство смыли с глаз на пятый день,
Видят: чудо! Очи Хейра вновь живыми стали.
Стал безглазый снова зрячим, зорким, как вначале.
С ликованием зеницы юноши раскрылись,
Словно утром два нарцисса свежих распустились.
А давно ль с волом, вертящим жернов, схож он был! [331] А давно ль с волом, вертящим жернов, схож он был! — Волам, вертящим на старинных примитивных мельницах жернова, завязывают глаза.
Горячо хозяев милых он благодарил.
И с мгновенья, как открыл он зрячие зеницы,—
Мать и дочь сердца открыли, но закрыли лица. [332] Мать и дочь сердца открыли, но закрыли лица. — То есть они его полюбили, но закрыли лица покрывалами, ибо он теперь прозрел, мог их видеть, а, по мусульманскому религиозному закону, посторонний мужчина не должен видеть лицо женщины.
Дочка курда полюбила гостя своего
От забот о нем, от страхов многих за него.
Кипарис раскрыл нарциссы вновь рожденных глаз,—
И сокровищница сердца в деве отперлась.
Сострадая, возлюбила юношу она,
А прозрел — и вовсе стала сердцем не вольна.
Гость же для благодарений слов не находил
И за многие заботы деву полюбил.
И хоть никогда не видел он лица ее,
Но пришельцу раскрывалась вся краса ее
В легком шаге, стройном стане и в очах ее,
Блещущих сквозь покрывало, и в речах ее
Сладких — к гостю обращенных… Ласки рук ее
Часто гостю доставались. Новый друг ее
Был прикован к ней могучей властью первой страсти.
Дева — к гостю приковалась, — это ли не счастье?
Что ни утро — Хейр хозяйский покидал порог.
Он заботливо и мудро курда скот берег.
Зверя хищного от стада отгонять умел.
Ввечеру овец несчетных в гурт собрать умел.
Курд, почуяв облегченье от забот, его
Управителем поставил дома своего
И добра. И стал он курдам тем родней родни,
И взялись допытываться в некий день они,
Что с ним было, кем в пустыне был он ослеплен.
И от них не скрыл он правды. Им поведал он
Все — и доброе и злое, с самого начала:
Как у друга покупал он воду за два лала
И о том, как ранил сталью Шерр зеницы глаз,
И, коварно ослепивши, бросил в страшный час
Одного его в пустыне, и, воды не дав,
Скрылся, платье и рубины у него украв.
Честный курд, лишь только повесть эту услыхал,—
Вознеся молитву небу, в прах лицом упал,
Возблагодарив Яздана, что не погубил
Юношу, что цвет весенний в бурю сохранил.
Женщины, узнав, что этот ангелоподобный
Юноша исчадьем ада мучим был так злобно,—
Всей душою привязались к гостю своему.
Слугам дочь не позволяла услужить ему,
А сама у них и яства и кувшин брала,
Воду Хейру подавала, а огонь пила.
И пришлец без колебаний отдал сердце ей,
Ей — которой был обязан жизнью он своей.
И когда он утром в степи стадо угонял,
Вспоминал о ней с любовью, с грустью вспоминал.
Думал он: «Не дружит счастье, вижу я, со мной.
Нет, не станет мне такая девушка женой.
Беден я, она — богата, совершенств полна.
Ей немалая на выкуп надобна казна.
Я — бедняк, из состраданья принят ими в дом…
Как же можно о союзе думать мне таком?
От того, чего я жажду и чему не быть,—
Без чего мне жизнь не радость, — надо уходить».
В размышлениях подобных он провел семь дней.
Как-то вечером пригнал он стадо из степей.
Перед курдом и любимой он своею сел.
Словно нищий перед кладом, перед нею сел,
Словно жаждущий над влагой, жаждущий сильней,
Чем когда лежал, томимый раною своей.
И во всем он им признался. Через брешь его
Сердца — скорбное открылось Хейра существо
Перед курдом. Хейр промолвил: «О гостелюбивый
Друг несчастных и гонимых! Ты рукой счастливой
Оживил мои зеницы, горькой слепотой
Пораженные! Мне снова жизнь дана тобой!
Ел и жажду утолял я с твоего стола,
Жизни чистый хлеб вкушал я с твоего стола.
Осмотри внутри, снаружи осмотри меня:
Кровью всей моей, всей жизнью благодарен я!
Отдарить же я не в силах, — в том моя вина.
Голову мою в подарок хочешь? Вот она!
Мне в беспечности отныне стыдно пребывать
И твоею добротою злоупотреблять.
Ведь за то добро, что здесь я получил от вас,
Неимущий — я не в силах отплатить сейчас.
Может, смилуется вечный надо мною бог:
Даст мне все, чтоб я пред вами долг исполнить мог.
Затоскую, лишь от милых сердце удалю…
Но уволь меня от службы, отпусти, молю!
Много дней, как я оторван от краев родных,
От возможностей немалых и трудов своих.
Завтра поутру собраться я хочу домой…
Хоть от вас и удаляюсь, но всегда душой
Буду с вами я, о ясный свет моих очей!
Я душой прикован к праху у твоих дверей.
Я уйду, но ты из сердца Хейра не гони.
Хоть и буду я далеко, Хейра не вини
За уход! Великодушья разверни крыла,
Чтобы память сожаленьем душу мне не жгла».
Лишь на этом речь окончил юноша свою,—
Будто бы огонь метнул он в курдскую семью.
Все сошлись к нему. Рыданья, стоны поднялись.
Вздохи слышались, и слезы по щекам лились.
Плачет старый курд. Рыдает дочка вслед за ним.
Стали мокрыми глаза их, мозг же стал сухим.
Кончили рыдать, в унынье головы склонив,—
Старый курд сидел в раздумье долгом, молчалив…
Поднял голову с улыбкой. Он, казалось, был
Озарен счастливой мыслью. Он освободил
Свой шатер от посторонних — пастухов и слуг,
И сказал: «О мой разумный, благонравный друг!
Может, прежде чем достигнешь города родного,
Встречными в пустыне будешь ты обижен снова!
Жил ты — окружен заботой, как родной, у нас.
Был, как приведенный небом и судьбой у нас.
Добрый же своих поводьев злу не отдает
И друзей от всяких бедствий зорко бережет.
Дочь одна лишь — дар бесценный бога у меня.
Сам ты знаешь. А богатства много у меня.
Дочь услужлива, любезна, и умна она.
Я солгал бы, коль сказал бы, что дурна она.
Спрятан мускус, но дыханьем внятен для людей,
И чадрой красы не скроешь дочери моей.
Если, друг, ты расположен к нам душой своей,
Сыном стань моим и мужем дочери моей.
Избираю нашей дочке я тебя в мужья.
Чтобы жили вы безбедно, дам богатство я,
И в покое, в ласке, в счастье буду я средь вас
Жить, покамест не наступит мой последний час!»
Только Хейр такое слово курда услыхал,
Радостный, лицом на землю он пред ним упал.
Весело они беседу в полночь завершили.
Разошлись и в благодушье, в мире опочили.
Лишь проснулось утро, словно шахский часовой,
И в степи запела птица, словно золотой
Колокольчик часового, и на трон высокий,
Со счастливым гороскопом, сел султан востока, [333] …сел султан востока… — то есть солнце. Сложное описание его восхода.—
Встал отец добросердечный первым с ложа сна
И устроил все, чем свадьба у людей красна.
Дочь свою с любовью Хейру отдал поутру,
Пир устроил — с Утаридом повенчал Зухру.
Ожил вялый цвет, от жажды умиравший дважды,
И в живой воде нашел он утоленье жажды.
Жаждущему сладкоустый кравчий дал во благо
Влагу слаще и целебней, чем Ковсара влага.
И они в довольстве жили — дружною четой.
И обычай древних чтили — простоты святой.
Старый курд отдает все свои богатства — стада — молодой чете… Пастбища истощились, курдам приходится откочевать. Хейр набирает запас листьев, которые исцелили его глаза, а также листья со второй ветви дерева, исцеляющие от падучей… Хейр с родными приходит в столицу. Дочь падишаха больна — у нее падучая. Шах обещает отдать ее в жены тому, кто ее вылечит. Если же кто возьмется лечить, но не сможет вылечить, тому отрубят голову… Многих врачей шах уже казнил. Хейр жалеет шахскую дочь и решает ее вылечить. Это ему удается, и он получает шахскую дочь в жены. У везира этого шаха дочь слепа. Хейр исцеляет и ее и тоже берет в жены. Два дня он проводит у дочери шаха, день — у дочери везира и три дня у дочери курда… Шах умирает и престол достается Хейру… Как-то раз случайно Хейр видит Шерра. Он велит схватить его и привести к нему в сад. Шерр вынужден во всем сознаться. Он умоляет простить его, ссылаясь на свое имя — «Шерр» — «зло», — которое толкает его на дурные поступки. Хейр, вспоминая, что его имя значит «добро», отпускает его. Но курд — тесть Хейра, который всегда был около него с обнаженным мечом, настигает негодяя и одним ударом сносит ему голову.
И устроилось счастливо все, как Хейр хотел.
И народ благодеянья от него узрел,
Ибо в той стране, где правду властелин хранит,
Делается терн плодами, золотом — гранит
И железо обретает свойства серебра.
Свет зениц живой у Хейра ожил для добра.
Справедливость — нерушимый был закон его,
И стоял неколебимо в мире трон его.
Листья с дерева целенья, что с собой он взял,
Людям страждущим на благо он употреблял.
А порой, коль не хватало вдруг листа ему,
К дивному он отправлялся дереву тому.
Под густой его листвою спешивался он
И степям, его взрастившим, отдавал поклон.
Он сандаловому древу благодарен был,
Одеянье соком древа ярко расцветил.
Все, чем окружал себя он, украшал сандал,
Запахом сандала шахский дом благоухал.
Скорбь любую дух сандала исцелит в тиши.
Есть в дыхании сандала признаки души.
Ты вдохнешь его — и боли головной конец,
Он смиряет лихорадку и огонь сердец».
Так на ломаном персидском языке рассказ
Кончила тюрчанка Чина [334] …тюрчанка Чина… — то есть румийская царевна была прекрасна, как тюрчанка. в полуночный час.
Шах Бахрам ее с любовью обнял, поместил
Внутрь души и от дурного глаза защитил.
Повесть седьмая. Пятница
Иранская царевна
В пятницу, когда светило, вставши из-за гор,
Белым светом озарило ивовый шатер,
Шах — в одежде белой, в блеске белого венца —
Устремил шаги к воротам белого дворца.
В пятом знаке зодиака белая Зухра
Пять поклонов пред Бахрамом отдала с утра.
И покамест не напали Зинджи на Хотан,
Шах счастливый не покинул радостей майдан.
А когда сурьмой небесной сумрак обострил [335] А когда сурьмой небесной сумрак обострил… — Во времена Низами считалось, что сурьма не только украшает глаза, но и обостряет зрение. Здесь сгущающаяся ночная тьма сравнена с черной сурьмой, от которой «глаза неба» — светила, оттененные, стали светить ярче, «свет их глаз усилился», зрение их обострилось.
Взгляд луны прекрасноликой и глаза светил,
Стал Бахрам подругу ночи нежную просить —
Сладостный рубин речений перед ним открыть,
Чтобы эхом, отраженным от дворцовых стен,
Пела повесть, забирая слух и сердце в плен.
И царевна, славословье трону вознеся
И о шахском долголетье небосвод прося,
Прочитав сперва молитву вечному творцу,
Чтобы дал сиянье счастья трону и венцу,
Молвила: «Коль шаху сказка надобна моя,
То — поведать все, что знаю, рада буду я».
Сказка
«Мать моя была душевной доброты полна,
Средь старух была ягненком истинным она.
Чтобы мне не скучно было, помню, как-то днем
Мать моих веселых сверстниц пригласила в дом.
К трапезе она радушно всех их позвала,
Кушаньям — как говорится — не было числа.
Дичь, баранина и с тмином всяческая снедь,—
Перечислить угощений мне и не суметь.
Не припомню я названий лакомств дорогих,
Розовой халвы, миндальной — и сластей других.
Все там было, чем осенний урожай богат —
Яблоки из Исфахана, рейский виноград.
Но о гроздьях и гранатах речь я отложу,
Лучше о гранатогрудых девах расскажу.
Сыты лакомой едою были все давно
И пригубливать устали сладкое вино.
Смех, веселье, разговоры тут пошли у нас.
За смешным рассказом новый следовал рассказ.
Та — про чет, а та про не́чет, — все наперебой…
Каждой рассказать хотелось о себе самой.
Очередь до среброгрудой девушки дошла,
Хороша она, как сахар с молоком, была.
Лишь она заговорила — птичий хор в саду
Смолк и рыбки золотые замерли в пруду.
Упоительный открыла слов она родник,
А язык ее рассказа — был любви язык.
Нас она повеселила повестью такой:
«Жил-был юноша — любезен и хорош собой.
Юному Исе в науках был подобен он,
Как Юсуф, был светел сердцем и беззлобен он.
Люди знанья за ученость славили его,
Верующие примером ставили его.
Сад был у него — прекрасный, как Ирема сад,
Амброю благоухавший, радовавший взгляд.
В нем рождались, раскрывались райский плод и цвет,
Шла молва, что им подобных в целом мире нет.
Все сердца тянуло в этот лучший из садов,
Где росли и расцветали розы без шипов.
Если поискать, — конечно — шип один нашли б,
Но защитою от сглаза вырос этот шип.
Под тенистыми ветвями там ручьи текли.
Там нарциссы над ручьями, лилии цвели.
Этот сад благоуханный с четырех сторон
Был высокою стеною крепко огражден.
Окружил свой сад хозяин глиняной стеной,
Чтобы в тень его проникнуть глаз не мог дурной.
Не один богач о саде сказочном вздыхал
И завистливые взгляды издали бросал.
Юноша хозяин часто заходил в свой сад —
Отдохнуть от шума, зноя городского рад.
Подрезал он кипарисы и сажал жасмин,
Мускус смешивал и амбру сада властелин.
На лужайках сам фиалки сеял он весной,
Новые сажал нарциссы там он над водой.
Проводил в саду хозяин целый день порой
И лишь поздно возвращался вечером домой.
Вот однажды ранним утром в сад он свой пошел,
Изнутри калитку сада запертой нашел.
Но в саду своем он звуки чанга услыхал,
Хоть вчера к себе он в гости никого не звал.
Песни радости услышал он в саду своем,—
Веселились, и смеялись, и играли в нем.
Множество в саду звучало женских голосов,
Изнутри закрыты были двери на засов.
Горожанки молодые, видно, здесь сошлись;
Знать, они в его владенья с ночи забрались.
Наконец не стало силы у него терпеть.
Ключ забыл, как видно, дома, — нечем отпереть.
В двери, стража вызвать силясь, он стучал и звал.
Гости — слышно, веселились, а садовник спал.
Вкруг стены своей высокой юноша пошел,
Трещину в углу дувала ветхого нашел.
И, увидев, что не может он войти в свой дом,
В собственной своей ограде выломал пролом.
Так забрался потихоньку в сад и, осмотрясь,
Словно вор, в своих владеньях он пошел таясь.
Чтоб увидеть, что за гости у него гостят,
И проведать, что за повод был для входа в сад,
Чтоб разведать потихоньку, что за шум в саду,—
Не попал ли уж садовник-старичок в беду?
Среди этих — озарявших сад его — цветов,
Наполнявших свод зеленый звоном голосов,
Были две жасминогрудых, привлекавших взгляд,
Вдоль стены они ходили, охраняя сад.
Чтоб не перелез ограду дерзкий кто-нибудь
И не мог луноподобных гурий тех спугнуть.
Только он вошел в пределы сада своего
Эти девушки за вора приняли его.
Палками его избили; на землю потом
Повалив, его связали крепким кушаком.
По незнанью — в преступленье ими обвинен,—
Был избит, и исцарапан, и унижен он.
Девушки, связав беднягу, перестали бить,—
Но зато его словами начали казнить:
«Был бы всяк твоим поступком дерзким возмущен!
Нет хозяина на месте! Жаль — в отлучке он!
Если дерзкий вор посмеет брешь пробить в стене,
То садовник властен вора наказать вдвойне!
Ты немного поцарапан. В цепи заковать
Надо бы тебя, негодный, и властям предать.
Ах ты, вор, сломавший стену! — не уйдешь теперь!
Если бы ты вором не был, ты вошел бы в дверь!»
А хозяин им ответил: «Этот сад — мой сад.
Я захлебываюсь дымом — от своих лампад.
Как лиса, в дыру пролез я… И к чему слова,—
Вход сюда открыт всегда мне шире пасти льва.
Если кто в свои владенья входит воровски —
Упустить их быстро может из своей руки».
Сильно девушки смутились. Все же — им пришлось
О приметах разных сада повести расспрос.
Верно он на все ответил. Повиниться им
Приходилось. И осталось помириться им.
Девушки владельца сада впрямь признали в нем,
Он красив был, юн, любезен и блистал умом.
Если женщина такого видит, ты ее
Не удержишь, откажись ты лучше от нее.
И по духу был им близок и приятен он,
Был от плена тут же ими он освобожден,
Живо крепкий развязали шелковый кушак,
Всхлипывая — извини, мол, если что не так…
Умоляя, чтоб хозяин юный их простил,
Расторопность проявили и великий пыл.
Чтобы гнев он свой на милость к ним сменил вполне,
Принялись пролом поспешно затыкать в стене.
В щель терновник набивали, камни и тростник,
Чтобы вор и впрямь в ограду сада не проник.
И, в смущении краснея, к юноше пришли,
В оправдание — рассказы длинно завели:
«Так хорош твой сад, что в мире все затмит сады,—
Пусть обильны будут сада этого плоды!
Молодые горожанки — ото всех тайком —
Полюбили собираться тут — в саду твоем.
Все красавицы, чья прелесть славится у нас,
Луноликие — утеха и отрада глаз,
Как светильник, полный ярких недымящих свеч,—
Очень любят это место наших тайных встреч.
Ты простишь ли нас, что были мы с тобой дерзки
И что воды возмутили чистые реки?
Но сейчас ты на красавиц наших поглядишь
И с любой желанье сердца нынче утолишь.
В этот час они все вместе, верно, собрались.
Так — скорее к ним, смелее с нами устремись!
И которая из гурий взгляд твой привлечет,
Укажи нам, чтобы нёчет превратился в чет;
Только скажем мы два слова — и придет она,
И к ногам твоим покорно упадет она!»
Услыхал хозяин речи эти, и огнем,
Пробудившись, вожделенье запылало в нем.
Страсть его природе чистой не чужда была,
Целомудрия преграду вмиг она смела.
Набожность его кипящий затопил поток,
Близость женщин он спокойно вынести не мог.
И путем надежды страстной, как на яркий свет,
Он пошел жасминогрудым девушкам вослед.
Склонностью к красавцу были полны их сердца,
Довести они решили дело до конца.
Там в тени ветвей беседка старая была,
И тропинка их — к беседке прямо привела.
Девушки ему шепнули: «Малость посиди,
Притаись в беседке этой, в щелку погляди!..»
И ушли они. В беседку юноша вошел
И в стене ее отверстье малое нашел.
Живо к этому отверстью глазом он приник
И красавиц юных в сборе увидал цветник.
Шумное у них веселье вскоре началось,
Осыпать пошли друг друга лепестками роз.
Пред беседкою лужайка свежая была.
Ту зеленую лужайку роща стерегла.
Мраморный там красовался полный водоем,
Райский водоем Ковсара был его рабом.
Наполняем был он чистым, звонким ручейком,
Рыбки стаями играли и плескались в нем.
А вокруг того бассейна лилии росли,
И нарциссы и жасмины белые цвели.
Девушки, к воде склоняясь, в зеркале ее
Отраженье увидали среди рыб свое.
Их, как солнце, отражала чистая вода,
Их купаться привлекала чистая вода.
Весело они одежды начали снимать,
Пояса свои на бедрах стали распускать.
И разделись все, и в блеске наготы своей,
Словно жемчуг, погрузились в воду до грудей.
Сребротелые плескались радостной толпой,
Тела серебро скрывая темною водой.
Будто луны к Рыбе, в волны шумные вошли.
От Луны до Рыбы волны шумные пошли.
От бросающей дирхемы на воду луны,
Убегая, рыба темной ищет глубины.
Ну, а к светлым лунам этим, что играли всласть,
Рыба юноши, как в сети, и сама рвалась.
Целый день они плескались, за руки схватясь,
Над жасмином белоснежным белизной смеясь.
Шло вовсю у них веселье. Ты уж сам взгляни,
Как ладейки из гранатов делают они.
Та — Змея! Змея! — кричала, косы распустя,
И подруг своих пугала этим, не шутя.
Из беседки на купальщиц юноша смотрел,
Трепетал от нетерпенья он и весь горел,
Был как жаждущий, что воду видит пред собой,
Да не может дотянуться до нее рукой;
Трепетал он весь, не в силах дрожи превозмочь,
Как страдающий падучей в новолунья ночь.
Накупавшись, вышли девы, словно из шелков
Темно-пурпурных жасмины — на ковер цветов.
И в сияющий воздушный шелк облачены —
Шум затеяли и хохот, слышный до луны.
Видел он: средь них задорней всех одна была —
Весела, лицом румийским розово-смугла,
Всякому, кто в эти чары попадал, как в сеть,
Овладеть хотелось ею или умереть.
И таким гореть лукавством взгляд ее умел,
Что терял свой ум разумный, трезвенник пьянел.
Был пленен хозяин юной красотой луны —
Больше, чем огнем индийцы в храмах пленены [336] …огнем индийцы в храмах пленены. — См. сноску 300..
От души его преграды веры отошли…
Праведник, кляни неверье! Верных восхвали!
Через час те девы-стражи вновь пришли вдвоем,
Быстрые, любовным сами полные огнем.
Не сошел еще хозяин с места своего,
Девы стали, как хаджибы, спрашивать его:
«О хаджа! Из тех красавиц, что ты видел здесь,
Опиши скорей — какую нам к тебе привесть?»
Юноша словами живо им нарисовал
Ту, чей облик так в нем сильно сердце взволновал.
Только молвил, те вскочили и расстались с ним,
Уподобясь не газелям, а тигрицам злым.
И в саду неподалеку вмиг нашли ее,
Лаской, хитростью, угрозой привели ее.
Ни одна душа их тайны не могла узнать;
А узнала бы, так, верно б, ей несдобровать.
Привели луну в беседку — и смотри теперь —
Чудо: заперли снаружи на щеколду дверь…
А настроили сначала, словно чанг, на лад
Эту пери, что хозяйский так пленила взгляд.
Рассказали по дороге девы обо всем —
О хозяине прекрасном, добром, молодом.
И, не видевши ни разу юношу, она
Уж была в него — заочно — страстно влюблена.
А взглянула — видит: лучше, чем в рассказе, он;
Видит — золото. В рассказе был он посребрен.
Юношу лишил терпенья, жег любовный пыл.
Он со стройным кипарисом в разговор вступил.
«Как зовут тебя?» — спросил он. «Счастье», — та в ответ.
«Молви, пери, чем полна ты?» — «Страстью!» — та в ответ.
«Кто красу твою взлелеял?» Отвечала: «Свет!»
«Глаз дурной да не-коснется нас с тобою!» — «Нет!»
«Чем ты скрыта?» — «Ладом саза», — девушка сказала.
«В чем твое очарованье?» — «В неге», — отвечала.
«Поцелуемся?» — спросил он. «Шесть десятков раз!»
«Не пора ли уж?» — спросил он. «Да, пора сейчас!»
«Будешь ли моей?» — «Конечно!» — молвила она.
«Скоро ль?» — «Скоро», — отвечала юная луна.
Дальше сдерживать желанье не имел он сил.
Скромность он свою утратил, стыд свой погасил.
Как она свой чанг, за кудри гурию он взял.
Обнял стан ее и к сердцу горячо прижал.
Целовать он начал страстно сладкие уста —
Раз, и десять раз, и двадцать, и еще до ста.
Поцелуи распалили вожделенье в нем,
Запылала пуще жажда наслажденья в нем.
Он целебного напитка захотел испить,
Он живой воды в потоке захотел добыть.
Скажешь ты, что на онагра черный лев напал,
Всеми лапами онагра мощными подмял.
Но беседка эта ветхой, дряхлою была
И под тяжестью двойною трещину дала.
И обрушилась внезапно, с треском развалясь.
Так не кончилось их дело дурно в этот раз.
Он раскаянья избегнул, хоть и был смущен.
Прянула она направо, а налево — он.
Чтобы люди их увидеть вместе не могли,
Вмиг они разъединились, в стороны ушли.
Скрылся юноша в чащобе лиственных купин;
Тосковал он и томился горько там один.
И к подругам воротилась тюркская луна,
Хмуря брови, сожалений искренних полна.
Музыкантшей и певицей девушка была;
Села грустная — и в руки чанг она взяла.
И из струн исторгла звуки. И у ней сама
Песнь сложилась, что влюбленных свесть могла б с ума:
«Пусть поет, рыдает чанга моего струна
Всем, кто болен тем недугом, чем и я больна.
Кто влюблен, тот в сердце носит тягостный недуг,
Я полна неразделенных сокровенных мук.
О, доколь скрывать я стану жгучую любовь?
«Горе!» — я взываю. «Горе!» — повторяю вновь,
Разума меня лишает, мучит страсть меня.
Плачу от сжигающего грудь мою огня.
Хоть влюбленных презирает гневный небосвод,
Но и мысль о покаянье в сердце не придет.
Грех раскаиваться в сильной, искренней любви!
Не вольна я больше в сердце, не вольна в крови.
Любящий своей душою здесь не дорожит.
И влюбленных в этом мире гибель не страшит!»
Так она в печальной песне, сетуя судьбе,
Всю невольно разболтала правду о себе.
Те два перла, что держали нить в своих руках,
Смысл сокрытый понимали в песнях и стихах.
Поняли они, что грустен юноши удел,
Что меж ними там разлуки ветер пролетел.
И они нашли Юсуфа бедного того,—
Словно Зулейха, вцепились вновь они в него.
Повели они расспросы, — что произошло?..
Рассказал он все, как было. Горе их взяло,
Что расставленные ими сети порвались.
И налаживать все дело вновь они взялись.
«Ночевать в саду придется нам сегодня всем.
Мы займемся лишь тобою, более — ничем.
А придумать уж сумеем повод мы любой,—
Никого мы не отпустим ночевать домой.
И наедине ты будешь вновь с луной своей.
И бери в свои объятья ты ее смелей!
Обнаруживает белый день дела людей,—
Все скрывает ночь завесой темною своей».
Так сказали и расстались эти девы с ним.
И скорей пошли к подругам молодым своим.
Только ночь куницей черной скрыла наконец
Вечер — красный, как буртасский шелковый багрец,
Только солнца гвоздь укрылся за чертой степей
И зажглась кольчуга ночи тысячей гвоздей,
Исполняя обещанье, девы те пришли
И хозяину тюрчанку-пери привели.
Тополь жаждущие корни окунул в волну,
Солнце знойное настигло робкую луну.
Рядом — гурия, и больше никого кругом,—
Тут пещерный бы отшельник согрешил тайком!
Юношу любовь палящим вихрем обвила,
От желания в кипенье кровь его пришла.
То, о чем не подобает разговор вести,
Говорю тебе, читатель; бог меня прости.
С нею он свое желанье утолить хотел,
Он жемчужину рубином просверлить хотел.
Кошка дикая по ветке кралась той порой,
Наблюдая за мышиной земляной норой.
Кошка прыгнула и с шумом вниз оборвалась,
А влюбленным показалось, что беда стряслась,
Что неведомым несчастьем угрожает ночь…
И, вскочив, они в смятенье убежали прочь.
Бросили они друг друга, шума устрашась.
Посмотри: опять лепешка их недопеклась.
Грустная — к своим подругам девушка пришла,
Полная тоски сердечной, чанг она взяла
И запела песню, струны трогая рукой:
«Снег растаял. Аргаваны расцвели весной.
Горделиво стан свой поднял стройный кипарис,
И со смехом вкруг ограды розы обвились.
Соловей запел. Веселья вспыхнули огни,
И базара наслаждений наступили дни.
И садовник сад украсил, радующий взгляд.
И державный шах явился, осмотрел свой сад.
Чашу взяв, вина из чаши он испить решил.
Но упал внезапно камень, чашу ту разбил.
О, ограбивший мне сердце! Множишь только ты
Муки сердца. Дать мне радость можешь только ты.
Я стыжусь тебе признаться, как терзаюсь я.
Сердце без тебя уныло, жизнь темна моя!»
Знающие тайну лада этих грустных слов
Тайну пери вновь узнали из ее стихов.
И печалясь и вздыхая, двинулись опять
Эти девы в чащу сада — юношу искать.
Словно вор, укравший масло [337] Словно вор, укравший масло… — Очевидно, намек на какой-то широко известный во времена Низами анекдот. В оригинале: «Как рабы, которые украли масло и по дороге наняли за деньги комнату». Смысл бейта: юноша спрятался, уединился., горем удручен,
Возле брошенной сторожки притаился он.
Там, где ивы нависали низко над ручьем,
Он лежал в глубокой муке, наземь пав лицом.
Еле-еле отозвался он на голос их,
Пораженный этим градом неудач своих.
Две наперсницы в тревоге повели расспрос,
И в досаде были обе чуть ли не до слез.
Но подумали: «Не поздно! Еще длится ночь…»
И пошли, чтобы влюбленным в деле их помочь.
Успокоили подругу, что, мол, нет беды…
И цветку послали кубок розовой воды.
Вот к возлюбленному пери та явилась вновь,
В ней еще сильней горела к юноше любовь.
За руку ее хозяин, крепко взяв, повел
В чащу сада и глухое место там нашел,
Где был густо крепких сучьев свод переплетен,
Будто на ветвях деревьев был поставлен трон.
Он красавицу в укромный этот уголок,
Нетерпением пылая, как в шатер, увлек.
Пышную траву, как ложе, для нее примял,
И, горя восторгом, к сердцу милую прижал.
Как жасмин — на саманидских шелковых коврах —
Наконец была тюрчанка у него в руках.
Вновь он вместе был с прекрасной девой молодой.
Млея, роза истекала розовой водой.
Наконец была в объятьях у него луна.
Он ласкал ее. В обоих страсть была сильна.
Быстро кости продвигал он, клетки захватил,
Он соперницу, казалось, в нардах победил.
Миг один ему остался — крепость сокрушить
И бушующее пламя влагой потушить.
Полевая мышь на ветке, возле ложа их,
Подбиралась осторожно к связке тыкв сухих,
Что на дереве подвесил садовод-старик.
Мышь веревку этой связки перегрызла вмиг.
На землю упала связка; раскатясь кругом,
Загремели тыквы, словно барабанный гром,
Будто грянул отступленья грозный барабан.
На ноги вскочил хозяин, страхом обуян.
С грохотом вторая связка наземь сорвалась —
И опять газель от барса вихрем унеслась.
А хозяин думал: «Стража в барабаны бьет,
Мухтасиб, стуча в литавры, с гирями идет…»
Бросив туфли, он в смятенье — тоже наутек.
Где бы спрятаться, искал он в чаще уголок.
Задыхаясь от испуга, трепеща, бледна,
К двум подругам прибежала бедная луна.
Время некое молчала; дух перевела,
В руки чанг взяла, завесу тайны подняла.
Так запела: «Я слыхала, смущена душой,
Что влюбленный повстречался с девой молодой.
Он желанного добиться от нее хотел,
Знойною объят любовью, жаром изомлел.
К сердцу юную турчанку он хотел прижать,—
Жаждет кипарис весною лилию лобзать.
К сладостным гранатам устремился он,
И под лиственною сенью с ней укрылся он;
Чтоб жемчужницей, хранящей жемчуг, овладеть,
Чтоб сокровищницы тайной дверцу отпереть.
Иву красную прозрачной кровью оросить,
И халву на чистом блюде с сахаром смесить,
Вдруг внезапная тревога, грохот, стук и гром…
Облетел цветник в осеннем ветре ледяном.
По цветку в тоске остался робкий мотылек,
Снова — жаждой истомленный от воды далек.
Почему в неверном ладе песню ты ведешь,
И когда же строй для чанга правильный найдешь?
Только я бы строй с тобою правильный нашла,
Как струна с другой струною, петь ты начала!»
Только свой напев пропела пери, в тот же миг
Быстрый ум ее наперсниц правду всю постиг.
Снова обе побежали юношу искать.
Чтоб исправить и наладить их дела опять.
Пристыжен и перепуган, — где-то под кустом,—
С вытянутыми ногами он лежал ничком.
Девы ласково беднягу подняли с земли
И расспросы осторожно, мягко повели.
Он ответил, что ни в чем он тут не виноват,
Что холодный адский ветер вторгся, видно, в сад…
А наперсницы, воскликнув: «Это ничего!» —
Все рассеяли сомненья в сердце у него.
Развязали этот узел живо. И — гляди —
Ожила опять надежда у него в груди.
В поучение сказали: «Опыт свой яви!
И настойчивее надо быть в делах любви!
Выбери побезопасней место для гнезда,
Чтоб напасть не прилетела новая туда.
Зорко вас теперь мы сами будем охранять.
Тут на подступах, как стражи, будем мы стоять».
И к подруге воротились, и опять взялись
Уговаривать прекрасный, стройный кипарис.
Чтоб она набег свой тюркский совершила вновь,
Чтоб пошла и подарила юноше любовь.
И пошла она, всем сердцем юношу любя.
Увидав ее, хозяин позабыл себя.
Он за локоны, как пьяный, ухватил ее.
В угол сада потаенный потащил ее.
Там укромная пещера вырыта была,—
Куполом над ней сплетаясь, жимолость росла.
И жасмины поднимали знамя над стеной.
Сверху — заросль, а под нею — вход пещеры той.
Места лучшего хозяин больше не искал;
Местом действия пещеру эту он избрал.
Разорвав густую заросль, путь он проложил
И красавицу проворно за собой втащил.
Расстегнул на ней он платье, позабыв про стыд.
Расстегнул и то — о чем мой скромный стих молчит,
Обнял эту роз охапку, все преграды смел…
И уверенной рукою приступ свой повел.
Палочка не окунулась в баночку с сурьмой,
А уж свод горбатый новой занялся игрой;
Несколько лисиц в пещере пряталось на дне,
Чтобы, позже на охоту выйти при луне.
Выследил их волк свирепый: голоден он был.
А на этих лис давненько зубы зверь точил.
В этот миг, прокравшись к лисам, начал он их рвать.
Лисы в ужасе от волка бросились бежать,
Выскочили из пещеры. Волк за ними вслед,
Прямо по чете счастливой, здесь не ждавшей бед.
Рухнул столп любви хозяйской. Рать увидел он,
На ноги вскочил, рычаньем, лаем оглушен.
Весь в земле, в пыли, метался он по сторонам.
Что в его саду случилось — то не ведал сам;
В ужасе не понимая, что ему начать,
Где спастись теперь, не зная — и куда бежать.
Девы, что взялись усердно помогать ему,
Что от всей души хотели счастье дать ему,
Что стояли, словно стражи, на его пути,
Милую его схватили, не дали уйти.
«Что за подлые уловки? — ей они кричат.—
Ах ты этакая! Бесы, что ль, в тебе сидят?
Долго ли еще ты будешь этак с ним шутить?
Иль по злобе хочешь вовсе в нем любовь убить?
Да ведь даже с незнакомым так шутить нельзя!
А тебе, злодейка, это извинить нельзя.
На какие ты уловки хитрые пошла,
Сколько раз его ты за ночь нынче прогнала?»
Та клялась, что невиновна, начала рыдать.
Но подруги не хотели клятвам тем внимать.
Услыхал хозяин звуки гневных голосов,
Подоспел — свечу увидел между двух щипцов.
Их упреки и угрозы услыхал хаджа,
На лице любимой слезы увидал хаджа.
«Стойте! — крикнул он. — Не смейте больше обижать
Ту, что нужно, как ребенка, нежно утешать.
Берегитесь вы и знайте — нет на ней вины,
Но дела судьбы и в малом кознями полны.
Как ни ловок муж проворный на пути земном,
Но всегда пребудет неба вечного рабом.
И сегодня нам не дьявол, а пречистый бог
Помешал и удержаться от греха помог.
Нам препятствия решило небо возвести,
И несчастью преградило все оно пути.
Тот, кого с дороги правды див не совратит,
Сердцем чист. А чистый сердцем зла не совершит.
Кто к греховному привязан от рожденья, тот
Стороною от дороги праведных идет.
Эту пери был бы каждый в жены взять счастлив.
Поступать нечестно с нею мог бы только див.
И неужто эту деву может оскорбить
Тот, кто мужествен, способен искренне любить!
По пути греха не может верный муж пойти,
Если встанет добродетель на его пути.
Если яблоню весною сглазит глаз дурной,
То никто плодов не вкусит с яблони такой.
Твари здесь на нас смотрели сотней тысяч глаз,
И поэтому не вышло ничего у нас.
Что прошло, — пускай. Не будем плохо поминать.
В том же, что осталось, должен честь я сохранять.
Клятвой тайною и явной здесь поклялся я,
Перед небом и землею обещался я:
Если ночь благополучно наконец пройдет
И охотницу добычей дичь сама возьмет,—
То отныне я пред богом обручаюсь с ней
И по всем законам брака сочетаюсь с ней».
Девушки его речами были смущены,
Набожностью столь примерной были сражены.
Две сообщницы склонились перед ним главой,
Восклицая: «Слава чистой совести такой,
Что посеяла благие в сердце семена,
Что дурному совершиться не дала она!
О, как много мнимых тягот видим мы кругом,
Что нежданно озаряют счастьем и добром!
О, как часто от несчастий человек храним
Тем, что горько называл он бедствием своим!»
А когда светильник мира над горами встал
И сияньем с горизонта глаз дурной прогнал,—
Астролябии рассвета стрелка замерла
И столпы небес паучьей сетью оплела,—
С ярким факелом в деснице ветер прискакал,
И хозяина из сада в город он умчал.
От непрошеных помощниц тех освобожден,
Вновь султана знамя поднял по-хозяйски он.
Но вчерашней ночи пламя тлеющим костром
Вспыхивало — и сильнее пламенело в нем.
В городской свой дом вернувшись, слово он сдержал.
Цели он своей немедля добиваться стал.
С той ночной луною браком сочетался он,
Уплатил калым достойный, как велит закон.
Он счастливцем был, что воду чистую открыл,
И в дозволенное время сам ее испил.
Он нашел родник, как солнце чистый, — в нем — добро,—
Как жасмин чистейший, белый, словно серебро.
Происходит свет прекрасный дня — от белизны.
И от белизны небесной светел блеск луны.
Чистых нет цветов. С изъяном каждый в мире цвет,
Кроме белого, — в одном лишь в нем изъянов нет.
Все, что чистотой блистает, все, что запятнать
Невозможно, мы привыкли «белым» называть.
И в часы служений богу, перед алтарем
Вечного, мы в одеянье белом предстаем».
А когда жасминогрудой пери смолкла речь,
Шах Бахрам ее в объятья поспешил привлечь.
И таких ночей счастливых много славный шах,
Веселясь, провел в прекрасных тех семи дворцах.
И его высокий этот свод благословил,
И семи небес ворота перед ним раскрыл.
Xaкaн Чина вторично выступает против Бахрама
Наступает прекрасная весна. Бахрам пирует в шатре. Прибывает гонец. Он сообщает, что хакан Чина снова коварно напал на Иран. Бахрам, проводивший время среди пиров и охот, так поражен этой неожиданной бедой, что дает обет больше никогда не пить вина… Оказывается, что войска у Бахрама нет, а казна пуста и собрать войско не на что. Злобный и лживый везир Раст-Раушан давно уже получил от Бахрама полномочия на ведение всех дел. Он жестоко обирает народ, обогащаясь сам. Все население страны давно разорено, зато расплодилась тьма чиновников-тунеядцев. Бахрам ничего не знает о действиях везира, но подозревает что-то неладное. Узнав о том, что войска нет, казна пуста и страна разорена, он начинает искать «корень разоренья». Но все молчат или лгут, все боятся жестокого везира. Бахрам пребывает в тяжком раздумье.
Бахрам и пастух
Чтобы хоть немного развеять тяжкие думы, Бахрам едет охотиться на онагров. Отбившись от своих спутников, измученный жаждой, он подъезжает далеко в горах к шатру пастуха. Около шатра, к своему удивлению, он видит «казненного», повешенного на дереве большого пса… Пастух угощает Бахрама. Шах спрашивает пастуха, за что тот повесил пса. Пастух рассказывает, что пес долгое время был прекрасным сторожем, все овцы были целы, но вдруг стадо начало понемногу таять. Пропадало потом уже в день до десяти овец. Когда их осталось совсем мало, явился сборщик налогов, и пастух был окончательно разорен. В горе он лежал как-то ночью без сна и увидел, что его пес снюхался с волчицей, блудит с ней и разрешает ей беспрепятственно таскать овец из стада. Тогда он казнил коварного пса… Бахрам понимает аллегорию: овцы — подданные, он — пастух, везир — пес, — и спешит в город. Возвратившись, он требует список заключенных в тюрьме. Он разбирает их дела и убеждается в дичайших беззакониях, творившихся от его имени. Он решает схватить везира и устроить над ним публичный суд.
Бахрам велит схватить везира-насильника
Лишь свернула ночь подстилку темную свою
И опять зарей блеснуло утро бытию,
И, как Сам — одним ударом острых двух мечей, [338] И как Сам — одним ударом острых двух мечей… — Сам — богатырь из иранской области Систан, дед Рустама, легендарный герой «Шах-наме» Фирдоуси. Он поразил одним ударом двух мечей огромного дракона, за что получил прозвание «Сам одного удара».
Солнце дня луну сразило блеском двух лучей,—
Прямо под открытым небом шах Бахрам воссел,
И вельмож, пред всем народом, он созвать велел.
Все пришли, кого князьями величал Иран,
Выстроились перед троном, соблюдая сан.
С гордым видом из чертога вышел Раст-Раушан,
Подошел к царю он дерзко, не сгибая стан.
Грозным взглядом, полным гнева, шах пронзил его,
Крикнул так, что скажешь: криком он убил его.
«Подлый раб! Ирана землю окровавил ты!
Разорил народ мой, царство обесславил ты!
Ты богатствами вселенной свой подвал набил,
А заветные богатства шахов истребил!
Вор! Тобою даже войско все разорено!
Снаряжение могучих ратей — где оно?
Подданных моих ограбил, жизнь ты их сгубил,
Кровью слуг моих примерных ноги обагрил!
Вместо податей законных все ты отбирал,
Пояса, венцы бесчестно с избранных снимал.
Ты забыл, видать, о щедрой милости моей!
Не меня — своих поступков постыдись, злодей!
«Жадность хуже, чем безбожье» — вера говорит.
Но давно забыл ты бога, веру, честь и стыд!
Если бы благодеянья шаха помнил ты,
Большей бы достиг ты чести, большей высоты.
По твоей вине терплю я ныне гнев небес,
Правда при тебе погибла, свет добра исчез.
Войско и казну сгубил ты! Ныне, в дни войны,
У меня — ни войск на месте, ни моей казны!
Неужель, злодей, ты думал, что, мол, за вином,
Обо всем забыв, владыка спит беспечным сном?
Думал: раз я пьян, ты можешь царство истребить?
Думал древнего Ирана корни подрубить?
Мол, Бахрам забыл о брани на своих пирах…
И что пусть, мол, он скорее превратится в прах?
Если я и забывался прежде за вином,
Я не забывал о вечном небе голубом!»
Сотню обручей железных словом шах ковал
И на шею Раст-Раушану тяжко налагал.
Как злодея, он везира приказал схватить
И в узилище из рая, словно в ад, тащить.
Чтоб связать везира, сняли у него тюрбан,
Потащили, заковали, бросили в зиндан.
Ноги у него — в колодках, руки же — в цепях,
Так злодей с вершин гордыни свергнут был во прах.
Тут глашатаев повсюду шах послать велел
И глашатаям повсюду выкликать велел:
«Все, кто пострадал по воле злого судии,
Пусть приносят прямо к шаху жалобы свои!»
Толпами, услышав это, воины пришли,
Жалобы на все обиды шаху принесли.
Шах затем пошел в зинданы, в тюрьмы из дворца,—
В ад, где кровью обливались скорбные сердца.
И рассказ он заточенным повелел вести —
В чем виновны, чтоб к цепям их ключ скорей найти.
Больше тысячи их было, в тюрьмы без вины
Брошенных. Все были тут же освобождены.
Из числа их шах великий выбрал семерых —
И расспрашивал отдельно каждого из них.
Каждого спросил он: «Молви, правды не тая:
Ты откуда? Чей ты родом? В чем вина твоя?»
Жалоба первого узника
Первый узник молвил кротко: «Царь мой пусть живет,
Пусть врагов его раздавит мстящий небосвод!
Раст-Раушан безвинно брата моего схватил,
Истязаньями замучил, пытками убил.
Все имущество, богатство, землю и стада,
Что осталось после брата, взял он без суда.
Люди все вокруг жалели брата моего,
Жизнь загубленную, юность, красоту его.
Стал я жаловаться судьям, громко стал вопить,
Но везир велел за это и меня схватить.
Он сказал: «Твой брат негодный другом был врагов,
Смуту сеял он. Я вижу, что и ты таков!»
И меня в темницу бросить он велел. Потом
Приказал своим подручным мой ограбить дом.
Руки твой везир и ноги в цепи мне забил,
И в цепях я, как в могилу, в яму брошен был.
Брат мой умер, страшных пыток вынесть он не мог,
Я же был лишен бессудно рук своих и ног.
Целый год я протомился в темной яме той,
Но опять надежду жизни лик мне дарит твой».
Так о Раст-Раушане правду услыхал Бахрам,
Внял он, полный состраданья, узника словам.
Все вернул ему, что изверг лютый отобрал,
От себя ему за брата щедрый выкуп дал.
Сердце узника от страха он освободил,
Жизнь ему вернул, достаток прежний возвратил.
Жалоба второго узника
У этого узника был прекрасный сад, который понравился Раст-Раушану. Везир пожелал купить его, но владелец отказался. Тогда он отнял сад силой и заключил владельца в тюрьму, чтобы тот не жаловался.
Жалоба третьего узника
Он был купцом, плавал по морям, торговал. Как-то он привез в столицу продавать дивный жемчуг. Везиру жемчуг понравился, он взял его, но денег не заплатил. Когда купец попытался искать правды, его бросили в тюрьму.
Жалоба четвертого узника
Он был музыкантом. У него была красивая возлюбленная, певица. Везир забрал ее себе. Когда музыкант попытался увидеться с ней, его схватили и заключили в тюрьму.
Жалоба пятого узника
Пятый молвил: «О владыка мира, чей шатер,
Над землей четыре гордых купола простер!
Я — правитель пограничной области твоей,
Верный раб твой; я покорен был царю царей.
Я о пользе государства думал, о мой шах,
Серьги верности владыке у меня в ушах.
Благосклонность и величье шаха и Яздан
Даровали мне богатство, достоянье, сан.
И, молясь, чтоб долголетьем шах был одарен,
Был я в милостыне щедрым, как велит закон.
Раздавал я бедным людям хлеб и серебро,
Ради счастья падишаха делал я добро.
Люди радовались, если в город я въезжал,
Мудрецов, мужей науки в круг я собирал.
Благоденствием и счастьем одарен я был,
И другим я часть достатка раздавать решил.
Серебром дарил я бедных вдов, сирот, детей;
Не было людей голодных в области моей.
Помощи, бывало, просят — помощь я даю,
Падающему я руку простирал свою.
Если кто-либо, бывало, попадет в беду —
Я спасать его немедля с помощью иду.
Край богат был. Получал я много податей.
Раздавал я много, тратил много на гостей.
Я сводил доход с расходом, в счете был не плох.
Был народ простой доволен, был доволен бог.
А когда везир твой первый услыхал о том,
В гневе он котел насилья вскипятил ключом.
Взял меня под стражу, власти он лишил меня,
Мира, и добра, и счастья он лишил меня.
Он сказал: «Не сам богатства собираешь ты,
Государственные средства расточаешь ты!
Или ты алхимик тайный? Ибо ты богат
Непомерно! Иль огромный отыскал ты клад?
Овладеть твоим богатством скрытым должен я,
Сам отдай, не то отскочит голова твоя!»
И забрал себе он силой все, чем я владел;
Думал, что я клад скрываю, взять меня велел.
Истязал меня жестоко, истомил меня
И в цепях, в тюрьме подземной позабыл меня.
Так — с семьей, с детьми в разлуке — вот уже пять лет
Я томлюсь; не выйти, думал, больше мне на свет».
Шах вернул ему богатство, одарил его,
В область прежнюю к правленью возвратил его.
Жалоба шестого узника
Был тогда шестой к Бахраму узник приведен,
От темницы, как от хмеля, вдруг очнулся он.
Он, произнеся молитву, пал лицом во прах:
«О пекущийся о бедных, милосердный шах!
Курд я родом, и от знатных я происхожу,
С юности своей тебе я воином служу.
И в твоих походах прежде я с тобой ходил,
Мой отец в войсках у шаха старого служил.
Как мои служили предки в прежние года,
Я — на жизнь и смерть — владыке верен был всегда.
Я во всех боях сражался, жизни не щадил,
Изнурил в походах силу и изранен был.
Наконец ты, справедливый, сам — своей рукой —
Наградил меня за службу домом и землей.
И пахал я эту землю с помощью волов,
И в поход по зову шаха был пойти готов.
Но везир-насильник, бедных воинов тесня,
Клок земли, тобою данный, отнял у меня.
Кроме поля, я доходов не имел других,
От земли жену кормил я и детей своих.
Я не раз потом к везиру с жалобой ходил;
Впал в нужду и, ради бога, помощи просил.
Умолял я справедливо поступить со мной,
Сжалиться его просил я над моей семьей,—
Жалованье из дивана мне установить
Или мне надел земельный прежний возвратить.
Закричал тут на меня он гневно: «Замолчи!
Не нужны теперь нам стрелы ваши и мечи!
Мир у нас! Никто не смеет шаху угрожать!
Царь наш мудр, он не намерен больше воевать.
Не грозит стране опасность больше от войны.
Очень дороги казне вы! Вы нам не нужны!
Ты же сам не будь ленивым! Сам — без дальних слов —
Поработай землекопом, — будешь сыт, здоров!
А не хочешь, то запомни: спор со мной — во зло…
Продавай коня, оружье, сбрую и седло!»
Я ответил: «Дива злобы, князь, остерегись.
Немощен я, весь изранен. Бога устрашись!
Верно я служил, обиды я себе не ждал,
Видишь сам, как я на службе шаху пострадал.
Ночью ты лежал на ложе мягком, в холодке,
Я же, сна не зная, в битву шел с мечом в руке.
В жизни ты не видел горя, знал лишь свой калам;
Я — мечом своим и кровью — был защитой вам.
Бился я мечом во славу шаха моего,—
Ты каламом истребляешь воинство его.
То, что дал мне шах, верни мне! Или же — клянусь —
С жалобой за стремя шаха сам я ухвачусь!»
На меня везир свирепо, как дракон, взглянул,
Разъярился он, чернила мне в лицо плеснул.
Крикнул: «Ты меня пугаешь, будто ты — поток,
Будто я перед тобою что земли комок.
Ах, глупец ты и невежда! То ты низко льстишь,
То пожаловаться шаху на меня грозишь?
Знай, что это сам я шаха посадил на трон,
Без меня рукою двинуть не решится он.
Под моей пятою шахи! Все они — вот тут!
По моим лишь указаньям все они живут!
Если бы они не стали слушать слов моих,
Коршуны бы расклевали головы у них!»
Так он, честь мою и славу добрую черня,
Отнял у меня оружье, сбрую и коня.
Палачам потом меня он бичевать велел,
И в цепях в зиндан подземный отослать велел.
Я в целях, в зиндане этом, просидел шесть лет,
Думал, что к свободе, к жизни мне возврата нет».
Обласкал бойца седого справедливый шах,
Наградил его великий и счастливый шах.
И Бахрам в глазах бедняги радость увидал
И надел ему земельный вдвое больше дал.
Жалоба седьмого узника
Выступил седьмой по счету узник и простер
Перед сумрачным Бахрамом слов живой узор:
«Я из тех, кто устранился от мирских тревог,
Кто идет путем дервишей. Мой вожатый — бог.
Длань узка, но взор мой, словно у свечи, широк.
На горенье ради мира я себя обрек.
Надо мной людских соблазнов стал невластен глас,
И от брения земного руки я отряс.
От воды, от сна и пищи отвратился я,
Без воды, без сна и пищи обходился я.
Не имев воды и хлеба, днем не пил, не ел;
Ночью же не спал я — ибо ложа не имел.
Утвердился я в служенье богу моему,
И не знал я дела, кроме как служить ему.
Взглядом, словом, делом людям благо приносить,—
Вот как я старался богу моему служить.
И за мною от везира стражники пришли.
Вызвал — посадил меня он от себя вдали,
Молвил: «Стал тебя в злодействах я подозревать!
А закон страны — злодеев нам велит карать…»
«О везир! — в ответ сказал я. — Мысли мне открой,
Жить по-твоему хочу я и в ладу с тобой!»
«Я боюсь твоих проклятий, — отвечал везир.—
Да скорее бог избавит от тебя свой мир!
Ты злонравен по природе, мстителен и зол.
Ты дурных молитв немало обо мне прочел.
Из-за злых твоих молений я ночной порой
Поражен, быть может, буду божией стрелой.
Только раньше, чем от злого твоего огня
Искра божьего проклятья опалит меня,
В глотке яростной молитву я запру твою:
Руки злобные в колодки с шеей закую!»
Заключил меня в оковы, неба не страшась,
Старика поверг в темницу нечестивый князь.
Как осла, что вертит жернов, он меня велел
Заковать; колодки, цепи на меня надел.
На семь лет меня он бросил в страшный сей затвор…
Я же скованные руки к небесам простер,—
Ниспроверг величье князя я мольбой своей
И сковал злодею руки — крепче всех цепей!
Хитростью меня он бросил в крепость, под замок.
Я же у него разрушил крепость и чертог!
А теперь я отдан небом доброте царя,
И из сердца бьет лучами радость, как заря!»
И прижал властитель к сердцу старца, как отца,
Льва — убийцу нечестивых, божьего борца.
Молвил: «Кроме слов о страхе пред мольбой твоей
И возмездьем, — слова правды не сказал злодей.
Но отшельнику молитву запретить нельзя.
Праведника, как убийцу, осудить нельзя!
И когда творил нечестья он рукой своей,—
Он произносил проклятье над главой своей!
И проклятье это пало на него, как меч,
Голову его мгновенно похищая с плеч.
Ты в награду все богатства, чем владел везир,
Всё себе возьми! Да будет над тобою мир!»
Но сказал дервиш: «Что делать стану я с казной?
Нет! Сокровищем ценнейшим поделись со мной,
Как с тобою поделился лучшим я!» И вот
Круг он сделал, закружился, словно небосвод,
Заплясал [339] Заплясал… — то есть исполнил мистический танец суфиев — дервишей и пригласил Бахрама также стать мудрецом-мистиком, как он., хоть бубен такта и не отбивал.—
И пропал. Растаял, словно вовсе не бывал.
Бахрам казнит везира-насильника
Ночь. Бахрам решает своей рукой насаждать повсюду справедливость. Он не может сомкнуть глаз, вспоминая историю злого везира. Наутро он велит созвать весь народ перед дворцом.
Выводят Раст-Раушана и с позором вешают на дверях дворца. Шах произносит речь, в которой обещает отныне так казнить каждого насильника. Он рассказывает вельможам о пастухе, казнившем пса-предателя, призывает пастуха и щедро одаривает его.
Хакан просит у Бахрама прощения
Хакан, узнав о казни везира, пишет Бахраму письмо. Он сообщает, что Раст-Раушан был предателем: это он подстрекнул хакана идти войной на Иран, обещая собственноручно убить Бахрама. Хакан, пересылает все изменнические письма Раст-Раушана и клянется в верности Бахраму. Бахрам, возлюбив теперь одну лишь справедливость, отпускает семь красавиц царевен и забывает о семи дворцах — ему это все теперь не нужно.
Завершение дел Бахрама и исчезновение его в пещере
Лал — замо́к жемчужной нити истины нетленной, [340] Лол — замо́к жемчужной нити истины нетленной… — Согласно комментарию, поэт подразумевает здесь древнюю летопись, из которой он черпал материал для поэмы. Можно предположить также, что речь идет об устной передаче (лал — язык).
Что немолчным наполняет звоном слух вселенной,—
Лал сказал: «Когда семь башен, с чашами вина,
Перед шахом заключили сказок круг сполна,—
Купол разума, что за́мком был его уму,
О летящем своде мира подал весть ему:
«Мудрый, удались от капищ идольских земли!
Убегай уничтоженья: вечному внемли!»
Этот голос у Бахрама дух воспламенил.
Шах от сказки и обмана взоры отвратил.
Видел: свод, что скатерть жизни свертывать спешит,
Рано ль, поздно ль — все в подлунной своды сокрушит.
Он семь куполов отвеял от очей, как сон;
В дальний — к куполу иному — путь собрался он.
Ведь один тот купол тленьем будет пощажен;
В нем до дня Суда правдивый дремлет, опьянен.
Семерых седых мобедов шах призвать велел,
Семь дворцов семи мобедам передать велел;
Вечный пламенник под каждым сводом засветил; [341] Вечный пламенник под каждым сводом засветил… — то есть во всех дворцах он устроил зороастрийские храмы, в которых на жертвенниках горел неугасимый огонь.
В храмы пламени жилища страсти превратил.
Стал шестидесятилетним старцем властелин;
Забелел в кудрях-фиалках седины жасмин.
Стал служить Бахрам, как богу, истине одной
И чуждался неизменно радости земной.
Но однажды, чуждым ставший ловле и пирам,
С избранными на охоту выехал Бахрам.
Но не ловля, не добыча в степь царя влекла:
Сделаться добычей неба — цель его была.
Рать рассыпалась по степи. Каждый повергал
То онагра, то косулю. Лишь Бахрам искал
Одинокую могилу [342] Каждый повергал… То онагра… — Лишь Бахрам искал… Одинокую могилу… — Игра слов, построенная на омонимах: 1) гур — онагр, 2) гур — могила. Все искали онагров, состарившийся Бахрам — лишь могилу. для жилья себе.
Убивал порок и злобу бытия в себе.
В солонцах, где лань к потоку в полдень не стремится,
Где газели — зол громада, а онагр — гробница,
Вдруг онагр, резвее прочих, в пыльных облаках
Показался и помчался в сторону, где шах
Ждал его. Он понял: этот ангелом хранимый
Зверь — ему указывает неисповедимый
Путь в селения блаженных. Устремил коня
За онагром. И могучий — с языком огня
Схожий легкостью и мастью — конь его скакал
По пескам, глухим ущельям средь пустынных скал.
Конь летел, как бы четыре он имел крыла.
А охрана у Бахрама малая была,—
Отрок или два — не помню. Вот — пещеру шах,
Веющую в зной прохладой, увидал в горах.
Кладезем зиял бездонным той пещеры зев.
И онагр влетел в пещеру; шах вослед, как лев,
В щель влетел, в пещере ярый продолжая лов;
Скрылся в капище подземном, словно Кей-Хосров.
Та пещера стражем двери стала для Бахрама,
Другом, повстречавшим друга в тайном месте храма.
Вдруг обвал пещеры устье с громом завалил
И Бахрамову охрану там остановил.
И хоть поняли: в пещеру эту нет пути,
Но обратно не решались отроки идти.
Вглядывались в даль степную, тяжело дыша, —
Не пылит ли войско в поле, шаху вслед спеша.
Так немалое в тревоге время провели.
Наконец к ним отовсюду люди подошли,
Увидали: вход в пещеру камнем заслонен.
И в мозгу змеи — змеиный камень заключен. [343] И в мозгу змеи — змеиный камень заключен. — То есть эта загадка не имеет решения (см. словарь — змеиный камень).
Но чтоб местопребыванье шахское узнать,
Плетками юнцов несчастных начали стегать.
Громко закричали слуги, плача и божась,
Вдруг, как дым, из той пещеры пыль взвилась, клубясь,
И раздался грозный голос: «Шах в пещере, здесь!
Возвращайтесь, люди! Дело у Бахрама есть».
Но вельможи отвалили камни, и зажгли
Факелы, и в подземелье темное вошли.
Видят: замкнута пещера в глубине стеной.
Много пауков пред ними, мухи — ни одной.
Сотню раз они омыли стену влагой глаз.
Шаха звали и искали сто и больше раз
И надежду истощили шаха отыскать.
И о горе известили государя мать.
И, истерзанная скорбью, мать пришла Бахрама.
И она искала сына долго и упрямо;
Сердцем и душой искала, камни взглядом жгла,
Розу под землей искала — острый шип нашла.
Кладезь вырыла, но к кладу не нашла пути;
В темном кладезе Юсуфа не могла найти.
Там, где мать, ища Бахрама, прорывала горы, —
До сих пор зияют ямы, как драконьи норы.
И пещерою Бахрама Гура до сих пор
Это место именуют люди здешних гор.
Сорок дней неутомимо глубь земную рыли.
Уж подпочвенные воды в ямах проступили
Под лопатами, но клада люди не нашли.
Небом взятого не сыщешь в глубине земли.
Плоть и кость земля приемлет, душу — дар небесный —
Небеса возьмут. У всех, кто жив под твердью звездной,
Две есть матери: родная мать и мать-земля.
Кровная лелеет сына, с милым все деля;
Но отнимет силой сына мать-земля у ней.
Двух имел Бахрам богатых сердцем матерей,
Но земля любвеобильней, видимо, была:
Так взяла его однажды, что не отдала
Никому, ни даже кровной матери самой!..
Разум матери от горя облачился тьмой.
Жар горячечный ей душу иссушил, спалил.
И тогда старухе голос некий возгласил:
«О неистовствующая, как тигрица, мать!
Что несуществующего на земле искать?
Бог тебе на сохраненье клад когда-то дал;
А пришла пора — обратно этот клад он взял.
Так не будь невежественна, не перечь судьбе,
С тем простись, что рок доверил временно тебе!
Обратись к делам житейским. Знай: они не ждут.
И забудь про горе, — это долгий, тщетный труд…»
И горюющая гласу вещему вняла;
От исчезнувшего сына думы отвела,
Цепи тяжких сожалений с разума сняла
И делами государства разум заняла.
Трон и скиптр Бахрама Гура внукам отдала.
В памяти потомков слава их не умерла.
Повествующий, чье слово нам изобразило
Жизнь Бахрама, укажи нам — где его могила?
Мало молвить, что Бахрама между нами нет,
И самой его могилы стерт веками след.
Не смотри, что в молодости — именным тавром
Он клеймил онагров вольных на поле! Что в том?
Ноги тысячам онагров мощь его сломила;
Но взгляни, как он унижен после был могилой.
Двое врат в жилище праха. Через эти — он
Вносит прах, через другие — прах выносит вон…
Слушай, прах! Пока кончины не пришла пора:
Ты — четыре чашки с краской в лавке маляра. [344] …четыре чашки с краской в лавке маляра. — Четыре чашки — четыре «темперамента» тогдашней медицины, соотношение которых определяет состояние тела человека. Это: кровь, флегма, желтая желчь и черная желчь. Отсюда выводили четыре типа человеческого характера, по преобладанию в теле одного из темпераментов. Преобладание крови дает сангвиника, флегмы — флегматика, желчи — холерика, черной желчи — меланхолика.
Меланхолия и флегма, кровь и желчь, — от ног
До ушей, как заимодавцы, зиждут твой чертог
Не навечно. И расплаты срок не так далек.
Что ж ты сердце заимодавцам отдаешь в залог?
Ты гляди на добродетель, только ей внемли,
Не уподобляйся гаду, что ползет в пыли.
Помни: все, чем обладаешь, — ткали свет и тьма.
Помни: все, чего желаешь, — яркий луч ума!
О, скорей от рынка скорби отврати лицо!
Огнь, вода, земля и воздух здесь свились в кольцо.
Хоть четыре дымохода [345] …четыре дымохода… — упомянутые выше четыре элемента, из которых состоит тело человека и весь видимый мир. в хижине, — тесна,
И темна для глаз и сердца, и душна она.
Ты отринь отраду мира, прежде чем уйти
В смерть, чтобы успеть от смерти душу унести.
Человек двумя делами добрыми спасет
Душу: пусть дает он много, мало пусть берет.
Много давшие — величья обретут венец.
Но позор тебе, обжора алчный и скупец.
Только тот достоин вечной славы, кто добра
Людям хочет, ценит правду выше серебра.
Нападений тьмы избегнуть не вольна земля.
На сокровищнице мира бодрствует змея.
Сладкий сок имеет финик и шипы свои.
Где целительный змеиный камень без змеи?
Все, что доброго и злого судьбы нам дарят,—
Это суть: услада в яде и в усладе яд.
Был ли кто, вкусивший каплю сладкого сначала,
Вслед за тем не ощутивший мстительного жала?
Мир — как муха, у которой медом впереди
Полон хоботок; а жало с ядом — позади.
Боже! Дай всегда идти мне правильным путем,
Чтобы мне раскаиваться не пришлось потом!!
Двери милости отверзни перед Низами!
Дом его крылом — хранящим в бурю — обними!
Дал ему сперва ты славу добрую в удел;
Дай же под конец благое завершенье дел!
Конец книги, хвала Аладдину Корпа-Арслану
Только пробой осветился звонкий золотой,
Что в Гяндже был по-румийски отчеканен мной, [346] Только пробой осветился звонкий золотой, // Что в Гяндже был по-румийски отчеканен мной. — Низами сравнивает свою поэму с золотой монетой, на которой стоит «проба», то есть надпись-посвящение — имя Корпа-Арслана, правителя из Рума (Малой Азии).
Начертал я имя шаха, чтоб моя рука
Прославлялась по вселенной долгие века.
Шах — в румийских одеяньях славный властелин;
Рум ему налоги платит, дань большую — Чин.
На стезе наук и знаний, словно на весы,
Разум Бахтишу он ставит и престол Исы.
Все творение земное дышит только им,
Небо, преклонясь, целует землю перед ним,
Ты, на милость чью надеждой полон Низами,
Средь касыд и песен века — песнь мою прими.
Коль найдет по нраву книгу твой высокий вкус,
Я, как твой венец высокий, в мире вознесусь.
Капельки росы медвяной стынут на шипах,
Божий дар небесной манной падает в песках.
Я тебе из сада мысли отдал лучший плод,
Чистый, сладостный, как в сливки погруженный мед.
Как инжир, в плоде роскошном сладки семена,
Сердцевина же — отборным миндалем полна.
В нем, для тех, кто ценит внешность, внешность хороша,
А ядро для тех, кем выше ценится душа.
Мой дастан — ларец закрытый, полный жемчугов,
Ключ к нему — в особом строе и значенье слов.
Я для мудрых этот жемчуг стал на нить низать,
Что сумеют самый трудный узел развязать.
Все, что доброго и злого в ней ты видеть мог,
Это — мысли указанье, разума намек.
Я семи царевен сказки нанизал подряд.
То — не сказки; в каждой сказке потаенный клад.
Сказку — у которой платье было коротко,
Я стихом своим крылатым удлинил легко.
Ну, а сказка, что сверх меры — мнилось мне — длинна,
Для тебя была искусно мной сокращена.
Я подарок царски щедрый подношу царю,—
Кость тебе со сладким мозгом жирную дарю.
Книгу я украсил тонко, росписью одел,
Чтоб ценитель благосклонно на нее смотрел.
Почему же так узорно изукрасил я
Семь сокровищниц, в них тайну смысла затая?
Это потому, что чтенье утомляет глаз,
А на росписи узорной отдыхает глаз.
Почему так длинно, спросишь, повесть я развил,
Чтением глаза, а уши пеньем полонил?
Потому, что много мыслей было у певца,
Как красавиц узкоглазых в глубине дворца.
Я — творец, мне был каламом сахарный тростник.
Пальма, полная плодами, — эта книга книг.
Я — жестоко осажденный в городе родном —
Убежать не мог, сражаться я не мог с врагом.
Словно с голубем, с дастаном весть я шлю сейчас,
Чтобы шах пришел и друга от осады спас.
Ты, чьи серьги носит вечный небосвод в ушах,
В драгоценных одеяньях светоносный шах,
Посмотри, какое чудо мой калам явил
В дни, когда ты добрым словом дух мой окрылил!
Завершил я эту книгу в срок, когда идет
По Хиджре без семилетья шестисотый год.
На четырнадцатых сутках [347] На четырнадцатых сутках… — Все вместе дает дату, которая в переводе на европейское летоисчисление будет 31 июля 1196 года. месяца поста
Утром положил калам я и закрыл уста.
Пусть благословеньем будет книга для тебя,
Чтобы ты со славой правил, правду возлюбя.
Пей из этих бейтов воду жизни и любви,
Словно Хызр, живой водою упоен — живи!
Будь во всем велик душою, с жизнью подружись,
Царствуй долго, и да будет радостною жизнь.
Коль простишь мне, что на зов твой не явился я,
То позволь, чтобы достойно объяснился я.
Хоть и в море наслаждений, царь мой, ты живешь,
В этой книге наслажденье вечное найдешь.
И всего, что ценно в мире, выше в наши дни
Эта книга, остальное — тяготы одни.
Пусть сто лет наш век продлится, даже пусть — пятьсот,
Самый долгий прекратится век и в тьму уйдет.
Этот клад, что освятил я именем твоим,
Вечен будет, как небесный светоч, негасим.
Здесь, мой шах, я слово правды завершить хочу,
И тебя с открытым сердцем восхвалить хочу.
Счастлив будь! Пусть будет солнце хлебом для тебя,
Пусть стремянный будет послан небом для тебя!
Да пошлет творец владыке радостный удел
И счастливым увенчает завершеньем дел!
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления