Онлайн чтение книги
Подполье свободы
Глава восьмая
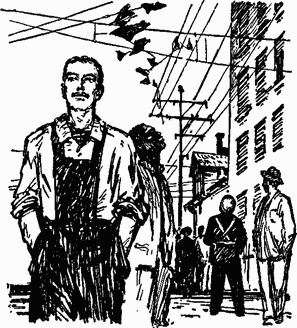
1
Многие в этом, 1940, году сделали себе из клеветы на коммунизм выгодную профессию, но никто не зарабатывал на ней так много, как Эйтор Магальяэнс, врач без практики, журналист без газеты. На его визитных карточках значилось: «Доктор Эйтор Магальяэнс – врач и журналист», но, знакомясь с кем-либо, он обычно с живостью добавлял:
– Казначей «Общества помощи Финляндии». Мы собираем средства, чтобы помочь благородному финскому правительству оказать сопротивление нашествию коммунистических орд.
Он носил с собой кожаный портфель, набитый документами о Финляндии, о русско-финской войне, об «Обществе помощи Финляндии». Молодой, элегантный, красноречивый, он обычно бывал хорошо принят в конторах фабрик, в торговых заведениях, в крупных компаниях, банках, ателье мод. Некоторым его имя было известно, другим Эйтор напоминал сам:
– Я автор очерков о коммунистической партии, которые были напечатаны в газете «А нотисиа». Теперь они объединены в одном томе, куда включено также много неопубликованных ранее материалов.
Он открывал свой кожаный портфель, вытаскивал экземпляр книги – на обложке была изображена зловещая фигура, державшая нож, с которого стекали крупные капли крови, образовывавшие название книги: «Преступная жизнь компартии». Фамилия автора была напечатана броскими синими буквами. Каждый экземпляр был обернут в бумажную широкую ленту, на которой, помимо надписи «Сенсация!», можно было прочесть два критических отзыва о книге.
В первом из них говорилось: «Я прочел эту книгу в один присест, как самый увлекательный приключенческий роман. Талант автора в сочетании с патриотическим мужеством встал на защиту добра против зла, правды против гнусной коммунистической демагогии. Эта книга – предостерегающий клич». Следовала подпись поэта Сезара Гильерме Шопела. Второй отзыв гласил: «Эта книга – ценный помощник в борьбе против коммунизма. Правдивость разоблачений талантливого автора проверена»; он был подписан инспектором охраны политического и социального порядка Сан-Пауло Барросом. Эйтор Магальяэнс всегда носил с собой в портфеле несколько экземпляров книги. В книжных лавках и газетных киосках тощий томик в две сотни страниц стоил десять милрейсов, и покупали его плохо. Но торговцы, промышленники и банкиры почти всегда приобретали экземпляр, принесенный автором, и платили за него дороже цены на обложке – тридцать, пятьдесят милрейсов, иногда даже давали сотенную бумажку. Комендадора да Toppe, очарованная манерами молодого человека, выложила целое конто, «чтобы помочь окупить издание».
Но продажа книги составляла едва лишь начальную и наименее важную часть операции. Эйтор Магальяэнс затем вытаскивал из портфеля официальные бумаги: письмо финляндской миссии, в котором выражалась благодарность за усилия «Общества помощи Финляндии», список руководящих и видных членов общества (влиятельные имена в политических и финансовых кругах), список жертвователей, начинающийся с имени Жозе Коста-Вале, который внес изрядный куш.
Показывая этот ворох красноречивых бумаг, Эйтор распространялся о «благородных целях общества, казначеем которого он имеет честь состоять». Он перемежал антисоветские выпады похвальбой по адресу собственной персоны. Недавно он придумал новую версию о своей прошлой деятельности в партии и впервые использовал ее в предисловии к книге: он больше не изображал себя «раскаявшимся экс-коммунистом». Нет, речь шла о молодом патриоте и предприимчивом журналисте – да, да! – который благодаря своей исключительной ловкости сумел проникнуть в среду коммунистов, чтобы изучить их жизнь, методы и планы и разоблачить их перед страной и перед всем миром. Эта версия казалась ему не только гораздо романтичнее, но и намного прибыльнее: прежняя всегда могла встретить у некоторых более консервативно настроенных людей несколько сдержанное, настороженное отношение («волк меняет шерсть, но не меняет норова» – этой поговоркой один промышленник-фашист, итальянец по происхождению, подчеркнул, как мало он доверяет подобному «раскаянию»). С другой стороны, были и такие лица, которые морщились, встречая его имя в списке руководителей «Общества» (один видный врач сказал по поводу него профессору Алсебиадесу де Мораису: «Не переношу коммунистов, но тем более не выношу предателей…»).
К вороху бумаг и разглагольствованиям присоединялось несколько фотографий, на которых было снято полдюжины ящиков с надписью печатными буквами: «Медикаменты! Не бросать!» А рядом с ящиками виднелся плакат: «Вклад «Общества помощи Финляндии» в войну финского правительства против русского коммунизма». Эйтор сообщал:
– На днях мы отправляем санитарный автомобиль. А сейчас собираем средства на приобретение в Соединенных Штатах самолета-бомбардировщика.
Сторонникам Франции, Англии и Соединенных Штатов он говорил:
– Взгляните на пример Франции и Англии. Они находятся в состоянии войны с Германией, но это не мешает им отправлять оружие и другие военные материалы в Финляндию. Франция послала даже эскадрильи бомбардировщиков. А почему? Да потому, что, если коммунистическая Россия победит Финляндию, тогда… – И дальше он начинал развивать свои антисоветские теории.
Поклонникам нацизма, которых было много среди богачей итальянского и португальского происхождения, он представлял Финляндию как союзника «номер один» Гитлера:
– Финляндия позволяет Гитлеру выиграть время, чтобы победить Францию и Англию, она обеспечивает безопасность его тыла, препятствуя тому, чтобы Россия совершила на него нападение. А известно ли вам, что Гитлер послал генералов и военную помощь Финляндии? Говоря об этом, я хочу подчеркнуть, какое большое значение для нас имеет война Финляндии…
Он говорил «нас» при переговорах как со сторонниками союзников, так и с теми, кто был настроен в пользу нацистов. Он рассматривал себя нейтральным в этой войне, в которой финнов поддерживали как Англия и Франция, так и Германия, и имел дело с людьми, сочувствующими как той, так и другой стороне. Русско-финская война стала его кровным делом. «Если бы не было этой войны, ее нужно было бы придумать», – признался он одной грациозной шатенке, племяннице профессора Алсебиадеса, машинистке «Общества». Эта война должна была разрешить все его финансовые проблемы.
В течение некоторого времени он пребывал в дурном настроении, после того как растратил деньги, полученные от Барроса за донос, и от газет – за свои вымышленные «разоблачения». Он задумал издавать антикоммунистический журнал, выпустил два-три номера, вытянув у нескольких франкистских коммерсантов заказы на объявления, но это была сравнительно малодоходная работенка. Она могла обеспечить ему сносное существование, но не такую жизнь, о которой он мечтал, – с хорошей квартирой, дорогими женщинами, элегантными костюмами, обедами в роскошных ресторанах. Время от времени Баррос подбрасывал ему небольшие суммы за ту или иную информацию – о коммунисте, виденном Эйтором на улице, или о чем-нибудь подобном. Баррос устроил бесплатно набор и печатание его книги в государственной типографии. Но что представляли эти мелкие подачки по сравнению с потоками денег, которые потекли в карманы Эйтора Магальяэнса через «Общество помощи Финляндии» в связи с русско-финской войной?
Свободный от всякого контроля, он полностью по своему усмотрению распоряжался крупными суммами, которые ежедневно собирал. Имя профессора Алсебиадеса де Мораиса как президента «Общества» придавало этой организации необходимую солидность. Эйтор пользовался абсолютным доверием профессора медицины. Он бывал у него дома, со вниманием и восторгом слушал его длинные и туманные рассуждения о судьбах мира и Бразилии, о морали и религии. Профессор был вечным кандидатом на различные посты: то ректора университета Сан-Пауло, то директора департамента просвещения штата, то директора департамента культуры. Поскольку он сам считал себя образцом знания, примерной жизни, верности консервативным идеям, религии и собственности, ему казалось величайшей несправедливостью всех времен то, что он растрачивает свой талант на университетскую кафедру и частную практику.
Когда накануне переворота, провозгласившего «новое государство», он вступил в «Интегралистское действие» и вскоре же был выдвинут на руководящий пост в этой фашистской партии, его честолюбивым сердцем овладели сладкие надежды. Однако разногласия между Жетулио Варгасом и Плинио Салгадо привели к тому, что при всяких назначениях его кандидатура не фигурировала, и он, подобно сателлиту, продолжал вращаться вокруг Коста-Вале. От банкира поступала большая часть месячного дохода профессора: он уже с давних пор числился главным врачом железных дорог, находившихся под контролем Коста-Вале. Несколько конто в месяц приносил ему и пост руководителя работ по оздоровлению долины реки Салгадо. Он был заносчив ко всем, кто стоял ниже его на социальной лестнице, и униженно юлил перед сильными мира сего; он был вообще угрюм и недоверчив по природе. Зарабатывал Алсебиадес де Мораис немало, но из честолюбия все время добивался лучшего положения, важных постов, титулов, известности.
Эйтор Магальяэнс быстро обнаружил своим мошенническим чутьем тайные слабости профессора. Он был как раз тем человеком, в котором нуждался Эйтор: на профессора указывали, как на пример высокого морального поведения; он аккуратно посещал и богослужения и великосветские рауты, но, несмотря на это, не был удовлетворен результатами многих лет ханжески строгой жизни. Даже в своей многочисленной семье профессор не находил более внимательного и почтительного слушателя, чем Эйтор. Сыновья и дочери профессора убегали от пресных проповедей отца якобы в университет и в лицеи; на самом деле они увлекались футболом, танцами и американским кино.
– У молодого поколения нет никаких идеалов, дорогой коллега! – вздыхал профессор. – Моральные ценности не имеют для молодежи никакого значения; все, к чему она стремится, – днем гонять мяч, а вечерами тратить время на эти новые неприличные танцы.
Семья стоила ему массу денег, никаких средств нехватало. Сидя в своем кабинете, где висел огромный портрет императора Педро II, он рассказывал Эйтору:
– Человек моего положения отвечает не только за свою семью. Существуют родственники, а среди родственников есть всякие люди. Некоторые живут плохо и думают, что у меня по отношению к ним есть какие-то обязательства. Благотворительность, дорогой коллега, – дело хорошее, и я о ней не забываю, как и о других христианских добродетелях. Но при нынешней дороговизне трудно заниматься благотворительностью. Вот посудите сами: сейчас ко мне приехала племянница моей жены. Мать ее умерла в Марилии, отец не нашел ничего лучшего, как отправить ее сюда, чтобы мы позаботились об ее устройстве. Значит, надо кормить еще один рот, да если бы только кормить… Ее надо одевать, платить за билеты в кино…
Эйтор нашел вполне устраивавшее профессора решение вопроса (он уже видел племянницу – это была шумливая шатенка, хохотушка, с лукавыми искорками в глазах):
– «Обществу помощи Финляндии» очень нужен секретарь, который мог бы печатать на машинке письма, финансовые отчеты. Почему бы не использовать вашу племянницу, профессор? То, что мы с вами работаем бесплатно, – это более чем естественно. Мы это делаем из идейных побуждений. Но нам нужно нанять кого-нибудь, кто занялся бы корреспонденцией. Я как раз пришел с намерением обсудить с вами этот вопрос. И вот я нахожу его решение у вас же в доме…
– И сколько же мы могли бы ей платить, не нанося ущерба ассигнованиям, предназначенным для столь благородного дела?
Эйтор прикинул.
– Милрейсов восемьсот, даже, пожалуй, конто. Вы понимаете, сеньор, если мне будет помогать хорошая секретарша, взносы смогут значительно увеличиться. Для Финляндии это польза… И я получу возможность подумать о том, чтобы снова открыть мой врачебный кабинет. По правде сказать, профессор, я совсем забросил свои личные дела. Если бы не имеющиеся у меня ценные бумаги…
– В таком случае, я согласен. Я только не знаю, хорошо ли Лилиан пишет на машинке… Она получила очень беспорядочное воспитание…
– Это неважно. В течение недели любой может научиться печатать, а дальнейшее – это вопрос практики. У нас есть хорошая пишущая машинка – подарок одной американской фирмы.
В действительности оказалось, что Лилиан никогда и не притрагивалась к клавишам пишущей машинки. В этом отношении она и через неделю достигла весьма скромных результатов. Зато менее чем за неделю она при помощи Эйтора научилась целоваться, и они вдвоем смеялись над торжественным лицемерием профессора Алсебиадеса де Мораиса.
– Из этого конто, миленький, как мне уже сказал дядя, семьсот милрейсов пойдет ему на оплату моего пансиона. На мою долю останется всего триста милрейсов, и мне еще надо оплачивать проезд в наше бюро.
– Не беспокойся. Остальное – за мой счет. Пока идет эта война, у нас недостатка в деньгах не будет. А там придумаем что-нибудь другое…
Так Эйтор устроил службу для племянницы и медаль для самого профессора. История с медалью окончательно упрочила отличное мнение профессора Алсебиадеса де Мораиса об Эйторе Магальяэнсе. Секретарь миссии Финляндии, получив ящики медикаментов в Рио (Эйтор использовал этот случай, чтобы показать Лилиан столицу), намекнул Эйтору о возможном награждении его финляндским правительством. «Такая преданность заслуживает почетной награды», – сказал секретарь. Эйтор, польщенный этим известием, стал, однако, отказываться от награды. – Нет, не его должно награждать правительство Финляндии. Уж если кто и заслуживает награды, – это президент «Общества», профессор Алсебиадес де Мораис, который, не довольствуясь тем, что он поддержал престиж этой широкой кампании своим незапятнанным именем и отдался ей душой и телом, включил в эту повседневную утомительную работу также и членов своей семьи. Вот здесь, например, девушка, машинистка «Общества». Она, племянница профессора, полностью посвятила себя этой деятельности. Секретарь миссии улыбнулся Лилиан, между тем как Эйтор уверял, что он для себя ничего не желает, что для него лучшей наградой является сознание выполненного долга. Правда, его личные дела заброшены, финансы находятся в плачевном состоянии. Но свои антисоветские убеждения и преданность делу, которое Финляндия защищает с оружием в руках, для него важнее, чем его, ныне закрытый, врачебный кабинет…
Секретарь понял: ему уже кое-что рассказывали об Эйторе. Несколько недель спустя профессор Алсебиадес де Мораис в торжественной обстановке, в миссии, получил из рук посланника Финляндии медаль, тогда как доктору Эйтору Магальяэнсу секретарь миссии без всякой торжественности и без шума вручил банковский чек на солидную сумму. Профессора поздравляли, он бормотал несвязные слова благодарности, от важности весь надулся. Уходя он сказал Эйтору:
– Я хочу вас поблагодарить, дорогой коллега, за вашу помощь в этом деле. – Лилиан рассказала ему о разговоре в миссии. – Можете рассчитывать на мою дружбу, не имеющую, правда, для вас большого значения, но зато вполне искреннюю.
– Профессор, ради бога… Рассказав в миссии, как многим обязана вам Финляндия, я сделал лишь то, что мне подсказала совесть.
– В наше время, мой юный коллега, признавать чужие заслуги, отдавать должное другим – это редкое качество. Вы им обладаете. Можете рассчитывать на меня.
Эйтор действительно рассчитывал на него в своих пока еще туманных планах на будущее. Шантажист, как правило, жил, не заботясь о завтрашнем дне; он транжирил деньги; «сегодня сыт, а завтра посмотрим», – обычно повторял он. Но, как бы мало ни заботило его будущее, он все же не мог не встревожиться, когда понял, что русско-финская война подходит к концу. Газеты продолжали помещать измышления о «победах» Финляндии, но они уже не могли скрыть факт наступления советских войск, а Эйтор умел читать между строк: это был вопрос недель, возможно, – дней.
Он прожил несколько месяцев, купаясь в золоте, и у него оставались еще значительные средства. Теперь нужно было изобрести новый, такой же выгодный способ нажиться на золотоносной жиле антикоммунизма. Конечно, он может восстановить издание своего грязного журнальчика – он завел бесчисленные знакомства в связи с этими финскими делами и теперь ему было гораздо легче получить выгодные объявления. Однако этого было недостаточно: он привык за последнее время к хорошей жизни. Еще больше, впрочем, чем планы на будущее, его заботили насущные вопросы «Общества». Многие жертвовали деньги на мнимую помощь Финляндии. Несколько ящиков с медикаментами (большую часть которых предоставили бесплатно лаборатории) были переданы миссии в несколько приемов. Но обещанный санитарный автомобиль и столь широко разрекламированный самолет-бомбардировщик остались в проектах. Между тем пресса так нашумела по поводу этих щедрых даров, что Эйтор побаивался, как бы по окончании войны не появился какой-нибудь жертвователь, который пожелает узнать, как израсходованы собранные деньги. Ему хотелось как-нибудь прикрыть свои махинации, чтобы они не повредили его новым, крайне полезным для будущего, знакомствам. Поэтому, поняв неизбежность поражения Финляндии, он обратился к профессору Алсебиадесу де Мораису:
– Профессор, мне, к несчастью, кажется несомненным, что наша маленькая героическая Финляндия скоро будет вынуждена капитулировать. Вопреки тому, что пишут газеты, положение финских войск безнадежно. Только вчера я слышал в передаче лондонского «Би-би-си» комментарии по этому вопросу.
– К сожалению, это правда. По-видимому, дорогой коллега, газеты преувеличили военную слабость красных. Наша бедная Финляндия…
– …побеждена численным превосходством, профессор. Достаточно простого расчета, чтобы увидеть, сколько русских приходится на одного финна. Даже если речь идет о голодных и оборванных русских, все равно они имеют абсолютное численное превосходство. Я и пришел с вами посоветоваться…
– По поводу чего?
– Вы знаете, сеньор, положение в нашем «Обществе». Мы собрали известное количество пожертвований, приобрели немало фармацевтических товаров – вы в курсе дела. Затем собирались купить санитарный автомобиль, а впоследствии – и самолет. Мы начали кампанию по сбору средств, и у нас в кассе уже есть кое-какие деньги. Эти-то деньги меня и беспокоят, там их конто двадцать шесть или двадцать семь (на самом деле их было больше восьмидесяти), не помню точно сколько, но у нас есть приходо-расходный баланс. Меня волнует вопрос, что делать с этими деньгами? Могут быть два решения: вернуть их жертвователям либо…
– Либо? – спросил профессор, у которого появилась смутная надежда, что Эйтор предложит ему поделить деньги, и ему, к сожалению, придется от этого отказаться.
– Так вот… закупать сейчас новые медикаменты не стоит. Они уже никому не будут нужны. На покупку санитарного автомобиля или самолета уже нет времени – война закончится раньше, чем мы соберем необходимые суммы. И вот я подумал, что наилучшим применением доверенных нам средств в рамках тех похвальных намерений, с которыми мы их просили, будет организация большого общественного собрания, посвященного Финляндии и борьбе с коммунизмом. На оставшиеся у нас деньги, за вычетом арендной платы за помещение и выходного пособия, которое мы должны заплатить нашей машинистке, нам, возможно, удастся организовать такое собрание. Это будет крупное практическое мероприятие, где вы, сеньор, произнесете программную речь и где выступят также и другие ораторы.
– Неплохая мысль… – согласился профессор, который почувствовал одновременно и облегчение и сожаление от того, что он не услышал то пугающее, но вместе с тем заманчивое предложение, на которое он рассчитывал. – Мне кажется, это блестящая идея. Пригласим представителей власти, видных общественных деятелей, это будет демонстрацией протеста против коммунизма…
– И выражением нашего негодования против Советского Союза. Если вы согласны, я немедленно принимаюсь за дело и вложу в него все наши деньги. Да, кстати, о деньгах. Я подготовлю балансы «Общества», чтобы вы их просмотрели и утвердили. Тотчас же, как у меня будет готова смета на организацию этого торжественного собрания.
– Очень хорошо. Но меня заботит Лилиан – бедняжка останется без работы.
– Я хотел с вами и об этом поговорить. Я думаю возобновить издание своего журнала. Пока я отдавал все свои силы «Обществу», он зачах. Мне понадобится помощник вроде вашей племянницы. Если вы согласитесь, я могу ее сохранить – она будет работать для меня.
– А почему бы и нет, дорогой друг? Что касается вашего журнала, располагайте мной – я вам помогу во всем, что будет необходимо. Я могу поговорить с Коста-Вале, чтобы он вам дал постоянное, хорошо оплачиваемое объявление. Могу поговорить и с другими лицами, с которыми я поддерживаю знакомство: с комендадорой да Toppe, с промышленником Лукасом Пуччини…
– Не знаю, как мне вас отблагодарить. Я воспользуюсь вашим влиянием, которое вы так любезно предоставляете в мое распоряжение, но не буду злоупотреблять им. Что касается собрания, то положитесь на меня, это будет громкое событие. Мы золотым ключом замкнем нашу кампанию солидарности. Вам, сеньор, нужно только позаботиться о своей речи, которая, я уверен, будет шедевром мысли и слова.
Он распростился, но на минуту задержался у двери.
– Да, по поводу балансов: я думаю, что полезно после вашего утверждения опубликовать их в печати. Чтобы показать жертвователям, как мы использовали деньги.
– Что ж, это верная мысль. Пришлите мне эти балансы.
Несколько часов спустя в небольшом помещении, арендованном для канцелярии «Общества помощи Финляндии», Эйтор, развалившись на диване, диктовал Лилиан:
– …упаковка и отправка медикаментов…
Лилиан, целясь указательным пальцем, пыталась отыскать на клавиатуре пишущей машинки нужные ей буквы.
2
В то время как Эйтор Магальяэнс добивался получения даром или по льготным расценкам всего необходимого для устройства антисоветской манифестации: помещения муниципального театра Сан-Пауло, передачи по радио речей, печатания плакатов, объявлений в газетах – члены районного руководства партии собрались для обсуждения создавшегося положения. На заседании присутствовали Руйво, Жоан, товарищ, прибывший из Рио после ареста Зе-Педро и Карлоса, Освалдо – бывший секретарь городского комитета Сантоса, ныне член секретариата комитета штата Сан-Пауло.
Руйво, который почти лишился голоса и тяжело дышал, ударил своей костлявой рукой по столику.
– Мы не можем допустить этой возмутительной манифестации: мы должны показать, что им не удастся безнаказанно оскорблять Советский Союз!
Прибывшему из Рио товарищу казалось неправильным рисковать кадрами партии для выступления, практической пользы от которого он не видел. Что они выиграют, сорвав это собрание? Они поддадутся на провокацию, поставят под удар свободу товарищей в момент, когда кадры партии в Сан-Пауло и без того сократились до каких-то нескольких десятков человек. По его мнению, все внимание оставшихся товарищей должно быть сосредоточено на работе по возрождению ликвидировавшихся ячеек и партийных комитетов. Хотя полицейские преследования и не ослабели, эта работа уже начала проводиться; в Санто-Андре молодому португальцу Рамиро удалось связаться со старыми активистами и воссоздать партию в этом важном рабочем районе. Хороший малый этот Рамиро, не зря было потрачено столько усилий на организацию его побега! Точно так же и в других местах, в пролетарских районах, на заводах и фабриках понемногу удавалось восстанавливать организации. Именно для этой работы и нужно сохранить все силы, всех уцелевших активистов. К чему рисковать людьми, если от этого партия ничего не выигрывает?
Остальные трое внимательно слушали товарища из Рио, но как только он кончил, Руйво выступил снова:
– Дело касается политической проблемы, товарищи. Речь идет о Советском Союзе. С начала войны в Финляндии, даже раньше – с момента заключения советско-германского пакта – реакция усиливает кампанию против СССР. Она стремится обработать общественное мнение для антисоветского крестового похода. Пока это происходило только в мелкобуржуазных кругах, мы могли удовлетворяться тем, что отвечали, используя наши небольшие возможности: с помощью обращений, листовок, лозунгов на стенах домов. Но с чем мы сталкиваемся сейчас? Какие цели преследует эта антисоветская демонстрация? На мой взгляд, две: во-первых, настроить массы и, в частности, рабочих, против Советского Союза, представив Красную Армию в качестве агрессора; во-вторых, получить возможность заявить, что народ, и в том числе пролетариат, выступает заодно с реакционерами против Советского Союза. Какие сведения мы имеем насчет этого собрания? – Он сделал паузу, с трудом переводя дыхание. Голос его был настолько слабым, что товарищам нужно было напрягать слух, чтобы разобрать все слова. – Они зазывают рабочих с фабрик и заводов. На некоторых предприятиях явка на это собрание объявлена обязательной. Кто не пойдет, будет оштрафован. Подадут автобусы и грузовики, чтобы отвезти туда рабочих. Можем ли мы позволить, чтобы трудящиеся приняли участие, хотя и помимо своей воли, в этом собрании, направленном против Советского Союза? Что мы – авангард пролетариата или нет? Рабочие на фабриках спрашивают наших товарищей, что им делать. У нас сейчас нет возможности воспрепятствовать привлечению рабочих на собрание. Не пойти туда – означает штраф, увольнение, возможно, тюрьму. И у нас нет достаточно активистов, чтобы провести нужную агитацию на фабриках. Таково положение. Что же нам делать? Разрешить, чтобы рабочий класс был использован в этой демонстрации против СССР? Так фактически и получится, если мы останемся на пассивных позициях, отстаиваемых товарищем. – И он указал на представителя из Рио. – Если мы так поступим, то пролетариат, который солидарен с Советским Союзом, потеряет доверие к нам, к нашей партии… – Он снова ударил рукой по столу, но тут же его одолел приступ кашля.
– По-моему, товарищ Руйво прав… – Жоан хотел, чтобы Руйво закончил – ведь каждое слово требовало от него усилия, этот глухой голос было просто тяжело слышать. – …Дать им спокойно провести это собрание означало бы фактически предательство по отношению к нашему делу. Разве мы не можем превратить это собрание, вместо демонстрации протеста против Советского Союза, в демонстрацию солидарности с Советским Союзом. На собрании, где будет полно рабочих, действуя смело, мы сможем повернуть массу против реакции, сможем изменить весь характер собрания.
– Именно так… – подтвердил Руйво, оправившись от кашля.
Освалдо тоже выразил согласие:
– Только вчера я услышал, что на текстильной фабрике комендадоры да Toppe многие рабочие готовы даже потерять работу, но не идти на это собрание. Они хотят знать, что им делать; товарищи просят указаний. Мнение представителя центра неправильно. Где же…
Но прибывший из Рио товарищ поднял руку.
– Довольно! Я убежден, больше чем убежден. Я не учел политической стороны вопроса…
Они перешли к обсуждению деталей. Жоан вытащил из кармана вечернюю газету с программой собрания. После исполнения гимнов будет показано несколько документальных фильмов о Финляндии. Заключительную часть вечера займут речи.
Почему документальные фильмы раньше речей? – спрашивал Эйтора Магальяэнса профессор Алсебиадес де Мораис. Тот объяснил: если рабочие по той или другой причине не явятся («с этим народом никогда не знаешь, в какой степени на него можно рассчитывать»), то пока длится демонстрация фильмов, будет время собрать публику в полиции и в «Ассоциации скотоводов», также проводящей свое общее собрание в этот вечер. Он, Эйтор, подумал обо всех деталях: это собрание должно состояться при переполненном зале.
Жоан сказал:
– Документальные фильмы раньше речей. Это, конечно, не случайно… – И он начал излагать свой план.
– Кому мы поручим выполнение этого задания? – спросил товарищ из Рио. – Нам нужен человек, который знает всю партийную организацию, знает почти каждого члена партии, который сумел бы выбрать людей и подготовил все как можно лучше.
– При данных обстоятельствах я вижу только одно подходящее лицо, – сказал Освалдо, взглянув на Жоана. – Это Мариана.
– Мы слишком выставляем напоказ товарища Мариану, – вмешался Руйво. – Мы не должны забывать, что полиция со времени побега Рамиро повсюду разыскивает некую женщину.
Все взгляды обратились к Жоану.
– Ведь кому-то надо поручить, – сказал он. – Почему бы и не Мариане, если товарищи находят, что она наиболее для этого подходящая. Опасности будет подвергаться любой, на кого бы мы ни возложили ответственность. Я тоже предлагаю выполнение этого задания поручить товарищу Мариане.
3
Эйтор с торжеством наблюдал переполненный зрительный зал театра. Не понадобится прибегать ни к полицейским агентам – Баррос сказал, что он, если понадобится для счета, может пригнать их целую сотню, – ни к скотоводам, проводящим свое собрание.
Рабочие пришли, они заняли большую часть партера, балконы и галерку. Кресла в первых рядах были оставлены для гостей, членов руководства «Общества помощи Финляндии», общественных, политических и религиозных деятелей. Многие из этих кресел пустовали. Гран-финос были солидарны с целями этого собрания, но благоразумно решили не слушать пяти речей, среди которых должна была быть и длинная речь этого нудного профессора Алсебиадеса де Мораиса. Термин «нудный» употребил Сезар Гильерме Шопел, когда, будучи в Сан-Пауло, он получил приглашение от Эйтора Магальяэнса выступить на этом вечере.
– Нет, мой дорогой. Я занят в этот вечер. Вы ведь знаете, я всегда всеми силами готов помочь кампании против коммунизма. Но не просите меня выслушивать речь Алсебиадеса, это чересчур… Он самый скучный человек в мире, самый нудный оратор, когда-либо существовавший на земле…
Но все же Эйтор не мог пожаловаться: пришли некоторые видные деятели, и для президиума на сцене – после показа документальной кинохроники – получится в общем неплохая группа: секретарь миссии Финляндии, атташе по вопросам культуры американского консульства – молодой Тео Грант, два-три промышленника, полковник Венансио Флоривал, какой-то испанский патер, а в качестве председателя – представитель министра труда Эузебио Лима, прибывший из Рио специально для участия в этом собрании. Предполагалось, что, кроме профессора Мораиса, выступят и франкистский священник, студент-юрист и мелкий чиновник налоговой инспекции, которого для вящей убедительности превратили в «рабочего лидера». («Таким образом мы обеспечим нужное нам выступление от имени рабочих», – пояснил Эйтор профессору.)
После исполнения гимнов на занавес был опущен киноэкран, погас свет и в зале воцарилась тишина. Цветной документальный фильм показывал пейзажи Финляндии во время короткого северного лета, затем зимние спортивные сцены на заснеженных горах. Послышались жидкие аплодисменты в первых рядах; фильм закончился, чтобы уступить место другой документальной картине о русско-финской войне. На экране появились советские военнопленные, солдаты с красными звездами на зимних шапках. Затем была показана группа офицеров финского генерального штаба на военном совещании. Этот кадр был встречен продолжительным свистом. Звонкий, как звук кларнета, голос прорезал тишину и разнесся по театру:
– Да здравствует Советский Союз!
Тотчас с галерки полетели листовки. Крики протеста, возгласы: «Долой фашизм!», «Да здравствует СССР!», «Да здравствует Сталин!» – слышались отовсюду в темноте. Рабочая масса подхватывала эти лозунги, поднялась страшная суматоха. По театру начал распространяться едкий запах аммиака, в зале стало совсем невозможно дышать – раньше и без того было душно от жары.
На экране показались солдаты в окопах, одетые в маскировочные халаты. Крики в партере усилились, публика все громче выкликала антифашистские лозунги, участники собрания бросились к выходу, находившиеся в зале гран-финос пытались проложить себе дорогу в толпе. Тео Грант старался защитить Мариэту Вале. Воздух был заражен аммиаком, нечем было дышать. Женщины падали в обморок. Все это длилось несколько минут. Продолжительный свист снова разнесся по театру, люди с галерки побежали вниз по лестницам. Публика покидала театр. Толпа рассеялась по окрестным улицам, прохожие сбегались к театру: пронесся слух о пожаре.
Эйтор, находившийся в ложе рядом с профессором де Мораисом, кричал, требуя, чтобы зажгли свет и прервали демонстрацию фильма. Но его никто не слушал, и он устремился за кулисы в поисках телефона, чтобы попросить Барроса прислать полицию.
Те, кто сорвал собрание, должны были как можно скорее покинуть театр. Мариана тоже вышла на улицу, вскочила в трамвай и, усевшись на скамейку, развернула газету.
Когда, в конце концов, в зале дали свет, было видно, что партер почти опустел, только в ложах продолжали оставаться некоторые официальные лица. Едкий запах аммиака не рассеивался. На улице из автомобилей выбегали полицейские, они оцепили театр и стали хватать всех без разбора, главным образом случайных прохожих, из любопытства остановившихся перед зданием театра.
С опустевшей галерки свешивался, как бы господствуя над зрительным залом, флаг серпа и молота, флаг утренней звезды, флаг Советского Союза.
4
Лукас Пуччини перечитал отдельные отрывки из статьи, опубликованной в газете «А нотисиа». Он даже слегка присвистнул, а затем восхищенно сказал:
– Тридцать миллионов долларов! Вот это деньги!
Его контора в Сан-Пауло занимала теперь целый этаж небоскреба – ряд прекрасно меблированных помещений, где работало немало сотрудников и машинисток. Сидя за своим роскошным письменным столом, «не знающий страха промышленник» (как его называли в газетах) руководил самыми разнообразными делами, разрабатывал все новые и новые планы. Его силой был инстинкт, помогавший ему выискивать выгодные дела; он вкладывал свои капиталы, чтобы они приносили ему все новые и новые доходы. Он то и дело покупал акции какой-нибудь компании, приобретал фабрики накануне банкротства и ставил их на ноги, занимался сотнями самых разнообразных дел, и все у него шло гладко. В кредите он не ощущал недостатка, пользуясь благосклонностью Катете; его безоговорочная преданность президенту республики была широко известна. Он не только разбогател за годы существования «нового государства», – он и располнел, стал держаться солиднее, как и подобает человеку его положения. Те, кто его знал года четыре назад простым приказчиком в турецкой лавчонке, теперь разевали рты, видя, как он с важным видом проезжает в своем дорогом автомобиле, раскуривая дорогие сигары.
Сам Эузебио Лима, дружески протянувший ему руку в дни его бедности, компаньон Лукаса в первых «операциях» и его закадычный друг, не скрывал своего удивления перед поразительным взлетом Лукаса в деловом мире. Он, Эузебио, включился в политическую жизнь уже десять лет назад, еще со времени движения 1930 года[185]Имеется в виду движение «Либерального альянса» – буржуазной политической организации, созданной в 1930 году для поддержки кандидатуры Жетулио Варгаса на пост президента республики. «Либеральный альянс» широко использовал в пропагандистских целях популярность среди народных масс Колонны Престеса, отдельные участники которой, перейдя позднее в лагерь реакции, играли активную роль в «Либеральном альянсе», стремясь таким путем пробраться к власти. За ширмой этой организации действовали американские империалисты, оказывавшие помощь Варгасу в его борьбе против ставленника англичан. Освалдо Аранья вел переговоры с Луисом Карлосом Престесом об участии бразильского народного героя в Либеральном альянсе, но Престес, публично вскрыв антинациональную сущность этого «альянса», отказался присоединиться к нему., был достаточно ловок и оборотист, имел хорошие связи, и все же за какие-нибудь четыре года Лукас по-настоящему разбогател, тогда как Эузебио продолжал довольствоваться попадавшимися ему время от времени случайными, мелкими «операциями». Фактически теперь ему протежировал Лукас; роли переменились. Эузебио объяснял это превращение так:
– Лукас – гений в делах. У него врожденное призвание к бизнесу. Тогда как я рожден для политики…
Однако сам Лукас не чувствовал полного удовлетворения. Честолюбие, которое приводило его к тому, что он прежде, когда они жили еще в пригороде, поверял Мануэле свои мечты о власти, – это честолюбие не уменьшилось под влиянием его успехов. Больше чем когда-либо, он теперь, сидя за письменным столом, давал волю своему воображению. Он был еще далек от обладания всем, что хотел иметь: вершина его стремлений – отнюдь не этаж небоскреба. Он хотел иметь целое здание, похожее на банк Коста-Вале, – здание, которое господствовало бы над Сан-Пауло. Его не могли удовлетворить ни фабрички красок и кондитерских изделий, ни конторы по экспорту хлопка и кофе. Он помышлял об акционерных обществах, о крупных предприятиях, акции которых котировались бы на иностранных биржах. Он мечтал о чем-то вроде «Акционерного общества долины реки Салгадо», по поводу которого он только что прочел в экономическом обзоре газеты «А нотисиа».
«Развитие „Акционерного общества долины реки Салгадо“ показывает нам, какую роль может играть Бразилия в качестве поставщика марганца – минерала, имеющего столь большой спрос в мировой металлургии. По мнению специалистов, месторождения долины реки Салгадо представляют собой один из самых крупных резервов, известных в мире. И это несмотря на то, что существующие запасы еще не полностью учтены. Добыча марганца там только начинается, но уже сейчас можно определить, какое значение она будет иметь в общем экономическом балансе страны. Более тесное сотрудничество с Соединенными Штатами открывает широкие перспективы, что видно на примере создания этого акционерного общества, в котором 49 процентов американского капитала и 51 процент бразильского капитала. Экспортно-импортный банк Соединенных Штатов предоставил акционерному, обществу крупный заем в размере 30 миллионов долларов. Работы, связанные с добычей марганца в долине реки Салгадо, уже значительно продвинулись, и специалисты считают, что экспорт минерала сможет быстро достигнуть цифры в 300 тысяч тонн в год».
Лукас Пуччини перечел всю статью; он еще был далек от дел подобного масштаба и размаха – дел, в которые вкладывались бы не тысячи конто, а миллионы долларов. Но он мечтал именно о таких предприятиях, о таких могущественных компаньонах, как Коста-Вале.
Он отложил газету и стал размышлять о банкире. Еще будучи чиновником министерства труда, Лукас Пуччини привык любоваться из окна своего учреждения Коста-Вале, иногда выходившим на балкон своего банка. Коста-Вале символизировал все, чем хотел быть Лукас Пуччини, к чему он стремился. Однажды он как-то обратился к банкиру с просьбой о предоставлении кредита: это было связано с операцией по хлопку – его первым крупным делом. Банкир принял его сухо, держался высокомерно, отослал к управляющему. Лукас был унижен, но впоследствии отомстил банкиру тем, что подписал контракт на поставку оборудования для моторостроительного завода – контракт, получения которого добивался и Коста-Вале. А теперь они снова были двумя конкурентами на торгах по осушению долины Байшада Флуминенсе[186]Байшада Флуминенсе – болотистая низменность в районе Рио-де-Жанейро, прилегающая к бухте Гуанабара; представляла собой очаг малярии и других тропических болезней С 1935 года федеральное правительство вынуждено было принимать меры по осушению и расчистке болот в этом районе.. Лукас нажал на все рычаги, чтобы добиться контракта для себя, но Коста-Вале тоже не сидел сложа руки: министр Артур Карнейро-Маседо-да-Роша был достаточно ловок в таких делах, более ловок, чем даже Эузебио Лима… Трудное состязание…
Для Коста-Вале контракт означал не более как небольшое прибавление к его миллионам. Сам он в деле не участвовал непосредственно: заявка на торги поступила от комендадоры да Toppe и Сезара Гильерме Шопела. Но когда говорили «комендадора и Шопел», подразумевали Коста-Вале: всем была хорошо известна тесная связь между старухой-миллионершей и миллионером-банкиром, а что касается Шопела, то все знали, что он – их подставное лицо, обогащающееся за счет объедков с барского стола. Между тем для Лукаса этот контракт имел первостепенное значение: он явился бы крупнейшим из всех его дел.
Обо всем этом он и думал, повторяя по временам:
– Тридцать миллионов долларов! Боже мой!
«А что, если я обращусь к Коста-Вале и предложу ему войти в компанию для работ по осушению долины? Как знать, вдруг…»
Эта мысль заставила его вскочить с кресла; она все более крепла в нем, пока он расхаживал из угла в угол по кабинету. Он кончил тем, что надел пиджак и шляпу и отправился в банк. На этот раз Коста-Вале не заставил себя ждать и принял Лукаса, не предупреждая, что у него лишь несколько минут на то, чтобы выслушать посетителя. Наоборот, он предложил Лукасу стул, протянул коробку с сигарами и вежливо спросил:
– Чем могу служить, сеньор Пуччини?
– Зашел к вам по поводу работ в Байшаде Флуминенсе. Я претендую на получение подряда, знаю, что и вы в этом заинтересованы, и вот я подумал, что, может быть…
Банкир прервал его:
– Вы ошибаетесь. Я не участвую в торгах, это двое моих друзей – комендадора да Toppe и Сезар Гильерме Шопел. Вам следует обратиться к комендадоре.
– Хорошо… Я подумал было о предложении, которое примирило бы мои интересы и интересы, которые, как я полагал, являются вашими. Поэтому я и обратился к вам, сеньор. Жаль, что это не так… Мне кажется, мои проекты представляют интерес. Придется постучаться в другие двери.
– Почему бы вам не обратиться к комендадоре?
– Я ее не знаю. Я только раз был у нее в доме, несколько лет тому назад, на приеме в честь сеньора Жетулио. С тех пор я ни разу ее не встречал, и она, конечно, меня не знает…
– Ну, если затруднение только в этом, я могу представить вас комендадоре. – Он устремил взгляд своих холодных глаз на сидевшего перед ним еще молодого человека, имевшего весьма самоуверенный вид. – Я слежу за вашей карьерой, сеньор Пуччини. Вы как-то были у меня с одним проектом, – вы тогда нуждались в кредите. Я не уделил внимания вашему плану: он мне показался абсурдным, было опасно рисковать, вкладывая в него деньги. Несмотря на это, вы его осуществили и доказали мне, что я ошибался. А я не люблю ошибаться дважды, в особенности имея дело с одним и тем же человеком. Так каков же ваш проект?
Лукас улыбнулся.
– Вы же понимаете, сеньор, мой проект относится к Байшаде Флуминенсе. Мне нужен человек, заинтересованный в этом деле, а вы к нему не причастны… Вы же сами сказали, что в торгах участвует комендадора…
Коста-Вале не обратил внимания ни на улыбку, ни на слова Лукаса.
– Я знаком с предложениями относительно работ по осушению долины, которое вы представили министерству путей сообщения и общественных работ. То, что вы обещаете сделать, – это просто фантастично. Вы никогда этого не сможете осуществить.
– Мой проект дает стране такие выгоды, как ни один другой. Что касается его реализации, это уже мое дело… Факт, что никакое другое предложение, включая и проект сеньоры комендадоры, не может конкурировать с ним в отношении выгод, которые получит государство. Специалисты его поддерживают. Я могу выиграть торги…
– А откуда вы возьмете капитал для того, чтобы начать работы?
– Вот в этом-то и дело. Я подумал: заинтересованы в Байшаде Флуминенсе мы оба – сеньор Коста-Вале и я… – Он сделал жест, как бы извиняясь. – Мне казалось, что Шопел действует от имени комендадоры и от вашего имени.
– Ну, и что же?
– Я представил лучший проект, у меня хорошие друзья, и я имею шансы выиграть дело. Зато у вас, сеньор Коста-Вале, есть капиталы. – Он еще раз улыбнулся. – И не только капиталы, но и проект, и прекрасные друзья… Не лучше ли нам объединиться, чем бороться друг с другом за получение подряда? – Он взглянул на сидевшего напротив банкира. – Ведь если говорить откровенно, для вас этот контракт не имеет большого значения, а для меня – это вопрос жизни и смерти. Я готов поставить на карту все, чтобы выиграть! Я предлагаю выдвинуть вместе третий проект – у меня уже по поводу него есть одна идея, – который покончит с конкуренцией. Проект, который может быть более реален, чем мой, и не менее интересен, чем проект… сеньоры комендадоры…
Коста-Вале посмотрел на Лукаса, как бы измеряя и взвешивая, чтобы определить его реальную стоимость.
– Ну что ж! Почему бы и нет? Если ваш проект действительно интересен, что мешает нам идти вместе? Изложите свои планы, я готов выслушать их.
Лукас Пуччини начал говорить, Коста-Вале перестал пристально смотреть на него, теперь он чертил на белом листке какой-то неопределенный рисунок. Когда Лукас кончил, он сказал:
– Да, ваш проект интересен. Необходимо изучить его поглубже, изменить один или два пункта. – И Коста-Вале сразу сделал необходимые уточнения. Лукас был восхищен быстротой, с которой банкир мгновенно схватил его идею и даже улучшил ее. – В принципе я согласен объединиться с вами для его реализации. Однако я должен еще потолковать с комендадорой. Если вы можете недельку подождать, я вас извещу, где мы соберемся снова, чтобы переговорить об этом деле.
Действительно, несколько дней спустя Лукас получил любезное приглашение от комендадоры пообедать у нее. За приглашением последовал звонок от банкира, попросившего его приехать к комендадоре раньше назначенного для обеда часа, чтобы можно было переговорить втроем до прибытия гостей.
Лукас так и сделал, и в этот вечер они полностью договорились о планах совместной эксплуатации Байшады Флуминенсе. Лукас и комендадора возьмут обратно свои прежние заявки, а Шопел представит новое предложение от имени их всех. Они обсудили детали распределения капиталов и постов в новом акционерном обществе. Лукас, внося свои предложения, держался уверенно: он хотел произвести хорошее впечатление на банкира и комендадору и достиг этого. Старая комендадора была очарована им. Ей нравились молодые люди такою склада, и она не скрыла своего восхищения перед Коста-Вале:
– Вот это, Жозе, стоящий парень. У него есть голова на плечах, не то, что у этих манекенов, которых мы встречаем на вечерах, папенькиных сынков, подобных Паулиньо.
Коста-Вале рассмеялся.
– А я-то думал, что Паулиньо – ваш идеал. Вы так старались женить его на Розинье… У вас, очевидно, изменился вкус…
– Вкус у меня не изменился. Вы думаете, я не знала, что собой представляет Паулииьо? Просто, понимаете, мне нужно было…
– Его имя… – заключил банкир, шутливо улыбаясь.
– Именно, Жозе. Имя – это ведь тоже важное дело. Пауло по-своему полезен, я заплатила ему за имя сколько следует. Немножко дороговато, но, в конце концов… Ведь факт, что мы нуждаемся в таких людях, как Артур и Паулиньо. Но если сравнить его с таким парнем, как этот… У этого – голова на плечах, Жозе.
Банкир ответил с серьезным видом:
– Да, это человек с будущим. Он кажется мне несколько авантюристичным, но это от возраста… со временем пройдет.
– Каждый может быть по-своему полезен, – заключила старуха, как бы отвечая не банкиру, а каким-то своим затаенным, еще неясным мыслям.
Обед прошел исключительно приятно. Комендадора посадила Коста-Вале и Лукаса по обеим сторонам от себя. Это был интимный обед: Мариэта, дипломат Тео Грант, младшая племянница комендадоры, полковник Венансио Флоривал, Сузана Виейра, Бертиньо Соарес, профессор Алсебиадес де Мораис, еще не вполне оправившийся после скандала в муниципальном театре.
За обедом оживленно обсуждались международные события. Русско-финская война закончилась; они поговорили о Красной Армии и сошлись на том, что хотя она и разбила финнов, но все же это не та армия, которая могла бы противостоять немцам, если Гитлер нападет на Россию.
Мариэта приглядывалась к Лукасу Пуччини; присутствие молодого промышленника оживило в ней забытые воспоминания: связь с Пауло, историю Мануэлы, свою собственную ревность и свои планы. Все это теперь казалось Мариэте далеким и лишенным интереса и ничего не говорило ей: молодой Грант занимал полностью все ее мысли и все свободные часы. И она безразличным голосом осведомилась о Мануэле:
– А как ваша сестра, по-прежнему пользуется успехом?
Лукас вкратце рассказал о Мануэле. Она находится сейчас в Гаване, и в прессе о ней восторженные отзывы. В августе она вернется в Бразилию вместе со своей труппой, которая будет гастролировать в Рио. Потом труппа отправится в длительное турне по крупным городам Соединенных Штатов. Бертиньо рассыпался в похвалах таланту Мануэлы: он видел, как она танцевала в Рио – это нечто незабываемое!
Комендадора улыбнулась Лукасу.
– По правде говоря, мы – старые друзья. Ведь как раз здесь, в моем доме, ваша сестра танцевала в первый раз. Может быть, со временем в этом зале будет мемориальная дощечка в честь этого события.
Все были очень любезны с Лукасом, а полковник Венансио Флоривал напомнил, как вскоре после провозглашения «нового государства» они познакомились в связи с «кофейной операцией»…
Кофе пили в музыкальном салоне и, прежде чем Тео Грант сел за рояль, собираясь очаровать слушателей исполнением фокстротов, комендадора велела своей незамужней племяннице Алине «показать, чему ее научили в пансионе». Девушка повиновалась, а старуха прошептала Лукасу, который уселся рядом с ее креслом:
– Изысканное воспитание, лучший монастырский пансион… замечательная хозяйка дома. Она миленькая, не правда ли?
– Прелестна! – с явным преувеличением ответил Лукас.
Вошел слуга с напитками. Алина терзала на рояле классиков, Тео и Мариэта обменивались веселыми улыбками, Коста-Вале удалился: в этот вечер у него было еще одно деловое свидание. Алина, наконец, оставила рояль, ради приличия раздались сдержанные аплодисменты. Тео сразу же устремился к роялю, и звуки фокстрота наполнили залу. Лукас, ничего не понимавший в музыке, поздравил Алину, которая уселась рядом с теткой. Мариэта танцевала с Бертиньо, пробуя, как резвящаяся девица, новые экстравагантные па американских танцев. Стоя у окна, профессор Алсебиадес де Мораис, простуженный и мрачный, высказывал полковнику Венансио Флоривалу различные поучительные сентенции. Комендадора взглянула своими хитрыми глазками на Лукаса и Алину.
– Сеньор Лукас, а почему бы вам не потанцевать с девочкой?
Лукас поднялся, застегнул пиджак, протянул руку племяннице миллионерши. На морщинистом лице комендадоры появилась улыбка. Она уже начала строить кое-какие планы.
5
Накануне отъезда в Лиссабон Пауло получил от Шопела длинное забавное письмо, в котором тот рассказывал последние бразильские новости. Это было в трагические дни капитуляции французского правительства; гитлеровские войска наступали на Париж[187]В мае 1940 года гитлеровские войска вторглись в пределы Франции, обойдя линию Мажино и прорвав англо-французский фронт на реке Маас, и повели наступление на Париж с северо-запада и северо-востока. Война вскрыла предательскую политику правящих буржуазных кругов Франции, приведших страну к катастрофе. Стоявшие у власти изменники и пораженцы, опасаясь восстания народа, не желавшего капитулировать перед врагом, уже 14 июня открыли гитлеровцам путь в Париж а 22 июня заключили с Гитлером в Компьене позорное соглашение о «перемирии» на исключительно тяжелых и унизительных для Франции условиях, продиктованных германским командованием.. За столиком кафе, на бульваре Сен-Жермен, в нервной обстановке города, над которым нависла угроза вторжения, наблюдая озабоченных, спешащих людей, Пауло перечитывал письмо и наслаждался комментариями поэта по поводу событий бразильской жизни.
В Париже началась эвакуация; тысячи и тысячи людей, спасаясь бегством от захватчиков, направлялись на юг. Казалось, уже слышался топот германских сапог, марширующих по направлению к славному, прекрасному городу. Нацисты еще не вступили в Париж, но их близость давала себя знать в полных трагизма лицах, в торопливой походке людей. Мимо на велосипеде проехал юноша с озабоченным лицом, в рубашке с открытым воротом и в брюках гольф. Его небольшой багаж – простой чемодан, – видимо, был тяжел: юноша с силой нажимал на педали. Сколько сотен километров предстояло ему проехать, спасаясь бегством? – задал себе вопрос Пауло. И тут же вслед за этим изящный профиль какой-то промелькнувшей по улице девушки чем-то напомнил ему Мануэлу.
Шопел упоминал в своем письме и о Мануэле: после триумфального турне по Латинской Америке она с балетной труппой возвращалась в Рио. Афиши муниципального театра уже оповещали о предстоящих гастролях балета, и имя Мануэлы Пуччини было выделено крупным шрифтом среди имен других солистов. Шопел жаловался на неблагодарность девушки, которая ни разу не написала ему хотя бы открытку.
Он писал также о Мариэте: «Она, наконец, решилась позабыть тебя в объятиях одного спортсмена-американца – некоего Гранта, – ты его не знаешь, он сейчас в паулистском обществе так же неизбежен, как корь у детей». Далее он сообщил о Коста-Вале и о бразильской политике: «Жетулио все больше онемечивается, наши друзья американцы, того и гляди, лопнут со злости, а наш хозяин Коста-Вале не скрывает своего разочарования». И он спрашивал Пауло: «А ты, находящийся там, в вихре войны, и имеющий возможность лучше нас разобраться в судьбах мира, что ты думаешь обо всем этом? Неужели мы еще увидим Коста-Вале в коричневой рубашке, приветствующим нашего милого пошляка Алсебиадеса де Мораиса?»
Да, для Пауло сомнений не было: «Франция больше не существует», – повторял он себе. Гитлер – хозяин Европы. А это означало, что он становится властелином мира, что начинается предсказанное нацистское тысячелетие[188]Имеется в виду демагогический фашистский лозунг о том, что национал-социалистский режим («Великогерманская третья империя») будет существовать тысячелетия.. Пауло снова отложил письмо и принялся наблюдать за движением, нарушавшимся машинами беженцев, за взволнованными лицами прохожих. В посольстве он читал воззвание Мориса Тореза и Жака Дюкло к французскому народу – для коммунистов сражение все еще продолжалось[189]Речь идет об обращении Центрального комитета Коммунистической партии Франции (опубликованном 6 июня 1940 года) об организации обороны Парижа, о национальной войне за независимость и свободу.. Но что они могли противопоставить германской армии? «Если надо выбирать между немецкими нацистами и французскими коммунистами, пусть уж лучше будут немцы», – заявил ему несколько дней назад в посольстве один французский промышленник, собиравшийся перевести свои капиталы в Бразилию. И таково было общее мнение людей из тех кругов, где вращался Пауло. Меньше месяца назад он присутствовал на обеде в одной влиятельной семье, и от хозяина дома, до странности похожего на Коста-Вале, он услышал точно такое же заявление:
– Нет большего патриота, чем я. Но именно это и дает мне право утверждать: судьба нашей родины зависит от немцев. Только они в состоянии спасти нас от коммунистов…
Пауло, несмотря на войну, по-прежнему продолжал интересоваться внешней, показной стороной Парижа, тем, что составляло его Париж: ночная жизнь, в небольшой степени – музеи и художественные галереи, литературные кафе. Это все, что ему было известно о французской жизни, а народа Франции он не знал. Неужели гитлеровская оккупация изменит жизнь Парижа? Неужели, спрашивал он себя, я найду по возвращении совсем другой город, потерявший радость жизни?
Пауло на днях покидал Париж: по ходатайству комендадоры да Toppe его перевели в Лиссабон. Он отложил свой отъезд для того, чтобы в эти последние дни перед оккупацией насладиться Парижем. Страдание города и народа, беспокойный поток бегущих людей, агонизирующие улицы – все это было чем-то таким, что могло разогнать повседневную скуку его жизни. Он послал Розинью вперед в сопровождении графа Заславского, которому заранее поставил на паспорте бразильскую визу. А сам остался наблюдать Париж, переживавший дни эвакуации, траура и страдания. Но был и другой Париж – и в этом другом Париже никогда еще не были так переполнены ночные кафе, никогда еще не наблюдалось такого оживления. Пауло подумал об ответном письме Шопелу, в котором он опишет свои наблюдения: «Франции конец, мой дорогой, французский народ больше не существует. Все, что осталось, – это кабаре». Свое заключение Пауло считал окончательным.
Он снова принялся за чтение письма Шопела. Все эти бразильские новости, хроника торговых и светских событий, казались ему здесь, в кафе на бульваре Сен-Жермен, на фоне города, изнемогающего под бременем катастрофы, незначительными и смешными. Проехали монахини на велосипедах; неужели и они тоже бегут? Шопел писал: «Самая сенсационная новость – это наш нынешний альянс с Лукасом Пуччини, братом Мануэлы. Мы стали компаньонами в одном крупном деле, и теперь этот жалкий приказчик – «свой человек» не только в доме Коста-Вале, но и у комендадоры, то есть в твоем доме. Он буквально не вылезает оттуда, его повсюду видят с твоей свояченицей Алиной. Не удивляйся, если дело кончится помолвкой… При Новом государстве, сынок, все возможно в нашей Бразилии».
«При Новом государстве и комендадоре»… – подумал Пауло. Старуха способна выдать младшую племянницу за этого выскочку, не помнящего родства, если только он покажется ей подходящим человеком для того, чтобы управлять ее делами. Для него, Пауло, это было бы, конечно, оскорблением, и он это высказал Розинье, когда, прочтя письмо комендадоры, обнаружил ее неожиданный энтузиазм по отношению к Лукасу. Но жена ничем его не утешила:
– Если тетя решила, ничего не поделаешь. Когда она чего-нибудь захочет, она ни с кем не считается, не слушает никаких советов. Решает и делает. Так получилось и с нами.
Решила и сделала… так и вышло. Решила забрать Розинью из воюющей Франции, и тут же добилась для Пауло перевода в Лиссабон, даже не спросив его мнения. Если она решила взять Лукаса Пуччини в свою семью, ничто уже не может ей помешать. Для Пауло это известие было, пожалуй, даже неприятнее, чем неизбежное вступление немцев в Париж. Он на мгновение забыл об окружающей толпе, о возбуждающем нервы зрелище выставленного напоказ страдания. Чтоб она лопнула, эта старая комендадора! Какого чорта она не оставляет его в покое?
Он улыбнулся, прочитав постскриптум в письме Шопела: «Я чуть было не забыл о самой смешной шутке сезона: Бертиньо Соарес и Сузана Виейра сочетались законным браком. Она появилась в белоснежных одеждах девственницы, с гирляндой из флёрдоранжа и под вуалью. Самая забавная историй за последние сто лет! Что до него, то…» Дальше следовали выразительные, но достаточно нескромные словечки.
Он сунул письмо в карман, попытался снова заинтересоваться печальной улицей, но мысли его витали в Сан-Пауло, он невольно думал о крайне неприятной перспективе иметь в качестве шурина Лукаса Пуччини. Уж лучше Бертиньо Соарес со всеми его пороками, чем этот субъект без роду и племени, – вчера еще жалкий приказчик. Пауло был уверен, что если Лукас сумеет втереться в дом комендадоры, то он станет как хозяин управлять всеми делами и жизнью людей… Неужели он будет для Пауло тем, что представляет собой Коста-Вале для Артура? Ему вспомнилась «теория» Шопела: «Как в прошлом литераторы и артисты были чуть ли не собственностью дворян и принцев, так мы ныне принадлежим промышленникам и банкирам». Тогда они вместе посмеялись над этой фразой, но сегодня Пауло уже было не до смеха: Лукас Пуччини в качестве шурина – это слишком большое унижение…
Пауло колебался: заказать ли еще один коктейль, или оплатить счет и выйти. Как раз в эту минуту он увидел человека, лицо которого показалось ему знакомым. Тот сидел за столиком в углу и читал газету. Где он встречал это симпатичное, открытое лицо, эти пытливые глаза? Он напряг память, а незнакомец в этот момент отвел глаза от газеты, оглядел кафе, будто ожидал кого-то, и встретился взглядом с Пауло. Нет, несомненно, он его откуда-то знает.
Аполинарио, увидев Пауло, подавил возникшее у него в первый момент неприятное чувство. У него было назначено в этом кафе свидание с товарищем. Как не повезло, что он здесь случайно встретил секретаря посольства. Но что же делать? Дипломат его узнал, приветливо помахал рукой и направился к его столику. Пожалуй, лучше поздороваться, перекинуться несколькими словами и постараться поскорее отделаться от него, не вызывая подозрений. С другой стороны, компания такого официального лица, как Пауло, была в данный момент скорее полезна, чем вредна. Он протянул руку.
– Добрый день! Как поживаете?
– Я вас теперь вспомнил, – сказал Пауло. – Мы встречались в посольстве, не так ли?
– В консульстве.
– А! Да, помню. Мы беседовали о Франции и о войне. Вот видите – я был прав. – И он показал рукой на улицу, забитую машинами и повозками беженцев. – Франции пришел конец.
– Конец? – Бывший военный говорил медленно, как бы взвешивая каждое слово. – Французский народ не сдался…
– Французский народ… Вы посмотрите: все стараются удрать, французский народ перестал существовать. Немцы отсюда никогда не уйдут, Франция будет низведена на положение сельскохозяйственной страны. Никто теперь не говорит о бессмертной Франции.
– И все же я верю во французов. Я не говорю о завсегдатаях кафе. Я имею в виду подлинный французский народ…
– Подлинный французский народ… А что вы под этим подразумеваете? Может быть, коммунистов? Я читал воззвание Тореза. Но что они могут поделать против немцев? Еще немного времени – и не останется ни одного коммуниста, даже на память. Ни во Франции, ни во всем мире… Мы вступаем в эру тотального фашизма. Хорошо еще, что в Бразилии Жетулио сделал шаг вперед и создал Новое государство.
– Вы получили какие-нибудь известия из Бразилии? – спросил Аполинарио, которому хотелось перевести разговор на другую тему.
– Там все по-прежнему. Жетулио склоняется к немцам, поговаривают об изменениях в составе совета министров; это постоянная тема. Фактически политика Бразилии решается сейчас здесь. И решится она в зависимости от Гитлера – властелина Европы…
– Но ведь он еще не властелин Европы…
– Вы имеете в виду Россию? Это будет просто прогулка, военный парад, даже не настоящая война. Когда придет время, увидите. Надеюсь, вы убеждаетесь, что мои предсказания оправдываются?
– Пока я продолжаю сомневаться в ваших предсказаниях.
Пауло поинтересовался:
– А вы что, остаетесь в Париже? Ведь почти все бразильцы уже выехали в Португалию или прямо на родину.
– Я остаюсь еще на некоторое время, не могу сразу бросить свои дела.
Пауло расплатился и стал прощаться.
– До свидания. Я уезжаю в Лиссабон, в наше посольство. Когда война кончится, вернусь в Париж, и если мы встретимся, то вам придется признать, что я был прав. Гитлер станет владыкой Европы, императором мира!
– Или будет болтаться на виселице, – иронически заметил Аполинарио, пожимая протянутую молодым человеком руку. – Счастливого пути!
Он проводил Пауло взглядом, видел, как тот уселся в посольский автомобиль и уехал. Теперь и он стал наблюдать за уличным зрелищем, но иными глазами, чем Пауло. Правительство выставило Францию на поругание, оно продало родину, предало народ. Теперь народ должен возвратить себе свое отечество, свою свободу, свою независимость. Аполинарио тоже читал воззвание Тореза и Дюкло, этот драматический и славный призыв партии. Но он читал его в рабочем предместье, в доме у товарищей, и у них на лицах было отнюдь не отчаяние, а решимость и воля к борьбе. Аполинарио тоже мог бы уехать, добраться до Лиссабона, выехать оттуда в Мексику или в Уругвай. Однако он остался.
В свое время бразильская компартия послала его на войну в Испанию, она доверила ему почетную задачу – бороться против фашизма с оружием в руках. Война в Испании кончилась, он оказался в концлагере, бежал оттуда, установил связь с французскими товарищами. Компартия Франции призывала народ к сопротивлению. Чем было это сопротивление гитлеровским захватчикам, как не продолжением войны в Испании, новым актом всемирной великой борьбы за освобождение человека? Раз он сейчас не в Бразилии – значит, его место здесь. Он солдат бразильской компартии, солидарный со своими французскими товарищами в этот тяжелый и опасный час.
Скоро начнутся дни сопротивления. Пройдет немного времени – и на улицах Парижа прозвучат шаги оккупантов… Однако, вопреки мнению Пауло, немцы будут встречены не побежденным народом, не покорным стадом рабов. Воззвание партии пробудило сердце Франции, воодушевило всех патриотов. Аполинарио почувствовал это по реакции товарищей в рабочих кварталах. Франция не умерла, она жила в каждом из тех, кто готовился оказать сопротивление захватчикам, готовился бороться против них из подполья. И он, Аполинарио, вовсе не хотел оставаться зрителем в этой борьбе. Он хотел принять в ней активное участие, это был его долг коммуниста.
В кафе, громко разговаривая, вошла парочка. Аполинарио узнал французского товарища, которою он давно дожидался. Тот явился с молодой девушкой, похожей на студентку. Они подсели к его столику, товарищ тихо сказал ему:
– Раймон, познакомься с Жерменой, она будет твоей связной.
Аполинарио протянул руку через стол, улыбнулся, лицо его просветлело. Он понял, что с этих пор и он приобщен к движению сопротивления захватчикам.
6
Сенсационные сообщения полиции об аресте почти всех руководителей коммунистической партии – членов Национального комитета и районных комитетов, – а также заявления о полном разгроме «этой подрывной организации» умерили первоначальное возбуждение, вызванное речью президента и прямыми последствиями этой речи: уходом Артура Карнейро-Маседо-да-Роша с поста министра юстиции и официальным сообщением Катете, разъясняющим якобы «неправильно интерпретированную» речь[190]11 июня 1940 года, на следующий день после нападения фашистской Италии на Францию, Варгас выступил на борту канонерки в бухте Рио-де-Жанейро с речью, которая была расценена в Соединенных Штатах как выступление против западных «демократий» и публичное выражение симпатии державам «оси». Отклики в США на речь Варгаса заставили его срочно бить отбой: министр иностранных дел Аранья и департамент печати и пропаганды поспешно заявили, что речь была «неправильно передана», что не предполагается никаких изменений в бразильской внешней политике и что Бразилия будет следовать «принципам континентальной солидарности». Дипломатический инцидент с речью Варгаса ярко показывал, что бразильский президент в то время не желал порывать с фашистскими державами, с которыми Бразилия была связана, кроме всего прочего, выгодными для нее экономическими соглашениями, но, вместе с тем, он не был заинтересован и в обострении отношений с Соединенными Штатами, с помощью которых пришел к власти и от которых получал кредиты Бразильское правительство еще в 1939 году объявило о своем нейтралитете..
Мистер Карлтон срочно прибыл в Рио-де-Жанейро, где встретился с Коста-Вале и с американским послом. Город был полон слухов, и Эрмес Резенде ораторствовал в книжных лавках о том, что дни Жетулио сочтены.
Речь Жетулио о международном положении была произнесена на борту военного корабля. Фактически это было объяснением в любви к Гитлеру. Скандальные высказывания диктатора вызвали широкие отклики как в Бразилии, так и, главным образом, за границей. Акции общества долины реки Салгадо на нью-йоркской бирже резко упали. В Рио-де-Жанейро подал в отставку Артур Карнейро-Маседо-да-Роша. В декларации, опубликованной в печати, он заявлял, что оставляет министерство из-за плохого состояния здоровья, ухудшившегося вследствие чрезмерной работы. Но каждому было ясно истинное значение его поступка: это было предупреждение Жетулио со стороны группы промышленников и плантаторов, связанных с американцами, что они лишат его своей поддержки. Помимо этого, американский нажим проявился в резких комментариях прессы янки, в переговорах послов в Рио и в Вашингтоне, в критике «нового государства». Два-три дня спустя после произнесения Варгасом этой речи официальное информационное агентство Аженсиа Насионал роздало газетам правительственное сообщение, разъясняющее «истинное значение слов президента, смысл которых был извращен».
– Он отступил, – сказал Коста-Вале, показывая газету мистеру Джону Б. Карлтону.
Американский миллионер покачал головой.
– Ненадежный человек. Я вообще не знаю, до какой степени можно ему доверять.
– На этот раз мы его крепко прижали. И теперь будем следить за ним в оба. Надеюсь, это послужит ему уроком.
То были дни противоречивых слухов, нервозных комментариев, напряженного ожидания каких-то событий. Все успокоилось, когда полиция Рио объявила об аресте «в результате длительной и упорной деятельности полиции» членов Национального комитета коммунистической партии и руководителей районных комитетов штатов Сан-Пауло, Пернамбуко, Пара и Рио-Гранде-до-Сул. На первых полосах газет были помещены крупные фотографии арестованных. Полиция объявила о большом процессе, на котором в качестве обвиняемых будут фигурировать не только ныне задержанные лица, но и Луис Карлос Престес. Престес должен будет понести ответственность за всю подпольную деятельность партии, хотя он и находился в заключении со строгой изоляцией с начала 1936 года, приговоренный уже на первом процессе к шестнадцати годам восьми месяцам тюрьмы. На этот раз полиция не ограничилась сообщениями в газетах. В связи с арестами подняли шум радиовещательные станции, был даже заснят документальный фильм, показывающий места, где арестовали коммунистов, подпольную типографию, обнаруженную в Рио, найденные материалы, среди них – многие номера журнала «Перспективас», оригиналы листовок и статей.
Начальник федеральной полиции на пресс-конференции, устроенной у него в кабинете, заверил:
– Коммунистическая партия Бразилии перестала существовать раз и навсегда. Она полностью ликвидирована. Бразильский народ может спать спокойно. Красные агитаторы не нарушат его сна. Им нанесен решающий удар.
7
Мариана рассеянно ответила на лепет сына, задавшего ей какой-то вопрос. Она погладила ребенка по голове, напряженно вслушиваясь в шаги на улице, – с нетерпением ждала она прихода матери. Какие известия она принесет? Как поживает Жоан, как остальные товарищи?
Запрещение арестованным сноситься с внешним миром было, наконец, снято; стало известно, что они переведены из полиции в дом предварительного заключения, и в эту среду – день свидания в тюрьме – семьи предприняли попытку увидеться с заключенными. Эти сведения сообщила Олга.
Узнав об аресте Руйво, Олга прибыла из Кампос-де-Жордан, где она все это время лечилась: у нее тоже оказалось неладно с легкими – она заразилась от мужа. Она тут же отправилась в полицию, чтобы получить о нем сведения. Ее несколько часов допрашивали, заставили снова прийти через три дня, – видимо, проверяли ее показания. Она стала ходить туда ежедневно, терпеливо ожидая в коридорах, пока, в конце концов, месяц спустя, Баррос не сообщил ей, что завтра она сможет увидеть Руйво. Свидание состоялось, однако, не на следующий день: ей пришлось прождать еще чуть не неделю.
Наконец наступил долгожданный день. Она явилась в тюрьму, где ей велели подождать в специальном помещении; через несколько минут там появился Руйво в сопровождении агента, который присутствовал на свидании. Олга не могла удержаться от слез при виде мужа: он походил на труп, извлеченный из могилы. Проникавший через оконные решетки свет вынудил его закрыть глаза; он находился все это время в строгой изоляции, в сырой, пахнувшей плесенью одиночной камере без света и воздуха. И теперь он был не просто бледен, у него был вид мертвеца: восковое лицо, замогильный хриплый голос с трудом вырывался из груди. Лишь добрая улыбка по-прежнему появлялась на его лице.
– Ну, как тебе – лучше? – спросил он Олгу.
– Я уже поправилась.
– Тебе нужно найти работу, которая не слишком бы тебя утомляла. На сей раз я попал сюда надолго. Скоро они нас не выпустят.
Он сообщил ей о ходе процесса: начинается следствие, судья уже назначен, всех арестованных коммунистов должны перевести в дом предварительного заключения; дознание в полиции заканчивается. Он мало что мог ей рассказать: не знал даже, сколько человек арестовано, – ведь он провел весь этот месяц в темноте и мрачной тишине одиночной камеры. Только в ночь ареста Руйво встретился с Жоаном и Освалдо в коридоре. Больше он не видел ни того, ни другого. Как раз сегодня, в день посещения Олги, ему сообщили, что должно начаться судебное следствие.
Олга собралась с силами и спросила:
– Тебя били?
Они начали его избивать начиная с первого же допроса. Руйво принял на себя полную ответственность за свои действия в качестве руководителя партии; подтвердил, что он рабочий лидер, коммунист и приверженец Советского Союза. Однако отказался отвечать на какие бы то ни было вопросы. Сразу же после первых побоев у него пошла кровь горлом. Боясь, что он умрет во время допроса, – а известие об его аресте уже было опубликовано, – его отправили в одиночку. В течение месяца его дважды вызывали из камеры на допрос. В первый раз – для очной ставки с Эйтором Магальяэнсом; бывший казначей комитета штата Сан-Пауло опознал его и предъявил ряд нелепых обвинений, которые Руйво опроверг. Во второй раз его ознакомили с обвинительными материалами, которые были основаны почти целиком на показаниях Эйтора.
Позднее Олге удалось получить в полиции подтверждение полученного от мужа сообщения, что все арестованные переводятся в дом предварительного заключения, где свидания будут разрешены. На это и надеялась Мариана. Она не могла сама пойти повидаться с Жоаном, ибо принадлежала к числу немногих активистов, уцелевших после провала районного комитета Сан-Пауло, но послала мать к Олге и другим знакомым, чтобы попросить их узнать новости о муже. Она намеревалась сначала послать мать прямо в дом предварительного заключения, чтобы та назвалась матерью или теткой Жоана. Однако побоялась, что старуха встретится с Барросом, тот ее, возможно, узнает, и это сможет навести его на след. Лучше удовлетвориться известиями, полученными через третьи руки.
Когда внезапно начались аресты, она чуть было не потеряла голову. В одну ночь были взяты почти все руководящие работники партии. Она сама избежала ареста только благодаря счастливой случайности. У нее была назначена встреча с Сисеро д'Алмейдой для получения от него денег – ей недавно поручили ведение финансовой работы комитета штата, освободив ее от прежних обязанностей. Сисеро д'Алмейда должен был передать ей средства, собранные среди сочувствующих, и они назначили вечером свидание у входа в кино. Они должны были войти вместе в зал, там он передаст ей деньги и затем она удалится. Она явилась к назначенному времени, купила билет и стала его поджидать. В этот момент она услышала настойчивый гудок автомобиля. Сисеро, сидя за рулем, заранее открыл ей дверцу, приглашая сесть. Мариана подошла.
– Садитесь быстрее…
Он направил машину в сторону фешенебельных кварталов и по дороге рассказал:
– Полиция забирает всех подряд. В Рио все арестованы; по-видимому, кто-то проговорился и выдал членов Национального комитета и руководителей районных комитетов. Это самый серьезный провал за все время.
Сам Сисеро не был арестован только потому, что его брат Раймундо, крупный кофейный плантатор, получил заблаговременно из Рио конфиденциальное сообщение и приехал к нему домой перед самым приходом полиции предупредить об опасности. У Сисеро даже нехватило времени попрощаться с женой, брат заставил его уйти из дома как можно быстрее:
– Если тебя и на этот раз заберут, на меня больше не рассчитывай.
Ему с большим трудом удалось встретиться с Марианой. Насколько ему известно, арестовано уже около сорока человек, в том числе весь состав комитета штата Сан-Пауло. Эту информацию Раймундо получил, вернувшись по просьбе Габи в дом Сисеро: полицейские, которые во главе с Мирандой уже находились там, хвастались своими подвигами.
Сисеро сказал Мариане:
– У меня есть место, где ты можешь спрятаться.
– А как же с матерью и ребенком?..
– Возможно, еще хватит времени взять их с собой. Времени хватило: полицейские явились в дом, где проживала Мариана, только на другой день рано утром и нашли его запертым. Мариана и Сисеро попытались предупредить других товарищей. У них, однако, было лишь немного адресов, причем, куда бы они ни подъезжали, всюду им попадались полицейские машины, и они вынуждены были, не останавливаясь, продолжать свой путь. Кончилось тем, что Сисеро оставил Мариану в доме, служившем ему убежищем, и объяснил ей:
– Мне придется на время выехать из Сан-Пауло. За мной следят и, если меня заберут, не избежать процесса. Кстати, вчера в Рио арестовали Маркоса, а департамент печати и пропаганды закрыл его журнал.
Через несколько дней Мариана узнала, что спаслась лишь она да Рамиро. Надежно спрятавшийся молодой португалец в первое время помогал ей своими советами.
– Ты с ума сошла… – сказал он Мариане. – Идти в полицию узнавать о Жоане? Зачем? Ты думаешь, тебе что-нибудь сообщат о нем? Тебя просто тут же заберут – на этот раз они хорошо информированы. Этот предатель, который выдал всех в Рио, снабдил их полной информацией.
Да, такая мысль действительно приходила ей в голову: пойти в полицию, заявить, что Жоан – ее муж, потребовать о нем сведений. Они ведь не знают, уверяла она Рамиро, кто она такая; все время полиция искала некую Лидию, активистку партии, которая организовала побег Рамиро и была замешана в беспорядках в муниципальном театре. Эта неизвестная Лидия и значилась в списках федеральной полиции.
Однако португалец предупредил ее об опасности такого шага: она ведь на учете полиции еще со времени своего первого ареста, когда работала на фабрике комендадоры да Toppe. Да и кто, в конце концов, знает, насколько точно информирована полиция и как арестованные выдержали пытки. Это нелепая мысль; Мариана не имела никакого права показываться в управлении охраны политического и социального порядка, когда каждый активист был на вес золота.
– Ты, видимо, не подумала о работе, что нас ждет? Ты читала заявление начальника полиции о том, что партия якобы полностью ликвидирована? Наш долг сейчас же собрать всех уцелевших товарищей и возобновить работу. Мы опровергнем это заявление. – Он пристально посмотрел на нее – юноша, возмужавший под бременем ответственности. – Сколько нас осталось? Полдюжины, возможно, десяток. Но даже если бы мы остались с тобой только вдвоем, наша обязанность – продолжать работу. До того как тебя увидел, я находился в подавленном состоянии, думал, что из всей партии в Сан-Пауло остался я один. Я был подавлен свалившейся на меня ответственностью, но все равно решил продолжать борьбу и идти вперед.
– Именно так. Идти вперед…
Во время этого разговора с Рамиро Мариана вспомнила о старом Орестесе, погибшем несколько лет назад при взрыве подпольной типографии. Орестес, как и отец Марианы, принадлежал к старой гвардии, он был из числа тех, кто заложил фундамент партии в Сан-Пауло. Он умер вместе с таким же юношей, как и Рамиро, умер с улыбкой: он любил молодежь. Для старого итальянца не было большего удовольствия, как поговорить с молодым членом партии, с одним из рабочих парней, в боеспособности которых он видел политическую зрелость пролетариата и его партии. Мариана вспомнила, как он любил Жофре; разве ему не захотелось бы познакомиться и с этим португальцем Рамиро, таким молодым по возрасту и партийному стажу, но уже способным осознать сложность переживаемого момента и принять на себя тяжелую ответственность? Как давно он в партии? Сколько ему лет? Между тем юношеское лицо его было серьезно, это был уже взрослый человек, как будто он унаследовал весь опыт старых партийных работников.
Его голос был как всегда тверд:
– Даже если бы остался только один из нас, борьба должна продолжаться. Никто не имеет права приходить в отчаяние.
Это были те слова, которые ей, несомненно, сказал бы и Жоан, если бы она могла с ним поговорить. Арест товарищей, и в особенности Жоана, явился тяжелым ударом для Марианы. Она невыразимо страдала и до встречи с Рамиро просто теряла голову. Однако по мере того, как португалец говорил, она постепенно приходила в себя, положение для нее прояснялось и, поскольку боль от ареста ее мужа стала утихать, она отдала себе отчет в предстоявшей партийной работе.
– Не знаю, кто и спасся, – продолжал Рамиро. – Нам нужно прежде всего разыскать и собрать товарищей. Ты знаешь партийную работу много лучше, чем я. Думаю, что тебе и следует взять на себя временное руководство, пока нам не удастся создать новый комитет. Думаю, что ты самая опытная из всех оставшихся на свободе. И на тебя ложится наиболее трудная задача.
Она в знак благодарности за доверие пожала ему руку и вскоре снова приступила к работе. Иногда до нее доносились те или иные известия из тюрьмы о зверских пытках, о героическом поведении арестованных. Образ Жоана продолжал непрерывно стоять у нее перед глазами, но теперь она уже не чувствовала себя такой покинутой и потерянной, как в первый момент. «Он страдает, – думала Мариана, – но тюремщики никогда ничего от него не добьются, а я должна быть достойной Жоана, достойной его любви».
Она старалась разыскать немногих оставшихся на свободе товарищей, снова собрать их, возобновить прерванную работу. Типография провалилась, но в доме одного товарища остался ротатор, и они приложили все усилия к тому, чтобы отпечатать на нем листовку по поводу арестов. Мариана сама составила ее текст. Их, членов партии, было очень мало; часть из них была запугана, а выполнение в этих условиях любого задания требовало затраты немалых усилий и времени. «Каких-то несколько человек против крепкой каменной стены, – размышляла Мариана, – но главное все же в том, что мы продолжаем наносить удары, главное в том, что борьба не затухает ни на мгновение».
Так прошел этот месяц, несомненно, самый тяжелый в ее жизни. Бывали дни, когда у них с матерью оставался лишь кусок хлеба. Она жила впроголодь на те гроши, что матери удавалось достать взаймы у старых друзей. Мариана прятала у себя в доме пакет с деньгами, которые ей передал перед отъездом Сисеро. Но это были партийные деньги, из них она понемногу брала лишь на покупку самого необходимого для работы – краски и бумаги для ротатора. Это были священные деньги.
Наконец Олга сообщила им о свидании с Руйво, о переводе всех в тюрьму, о возможности добиться свидания и с остальными заключенными. Мать отправилась потолковать со знакомыми семьями арестованных и попросить, чтобы те, кто пойдет на свидание, осведомились о Жоане. Она побывала только у самых верных друзей, и все они пообещали ей узнать. Вечером она пошла еще раз – спросить, что удалось выяснить о Жоане. И Мариана с нетерпением ожидала мать: она знала, что весточка от мужа поможет ей продолжать работу.
Возглас ребенка, обрадовавшегося незаметно вошедшей бабушке, оторвал Мариану от мыслей. Старуха взяла мальчика на руки, присела на стул. Взгляд Марианы следил за ней с немым вопросом.
– Он тоже в доме предварительного заключения, но еще изолирован от других. И Освалдо также. Их очень сильно били… – сказала она, ласково гладя головку мальчика.
Мариана продолжала молчать; сама она не в состоянии была ни о чем спросить.
– Он из тех, которые ничего не говорят, он, как твой покойный отец… – прошептала старуха, вспоминая мужа.
Она протянула руку, посадила Мариану рядом с собой и обняла дочь и внука одним объятием; горячая слеза – скорее от гордости, чем от страдания, – блеснула на ее измученном лице.
– Он, как твой отец, он из тех, кто, как сталь, – ломается, но не сгибается.
Мариана прислонила голову к иссохшей груди матери. Ее ждала большая и трудная партийная работа, и она была готова к ней.
8
Судебным следователем был назначен бакалавр, отличавшийся некоторой склонностью к литературе и искусству. В его доме по субботам собирались друзья помузицировать и поспорить. Его превозносили за якобы безупречное и блестящее проведение следствий. Это был первый политический процесс, подготовка которого была ему поручена, и он заявил друзьям, что очень доволен представившейся возможностью изучить «необъяснимую психологию коммунистов». Как и другие, он много читал и еще больше слышал о коммунистах, о Советском Союзе. Голова у него была забита всякими нелепыми представлениями, но любопытство его не носило тенденциозного характера: ему хотелось самому себе объяснить, почему эти люди так преданы делу, которое ему представлялось столь спорным.
Так как полиция заявила, что перевозка арестованных в здание суда сопряжена с чрезвычайной опасностью, он решил заслушать их показания непосредственно в тюрьме. До этого он изучил дела, присланные управлением охраны политического и социального порядка: ряд нелепых обвинений, которые почти все основывались на вымыслах ренегатов типа Эйтора Магальяэнса и Камалеана и показаниях полицейских агентов. Если верить им, подсудимые были настоящими чудовищами. Любопытство судебного следователя возросло, и он с большим интересом направился в дом предварительного заключения, чтобы заслушать показания первого из обвиняемых. На ближайшую субботу у него будет материал для горячих споров с друзьями.
Для него и его помощников в конторе тюрьмы был приготовлен кабинет. Начальник тюрьмы пришел поздороваться с ним, и они беседовали, ожидая, когда будет приведен заключенный. Следователь велел вызвать обвиняемого Агиналдо Пенья, и начальник приказал стражнику:
– Приведи Жоана.
Он объяснил следователю:
– Они всегда употребляют подпольные клички.
– Что же они делают в тюрьме?
– Учатся, более культурные из них читают доклады для остальных, организуют коллектив…
– Коллектив? Это что такое?
Начальник тюрьмы рассмеялся.
– Это термин из их жаргона. Означает, что они всё организуют коллективно: вместе учатся, работают, делят передачи, получаемые некоторыми из них. Они действительно очень организованны и солидарны друг с другом.
Вошел Жоан в сопровождении тюремного надзирателя. Следователь поднял голову, чтобы взглянуть на него, и вздрогнул. Исхудавшее лицо заключенного было в лиловых синяках, шрам на губе едва начал зарубцовываться, рука на перевязи.
– Вы что, ушиблись? – спросил он.
– Полицейские били меня целый месяц.
Следователь склонился над разложенными перед ним бумагами
– Вы сеньор Агиналдо Пенья? – спросил он и в ответ на подтверждение Жоана показал ему на стул. – Садитесь.
Чиновники были наготове. Жоан осведомился:
– Вы судебный следователь?
– Да.
Жоан начал с протеста против насилия и зверского обращения, жертвами которых оказались как он, так и другие заключенные. Он словно чеканил слова, это было убийственное показание против полиции, против «нового государства», против фашизма. После первых же его слов секретарь прекратил запись и взглянул на следователя, как бы спрашивая, должен ли он заносить в протокол все, что говорит заключенный. Следователь на миг замер в нерешительности, начальник тюрьмы хотел что-то подсказать, но Жоан опередил его.
– Сеньор следователь, достаточно посмотреть на меня, чтобы установить, каким насилиям мы подвергаемся. Если вы не хотите превратиться в участника этой судебной комедии, прикажите занести мой протест в протокол. Хотя бы потому, что иначе я откажусь давать какие-либо показания. Полицейские пытали меня и моих товарищей, и я требую, чтобы мой протест был оформлен и юстиция произвела расследование.
Следователь еще раз взглянул на коммуниста: лицо в кровоподтеках и синяках, строгая, подтянутая фигура. Он распорядился, чтобы секретарь записывал все, и Жоан продолжал показания. В течение полутора часов он неумолимо обвинял полицию: подробно описал каждый вид применявшихся к ним пыток, рассказал о ночных допросах, о зверствах агентов. Он показал свободную от повязки руку, покрытую синяками и кровоподтеками, показал и руку на перевязи – ему ее сломали полицейские. У следователя исчезло то приятное возбуждение, с которым он пересек порог тюрьмы. Это пространное и подробное описание пыток вызвало у него содрогание; процесс уже не казался ему столь интересным. Жоан закончил требованием начать расследование и привлечь полицию к ответственности. Нужно немедленно произвести медицинскую экспертизу, чтобы установить у него и у его товарищей еще свежие следы пыток. В числе заключенных был один больной туберкулезом в открытой форме, и все же его больше месяца продержали в сырой камере-одиночке, почти без питания, – это было подлинное убийство. Он возлагал ответственность за эти преступления не только на полицию, агентов и инспекторов, но и на правительство и лично на диктатора. При этих словах секретарь снова проявил нерешительность, не зная, записывать их или нет. Но следователь ничего не сказал, и он продолжал писать, все ниже сгибаясь над машинкой, будто хотел прикрыть своим телом жгучие слова протокола.
– Я приму меры… – пробормотал следователь, когда Жоан кончил говорить. – Перейдем теперь к вашим личным показаниям. Известно ли вам, в чем вы обвиняетесь?
– Меня не познакомили с материалами дела…
Следователь изложил ему вкратце содержание обвинительных документов полиции. Он все больше нервничал, убеждаясь, что заключенному не было предоставлено никакой возможности предварительно ознакомиться с материалами процесса, что у него не было и адвоката. Жоан обратил его внимание на все эти беззакония и заявил против них протест. Он опроверг различные обвинения полиции, все эти совершенно невероятные доносы Эйтора Магальяэнса. Он подтвердил свою верность коммунистическому учению, принял на себя ответственность за свои действия в качестве партийного руководителя в штате Сан-Пауло, но отказался дать какие-либо разъяснения как по поводу своей деятельности, так и по поводу деятельности товарищей. Потребовал сделать два-три исправления в отпечатанном протоколе. Когда все было закончено, следователь уже в тоне обычной беседы спросил его:
– Вы, между прочим, не адвокат? Из вас вышел бы неплохой юрист.
– Я рабочий, – спокойно, но с ноткой гордости ответил Жоан.
Следователь оправился от первого потрясения, вызванного описанием полицейских бесчинств; им снова овладело свойственное ему любопытство:
– Однако вы образованный рабочий. Исключение для своей среды…
– Придет день, и все рабочие станут образованными. Многие из них станут адвокатами, следователями и судьями.
Следователь снисходительно улыбнулся.
– У вас богатое воображение.
– Воображение? В СССР это уже свершившийся факт. Придет день, то же будет и у нас.
– Вы мне позволите задать вам несколько вопросов частного характера? – спросил следователь. – Я изучаю психологию и признаюсь в своем любопытстве по отношению к вам, коммунистам. Что именно заставляет вас посвящать этому делу свою жизнь, даже жертвовать ею? Что вы видите в коммунизме?
– Я вовсе не приношу никакой жертвы. Я просто выполняю свой долг рабочего руководителя. То, что вы называете жертвой, представляет смысл моего существования, я не мог бы действовать иначе, не испытывая отвращения к самому себе.
– Но почему же?
– С того дня, как я убедился в справедливости идей, которые я теперь отстаиваю, я посвятил себя их распространению, борьбе за их торжество. Я был бы недостоин называться человеком, если бы поступал иначе. Я не мог бы жить в мире со своей совестью. Ни тюрьма, ни пытки не способны заставить меня отречься от моих идей. Это было бы равносильно отречению от человеческого достоинства. Я борюсь за то, чтобы изменить к лучшему жизнь миллионов бразильцев, которые голодают и живут в нищете. Эта задача столь прекрасна, сеньор, столь благородна, что ради нее человек может выдержать самое тяжелое заключение, самые зверские пытки. Дело того стоит.
– Я это называю фанатизмом, – сказал следователь. – Мне уже рассказывали что вы – фанатики. Теперь я убедился в этом сам.
– То, что вы называете фанатизмом, я называю патриотизмом и верностью своим убеждениям.
– Патриотизмом? – Голос следователя зазвучал почти протестующе. – Странный способ быть патриотом.
– То же самое, сеньор, сказали Тирадентесу[191]Тирадентес, Жоакин Жозе да Силва-Шавьер (1748–1792) – национальный герой борьбы бразильского народа за свою независимость, возглавил движение против португальского колониального господства. После раскрытия заговора был казнен. Прозвище «Тирадентес» («Дергающий зубы») получил из-за своей прежней профессии дантиста. судьи португальского королевского двора. Для королей Португалии люди, боровшиеся за независимость Бразилии, тоже были фанатиками. Но эти люди знали, что их дело правое, и это придавало им силу, как и мне придает силу сознание правоты нашего дела.
– Я допускаю, ради какой-нибудь другой, более возвышенной идеи… Но коммунизм… Подавление личности… Человек становится просто винтиком государственной машины. Надеюсь, вы не станете отрицать, что при коммунизме индивидуум исчезает, чтобы уступить место только государству, превращая последнее в абсолютного властелина. Это то, что имеет место в России, где не считаются с индивидуумом…
Жоан улыбнулся, он уже не впервые слышал подобные рассуждения.
– Только при социализме личность человека может получить свое полное гармоническое развитие. Вы, как я вижу, совершенно незнакомы со всем, что относится к коммунизму и к Советскому Союзу. Вы удовлетворяетесь развитием личности тех, кого вы называете избранными: правящих классов, богачей. Мы же ведем политику в защиту миллионов и миллионов эксплуатируемых – тех, которые получат возможность развития своих способностей лишь тогда, когда рабочий класс возьмет власть в свои руки. Голодающий человек, будь то на фабрике, будь то на фазенде, отнюдь не свободен.
– Но вы же не станете меня убеждать, что человека освобождает диктатура пролетариата…
– Я ни в чем не собираюсь вас убеждать, сеньор. Для меня достаточно того, что рабочие это прекрасно понимают. Да, диктатура пролетариата освобождает человека от нищеты, от невежества, от эксплуатации, от эгоизма – от всех цепей, в которые он закован диктатурой буржуазии и латифундистов. Вы, господа, называете эту диктатуру демократией, а она не только остается реакционной кандидатурой, но и превращается в фашизм. Это демократия для избранных и диктатура для всех. Диктатура же пролетариата означает демократию для всех.
Следователь принужденно улыбнулся.
– Я уже где-то читал: «высший тип демократии»… Это просто забавно. Ведь там нет ни свободы слова, ни свободы критики, ни свободы религии…
– Вы говорите о «новом государстве», а не о социалистическом режиме, – возразил Жоан. – Именно в социалистическом государстве, в СССР, существует и свобода слова, и свобода религии, и свобода критики. Достаточно прочесть Советскую конституцию. Вы с ней знакомы? Рекомендую вам прочесть ее, сеньор. Для юриста это просто необходимо.
– Свобода в России… Свобода быть рабом государства, работать на других. Свобода ничего не иметь, ничем не владеть.
– Да, свобода эксплуатировать других, владеть средствами производства – такая свобода в СССР не существует. Эта свобода процветает здесь, сеньор, – свобода для богачей, свобода для немногих. Для остальных же, для огромного большинства бразильцев если и есть какая-нибудь свобода, то это – свобода голодать и оставаться неграмотным. А тех, кто против этого протестует, ожидают тюрьмы, побои, ссылка. Вы, сеньор, забываете, что говорите с заключенным, с жертвой этой вашей пресловутой «свободы». Вы, господа, удовлетворяетесь свободой для своего класса. Мы же хотим подлинной свободы для всех: свободы от голода, от невежества, от безработицы, от нужды. Не говорите о свободе хоть здесь, сеньор, в доме предварительного заключения. Здесь вашей свободе грош цена. Говорить тут о свободе – это значит осквернять слово, которое для нас, коммунистов, имеет особое значение.
– С вами невозможно разговаривать. Вы все время хотите навязать свои идеи насильно.
– Насильно? – Жоан снова улыбнулся. – Осторожнее, сеньор, так вы, пожалуй, кончите утверждением, что это я избил полицейских…
– Вы неглупый человек. – Голос судьи принял менторский тон. – Трудно даже поверить, что вы рабочий. Отбросьте эти идеи, и вы станете полезным для страны человеком…
– Нет, таким, каким вы хотите меня видеть, я не стану, сеньор. Я коммунист, в этом моя честь и моя гордость. Я не сменю это звание ни на какое другое… – Взор его был устремлен через оконные решетки; он видел за тюремными стенами крыши домов. – Смотрите, сеньор, даже здесь, за этими решетками, я свободнее вас. С этими следами побоев я все же намного счастливее вас. Я против тюрем и пыток. Я люблю свободно ходить по улицам, дышать вольным воздухом. Но, несмотря на это, я не чувствую себя здесь несчастным. Ибо я знаю, что завтра будет именно так, как я этого желаю, что мир для моего сына станет веселым и прекрасным… А также и для вашего сына, сеньор, если он у вас имеется… Как бы вы ни старались помешать этому. На земле не будет голодных, все люди научатся читать и писать, навсегда исчезнут несчастья.
Он уже говорил теперь не только следователю, он как бы обращался ко многим другим там, за решетками тюрьмы. Даже секретарь слушал его с интересом. Жоан помолчал и снова обратился к следователю:
– Через некоторое время, сеньор, когда мы закончим наш разговор, вы вернетесь на улицу, на вольный воздух, в лоно семьи. Я же вернусь в тишину своей одиночки. И, тем не менее, я могу вас заверить, что я свободнее и счастливее вас.
Следователь покачал головой.
– С вами, господа, бесполезно спорить. Бесполезно…
Когда Жоана увели, начальник тюрьмы сказал:
– Все они таковы. Пользуются каждым случаем для пропаганды своих идей. Как будто специально обучаются ораторскому искусству. Такими разговорами они очень многих обманывают. Все, кто не держит ухо востро, попадаются на их удочку.
Следователь поднялся.
– Пожалуй, верно, что здесь смешно говорить о свободе, отстаивать перед заключенным нашу концепцию свободы, тем более затрагивая при этом вопрос о работе полиции. Ведь то, что они сделали с этим человеком, – бессмыслица. Зачем это было нужно?
– Без побоев они ничего не скажут. Да и с побоями очень редко удается чего-нибудь добиться. Коммунист – это не такой человек, как остальные, сеньор.
– Да, они не таковы, как остальные… – согласился следователь.
И на улице он повторил себе то же самое. Все, за что боролся этот человек, может быть, и мечта, но нельзя отрицать, что она кажется прекрасной и заманчивой. Он вспомнил его избитое лицо, лиловое от синяков. Зачем нужно было грубой силой подавлять эти идеи? Не потому ли, что полицейские не могли опровергнуть их другими средствами? Следователь кичился своим умением спорить, друзья утверждали, что у него нет соперников в способности подбирать аргументацию. Однако в этом разговоре он не сумел найти доводы, которые можно было бы противопоставить полным достоинства словам коммуниста, его убеждениям. Выйдя из тюрьмы, следователь почувствовал себя неспокойно. Человека избили, сломали ему руку. Его обязанностью было учинить расследование. Но полиция в «новом государстве» всемогуща, любое его выступление может дорого обойтись; он рискует даже потерять место… Но если он, следователь, этого не сделает, разве не даст он тем самым заключенному лишнее доказательство его правоты, разве это не будет служить практическим доказательством обоснованности его утверждений?
В течение нескольких дней и бессонных ночей следователь колебался. Он отложил продолжение судебного следствия до следующей недели. Однако мало-помалу совесть его успокоилась, и в субботу он заявил своим многочисленным друзьям, интересовавшимся ходом судебного следствия: «Они просто фанатики, спорить с ними бесполезно».
Ему, впрочем, так и не удалось продолжить свои наблюдения над коммунистами, ибо он был заменен другим следователем, которому и было поручено подготовить процесс. Начальник тюрьмы информировал Барроса о странной сердечности, с которой прежний следователь отнесся к Жоану, и о его совершенно непонятном поведении, выразившемся в том, что он распорядился занести в протокол показания о пытках. На его место прислали следователя, уже привычного к таким политическим процессам. Это был человек с притупленной чувствительностью и без всяких интеллигентских вывихов.
9
В час, когда в светском обществе принято пить чай, экс-министр Артур Карнейро-Маседо-да-Роша и социолог Эрмес Резенде находились в доме Коста-Вале. Артур и привез с собою Эрмеса, они еще в автомобиле начали спор о внутреннем и внешнем положении страны.
Экс-министр юстиции снова открыл адвокатскую контору в Сан-Пауло. После своей отставки он держался умеренной оппозиции правительству. Некоторым давал понять, что оставил министерский пост из-за несогласия с авторитарными методами режима. Он всегда был либералом, его демократические идеи известны в стране, его речи в парламенте – лучшее тому доказательство; он доверял людям, связанным с Армандо Салесом, сторонникам англичан и французов, друзьям американцев. Если он и принял пост министра внутренних дел и юстиции в трудный час, после неудавшегося переворота в мае 1938 года, то для того, чтобы не допустить еще больших преследований своих политических соратников, скомпрометированных заговором, а также в надежде «содействовать демократическому разрешению нынешнего политического кризиса, переживаемого страной». Убедившись в невозможности изменить авторитарную структуру «нового государства», он ушел в отставку, протестуя таким путем против усиления диктатуры и против опасной внешней политики правительства, выразившейся в «отходе от традиционного союза с Соединенными Штатами в такой серьезный момент, когда идет война». Кое-кто верил этим утверждениям, а кое-кто втихомолку улыбался, называя его «старой оппортунистической лисой». Артур, всегда любезный и сердечный, умело лавировал между теми и другими; он обязательно присутствовал на всех приемах, упоминался в каждой светской хронике. Он обедал в доме Коста-Вале, завтракал с комендадорой да Toppe, пил аперитивы в автомобильном клубе, строил планы посещения фазенд Венансио Флоривала, чтобы поохотиться с полковником за ягуарами в долине реки Салгадо.
Оппозиция Эрмеса Резенде носила менее умеренный характер. Не получив назначения ректором университета, он использовал противоречия правительственной внешней политики для ведения антижетулистской пропаганды среди интеллигенции. Он превратился в своего рода официального проповедника «рузвельтовских доктрин» пресловутой политики «доброго соседа», однако он противопоставлял «рузвельтовскую демократию» не только «новому государству», но и марксистским концепциям. Недавно он получил приглашение прочесть курс бразильской литературы в одном американском университете и теперь готовился к отъезду. Своим многочисленным поклонникам он изображал это путешествие как своеобразную форму протеста против правления Варгаса. «Нечто вроде добровольного изгнания», – пояснял он. Это не помешало ему, однако, добиваться сохранения за собой места профессора университета с выплатой ему жалования. За время поездки это не помешало ему также согласиться с предложением министерства просвещения о проведении некоторых исследований в библиотеках Соединенных Штатов. «Это не более как деловое поручение по моей научной специальности», – объяснял он друзьям.
В автомобиле, по дороге к дому Коста-Вале, Эрмес и Артур обменивались мнениями о бразильской политике, о шансах антижетулистского движения. В этом конспиративном сговоре, сообщил Артур, участвуют многие политические деятели и военные. Армия, по его словам, разделилась на два лагеря: с одной стороны – генералы, сочувствующие нацизму, с другой – офицеры, настроенные против фашизма и готовые восстать, если Варгас сделает еще шаг в сторону Гитлера. По прибытии в дом банкира Эрмес стал распространяться о ближайших перспективах развития войны, рассуждая об этом авторитетным тоном, как человек, обладающий достоверными сведениями.
Вновь прибывшие были встречены оживленными, радостными восклицаниями.
Артур объявил:
– Наш Эрмес рисует весьма любопытную картину международной обстановки. Меня заинтересовали его выводы…
– Начните с начала… – повелела комендадора.
До появления Артура и Эрмеса разговор вращался вокруг театра, и комендадора смертельно скучала. Бертиньо Соарес прибыл из Рио с женой – Сузаной Виейра-Соарес и с ансамблем «Ангелов». Сезон в Рио закрепил их прежний успех, однако им все же пришлось освободить здание для балетной труппы, в ближайшие дни прибывающей из-за границы. «Ангелы» перебрались в муниципальный театр Сан-Пауло, и Бертиньо был в восторге от того, что ему удалось завербовать нескольких польских артистов и режиссеров, которые бежали сюда от войны. Эти люди прибыли в Бразилию по рекомендациям Пауло и Розиньи, подружившихся с графом Заславским. Граф продолжал жить в Лиссабоне, но о нем говорили в обществе уже как о хорошем знакомом. По мнению Бертиньо, польские режиссеры совершат настоящий переворот в бразильском театре. Лукас Пуччини поинтересовался, когда приедет балетная труппа. Он не получил письма от Мануэлы.
Теперь Лукас регулярно бывал в гостях у Мариэты Вале. Он приезжал с комендадорой и Алиной; вначале кое-кто морщил нос при его появлении, у некоторых поднимались брови, как бы вопрошая, что нужно здесь этому нахалу. Однако, поскольку Коста-Вале вежливо ему улыбался, а комендадора не скрывала своих симпатий к этому богачу-выскочке, всем не оставалось ничего иного, как принять его в свою среду.
В этот вечер собрание было весьма оживленным: только что из Буэнос-Айреса прибыла погостить месяц в Бразилии Энрикета Алвес-Нето. Муж ее, заочно осужденный на год тюремного заключения, послал супругу разведать политическую обстановку на родине. Она привезла с собой несколько писем и держалась весьма таинственно. Многие приехали к Коста-Вале специально, чтобы повидаться с ней и узнать новости о политических эмигрантах. И она, оказавшаяся сначала в центре внимания, почувствовала было себя обойденной, даже обиженной, когда заговорили о театре, и поэтому зааплодировала, как только Артур начал разглагольствовать на политические темы. Эрмес уселся рядом, он прибыл из Рио, чтобы с ней встретиться. Все замолчали, ожидая, когда он заговорит.
– Я уже сообщал Артурзиньо, что скоро наступит кульминационный момент войны. Кульминационный в психологическом смысле. Гитлер – властелин Европы – сейчас в величайшем затруднении. Его подлинный враг не Англия, а Россия. С другой стороны, Соединенные Штаты не могут сложа руки смотреть на вторжение в Англию. Американцы крайне сентиментальны, и если они так помогали Финляндии в русско-финской войне, то с тем большим основанием теперь они окажут помощь старой метрополии. И Гитлер это знает. – Он прервал на момент свои рассуждения, довольный вниманием аудитории, и улыбнулся Энрикете. – На мой взгляд, произойдет следующее: Гитлер, терроризовав Англию бомбардировками, предложит мир и вторгнется в Россию.
– Вторжение в Россию – это только вопрос времени, – согласился Коста-Вале.
– И короткого времени, – добавил Эрмес. – А что произойдет тогда? – задал он вопрос.
– Русские воспользуются этим, чтобы освободиться от коммунистов и совершить новую революцию, – ответила Энрикета, повторяя слова Тонико Алвес-Нето и радуясь возможности проявить свое понимание политических вопросов.
– Поход в Россию будет прогулкой для германской армии, – сказал, в свою очередь, вкрадчивым ораторским голосом Артур. – Москва будет взята в течение месяца, возможно, – даже трех недель…
– Простите, я не согласен ни с нашей очаровательной Энрикетой, ни с нашим эрудированным Артурзиньо. Я не верю ни в такую быструю «революцию», ни в такой быстрый разгром, – заметил Эрмес.
– Русские мечтают освободиться от коммунизма… – снова заявила Энрикета.
– Возможно, – согласился Эрмес. – Но не забывайте, что существуют миллионы русских фанатиков; учтите, что проблема антикоммунистической революции не так уж проста. Люди, которые могли бы ее совершить – троцкисты, – давно ликвидированы. Это я напоминаю в связи с замечанием Энрикеты. С другой стороны, я полагаю, что русские окажут Гитлеру значительно более упорное военное сопротивление, чем многие ожидают. Я согласен с тем, что Москва скоро падет, но русские будут сопротивляться и на Урале. Чем это все кончится? Гитлер выйдет из этой войны победителем, но в то же время истощит свои силы. Он окончит войну совершенно измотанным, неспособным навязать кому-либо свою волю. Возможно даже, что он не сумеет удержаться у власти и его заменят германские генералы. И в этой обстановке условия мира разгромленной России и истощенной длительной войной Германии будут диктовать Соединенные Штаты. Благодаря своей политической ловкости они пожнут плоды победы, не сделав ни единого выстрела. Вот как, на мой взгляд, будут развиваться события.
– Возможно, – заметил Коста-Вале. – В ваших рассуждениях много верного.
– Жаль, что здесь нет Тео, – посетовала Мариэта. – Он бы мог сказать, насколько верны предсказания Эрмеса. Как раз на днях…
Однако банкир прервал ее:
– Как бы там ни было, если только Гитлер покончит с Россией, им будет заслуженно восхищаться весь мир. Это необходимая операция для всего человечества, и только он в состоянии ее осуществить.
– Жаль лишь, что у него такие методы правления, – вмешался Артур. – Они, возможно, хороши для Германии, но представляют плохой пример для других правительств, начать хотя бы с Бразилии.
– Будешь снова в оппозиции, Артурзиньо? – лукаво спросила его комендадора. – Все еще принюхиваешься к министерству?..
– А почему бы и нет? – снова вмешалась Энрикета. – С уходом Артурзиньо правительство лишилось последнего демократического деятеля.
Коста-Вале снова прервал спор:
– Жетулио – как Гитлер: у него есть свои особенности, не всегда легко к ним привыкнуть. Однако верно одно – и за это он заслуживает нашего поклонения: он покончил в Бразилии с коммунизмом. На мой взгляд, самым замечательным событием последнего времени было не падение Парижа, не вторжение в Норвегию, не бомбардировки Лондона. Самым значительным событием была ликвидация нашей полицией коммунистической партии. Этим мы обязаны Жетулио, Новому государству, этого нельзя отрицать. При другом режиме это было бы невозможно.
В спор вмешался Лукас Пуччини; он вспылил из-за критических замечаний по адресу Жетулио:
– Доктор Жетулио не подлежит никакой критике. Это величайший президент, которого когда-либо знала Бразилия. И я не позволю, чтобы кто-нибудь плохо отзывался о нем в моем присутствии.
Энрикета Алвес-Нето бросила на него презрительный взгляд.
– Сразу видно, что вы, сеньор, не привыкли к нашему кругу. У нас не принято говорить: «не позволю». Такие выражения шокируют воспитанных людей.
Лукас сжал кулаки, лицо его покраснело от обиды; комендадора вступилась в его защиту.
– Энрикета, ты становишься нервной – это возрастное… Когда мы начинаем стареть, дочь моя, следует особенно заботиться о своих нервах. Так вот послушай: я нахожу, что Лукас прав, и я также не позволю, не позволю, чтобы кто-нибудь при мне плохо отзывался о Жетулио.
Энрикета чуть не упала в обморок, но комендадора продолжала спокойно доказывать:
– Жозе прав: Жетулио покончил с коммунизмом, и за одно это ему стоит поставить памятник. Кто же станет отрицать опасность, которую представляли коммунисты?
Эрмес стал утешать Энрикету, и та наконец согласилась, что ликвидация коммунистической партии была, несомненно, делом большой важности. С этим согласились все. Энрикета, успокоившись, даже улыбнулась Лукасу, Мариэта стала мирить ее с комендадорой. Старуха начала прощаться, она увозила с собой племянницу и Лукаса.
Как только комендадора уехала, Энрикета бросила реплику:
– Она не может отрицать, что была проституткой, что вышла из низов. Она так противна…
Коста-Вале засмеялся.
– Не забывайте, что комендадора теперь родственница Артурзиньо и мы с ней друзья. Вы, Энрикета, были грубы с этим малым…
– Политические страсти… – рассмеялся Артур. – Энрикета вмешалась в высокую политику. Я в самом деле начинаю думать, что Жетулио грозит опасность: теперь против него хорошенькие женщины.
Энрикета снова начала улыбаться: впереди было много интересного – ей предстоял обед с Эрмесом. Бертиньо пригласил ее и социолога присутствовать вечером на репетиции труппы. Они смогут увидеть там польского режиссера за работой; он просто великолепен.
Но, прежде чем уйти, Эрмес задал еще вопрос:
– Знаете ли вы, что Маркос де Соуза тоже арестован? Многие хлопочут об освобождении архитектора, но полиция не намерена его выпускать. Заявляет, что против него много улик…
– Маркос? Бедненький… – пожалела Мариэта.
– Бедненький? – Коста-Вале нахмурил брови. – Почему это он бедненький? Полиция, на мой взгляд, поступила совершенно правильно. Кто просил его путаться с коммунистами? И пусть его продержат некоторое время, чтобы проучить. Зато когда он выйдет, то станет тихоньким, никогда больше не будет отказываться проектировать дома для колонистов. Мое мнение: коммуниста – в тюрьму! Кем бы он ни был! Если хорошенько подумать, то Лукас прав: Жетулио – величайший президент из всех, кого когда-либо имела Бразилия.
Позже, когда он, Мариэта и Артур остались втроем и собирались ужинать в интимном кругу, банкир сказал Артуру:
– Ты представляешь себе, что это значит? Освободиться навсегда от коммунистов! Это значит навсегда расстаться с бессонницей и кошмарами…
10
Маркос был арестован на улице Рио-де-Жанейро, когда он направлялся на свидание с директорами страховой компании, собравшимися поручить ему строительство доходного дома. Полицейский агент подошел к нему и предложил пройти в полицию: инспектор охраны политического и социального порядка желает с ним поговорить. Маркос посмотрел на полицейского с обычным для него добродушным видом и ответил:
– Сейчас мне некогда. Я очень тороплюсь. Скажите инспектору, что я, возможно, зайду к нему попозже, когда освобожусь.
Агент, не ожидавший такого ответа, растерялся, и Маркос продолжал свой путь. Но тут же его догнал второй шпик и взял за руку.
– Вы должны пойти немедленно…
– А если я не хочу? Если я откажусь от приглашения?
Полицейский возмутился:
– Ну ладно, кончим эту комедию. Вы арестованы.
Его сначала заставили прождать несколько часов в управлении полиции – в помещении, где он был совершенно один. На стуле валялась оставленная кем-то газета, и Маркос прочитал ее всю с первой до последней строчки. Он стал нервничать, день уже был на исходе. Маркос без конца взад и вперед ходил по комнате. Ему ничего не было известно о произведенных за эти дни арестах; полиция к тому времени еще не объявила о разгроме руководства партии.
Когда его арестовали, он решил, что это очередной нажим на журнал, как уже однажды было в Сан-Пауло; но тогда его не арестовали: он просто получил повестку из полиции, в которой был указан час явки. В Рио, видимо, другие методы, подумал он. В последнем номере журнала ему удалось обмануть цензуру и напечатать статью о Днепрогэсе и других советских стройках. Цензору показалось, что это просто техническая статья; номер вызвал сенсацию. Именно этому Маркос и приписывал свой арест. Будут, конечно, грозить закрытием журнала, думал он, возможно даже на время запретят его. После допроса ему, очевидно, велят убраться.
Поэтому, когда появился агент и предложил следовать за ним, Маркос подумал, что его ведут к инспектору. Вместо этого его отвели в другое помещение, битком набитое арестованными, и оставили там, ничего не объяснив. Маркос осмотрелся, но не увидел ни одного знакомого лица. Он и в самом деле знал лишь очень немногих членов партии, да и то в Сан-Пауло: руководителей районного комитета, Мариану, Сисеро, еще трех-четырех человек. Он был связан большей частью с сочувствующими, с интеллигенцией, сотрудничавшей в журнале, с представителями литературных и художественных кругов. В Рио же он не имел контакта ни с одним партийным руководителем, тем более – ни с кем из низовых работников.
Полицейский посмотрел на него с порога, прежде чем закрыть дверь. Маркос прошел вглубь помещения; дело было, видимо, серьезнее, чем он думал. Агент закрыл дверь.
Один из арестованных, одетый в рубашку, брюки и домашние туфли, сидел на койке и приветливо пригласил его:
– Садись, товарищ!
Маркос поблагодарил и уселся рядом с ним. Тот улыбнулся и спросил, понизив голос:
– Так, значит, схватили? В каком ты районе действовал? Что у тебя была за работа?
Маркос хотел было ответить, что он редактор журнала «Перспективас», но, продолжая в этот момент оглядывать помещение, увидел чуть заметный предостерегающий знак, сделанный ему другим заключенным, низеньким небритым человеком. Тот же совет он прочел и на других лицах.
– Я не имею никакого отношения к этим делам, – ответил Маркос. – Понятия не имею, почему я арестован. Видимо, какая-то ошибка.
– Мы тут среди товарищей, – настаивал тот. – Можно говорить откровенно.
– Да мне совершенно нечего говорить. – И Маркос поднялся.
К нему подошел небритый человек.
– Займите лучше себе койку. Тут есть одна свободная, рядом со мной. – Он указал на кровать, затем отвел Маркоса в сторону. – Этот тип – провокатор… – прошептал он.
Вечером сосед по койке долго разговаривал с Маркосом. Время от времени беседа прерывалась: в дверях показывались полицейские, они выкрикивали имя того или иного арестованного, вызывавшегося на допрос. В час раздачи пищи провокатор исчез.
– Его посадили сюда, чтобы выяснить, не знаете ли вы кого-нибудь из нас, чтобы попытаться вас подловить. Это они всегда так делают с новичками, которые попадают сюда впервые.
Он рассказал Маркосу о происшедших событиях: ни разу еще со времени 1935–1936 годов полиция не наносила партии такого сильного удара, не арестовывала одновременно столько партийных работников. Помещения полиции были заполнены, и все же каждый час прибывали новые люди. Допросы сопровождались избиениями, руководители Национального комитета содержались в ужасных условиях, их изолировали в подвальных складских помещениях. Новый знакомый дал Маркосу ряд советов: против него полиция не могла иметь никаких улик, кроме того факта, что он ответственный редактор «Перспективас». Если Маркос будет отрицать, что имеет хоть какое-либо отношение к партии, ему, возможно, даже удастся избежать процесса. Что же касается его самого, то собеседник не строил себе иллюзий.
– Когда придет моя очередь, они меня изобьют до полусмерти. Меня искали много лет.
– Но как же полиция сумела обнаружить местонахождение руководителей партии?
Арестовали одного ответственного работника, – начал рассказывать сосед по койке. Это случилось, когда тот, вопреки решению партии, отправился навестить семью. Его пытали, и кончилось тем, что он заговорил и выдал чуть не всю организацию, причем не только в Рио, но и в ряде штатов. А он казался таким твердым, даже похвалялся своей стойкостью и мужеством, и вот в трудную минуту не выдержал! Из-за него подвергли пыткам и многих других; полиция изощряется в насилиях. Маркос сможет увидеть, кого-нибудь притащат сюда после допроса.
И Маркос увидел, и сердце его наполнилось гневом: одного товарища, которого несколько часов назад вызвали на допрос, полицейские приволокли обратно и полумертвого бросили на пол. В последующие дни такие сцены повторялись столько раз, что он даже не мог уснуть, находясь все время в тоскливом ожидании. Однажды ночью вызвали и его небритого соседа. Маркос проникся к нему уважением за эти дни: это был рабочий-металлург, отказавшийся от всего на свете ради партии. Всю ночь Маркос ожидал его возвращения, сердце его тревожно билось. Однако он больше не вернулся. Маркос встретил его снова лишь некоторое время спустя в исправительной тюрьме. У него вырвали все ногти плоскогубцами, обожгли грудь ацетиленовой горелкой.
Маркоса ни разу не допрашивали. Восемнадцать дней он находился в помещении для арестованных. И вот однажды вечером его вместе с несколькими другими заключенными перевели в тюрьму. Он не получал никаких известий из внешнего мира, не читал газет с самого дня ареста; не имел даже смены белья.
Первое время в управлении полиции он чувствовал себя одиноким среди неизвестных ему людей; в большинстве своем это были суровые рабочие из низовых партийных организаций. Но это чувство вскоре исчезло: один из них одолжил ему старые брюки, другие разговаривали с ним о его журнале, вспоминали отдельные статьи, кто-то рассказал ему о жене и детях. Он был окружен атмосферой товарищества; даже при этих трагических обстоятельствах никто не терял надежды. Они обсуждали разные вопросы, и уже на третий день после ареста Маркоса обратились к нему с просьбой сделать доклад об искусстве. Прошло немного времени – и архитектор почувствовал себя связанным с ними со всеми: он ощутил и здесь присутствие партии, причем это уже была не прежняя случайная связь с партией, а связь в определенной и конкретной форме. Эта вдохновляющая атмосфера наполняла его каким-то чувством бодрости. Когда его переводили в тюрьму, ему было тяжело расставаться с товарищами, он обнял их всех по очереди, одного за другим.
В тюрьме он встретил не только тех, кто был арестован за последние дни, но и ранее осужденных товарищей, ожидавших отправки на остров Фернандо-де-Норонья. Там сидел также один бывший армейский офицер, арестованный еще в ноябре 1935 года. Из-за болезни глаз его привезли с острова, он должен был подвергнуться сложной операции. Среди заключенных находились активные партийные работники. Жизнь в тюрьме была организована по определенному плану: читались доклады, лекции, даже выпускалась стенная газета, специальные часы были отведены для игр и занятий. Прибытие Маркоса явилось настоящим событием. Хотя он никого не знал, его знали все. Товарищи сами приготовили для него уголок в камере рядом с бывшим офицером, и, когда утром все собрались на занятия, секретарь коллектива представил его:
– Всемирно известный архитектор Маркос де Соуза, честный интеллигент, друг народа, антифашист.
Большинство присутствующих подвергалось в различных случаях зверским истязаниям. Маркос обратил внимание на руки одного рабочего, который зааплодировал в ответ на слова секретаря, – руки, изуродованные пыткой. И он почувствовал себя связанным со всеми этими людьми, с их делом, с партией.
Он зажил обычной жизнью заключенного – в определенные часы получал скудную еду, участвовал в политических занятиях, начал сам читать товарищам курс архитектуры. Когда с ним заговорили о лекциях, он тут же дал согласие, хотя и был уверен, что это предложение – скорее только любезность по отношению к нему, чем что-либо другое. Каково же было его удивление, когда он увидел, что эти рабочие делают записи во время его лекции, а по окончании задают ему самые различные вопросы. Он начал также давать некоторым заключенным уроки английского языка. С каждым днем он чувствовал, что связывается все теснее с этими людьми, как будто он сам обновляется, как будто происходивший в нем процесс нашел здесь, в тюрьме, свое завершение.
Ему удалось с помощью товарищей получить чемодан с одеждой и бельем, который остался у него в отеле. Жена бывшего офицера расплатилась за номер и забрала чемодан. Маркосу принесли чемодан в день свидания, но он получил его лишь два дня спустя, после тюремного досмотра. Наконец-то он смог надеть свою пижаму! Он узнал также, что в Рио находятся два молодых архитектора – сотрудники его проектной мастерской. Они делали все, чтобы его освободить, но пока не могли добиться даже разрешения на свидание. Только близкие родственники – жены, матери, отцы, дети, братья и сестры – могли посещать раз в неделю исправительную тюрьму для встречи с заключенными. Но и эти свидания часто отменялись, а наиболее ответственных партийных руководителей, арестованных одновременно с Маркосом, полиция продолжала держать в строгой изоляции, без свиданий, без всякой связи с внешним миром.
Больше всего взволновала Маркоса во время пребывания в тюрьме его территориальная близость к Престесу. Он знал, что руководитель коммунистической партии содержался в специально построенной для него камере с толстыми, как в средневековых замках, стенами. Это было круглое здание, находившееся поблизости от площадки, где они ежедневно совершали прогулку. В этот короткий час глаза Маркоса были все время прикованы к окнам в надежде, что, может быть, случайно в одном из них покажется фигура Престеса. Некоторые рассказывали, что Престеса однажды видели – правда, уже давно, – когда его возили в полицию. Целая армия шпиков наводнила в тот день тюрьму. Полицейские были тогда вооружены вплоть до ручных пулеметов; заключенных поспешно загнали в камеры, но кое-кому из них все же удалось увидеть Престеса.
По ночам, когда наступала тишина, Маркос размышлял. Он думал о зданиях, строительство которых подходило к окончанию, о начатых постройках, о планах, подлежавших разработке. Его помощники по проектной мастерской, несомненно, стараются как-нибудь продолжать работу и без него. Он думал о Мануэле – девушка должна скоро прибыть в Бразилию на двухмесячные гастроли. Ему не удастся даже повидаться с ней, это просто неудобно, незачем ее компрометировать – ведь он теперь человек с клеймом. После гастролей она должна уехать с труппой в Соединенные Штаты, где им предстоит длительное турне по всей стране. Куда поедет она дальше, когда-то он теперь ее увидит? Он размышлял и приходил к заключению, что ему не остается ничего другого, как окончательно отказаться от Мануэлы. Никогда он не питал больших надежд завоевать ее любовь, но все же лелеял эту мечту и страстно ожидал возвращения Мануэлы. Может быть, он и решился бы сказать ей о своем чувстве, предложил бы выйти за него замуж. Но их жизни, особенно сейчас, далеки друг от друга: она будет, как сенсация сезона, с триумфом выступать в спектаклях, ей могут вскружить голову хвалебные отзывы прессы, цветы и приглашения поклонников. А он теперь уже не знаменитый архитектор Маркос де Соуза, а политический заключенный, которому грозит суд, осуждение и ссылка для отбытия наказания на острове Фернандо-де-Норонья. Дела его теперь расстроятся; даже когда он выйдет на свободу, ему нелегко будет найти работу: банкиры и промышленники вряд ли поручат ему постройку своих небоскребов и особняков. И все же не это было самым главным, что делало Мануэлу совершенно недоступной для него. Главное состояло в том, что на днях он принял решение, во имя которого готов был пожертвовать всем на свете.
Маркос решил просить о принятии его в партию. Проанализировав всю свою деятельность, свои идеи и свою жизнь, он пришел к заключению, что до сих пор находился на ложных позициях. Он чувствовал себя во всем солидарным с коммунистами, мыслил, как они, хотел бороться за их победу. Так почему же он оставался вне партии, за ее пределами, в роли сочувствующего? Это было не чем иным, как своеобразным оппортунизмом, попыткой как-то совместить свои идеи, составляющие глубочайший смысл его жизни, со своим социальным положением, деловыми отношениями с крупной буржуазией, спокойным существованием. За эти дни Маркос взвесил всю свою жизнь и пришел к заключению, что, если он хочет остаться честным по отношению к самому себе, он должен сделать важный шаг – вступить в партию.
В ту ночь, когда Маркос решился на это, его охватило глубокое волнение. И он вспомнил о своих друзьях: о Мариане, Руйво, Жоане, негре Доротеу и негритянке Инасии, при смерти которой он присутствовал. Он получит право сказать им «товарищ», идти рядом с этими людьми, человеческие достоинства которых были ему хорошо известны. Возможно, он навсегда потеряет Мануэлу, никогда ее не увидит, но еще хуже было бы потерять уважение к самому себе.
На следующий день он обратился к одному из ответственных товарищей и попросил передать партийной организации его просьбу о приеме в члены партии. Товарищ обнял Маркоса и пообещал сообщить ответ, как только получит его от организации. Маркос стал ждать; дни его были заполнены чтением лекций, игрой в шахматы, рисованием для стенной газеты. Из полиции прибывали все новые заключенные, коллектив их увеличивался.
Раз в неделю почти все заключенные надевали свою лучшую одежду и обувь, завязывали галстуки: это были те, у кого семьи жили в Рио и приходили навещать их. Всегда это был день волнений: ожидание часа свидания – в десять утра, затем обсуждение новостей, принесенных близкими. То был для заключенных одновременно и самый радостный и самый грустный день недели. Радость краткого свидания с родителями и женами, с детьми, братьями и сестрами. И вслед за этим грусть из-за невозможности быть вместе с родными; многие из узников после этих свиданий находились в подавленном настроении. Маркос в такие дни обычно ходил из камеры в камеру, чтобы узнавать новости. Так как он не имел семьи, а его помощникам было отказано в праве посещений, то Маркос даже не переодевался, а ходил в пижаме. Из одного фруктового магазина ему раз в неделю, в дни свиданий, посылали передачу по заказу, оплаченному сотрудниками его мастерской. Посылку сдавали в контору тюрьмы, и он ее получал к вечеру, причем почти всю отдавал товарищам. И все же волнение дня свиданий охватывало и его, он ожидал возвращения товарищей с некоторым возбуждением. Что происходило в городе, в Бразилии, в мире? Это был день, когда они узнавали последние сообщения о ходе войны, политические слухи, новости.
В один из таких дней Маркос, как обычно, наблюдал приготовления заключенных к свиданию с родными. К десяти часам в камере остался лишь он да три-четыре рабочих, у которых семьи жили не в Рио.
– Сыграем партию, чтобы убить время? – предложил Маркос одному из них, уроженцу Пернамбуко – энергичному человеку, который не имел здесь себе равных в шахматной игре.
Не успели они взяться за доску, как в галерее появился надзиратель и выкрикнул его имя.
– Маркос де Соуза!
– Я.
– К тебе пришли. Тебя ожидает жена. Одевайся.
– Жена? – поразился Маркос.
Но пернамбуковец уже подталкивал его:
– Быстрее, друг, не теряйте времени. – И он прошептал ему: – Это, очевидно, трюк товарищей, чтобы поговорить с вами. Идите скорей. Потом сыграем.
Маркос сорвал с себя пижаму, быстро надел брюки и пиджак; по лестнице он уже почти бежал.
11
Стоя у входа в помещение для свиданий и привлекая любопытные взгляды семей и заключенных, его ожидала Мануэла, прекрасная, как сновидение. Она бросилась ему в объятия, голос ее прервался от радостных рыданий:
– Маркос!
Заключенные на миг оторвались от своих семейных разговоров, на лицах у них засияли улыбки, они объясняли родным, что это знаменитый архитектор Маркос де Соуза. Жена бывшего офицера узнала Мануэлу по фотографиям в журналах. Наблюдали за сценой и надзиратели, они обменивались замечаниями по поводу красоты балерины.
Взявшись за руки, как влюбленные, они уселись на одну из скамеек в глубине помещения. Маркос спросил:
– Когда же ты приехала? Как случилось, что ты попала сюда?
– Приехала я три дня назад, ничего о тебе не знала. Позвонила в Сан-Пауло, в твою мастерскую – я ведь послала тебе телеграмму о своем приезде. Думала, что ты заболел, но когда дозвонилась, мне все рассказали. Я прямо с ума сошла, ты себе представить не можешь!.. – и она сжала его руки, как бы для того, чтобы еще раз убедиться, что он тут, с нею.
Маркос с благодарностью улыбнулся, ему было трудно говорить.
– Я обратилась к адвокату, хотела выяснить, что можно предпринять. Этот человечишка, узнав, что речь идет о политическом заключенном, чуть не умер со страха, он, видимо, непрочь был бы выставить меня вон. Я решила идти прямо в полицию.
– Одна?
Она кивнула головой, ее волосы касались лица Маркоса, стыдливая улыбка появилась на лице девушки.
– Там мне сказали, что посещать арестованных могут только ближайшие родственники: родители, дети, жены. Спросили, подхожу ли я к одной из этих категорий. – Она остановила свои голубые глаза на Маркосе. – Прости меня, Маркос, но я так хотела тебя видеть…
– За что простить? – «Если бы она только знала, что означает для меня это посещение…»
– Я сейчас объясню: я хотела тебя видеть, чего бы это ни стоило. Инспектор, антипатичный субъект, весьма любезно, но с явным желанием оскорбить меня, заявил: «Родители его умерли, братьев и сестер у него нет, и он холостяк…» Он хотел меня обидеть, Маркос, сказав: «…если только вы живете с ним как жена, не будучи повенчаны. В таком случае можно…» И я сказала, что да, это именно так. Ты меня прости, я очень хотела тебя видеть…
Он посмотрел на нее, открыв рот, будто хотел что-то сказать, но не нашел слов. Она опустила голову.
– Он нагло рассмеялся, но дал мне пропуск. Я знаю, что не должна была этого делать, но я просто не могла не повидаться с тобой. Я была, как сумасшедшая…
– Мануэла… А твоя репутация, моя девочка?
– Это не имеет значения. Я только боялась, что ты обидишься.
– Я обижусь? Но неужели ты никогда не догадывалась, что…
– Что? – Мануэла наклонилась к нему, ей так не терпелось получить от него долгожданный ответ, она приблизила свое лицо к лицу Маркоса.
– …что я тебя люблю…
– Так это правда? – воскликнула она. – Это на самом деле правда? О, Маркос! Как хорошо, что тебя арестовали, по крайней мере, ты сказал мне… Я ведь давно тебя люблю, давно ожидаю твоего признания…
Она приникла головой к его плечу. Некоторые заключенные с улыбкой наблюдали за этой сценой. Мануэла прошептала:
– Когда выйдешь на волю, будет так хорошо…
– Ты согласна быть моей женой?
– Выйти за тебя замуж? Но ведь ты хорошо знаешь, Маркос, что со мной произошло. Если ты даже просто захочешь жить со мной так, как сказал инспектор, и тогда я буду счастлива. Тебе же известно мое прошлое…
– Что за глупости, Мануэла… Твое прошлое… Чем ты виновата, что была обманута? Неужели ты считаешь меня таким мещанином? Ты мне нужна, как жена, как подруга. Я тебе раньше никогда этого не говорил, потому что боялся огорчить тебя, думал, что я для тебя только друг…
– Так вот почему? А я-то думала, что всему виной мое прошлое. Поэтому и я молчала. Какие же мы были глупые, Маркос!.. – улыбнулась она ему сквозь слезы.
– Ты мне еще не ответила. Согласна?
– Ты еще спрашиваешь, любимый?.. Это больше того, о чем я мечтала, больше того, что я желала…
Она смотрела на него с безграничной нежностью. Глаза ее были полны слез, но это были слезы счастья. Маркос посмотрел на нее – у него внезапно появилось озабоченное выражение лица и он сказал, понизив голос:
– Я должен рассказать тебе об одном деле. Оно может все изменить…
– Тогда не говори. Для меня ничто не имеет значения.
– Нет, имеет, и я обязан тебе это сказать. Слушай, Мануэла, я подал заявление о приеме в партию и если ты выйдешь за меня, то ты станешь женой коммуниста.
– Я же дурочка, Маркос, и мало что смыслю в политике. Но однажды я уже тебе сказала, что мне представляется так: коммунисты – люди хорошие, а остальные – плохие. Для меня, по крайней мере, это так. Ты меня будешь учить, не правда ли? Чтобы я могла тебе помогать…
– Как только я выйду на свободу, мы поженимся. Но если меня осудят года на два, на три…
– На сколько бы тебя ни осудили, все равно я буду ждать. Ведь, я уже давно тебя жду, Маркос…
Надзиратели предупредили об окончании свидания; заключенные стали прощаться с семьями. Маркос и Мануэла поцеловались; это был их первый поцелуй; любовь озарила тюремное помещение для свиданий.
12
В августе 1940 года на Сан-Пауло с юга надвинулась волна холода. Газеты, в которых в тот период не было сенсационных известий из-за границы (война после падения Парижа не изобиловала крупными событиями), истощив комментарии по поводу арестов коммунистов, пространно рассказывали об ущербе, причиненном несвоевременно наступившими холодами. В Баже выпал снег, в штатах Парана и Санта-Катарина температура упала ниже нуля, в Сан-Пауло иммигранты вспоминали европейскую зиму. Дамы высшего общества воспользовались возможностью продемонстрировать свои роскошные меховые манто, мужчины надели драповые пальто, обернули шеи кашне. Один из светских хроникеров в возбуждении написал: «Сан-Пауло в конце этой зимы, в разгар августа, оделся в снежный наряд так же элегантно и очаровательно, как одевается Париж в сочельник». Та же газета сообщала о смерти от холода на улице старого нищего и двух девочек-сирот.
В светлом костюме из легкого дешевого холста, без кашне, без пальто, в дырявой обуви, засунув от холода руки в карманы, по улицам Сан-Пауло под моросящим дождем шагал какой-то высокий человек. Уроженец северо-востока, совсем недавно прибывший из Баии, он никак не мог привыкнуть к такому холоду.
Ему не было и тридцати лет, но волосы у него уже начали редеть, и поэтому он казался старше. Усы закрывали верхнюю губу, придавая лицу суровое выражение. Его глубоко запавшие пытливые глаза останавливались на всем окружающем и на людях, как бы для того, чтобы изучить их и навсегда запечатлеть в памяти. Когда он говорил, суровость его, казалось, возрастала, голос звучал резко и повелительно. Но временами глаза незнакомца улыбались, улыбка расплывалась по всему лицу, голос становился чуть ли не мелодичным, в этом человеке проявлялась мягкость, обычно скрывавшаяся под суровой внешностью. В такие часы в нем чувствовалась одновременно и сила, и мягкость, и нелегко было устоять против его улыбки, как трудно было уклониться от повиновения, когда в его голосе появлялись суровые, требовательные нотки.
Он проклинал этот холод; холщовый костюм явно не годился для Сан-Пауло: он промокал от моросящего дождя. Однако человек этот всю дорогу улыбался: газеты сообщали о провозглашении советской власти в трех прибалтийских государствах и об их принятии в состав Союза Советских Социалистических Республик.
Границы социалистического мира расширялись, новые миллионы трудящихся освобождались от эксплуатации – это приводило врагов в ярость: Сакила в длинной статье, забыв о Гитлере и его концлагерях, распространялся о «советском империализме, угрожающем миру». Зато некоторые честные интеллигенты, вначале не разобравшиеся в значении советско-германского пакта, теперь стали отдавать себе отчет в истинном положении вещей. И они развернули активную деятельность за освобождение Mapкоса де Соузы. На фабриках и в учреждениях газетные известия также вызвали отклики, вновь разжигая пламя энтузиазма, сохранившееся несмотря на полицейские репрессии.
Высокий человек, идя скорым шагом, чтобы согреться, повторял себе: «Какую массовую партию мы можем создать здесь, в Сан-Пауло, где сосредоточена большая часть промышленности страны!»
Когда меньше месяца назад этот человек приехал и установил контакт с Марианой, она поразилась его планам. Несмотря на свойственный ей оптимизм, она растерялась, столкнувшись с жестокой действительностью. Лишь кое-где остались партийные кадры, разбросанные по фабрикам и заводам; большинство уцелевших товарищей, чтобы не попасть в тюрьму, вынуждено было отойти от работы; всего четыре-пять человек под руководством Марианы и Рамиро продолжали активную деятельность. Работа была сведена почти к нулю: листовки небольшого формата, выпускаемые на ротаторе малыми тиражами и циркулирующие в узких кругах. Террор еще продолжался. Работа среди интеллигенции совершенно замерла. Прежние сочувствующие старались, правда, добиться освобождения Маркоса, используя свое влияние среди политических деятелей и видных людей страны, но прекратили всякую связь с партией. Сисеро д'Алмейда, против которого также было возбуждено дело, вынужден был бежать в Уругвай, тайно перебравшись через границу.
Инспектор Баррос получил повышение «за выдающиеся заслуги в деле подавления подрывной деятельности и ликвидации коммунистической партии».
Мариана с покрасневшими от бессонных ночей глазами, уставшая до последнего предела от работы на своем ротаторе, недоверчиво относилась к этим смелым планам: ей казалось, что товарищ Витор витает в облаках. Он прибыл из Баии, где партийная организация фактически не была затронута провалом руководства в Рио. Его послали, чтобы снова поднять работу в Сан-Пауло. Он пользовался в партии популярностью и авторитетом: не он ли восстановил после разгрома в 1935 году всю работу в Баие, Сержипе и Алагоасе, и не ему ли, не его ли организаторским способностям партия была обязана тем, что в этих районах во время последних полицейских репрессий не было провалов, как то случилось во многих других штатах? Мариана, узнав о его прибытии, обрадовалась. Она уже начинала приходить в отчаяние из-за того, что работа шла так медленно, да и Рамиро, обладавший небольшим опытом, не находил выхода из положения. Получалось так, будто им приходилось начинать все сызнова. Об этом Мариана сказала Витору, когда услышала его смелые планы, проекты создания в Сан-Пауло многотысячной партийной организации, которая могла бы стать решающим фактором в политической жизни штата.
– Я очень хочу, чтобы так было, товарищ. Но, говоря откровенно, нам еще очень далеко до этого. Я могу сосчитать по пальцам активистов; уверяю, их меньше, чем пальцев на руках. Организуешь встречу, товарищ обещает прийти, а к назначенному часу не является. А ведь речь идет о таком важном деле, как агитация и распространение партийных материалов. Нам не удалось набрать и четырех человек для писания лозунгов на стенах. Во всей округе только в Санто-Андре существует нечто похожее на организацию, и то благодаря Рамиро. Мы думаем теперь забрать его оттуда, чтобы оживить деятельность партии в других рабочих кварталах. В Санто-Андре почти все замерло, ему и пришлось вернуться туда, чтобы мы не растеряли того, что осталось. В провинции у нас уцелели лишь отдельные товарищи в Сантосе, Сорокабе, Жундиаи. В общем, почти ничего…
Витор прищурил глаза – такая у него была привычка, когда он слышал что-либо неприятное. Его грубоватый голос обрушился на Мариану:
– Ты что, товарищ, утратила всякую веру? Тоже поддалась утверждениям полиции о том, что партия ликвидирована? Начинать все сызнова – да кто тебе вбил в голову такие мысли? Даже те товарищи, которые в свое время основывали нашу партию, не начинали с пустого места. Существовал рабочий класс, существовал марксизм, существовала Октябрьская революция. Прибавь ко всему этому сегодня наличие социалистического государства СССР – раз, традиции нашей партии в Сан-Пауло – два, огромный авторитет Престеса – три. Кто руководил борьбой рабочего класса Сан-Пауло все эти годы? Мы! Кто организовал его на борьбу? Мы! Кто выступал против «нового государства», кто воспрепятствовал применению фашистской конституции? Мы! И ты, товарищ, думаешь, что у нас ничего нет?
Этот уверенный, сильный голос воодушевил ее, она почувствовала себя гораздо бодрее. Все, что говорил Витор, было, конечно, правдой. Она ограничивалась тем, что видела перед собой только непосредственную, узкую задачу. Это объяснялось тяжелыми условиями ее работы. Витор открыл ей перспективы, показал заложенные мощные устои, на которых им предстояло заново воздвигнуть здание партии. Но он не удовлетворился подробным обсуждением проблемы, а принялся за практическую работу, не считаясь со временем, как будто время подчинялось ему. Мариана спрашивала себя с удивлением, смешанным с восхищением, как у него хватает времени на то, чтобы читать и учиться, чтобы так хорошо разбираться в международных событиях да еще следить за культурной жизнью страны. Он был требователен к товарищам, но прежде всего – к самому себе.
Менее чем через месяц после прибытия Витора Мариана начала ощущать результаты его работы. Некоторые напуганные реакцией товарищи, войдя в контакт с Витором, вернулись к активной деятельности, другие, находившиеся до этого в подавленном настроении, заразились его энтузиазмом. Они выпускали все больше и больше материалов на ротаторе. Витор наладил новую систему распространения листовок, более эффективную и более надежную. Он обладал способностями руководителя, и Мариана видела, как в его руках зарождается новая организация; она переживала такое же чувство радости, как в тот момент, когда ее сын впервые повернулся в кроватке, когда он затем начал ползать, пытался делать первые робкие шаги, едва сохраняя равновесие на еще неокрепших ногах, когда он стал, наконец, ходить. Партийная организация еще была далека от того, чтобы начать ходить, но Мариана теперь знала, была твердо уверена, что партия снова поднимется, станет сильной, как никогда.
Одновременно она начала открывать и новые черты характера в этом товарище, который поначалу произвел на нее впечатление какой-то машины, предназначенной исключительно для работы. Однажды, когда они встретились, товарищ Витор, поеживаясь от холода, сказал:
– У меня есть для тебя новость: Жоана и других перевели в Рио. Процесс будет проведен там.
Мариана не удержалась от горестного восклицания. Здесь она могла, по крайней мере, узнавать о Жоане через семьи других арестованных, иногда посылать ему фрукты. А теперь его увозят в Рио, он будет наверняка осужден, сослан на Фернандо-де-Норонья… Лицо Витора, стоявшего перед Марианой, потеряло свою обычную суровость, в нем появилась какая-то мягкость.
– Я ломал голову, стараясь придумать, как бы тебе его повидать, не повредив партийной работе. Так ничего и не придумал, ничего не получается. Но я тебе гарантирую, что до суда ты съездишь в Рио, чтобы повидаться с ним. Сейчас это невозможно: я ни на один день не могу отпустить тебя. – Он ласково, по-братски улыбнулся ей. – Но у меня есть кое-что для тебя. Вот возьми… – И он протянул ей небольшой клочок бумаги, сложенный в несколько раз.
Он смотрел, как жадно она читает записку Жоана, как перечитывает первые строчки, как будто желая заучить все письмо наизусть, прежде чем его уничтожить.
«Моя дорогая, – писал Жоан, – нас увозят в Рио, там нас будут судить. Жаль, что не удалось с тобой повидаться, но я был рад узнать, что ты работаешь. Продолжай работу ради меня и ради себя, а я использую время на то, чтобы учиться; память о тебе помогает мне каждый день и каждую ночь. Я уже поправился, рука зажила. Не беспокойся обо мне, заботься лучше о сыне, научи его произносить мое имя. Поцелуй мать, она молодец. Хорошенько работай, так время пройдет быстрее. Люблю тебя! Счастлив, что ты моя жена».
Слезы полились из глаз Марианы, она старалась справиться с волнением, ее ожидала работа с Витором. Она провела рукой по глазам и с трудом проговорила:
– Ну что ж, начнем…
Витор улыбнулся, положил ей руку на плечо.
– Хватит времени для всего, Мариана. Я подожду. Поплачь, если хочется. Тебе станет легче, потом будешь лучше работать…
Таков был товарищ Витор, на плечи которого теперь легла ответственность за воссоздание партийной организации в Сан-Пауло. Он с жадностью набрасывался на работу, вел ее в бурном темпе, увлекая за собой остальных, используя всякую возможность для того, чтобы воспитывать других и попутно всегда учиться самому. Он внимательно выслушивал товарищей, с которыми устанавливал связь, задавал им много вопросов. Так осваивался он в незнакомой обстановке.
Его отличали два качества: во-первых, способность определять характерные особенности каждого человека, выяснять, как лучше использовать его, и, во-вторых, дух инициативы, благодаря которому он быстро находил практически осуществимые решения различных вопросов. Так как он держался открыто и прямолинейно, рабочие сразу прониклись к нему доверием: его знания, его пристрастие к спорам завоевали симпатии интеллигентов. Работа партии снова оживилась подобно сердцу, которое вновь стало биться в ускоренном ритме.
Мариана привязалась к Витору, помогала ему, как могла. Витор снова поручил ей обязанности казначея; с помощью сотрудников Маркоса по архитектурной мастерской и врача, лечившего в свое время Руйво, она восстановила кружки друзей. Одновременно она установила связь между Витором и теми членами партии, которые ей были знакомы. При каждой встрече Витор неизменно находил несколько минут, чтобы поговорить о Жоане, похвалить его, поднять дух Марианы. Однажды он пришел к ней домой пообедать, поиграл с ребенком, долго рассказывал ей о своей жене, оставшейся в Баие. Ему хотелось, чтобы она приехала как можно скорее. В этот день он даже пошутил с матерью Марианы по поводу холодов в Сан-Пауло. Старуха и разжалобилась:
– Бедный! Такая зима, а вы ходите в холщовом костюме.
Она посоветовала ему быть осторожнее, поберечься гриппа, очень опасного в это время года. Но у Витора не было времени думать о холоде; он ограничивался тем, что только ворчал по поводу падения температуры. Мариана заботилась о нем, материнский инстинкт заставлял ее беспокоиться о здоровье товарища. При встрече с архитекторами из мастерской Маркоса она спросила, нет ли у кого-нибудь из них поношенного шерстяного костюма, чтобы подарить одному другу. Так она добыла не только костюм, но и теплое пальто. При встрече она передала Витору пакет, и тот, развернув эти сокровища, радостно воскликнул:
– Теперь я посмеюсь над холодом… – Но тут же, после легкого раздумья, отдал костюм обратно. – С меня хватит и пальто. А костюм мы подарим Рамиро: португалец ходит в таких заплатанных штанах, что похож на пугало.
Мариана заметила:
– Это значит, что мне придется раздобыть еще один костюм – для тебя. Посмотрим, может быть, я достану у доктора Сабино. Он примерно твоего роста.
– Это, несомненно, было бы идеальным решением вопроса. Но не в этом дело, пора приниматься за работу…
И он забыл об одежде, о холоде, об усталости, сосредоточившись на задачах, которые предстояло осуществить. Нужно создать в Сан-Пауло, важнейшем промышленном центре Бразилии, «крупную массовую партийную организацию, партию нового типа», – объяснял он Мариане.
13
В этом сезоне Мануэла дебютировала в «Лебедином озере» Чайковского. Спектакль пришелся случайно в тот день, когда она вторично посетила Маркоса, неделю спустя после их признания в любви. Мануэла появилась в тюрьме, нагруженная свертками: она истратила на сладости, фрукты и консервы часть своих сбережений.
– Это для тебя и для твоих друзей, – сказала она архитектору, показывая груду пакетов, которые надзиратели забирали на просмотр начальству.
Она принесла также программу вечернего спектакля, ей пришлось и ее оставить в конторе тюрьмы для просмотра, прежде чем она будет передана заключенному. Но она и без программы рассказала ему о том, как распределены роли, описала каждого танцора и каждую балерину, их достоинства и недостатки. Она преподнесла жене бывшего офицера билет на спектакль; на прошлой неделе они вместе вышли из тюрьмы, та вместе с ней ходила по магазинам за покупками, давала советы, как действовать, чтобы добиться освобождения Маркоса. Архитектор был глубоко тронут всем этим; теперь он понимал, что значит день свиданий для заключенных. Мануэла вздохнула:
– Ах, как бы мне хотелось увидеть тебя сегодня в театре! Мне кажется, я сделала успехи, Маркос. Серж – замечательный балетмейстер, я многому у него научилась.
Маркос тоже вздохнул: он очень любил «Лебединое озеро»; чего бы только он ни дал, чтобы присутствовать на спектакле, в котором танцует Мануэла…
– Не думаю, чтобы в этом сезоне мне удалось увидеть, как ты танцуешь. А потом ведь ты уедешь в Соединенные Штаты…
– Уеду? Да я и не думаю об этом, Маркос.
– То есть, как не думаешь? Нет, на это я не согласен.
– Вот видишь? Мы еще не поженились, а ты уже хочешь мною командовать… – засмеялась Мануэла. – Настоящий феодальный властелин…
Но он не смеялся.
– Я не могу согласиться, чтобы ты принесла мне в жертву свое будущее. Если я выйду раньше твоего отъезда, мы поженимся; ты уедешь, а я буду тебя ждать. Я не смогу поехать с тобой – у меня запущены дела, и, кроме того, не думаю, чтобы мне дали визу в Соединенные Штаты. Если я не выйду до этого, то я тем более не согласен, чтобы из-за меня ты жертвовала своей карьерой.
– А кто тебе сказал, что это турне поможет моей карьере? Есть две вещи, Маркос. Во-первых, я не уеду отсюда, пока ты не выйдешь из тюрьмы. Нет такой силы, которая заставила бы меня это сделать. Во-вторых, если мы поженимся, то я хочу, чтобы ты мне помог осуществить кое-какие планы, которые я наметила…
– Какие планы?
– Это долгая история, мы сейчас не сможем обсудить ее, у нас нет времени. Оставим лучше до другого раза. Мне надо тебе рассказать, какие мы предпринимаем шаги, чтобы вырвать тебя отсюда…
Она рассказала ему о стараниях друзей Маркоса; вполне возможно, что он не будет фигурировать в числе обвиняемых на процессе. Мануэла питала на это большие надежды; один из архитекторов его мастерской снова приехал в Рио и ведет переговоры с влиятельными лицами. Она не хотела и думать, что Маркос не выйдет на свободу раньше окончания ее гастролей…
В этот вечер, после первого акта, ей преподнесли массу цветов, публика без устали аплодировала. Ее много раз вызывали, и она, выходя на вызовы публики, глазами разыскивала жену бывшего офицера, которая сидела в первых рядах. Мануэла танцевала как будто прежде всего для нее, а через нее – для заключенных, для Маркоса. И в самом деле, она никогда так хорошо не танцевала, как в этот вечер, когда ее сердце было преисполнено любви, радости и печали, страха и надежды. От первого и до последнего жеста она находилась во власти созданного ею образа. Публика была в восторге, сам директор труппы – знаменитый европейский балетмейстер – пришел поздравить ее.
На спектакле присутствовал также и Лукас Пуччини. Он прибыл к вечеру из Сан-Пауло; вместо с ним в театре была комендадора да Toppe с племянницей. Они занимали ложу, старая миллионерша вооружилась биноклем. Поэт Шопел пришел к ним в ложу, высказывал свои соображения по поводу музыки и балета, обсуждал известия, полученные от Пауло и Розиньи, события последних дней. Эрмес Резенде отправляется в Соединенные Штаты, но вместо того чтобы ехать прямо из Рио в Нью-Йорк, поедет в Буэнос-Айрес, затем пересечет Анды, сядет в Вальпараисо на пароход, идущий в Сан-Франциско.
– И, – лукаво добавил Шопел, – он сядет случайно на тот же пароход, что и неподражаемая Энрикета Алвес-Нето…
Комендадора рассмеялась:
– Ну и злой же у тебя язык… Оставь ты бедняжку в покое, ей так мало осталось в жизни, а она жадная… Вот у Эрмеса действительно плохой вкус, если он не мог найти себе что-нибудь получше.
– Эрмес – изысканный человек, комендадора, он лучший представитель цивилизации, затерявшийся в этой варварской стране, именуемой Бразилией.
– А какое все это имеет отношение к Энрикете?
– Он любит дичь с душком…
Шопел больше всех смеялся своей остроте, хохот сотрясал его жирные щеки. Комендадора, смеясь, похлопывала его веером: она обожала такие разговоры. Но в это время поднялся занавес, начинался второй акт, и комендадора навела бинокль на сцену.
По окончании спектакля все отправились за кулисы поздравить Мануэлу. Лукас, как только прибыл из Сан-Пауло, позвонил сестре, оповестив ее о том, что будет вечером в театре, и пригласил после спектакля поужинать с ним. Она согласилась: ей самой хотелось поговорить с братом. Увидев его с миллионершей, Мануэла удивилась.
– Ты ведь знакома с комендадорой да Toppe, не правда ли? – Лукас представил их друг другу после того, как обнял Мануэлу и поцеловал ее в щеку.
– Ведь в первый раз вы танцевали в моем доме, – напомнила старуха, протягивая ей руку, унизанную кольцами.
Лукас представил Алину:
– Сеньорина Алина да Toppe, племянница комендадоры.
Шопел с интересом наблюдал за этой сценой. Мануэла холодно поздоровалась, повернулась к другим поклонникам и сразу очутилась перед Сезаром Гильерме Шопелом с его толстой необъятной фигурой.
– Богиня танца с магическими ножками феи, позволь поцеловать ручку самому смиренному из твоих вассалов.
Лукас предупредил:
– Я провожу Алину и комендадору до автомобиля и вернусь за тобой.
Шопел склонился в почтительном поклоне перед миллионершей и остался среди поклонников, окруживших Мануэлу. Девушка не протянула ему руки, ответила лишь наклоном головы, но Шопел сделал вид, что не заметил этого, и когда она, освободившись от поклонников, направилась к себе в артистическую уборную, возобновил наступление:
– Чем перед тобой провинился бедный поэт, что ты смотришь на него с таким презрением? Почему ты так дурно обращаешься со мной? Ты забыла, что в трудные минуты я был твоим другом?
– Моим другом… Вы наглец, Шопел. – Она посмотрела на него, как бы изучая. – Скажите: вот вы прикидываетесь умным человеком, и как до сих пор сами не видите, что все вы – просто гнилье…
– «Все вы» – это кто же?
– Вы, старая комендадора, ее племянница, вся ваша публика… Гнилье, сплошное гнилье.
– Гнилье? Как это понимать?
– Именно так, как я говорю. Вы настолько разложились, что от вас даже несет зловонием… – И она оставила его озадаченным, с таким глупым лицом, что несколько молодых великосветских повес, ухаживавших за балеринами, расхохотались.
– Что, Шопел, фиаско? – спросил один из них.
Поэт не ответил. Выходя из театра, он ворчал: «Ее обработали эти сволочи коммунисты…» В дверях он столкнулся с музыкальным критиком, восторженно отозвавшимся о таланте Мануэли. Шопел оборвал его:
– Выдающаяся балерина? Не преувеличивайте, дружище, не изображайте из себя дешевого патриота. Она не более как заурядная дилетантка и ей никогда не удастся стать настоящей артисткой…
Критик возмутился, хотел было опровергнуть это утверждение, но Шопел уже спускался по лестнице муниципального театра, раскуривая на ходу сигару.
Лукас вернулся за Мануэлой. Они отправились в роскошный ресторан; промышленник с гордостью ловил взоры, направленные на его сестру, и с удовлетворением отметил движение в зале при ее появлении. Он соблазнился свободным столиком в центре, но Мануэла увлекла его к другому, в углу залы.
– Я хочу с тобой поговорить…
– Ты не должна прятаться от своих поклонников.
Она наблюдала за братом, пока он заказывал ужин, выбирая самые дорогие вина. Прошло больше года, как она не видела Лукаса; он ничем уже больше не напоминал того юношу, которого меньше пяти лет назад какой-то прохожий обозвал паяцем из-за его поношенного, тесного и короткого костюма. Мануэла вспомнила эту далекую сцену: все для Лукаса и для нее началось с того вечера в луна-парке. Брат разбогател и наживается все больше и больше; она слышала на этих днях в Рио, что он объединился с Коста-Вале и комендадорой. Пройдет немного времени, и осуществятся все его былые мечты: он будет иметь банки, крупные предприятия, власть.
Однако Мануэла с сожалением вспоминала честолюбивого юношу из сырого дома в предместье Сан-Пауло. Она его тогда так любила, он ей казался лучшим из людей. А этого, хорошо одетого, с наманикюренными ногтями, с брильянтовым кольцом на пальце, с автомобилем, ожидающим у дверей ресторана, – этого брата ей было как-то жаль, хотя она сама не могла объяснить себе – почему… Ради него она пошла на величайшую из жертв и чуть не возненавидела его потом; некоторое время даже не хотела его видеть. Сегодня же, когда она чувствовала себя счастливой, у нее снова возродилась какая-то нежность к брату. Ей было жаль его, живущего исключительно для удовлетворения своего честолюбия, жертвующего всем из-за своего стремления к богатству и власти.
– Ты постарел…
Лукас ударил кулаком по ладони – это был жест торжества.
– Теперь, Мануэла, я иду, куда хочу. Ты помнишь? Еще не так давно… Года четыре назад, не так ли? Я тебе сказал, что буду зарабатывать большие деньги, столько денег, что… Так вот, Мануэла, я этого достиг, но буду зарабатывать намного больше… Больше всех… Теперь это уже не авантюры, а солидные дела, я теперь связан с крупными капиталистами.
– Знаю…
– Тебе уже рассказали? Ну так вот… И быть может, почем знать… – в его голосе послышались интимные нотки, –…я свяжу себя и другими узами.
– Что ты имеешь в виду?
– Как тебе понравилась племянница комендадоры? Не очень красива, верно? Но и не настолько дурна, чтобы казаться страшной, не так ли? С миллионами, которые у нее есть, и теми, что она унаследует, она всем покажется красавицей. И у нее есть то, чего нельзя не принимать во внимание: прекрасное воспитание, она отлично играет на рояле, даже рисует акварели.
– Ты думаешь жениться на ней?
– Не могу сказать ничего окончательного. У меня такое впечатление, что я ей нравлюсь и что комендадора даст согласие. Но есть целая куча претендентов, сестренка. Они кружат над ней, как урубу над добычей. И все это отпрыски самых знатных фамилий, а не выходцы из иммигрантов, как мы. Сестра ее замужем за одним из таких. Но ты его знаешь лучше меня – ведь это Паулиньо…
– Значит, ты станешь его шурином…
– Очень может быть. Я надеюсь на поддержку комендадоры в решающий момент. Она не выше нас по происхождению, даже наоборот. Первую из племянниц она уже выдала за дворянина, а теперь она нуждается в таком человеке, как я, который мог бы заменить ее в деловом отношении. И я тебе скажу, Мануэла, если только мне удастся запустить руку в сейф комендадоры, то за короткое время я стану самым богатым человеком в Бразилии и заткну за пояс самого Коста-Вале. За короткое время… Что ты об этом думаешь?
– Я ничего не думаю – это твое дело.
– Но ты же моя сестра, неужели ты предполагаешь, чтобы я стал обсуждать свои дела с тетей Эрнестиной? Ну, скажи все-таки, как тебе показалась Алина? Не слишком дурна?
– Нет, не так уж дурна. – Она взглянула на брата. – Ты знаешь, что я сказала Шопелу, когда ты вышел?
– Нет. Что же ты ему сказала? Шопел тебя очень ценит.
– Я сказала, что он, комендадора, ее племянница – вся эта публика – гниль и от нее несет зловонием. Я боюсь, что разложение затронуло и тебя.
– Но к чему это? Что тебе сделал Шопел, что тебе плохого сделали комендадора и Алина?
– После того, что со мной произошло, Лукас, я не могу выносить этой публики. Когда я вспоминаю, что готова была покончить с собой из-за них (она хотела сказать «из-за тебя», но удержалась, чтобы не огорчить его еще больше), что если бы я не встретила других, настоящих людей, то пропала бы…
Лукас воспользовался приходом официанта с блюдами, чтобы скрыть свое смущение. Они в молчании приступили к еде.
– У тебя, конечно, есть основания так говорить, – сказал он, положив вилку. – Не отрицаю. Но ты слишком обобщаешь, Мануэла, ты обвиняешь и тех, кто вовсе не виноват. А кроме того, ты делаешь драму из того, что по сути дела не имеет значения…
– Ты знаешь, сколько было бы моему сыну, если бы он родился?
Он снова замолчал. Возобновила разговор Мануэла:
– Как бы там ни было, если ты женишься, я желаю тебе счастья. Хотя мне кажется, что это скорее бизнес, чем брак.
– Я не буду тебя уверять, что это безумная любовь. Однако мы понимаем друг друга, ей со мной хорошо: представители золотой молодежи ее пугают. Любовь… Существует ли она вообще, Мануэла? Ты казалась сумасшедшей от любви и, тем не менее, потом все забылось.
– Я была сумасшедшей, это верно. Но, Лукас, это была не любовь, а именно сумасшествие. Только потом я узнала, что такое настоящая любовь. Возможно, ее нет в тех кругах, где ты вращаешься… Но вне твоего мира она существует, могу тебя заверить. Мне жаль, что она тебе незнакома, и ты ее никогда, может быть, и не испытаешь…
Лукас заинтересовался:
– Что же произошло? Расскажи мне…
– Я и пришла поужинать с тобой, чтобы все рассказать. Но вышло так, что ты мне первым сказал о своей предстоящей женитьбе, раньше, чем я собралась заговорить о своей…
– Ты выходишь замуж?
– Да, и выхожу по любви, по настоящей любви.
– За кого-нибудь из труппы? За директора? Когда же это произошло?
– Нет, он вовсе не артист. За директора? О нет, директор у нас женоненавистник… Я выхожу замуж, как только мой жених выйдет из тюрьмы.
– Выйдет из тюрьмы? – удивился Лукас. – Кто же он?
– Архитектор Маркос де Соуза… Он арестован…
– …как коммунист. Я знаю… – Он насупился. – Этому браку не бывать! Я не согласен.
Мануэла подняла глаза на брата:
– А я вовсе не спрашивала твоего мнения. Я только сообщила тебе, Лукас. Но поскольку я высказала свое мнение по поводу твоего брака, могу, конечно, выслушать и твое. Скажи, почему, собственно, ты не согласен?
Спокойствие девушки вызвало в нем раздражение. Он давно почувствовал, что уже не пользуется у Мануэлы авторитетом. Сейчас он раскаивался: он не должен был с ней резко говорить, так ее не переубедить. Лукас постарался сдержать себя.
– Мне это не представляется для тебя хорошим браком.
– Почему?
– Ты артистка, твое имя начинает приобретать известность. У тебя впереди блестящая карьера. Маркос, со своей стороны, тоже весьма известен. Но его слава забьет твою.
– Придумай довод получше, этот слишком глуп.
– Но самое плохое, это, конечно, то, что он коммунист. Этим он похоронил себя как архитектор… Никогда и никто больше не даст ему работы! Придется жить впроголодь… И это при том условии, что он не попадет под суд и его не засадят на многие годы.
– Пусть даже он растеряет клиентуру, это меня мало трогает. Ведь, в конце концов, я выхожу замуж не за его клиентуру. Однако я хочу тебя заверить, что никакой клиентуры он не потеряет. Как раз его клиенты и прилагают сейчас наибольшие усилия, чтобы добиться его освобождения. Не так-то легко покончить с крупным архитектором, а Маркос – безусловно крупный архитектор. И если даже ему придется провести долгое время в тюрьме, я буду его ждать, потому что я его люблю. Благодарю тебя за интерес, проявляемый к моему будущему, но советов твоих я не приму.
– Давай выйдем… – предложил он. – На улице можно поговорить спокойнее.
– Хорошо, только дай мне сначала выпить кофе.
Лукас ожидал ее с нетерпением. Они сели в небольшой автомобиль, приобретенный Лукасом для езды в Рио, и поехали в Копакабану. Ехали молча. Мануэла вдыхала морской ветерок, думала о Маркосе. Как жаль, что он не мог присутствовать сегодня в театре… Они бы вышли вместе под руку, бродили по улицам и останавливались у парапета на набережной Фламенго, подобно той влюбленной парочке, которую они повстречали еще во время взаимной застенчивости. В конце авениды Атлантика, близ форта Сан-Жоан, Лукас остановил автомобиль.
– Мануэла, этот брак – бессмыслица. Зачем тебе путаться с коммунистами, портить себе жизнь?
– Путаться с коммунистами? Значит, ты не знаешь, что я сама коммунистка?
– Ты? С каких пор? Ты что, уже вступила в партию?
– Нет, в партию я пока не вступила: кто я такая, чтобы иметь на это право? Я хочу лишь, чтобы ты понял, что я мыслю так же, как они, и чувствую себя солидарной с ними. Я против всех вас, Лукас.
– С каких пор ты стала так думать? – спросил он, узнав с облегчением, что она хоть не ведет активной партийной работы.
– С тех пор, как вы меня чуть не убили морально, а они меня спасли. Это они мне подали руку и вытащили из грязи, куда вы меня бросили.
– Коммунисты? Ты хочешь сказать, Маркос?..
– Нет… Я хочу сказать – коммунисты. Я только потом познакомилась с Маркосом.
– Расскажи мне, как это было.
– Нет, я тебе этого не расскажу. Зачем я буду это делать? Достаточно тебе знать, что я на их стороне и что они не портят мне жизнь. Наоборот, если я сейчас могу танцевать и пользоваться успехом в театре, этим я обязана именно им. А не тебе и не твоим друзьям…
Снова воцарилось молчание. Лукасу было несколько стыдно прибегать к тем же аргументам, какие он уже однажды использовал в тяжелое для нее время. Но у него не было другого выхода.
– Мануэла…
– Я слушаю тебя.
Лунный свет отражался в воде океана. Она думала о Маркосе. Нужно освободить его из тюрьмы как можно скорее, каждый день без него – потерянный день. Они приходили бы вместе любоваться сиянием луны.
– Ты ведь знаешь… Мои дела идут хорошо. Мои успехи и твое искусство – все это заставляет других забыть о нашем происхождении.
– Лукас, не станешь же ты отрекаться от наших родителей…
– Речь не о том, Мануэла. Ты пойми, ради бога… Твой проклятый брак может разрушить все мои планы. Я уже тебе говорил, что против меня ведется яростная война, чтобы помешать жениться на Алине. Вообрази, если ты выйдешь за Маркоса, это еще один довод против меня; он может меня погубить. Комендадора не выносит Маркоса со времени свадьбы Розиньи. Он отказался тогда заняться декорированием ее дома…
– Он это сделал из сочувствия ко мне. Понимаешь?
– И Коста-Вале его не выносит. Если все ополчатся против меня…
– Но почему против тебя? Ведь не ты же вступаешь с ним в брак…
– Не будь наивной. Если ты выйдешь за Маркоса, это испортит мне всю жизнь.
– Не думаю… – Она с грустной улыбкой посмотрела на лицо Лукаса, освещенное луной. У него был жалкий вид. – Несмотря на все, я тебя уважаю, ты мне брат, мы вместе выросли, было время, когда ты был для меня всем. И тем не менее я должна сказать правду: даже если мой брак повредит твоей женитьбе, все равно я повенчаюсь с Маркосом. Однажды я принесла тебе в жертву своего ребенка. Это было преступление, Лукас, и я дорого заплатила за него. Сейчас я не намерена чем-либо жертвовать ради тебя.
– Мануэла! Можешь ты, по крайней мере, отложить осуществление твоего сумасшедшего плана пока я не женюсь? Ты, таким образом, будешь иметь больше времени для размышлений…
– Я уже столько передумала за последние годы… Нет, Лукас, я выйду замуж немедленно. Пусть Маркос еще находится в заключении… Но ты не беспокойся: мой брак не повредит твоему. Не только потому, что ты сумеешь себя защитить, но и потому, что, если уж комендадора тебя выбрала, тебе не угрожает никакая опасность. Тебе кажется, что ты с ней ведешь хитрую игру, а на самом деле она играет тобой… – Мануэла взяла его руку и пожала ее. – Будь счастлив, Лукас, я желаю тебе этого от всей души… Самого большого счастья…
– Это твое последнее слово?
Она кивнула головой.
– Как ты изменилась, Мануэла…
– Да, это верно. Ну, а теперь и ты пожелай мне счастья. Отвези меня в отель.
Лицо Лукаса было нахмурено; он включил мотор, машина рванулась вперед. Они снова ехали молча. Мануэла думала о Маркосе. Если его в ближайшее время не освободят, она выйдет за него замуж, даже пока он в заключении. Ей хотелось без конца повторять его имя, кричать о своей безграничной радости. На ее лице появилась улыбка. Лукас отвернулся, чтобы не видеть ее. У подъезда отеля он протянул Мануэле руку.
– Если я тебе когда-нибудь понадоблюсь…
Мануэла ласково сказала:
– Спасибо, Лукас. Я уверена, что буду очень счастлива.
14
Восстановление партийных кадров, избежавших последних полицейских репрессий в Сан-Пауло, фактически было закончено. Витор чувствовал себя удовлетворенным, – правда, это была лишь небольшая группа товарищей в самом Сан-Пауло и его окрестностях, но все же теперь можно было снова начать партийную работу, организовав новый набор членов партии. Витор делал ставку на крупные предприятия, железнодорожные узлы, жилые рабочие кварталы. Был создан временный секретариат, пока представится возможность созвать пленум и избрать новый состав руководства районного комитета. Мариана привела в порядок партийную кассу; уже действовали некоторые кружки друзей – с помощью группы сочувствующих она собрала необходимые средства для приобретения небольшого печатного станка и наборных касс.
Витор был озабочен вопросом о типографии. Она была крайне нужна для расширения работы, для массовой агитации. Он обратился к товарищам в Баие с просьбой прислать ему рабочего-типографа и вместе с Марианой подыскал дом в Санто-Амаро, где можно было разместить типографию. Из Сантоса поступили дополнительные средства, которые позволили закончить оборудование типографии – эти деньги были собраны по подписке среди грузчиков, докеров и рабочих порта, среди матросов пароходов и буксирных судов. Купили партию бумаги и, пока помещения для типографии еще не было, тщательно припрятали ее.
Другой задачей Витора была работа среди крестьян. Она оказалась совершенно запущенной: то, что раньше было достигнуто, ныне развалилось. Товарищ, отвечавший за работу среди крестьян, был арестован в Кампинасе, его должны были судить в Рио. Витор взвесил качества и способности всех работавших в настоящее время товарищей, но никто из них не показался ему подходящим для этой трудной и опасной работы. Ему нужен был человек, хорошо знающий образ мыслей крестьян и проблемы, волнующие батраков, издольщиков, колонов, – человек, который бы умел говорить, как они, походить на них, мог завоевать их доверие и уважение. Партийная работа на фабрике или в рабочем квартале резко отличалась от работы среди крестьян. Витор считал, что даже организационная работа должна быть там особой – нужно приспосабливаться к условиям, существующим и на крупных фазендах, и на небольших плантациях. У него по этому вопросу было много проектов; он с успехом применял некоторые из них в Баие, в Сержипе, в Алагоасе, но в Сан-Пауло не было такого человека, который смог бы осуществлять их здесь. Витор надеялся найти его среди товарищей в провинции – в Сорокабе или в Кампинасе; там были люди, но Витор с ними еще не познакомился.
Как раз в это время к партийной работе вернулся один старый активист, рабочий по имени Алфредо. Он был механиком, служил в небольшой авторемонтной мастерской и жил в рабочем квартале Фрегезиа-до-О. Всегда улыбающийся и приветливый, широко известный и всеми уважаемый, он сделал много для того, чтобы поднять популярность и авторитет партии в своем районе. Тюрьмы он избежал, уехав на время в провинцию. Хозяин мастерской, бывший шофер, обещал сохранить за ним место. Квартальная ячейка, секретарем которой он являлся, в его отсутствие распалась, хотя и не была затронута репрессиями. Арестованы были товарищи, проживавшие здесь, но проводившие партийную работу в фабричных ячейках; в таком положении, впрочем, было большинство коммунистов в квартале. Местная же ячейка состояла из служащих мелких учреждений, кустарей и учителя начальной школы. С отъездом Алфредо и в связи с арестами в комитете штата ячейка перестала собираться, вся работа приостановилась.
Алфредо по возвращении попытался связаться с Марианой. Но разыскать ее оказалось делом нелегким; Витор умело защищал товарищей и организацию, применяя в партийной работе методы, обеспечивавшие строгую конспирацию и постоянную бдительность. Сам он пользовался двадцатью различными именами и кличками и, по мере того как партийная организация начинала разрастаться, изыскивал все новые способы для обеспечения безопасности. Именно поэтому Алфредо пришлось долго бродить в поисках Марианы и горевать, что не может ее найти. Несмотря на бесспорные успехи, в квартале Фрегезиа-до-О вместе с тем происходило что-то странное: у Витора создалось впечатление, что в их среду затесался ловкий провокатор.
Первым ему рассказал об этом учитель начальной школы – он и описал подозрительного человека. Пока Алфредо был в отсутствии, сюда приехал на жительство один рабочий, который вскоре завоевал общие симпатии. Он огромного, поистине гигантского роста, очень приветлив, быстро завязывает со всеми дружбу. Работал он на дальней каменоломне, и труд его был очень тяжел. Однако, возвращаясь к вечеру домой, этот человек, вместо того чтобы отдыхать, принимался за агитационную работу среди жителей квартала. По мнению учителя, великан – звали его Фернандес – сделал за короткое время для революционного дела больше, чем все они за истекшие годы. Он связался и с учителем; они попытались объединить людей, но не в маленькую ячейку, как раньше, а в большую, расширенную за счет включения в нее рабочих, привлеченных Фернандесом. Алфредо почесал в затылке, когда учитель рассказал ему всю эту историю. Он услышал затем и от многих других похвалы великану. Однако все же он не доверял этому человеку и не хотел устанавливать с ним какого-либо контакта; по его мнению, это был провокатор, подосланный полицией.
Более чем когда-либо Алфредо нужно было найти Мариану, установить связь с партией. Он не мог, однако, оставаться в бездействии, поджидая, пока представится такой случай, и давая тем временем провокатору возможность безнаказанно действовать в их квартале. Он обсудил это с учителем, высказал ему свои подозрения:
– Откуда появился этот тип? Кто может гарантировать, что он действительно работает в каменоломне? Я уверен, что он просто зубы заговаривает. Ясно, что это провокатор, который собирается выдать всех нас полиции.
Учитель выразил сомнение. Если он провокатор, то действует мастерски. Ничто не говорит за то, что он полицейский шпик. Почему бы Алфредо не потолковать с ним, прежде чем составить окончательное мнение?
– Я не настолько наивен, чтобы лезть в пасть волку.
Сообща с товарищами он принял меры предосторожности, отложил воссоздание ячейки из боязни навести этого человека на след. Он обошел всех товарищей, одного за другим, и разъяснил им положение. Некоторые уже были связаны с великаном, но в результате твердой позиции Алфредо перестали с ним встречаться. Даже у учителя зародились сомнения, и он прекратил знакомство с этим Фернандесом. Однако неожиданная враждебность, казалось, не произвела впечатления на великана: он продолжал приходить к ним, завязывал дружбу с рабочими. Алфредо всех предупреждал: «Это провокатор». Время шло, и Алфредо чувствовал себя все более тревожно.
Наконец в один прекрасный день Мариана пришла к нему сама. Только недавно она узнала о его возвращении, они назначили встречу. Алфредо хотел рассказать ей о положении дел, но она не согласилась его выслушать.
– Ты информируешь об этом другого товарища, ответственного по району. Я тебя свяжу с ним. Его зовут Жоакин.
Витор, прежде чем вступить с кем-либо в контакт, всегда предварительно расспрашивал о нем и при встрече уже знал его биографию. То, что он узнал об Алфредо, свидетельствовало, что это, видимо, честный и преданный партии товарищ. Выслушав его, Витор утвердился в своем первом впечатлении: хороший работник, скромный и бдительный. Секретарь ячейки квартала Фрегезиа-до-О сообщил ему о положении. Они не могли ничего делать из-за провокатора, который во что бы то ни стало хотел связаться с партийным комитетом. По мнению Алфредо, он всеми своими разговорами, установлением связей и попыткой воссоздать квартальную ячейку добивается захвата организации и ареста ее активистов. Некоторые поддались ему; однако, к счастью, ничего не рассказали; провокатор ведь появился тогда, когда ячейка перестала действовать. Этот Фернандес особенно опасен именно потому, что по внешности нисколько не похож на шпика и производит впечатление честного человека, искреннего революционера.
Витор подробно расспрашивал о деятельности Фернандеса; Алфредо передал ему то, что слышал от учителя и других товарищей. Фернандес даже собирал деньги для помощи семьям арестованных и сам внес сравнительно большую сумму. Где он мог достать деньги, если только не в полиции? Даже если он туже затянул пояс, сокращая свой ежедневный рацион, это не было бы удовлетворительным объяснением: заработная плата рабочего не позволяет такой щедрости. Он явно старался завоевать этим путем доверие товарищей и проникнуть в партию.
Витор слушал с интересом, история эта казалась ему странной. Алфредо, несомненно, поступил правильно, проявив бдительность и заботу о безопасности товарищей. Но, с другой стороны, было бы неправильно из-за этих подозрений парализовать всю партийную деятельность, не создать заново ячейку. Кроме того, в манере этого Фернандеса было нечто такое, что не подходило к облику провокатора. Когда Алфредо кончил, Витор спросил:
– А ты сам видел этого человека?
– Много раз, товарищ Жоакин. Он даже пытался заговаривать со мной, возможно, что-нибудь узнал обо мне. Но я не поддержал разговор.
– Каков он из себя?
– Ну, как я уже сказал… Обычный маскарад…
– Да нет, я не об этом. Как он выглядит?
– Это человек средних лет, огромного роста, гигант. Очень загорелый, широколицый. По внешности он симпатичный… способен обмануть кого угодно.
У Витора блеснула мысль. Но нет, это невозможно, мертвые не воскресают… Всего вероятнее, что Алфредо прав, речь идет о провокаторе. На всякий случай он задал ему несколько вопросов по поводу внешних примет этого человека. Поразительно, что ответы Алфредо подтверждали ту же нелепую мысль, которая пришла ему на ум. Подтверждали до такой степени, что Витор решил выяснить все до конца.
– Пока, товарищ, ничего не предпринимай. Я подумаю об этом. Давай встретимся… Подожди… завтра нельзя, послезавтра тоже… В пятницу… – назначил он. После этого Алфредо ушел.
В пятницу Витор ждал его с нетерпением. Алфредо опоздал на несколько минут. Они пошли гулять по тихой улице богатых особняков. Витор вытащил из бумажника маленькую карточку, показал ее Алфредо.
– А он, случайно, не похож на этого человека?
Алфредо взглянул на любительскую фотографию.
– Он самый. Готов поклясться, что это он…
Витор улыбнулся; три дня он провел между этой надеждой и опасением, что обманулся, повторяя себе: «Ведь это невероятно: он же погиб!»
Алфредо заметил, как сразу изменилось выражение лица руководителя.
– Ты его знаешь? Он провокатор?
Витор отрицательно покачал головой.
– Нет. Это наш друг, он только потерял связь с партией. Послушай, Алфредо, пойди разыщи его. Чтобы убедиться, что он именно тот, о ком я думаю, передай ему привет от падре Антонио. Если услышишь в ответ: «тетя здорова» – значит, это он. Не думаю, чтобы он забыл старый пароль. Если это не он, переведи разговор на другую тему, придумай какую-нибудь историю. Если это он, приведи его ко мне.
– Когда?
– Завтра же. Завтра суббота, жду к четырем часам.
– Туда же, куда и сегодня?
– Нет. Лучше в другое место. – И Витор дал ему адрес. – Выучи его наизусть, а потом постарайся забыть и адрес и вообще все, что касается Фернандеса.
– Ладно.
– Теперь давай поговорим насчет твоей работы…
Алфредо, выйдя вечером из мастерской, направился на остановку трамвая, где Фернандес ежедневно сходил, возвращаясь с работы; он снимал на этой улице комнату в домишке бедной рабочей семьи. Алфредо не пришлось долго ждать: около семи часов он заметил, как Фернандес соскочил с трамвая. Он последовал за ним в отдалении и, когда тот остался один, подошел к нему.
– Привет от падре Антонио, – прошептал он, идя позади Фернандеса.
Великан вздрогнул, будто его ударило электрическим током. Однако ничего не ответил, только остановился. Алфредо продолжал свой путь, словно его необычная фраза была обращена не к Фернандесу. Но великан настиг его и схватил за руку.
– Постой! Дай мне вспомнить… Прошло столько времени, я уже забыл. Но ради всего, что тебе дорого, не уходи. Подожди. Кто же это здоров-то, о, господи! Какой-то родственник… Постой… Вспомнил… «Тетя здорова…» – великан облегченно вздохнул.
Алфредо сказал:
– Ты мне чуть руку не вывихнул. У меня сегодня вечером сверхурочная работа в мастерской. Около девяти приходи поговорить.
В девять великан появился. Алфредо был один, он ремонтировал автомобиль – так вечерами он отрабатывал владельцу мастерской те часы, что прогуливал по утрам. Он дружески улыбнулся тому, кто называл себя Фернандесом; чувствовал себя несколько виноватым из-за своих подозрений. Однако они не стали об этом говорить, Алфредо ограничился тем, что назначил встречу на следующий день.
– Тебя хочет видеть один товарищ.
Фернандес не стал задавать никаких вопросов, несмотря на снедавшее его любопытство. Он предложил свои услуги, чтобы помочь товарищу в работе:
– Я кое-что смыслю в этом…
– Не нужно. Вообще тебе лучше уйти, а то кто-нибудь может появиться.
Выйдя на улицу, великан задумался: как партия отыскала его? Когда он прибыл в Сан-Пауло, у него была явка к Жоану, но он приехал поздно – тот уже был арестован. Как знать, не вернулся ли из долины Доротеу, не расхаживает ли он по Сан-Пауло? Возможно, Доротеу его и увидел здесь случайно, а узнав, послал за ним. Да, должно быть, это Доротеу, ведь помимо него он знал в Сан-Пауло только двух товарищей – Карлоса и Жоана, но они оба сейчас арестованы. Как бы ни было, что бы ни произошло, это означало конец его страданиям. Когда он очутился в Сан-Пауло без всякой связи с партией, то при известии о провале комитета штата и Национального комитета в Рио, он впервые в жизни почувствовал отчаяние. Как можно жить, не поддерживая связи с партией, не ведя политической работы? Он проделал длинный путь, чтобы добраться сюда, по дороге ему удалось приобрести документы, теперь он именовался Мигелом Фернандесом.
В Сан-Пауло Гонсало считали мертвым, полиция его не разыскивала. Но какой был для него в этом толк, если по прибытии он прочел в газетах сообщения об арестах и заявление начальника полиции о ликвидации партии? Он, конечно, не поверил этим утверждениям: партия и раньше переживала периоды, не менее трудные, чем нынешний. Но как добиться того, чтобы ее разыскать, чтобы снова приобщиться к работе? Ведь должна была ощущаться огромная нехватка кадров, партии нужны были все активисты, оставшиеся, подобно ему, на свободе. Он собирался отправиться в Баию, где ему было бы легко установить с партией контакт. Но Жоан, от имени руководства, дал ему указание прибыть в Сан-Пауло, здесь его новый пост. Надо было искать партийную организацию, – искать, пока он ее не найдет.
Он поселился в рабочем районе; если хорошо искать, рано или поздно ему удастся найти партию, она не могла ведь прекратить существование, когда в городе столько рабочих. Он стал активно ее разыскивать, настолько активно, что даже возбудил подозрения Алфредо. Вначале ему показалось, что партийная организация в Фрегезна-до-О полностью ликвидирована. По мере того как он стал знакомиться с соседями, он узнал жизнь этих людей, услышал об арестах на соседних улицах.
Он думал сам воссоздать здесь организацию своими силами, раз ему не удается установить контакт с товарищами по партии. Он завязал отношения с учителем начальной школы, сблизился с другими, собрал деньги для семей арестованных (сам отдал почти весь свой двухнедельный заработок), и дело наладилось. Но вдруг некоторые товарищи стали упорно избегать его. Он понял, что произошло: они ему не доверяли. Это означало, что где-то здесь находилась партия, что она проявила бдительность. Ему хотелось открыться кому-нибудь, – возможно, учителю, – но он не был убежден, что должен поступить именно так. Он продолжал агитацию среди рабочих. Как бы то ни было, это все же работа для партии. Когда, наконец, он найдет партию, когда снова получит возможность вести активную работу в ячейке?
Сейчас после встречи с Алфредо у него стало легко на душе. Независимо от того, каким образом его нашли, это был конец многомесячным горестям. Должно быть, это все-таки негр Доротеу: дальнейшее пребывание в долине, видимо, стало для него невозможным. И Жозе Гонсало улыбнулся, вспомнив о негре: никто не играл на губной гармонике лучше, чем этот добрый и молчаливый негр, тяжело переживающий свое горе. Мужественный, замечательный товарищ… Как он его сожмет в объятиях при встрече…
Но не его, а Витора встретил он на другой день. Войдя в комнату, где его ожидал руководитель, Жозе Гонсало не смог удержаться от громкого возгласа:
– Витор!
Они трижды обнялись. Алфредо с некоторым удивлением заметил слезы на глазах великана. Витор тоже был взволнован, они похлопывали друг друга по спине.
– Жив, а! Мне это казалось совершенно невозможным…
– Они приняли погибшего товарища за меня, а он стоил больше, чем я. Что за товарищ! Какой человек!
Алфредо оставил их одних. Витор посоветовал ему никому ничего не говорить о Фернандесе. Надо было вести дальше работу, используя, в частности, и тех людей, с которыми великан установил контакт.
– В нашем квартале есть люди очень хорошие, нужно только привлечь их… – сказал Гонсало. Он объяснил затем Витору: – Я решил начать действовать, хоть сам что-нибудь делать, если мне не удалось найти партию. Но меня изолировали…
– Решили, что ты провокатор.
– Я так и подумал. И даже обрадовался этому: это был признак, что партия не умерла, как я вначале предполагал. Трудность заключалась в том, чтобы найти ее, установить с ней связь. Ты знаешь, Витор, как я страдал эти месяцы. После всех арестов я было подумал, что никогда не найду семьи… – Он сказал «семьи», и так именно он чувствовал, говоря о партии.
– Я тебя считал погибшим. Даже на одном собрании произнес траурную речь.
– А ты, как ты-то сюда попал?
– Меня послали наладить здесь работу. Она было совсем замерла в результате полицейского разгрома. Серьезное дело, старина. Но мало-помалу все приходит в движение. И ты появился как раз в нужный момент. У меня есть задание для тебя.
– Какое же?
– Сейчас дойдем и до этого. Расскажи мне сначала о событиях в долине. Я о них знаю только частично. Через некоторое время, как только положение здесь немного прояснится, мне придется особо заняться Мато-Гроссо и долиной.
Гонсало рассказал о борьбе, происходившей в долине, упомянул о Ньо Висенте, Клаудионоре, Эмилио – о трех героях, погибших во имя создания партийной организации в тех краях. Отметил он и деятельность Нестора.
– Храбрый и умный человек. Этот кабокло, если ему помочь, станет крупным крестьянским руководителем. Я тебе рекомендую его. Он – золото. – Далее он рассказал о негре Доротеу, о забастовке рабочих.
– Я было под конец чуть не совершил одну глупость, но негр мне не позволил. Он, правда, не слишком красив, но зато какой он чудесный парень. В общем, он задаст американцам; ему вполне можно доверить руководство партийной организацией.
– Он не только задаст американцам, но уже задал им хорошую трепку. Ты разве не знаешь, что произошло на празднествах по случаю открытия рудников акционерного общества? Партия ведь опубликовала материалы, где об этом было рассказано.
– Ты говоришь так, будто я находился в партийной среде. Со времени отъезда из долины я только сегодня впервые…
– Да, верно. Ну, я тебе расскажу…
Гонсало слушал с улыбкой на лице, его сердце радостно билось.
– Эх, Витор, как я полюбил долину!.. Когда-нибудь я вернусь туда. Во всяком случае, когда настанет час выбросить оттуда этих гринго, я непременно хочу быть там. Чтобы отомстить за Ньо Висенте, Эмилио, Клаудионора. Чтобы завершить то, что мы начали…
– А почему бы и нет? Такой день безусловно наступит… Но сейчас ты останешься в Сан-Пауло. Знаешь, что я тебе хочу поручить?
– Что?
– Руководство работой среди крестьян. Надо все начинать сначала; то немногое, что здесь было достигнуто, – утрачено в результате репрессий. Я тебя свяжу с некоторыми людьми…
– Нельзя ли вызвать сюда и Нестора?
– Что ж, неплохая идея. Надо будет обсудить с товарищами из секретариата. И насчет тебя также. Думаю, что они, конечно, согласятся. Мы как раз подыскивали руководителя для этой работы. А когда будем посылать кого-нибудь в долину, вызовем и Нестора. Думаю, что районный комитет Мато-Гроссо возражать не станет.
Они закончили беседу. Зажглись уличные фонари, наступил вечер. Перед тем, как еще раз обняться на прощание, Витор сказал:
– Когда распространилась весть, что ты погиб, негр Балдуино сложил о тебе песню; ее до сих пор поют в порту Баии. Дай-ка я попробую ее вспомнить. Вот послушай:
Эти гринго-кровопийцы,
Все сплавляя за границу,
Грабят наш бразильский люд,
Все семь шкур с него дерут.
Эти подлые собаки
С полицейскими, во мраке,
Под прикрытием тумана
Застрелили Гонсалана.
– Теперь мне лучше вообще не показываться в Баие…
– Постой, ведь это еще не конец!
Жадной стаей, хищной сворой
Нападали эти воры;
Не страшась, Гонсало смело
Крикнул шайке оголтелой:
«Все равно грядет свобода
Для бразильского народа!»
Так он крикнул, умирая,
Чужестранцев проклиная.
У Гонсало стояли слезы на глазах, Витор обнял его.
– Вот видишь? На нас ложится большая ответственность, старина. За такую песню, родившуюся в гуще народной, мы должны отплатить тем, чтобы работать не покладая рук. Чтобы гринго убрались вон!..
15
Маркоса выпустили на свободу в середине сентября, и меньше чем через две недели состоялась свадьба. Он все же успел попасть на спектакль балетной труппы, и в тот вечер Мануэла превзошла саму себя: радостью сверкал ее танец, и в театре, казалось, был праздник.
Маркоса не привлекли к суду, несмотря на все старания полиции. Друзья его сумели воспрепятствовать этому и добились его освобождения. Маркоса выпустили на рассвете; шел сильный дождь. Из тюрьмы его сначала отвезли в полицию, где один из инспекторов охраны политического и социального порядка объявил ему приказ об освобождении. Однако при этом предупредил, что он будет немедленно арестован снова при малейшей попытке «восстановить ликвидированную коммунистическую партию или какую-нибудь другую группировку подрывного характера». Архитектор остановил первое попавшееся такси и велел ехать прямо в отель, где обычно останавливался. Он снял там номер и сразу же позвонил в гостиницу Мануэле.
Полчаса спустя он уже гулял с ней под проливным дождем. Они обсуждали, кого пригласить на свадьбу; Мануэла пожелала, чтобы свидетельницей у нее была Мариана.
– Возможно ли это, Маркос?
– Я выясню в Сан-Пауло. Я туда отправлюсь завтра с первым же самолетом. Через два-три дня вернусь.
– Я танцую в воскресенье. Ты вернешься к этому времени?
Они проговорили чуть ли не до утра. Маркос хотел убедить ее продлить контракт с труппой, поехать на гастроли в Соединенные Штаты. Однако у Мануэлы были свои планы.
– Послушай, Маркос: у нас в Бразилии, несмотря на богатство нашего народного танца, несмотря на талантливость народа, – все же нет балета. Я знаю по себе, с какими трудностями сталкивается тот, у кого есть призвание к танцам. Кончается обычно тем, что такой человек оказывается в варьете и танцует танго… Я могу поступить двояко: или гастролировать с труппой, лишь изредка бывая в Бразилии во время балетного сезона, или, – а это то, что я и собираюсь сделать, – остаться здесь, открыть балетную школу, а затем попытаться организовать труппу. И найти композиторов, убедить их написать бразильский балет по мотивам нашего народного танца. Ты не думал, какой замечательный балет может дать макумба? Вот, что я хочу организовать и в чем очень рассчитываю на твою помощь. Знаешь, что меня навело на эту мысль? Ты даже не представляешь себе! Я присутствовала в Мексике на демонстрации документальных фильмов об ансамблях народного танца в России. Какое великолепие, Маркос! Какая красота!
– Я не хочу, чтобы из-за меня ты загубила свою карьеру.
– И ты называешь это загубленной карьерой? Неужели ты не видишь, что я права, что это действительно лучшее, что я могу создать? У меня столько планов, Маркос… Я тебя буду так эксплуатировать… – И она поцеловала его.
В Сан-Пауло Маркос встретился с Витором. Его первое впечатление от нового политического секретаря районного комитета было не вполне благоприятным. Он привык к Руйво и Жоану и его поразила резкость Витора. Первые минуты беседы были напряженными. Витор сказал ему сразу же, как только вошел:
– Теперь вы, товарищ, – член партии, нужно отнестись к делу серьезно. Насколько я знаю, идеологически вы еще недостаточно подготовлены. Это, между прочим, можно было понять, читая ваш журнал. Учиться, товарищ, многому учиться – вот что вам нужно.
– В конце концов, я все-таки грамотный… – ответил Маркос, раздосадованный таким началом беседы.
– Крупный архитектор… – заметил Витор. – Крупнейший бразильский архитектор, не так ли? Но, мой дорогой, ваша культура ничего не стоит, если она не пронизана марксистской теорией. Вы можете быть самым выдающимся архитектором, но для меня вы станете им только тогда, когда овладеете теорией марксизма. Только тогда вы окажетесь в состоянии полностью развернуть свой талант…
Однако по мере развития беседы раздражение Маркоса стало исчезать. Точно так же смягчилась и суровость Витора, изменились и его грубоватые манеры. Маркос рассказал ему о тюрьме, о товарищах, об их настроениях. Витор вспоминал своих знакомых, оказавшихся в тюрьме; интересовался, как они проводят занятия. Затем они снова вернулись к проблемам культуры, и Маркос неожиданно оказался вовлеченным в дискуссию. Раньше всего его подкупила культура и эрудиция руководителя. Он казался информированным обо всем, будто прочел все книги. Мог говорить о чем угодно, – например, вспомнили об Эрмесе Резенде, и Витор несколькими меткими замечаниями развенчал весь его «социологический» труд. Они поговорили даже об архитектуре, и Витор критиковал Корбюзье. «Где он мог все это изучить?» – спрашивал себя Маркос. Руководитель улыбнулся, положив ему руку на плечо.
– Будем друзьями… Не обращайте внимания на мою грубость: это влияние малокультурной среды. Я простой сертанежо, отпугиваю людей. – Маркос тоже улыбнулся, как бы соглашаясь с ним. – Я сам знаю, что это так. Вы можете мне подсказывать, даже должны это делать: это поможет мне исправиться. Ведь это недостаток, и крупный. Резкости у меня хоть отбавляй, и бывает, я часто незаслуженно обижаю людей. Для активиста партии – это серьезный минус, он мешает в работе. Я стараюсь измениться, понемногу выправляюсь, но, видно, это заложено у меня в натуре. Я родился в каатинге и сам колючий, как кактус. Мне нужно еще немало поработать над собой в этом направлении, и я рассчитываю на вашу помощь.
Эти искренние слова Витора вызвали на откровенность и Маркоса: он заговорил о своих личных делах.
– Я на днях женюсь и мне нужно в связи с этим спросить вас кое о чем…
– Женитесь? А мне говорили, что вы убежденный холостяк… Мариана считает это вашим единственным недостатком…
– Как раз насчет Марианы я и хотел с вами поговорить. Девушка, на которой я женюсь, знакома с Марианой, они подруги.
– А, эта балерина? Поздравляю. Говорят, у нее большой талант. По рассказам Марианы, она хороший человек. Я знаю историю с деньгами, которые она нам послала.
– Ну, раз вы знаете, кто она, прежде чем говорить о Мариане, я поставлю перед вами другой вопрос. – И он рассказал о проектах Мануэлы, о ее намерении оставить труппу, основать балетную школу и попытаться создать национальный балет.
– Она безусловно права! – воскликнул Витор, когда Маркос закончил. – Это как раз то, что нам нужно… Она на правильном пути, нужно лишь ею руководить, чтобы она не впала в этакую живописность, лишенную содержания, в искажение фольклора. Знаете, что вы должны сделать? Свезти ее в Баию, чтобы она почувствовала народные ритмы, побывала на народных праздниках и увидела там настоящие негритянские танцы. Почему бы вам не провести медовый месяц в Баие?
– Я не могу сейчас уехать, у меня запущены дела, просрочены все договоры. Возможно, в декабре…
– Поезжайте, как только вам удастся выбраться. Идея вашей невесты отличная.
– Теперь еще насчет Марианы…
– А что такое?
– Мы бы хотели, чтобы она была у нас на свадьбе свидетельницей. Как вы думаете, может она появиться на бракосочетании, подписать свое имя, не опасно это для нее?
– Нет, почему же? Вы хотите венчаться здесь?
– Да. Здесь у меня друзья, дед и бабушка Мануэлы, ее тетка. Потом я поеду в Рио, у меня там крупная постройка. Об этом я, прежде чем прийти сюда, уже говорил с товарищами.
– Сколько времени вы пробудете в Рио?
– С полгода, может быть, и больше. Но каждую неделю, и уж во всяком случае раза два-три в месяц, буду приезжать в Сан-Пауло.
– Хорошо. В таком случае я тоже хочу поговорить с вами о Мариане. Вы ведь поселитесь там, не так ли?
– В Рио? Я думаю снять там квартиру.
– Так вот, не могла ли бы Мариана у вас погостить? Она очень переутомлена, у нее ослаблен организм, она все время болеет гриппом. Дела здесь сейчас идут лучше, и мы решили заставить ее немного отдохнуть. Кроме того, ей нужно будет повидаться с Жоаном до суда и неизбежной высылки на Фернандо-де-Норонья. Мы уже обсуждали этот вопрос в секретариате, и вот раздумываем, как бы все это устроить. Если вы сможете принять ее к себе на месяц, на два, было бы замечательно.
– Конечно, для Мануэлы это будет большой радостью. Надеюсь, Мариана поедет с мальчиком, не так ли?
– Конечно.
– Отлично. Мы поженимся еще в этом месяце, и в первых числах октября будем ждать Мариану в Рио.
– Когда я буду в Рио, и я остановлюсь у вас, чтобы потолковать с вами об архитектуре и с Мануэлей о балете. Но, мой дорогой, будьте уверены в одном: если вы не изучите как следует труды Ленина и Сталина, вы не сможете помочь жене… К следующему разу, когда мы увидимся, я подготовлю программу ваших занятий. Идет?
Свадьба носила чрезвычайно скромный характер. Мануэла накануне приехала из Рио, остановилась на квартире у дедушки и бабушки. Тетя Эрнестина посматривала на нее с недоверием, шептала молитвы. Назавтра в час дня все собрались на брачную церемонию. Пришли товарищи Маркоса по работе, доктор Сабино, семья Мануэлы, – всего человек десять. Мариана приехала вместе с Маркосом; она была одета в новое платье, на голове – голубой берет. Мануэла поцеловала ее, нашла похудевшей и очень утомленной. Церемония прошла быстро, чиновник произнес небольшую речь, в которой воздал должное жениху и невесте. По окончании церемонии Мануэла напомнила Мариане:
– Мы тебя ждем на следующей неделе с малышом.
После регистрации брака они направились прямо на аэродром. В тот момент, когда молодые выходили, чтобы сесть в автомобиль, появился Лукас Пуччини, принося извинения за опоздание:
– Я был на завтраке у Коста-Вале и никак не мог раньше выбраться. – И он преподнес Мануэле бриллиантовое кольцо.
В автомобиле она отдала кольцо Маркосу.
– Ты знаешь, что с ним сделать, не так ли?
– Для партии?
– Для нашей партии… Могу я так сказать или нет? Ведь это – твоя партия, партия Марианы…
Маркос обнял ее, машина остановилась на перекрестке улиц, прохожие с улыбкой смотрели на целующуюся в автомобиле пару.
16
В середине октября трибунал национальной безопасности начал слушание процессов арестованных несколько месяцев назад коммунистов. Некоторые члены национального руководства партии были осуждены на пятьдесят с лишним лет каждый «по совокупности наказаний». Стремясь дискредитировать партию перед массами, ее руководителей обвиняли в уголовных преступлениях: убийствах, покушениях, грабежах – во всем, что только приходило в голову следователям и прокурорам. Газеты публиковали пространные отчеты, в которых Престес изображался как главный виновник всех этих вымышленных зверств.
Как правило, суды проводились в отсутствие обвиняемых. «Перевозка заключенных чрезвычайно опасна», – заявляла полиция. Публика не допускалась в залы трибунала, о приговорах узнавали лишь по сообщениям, публиковавшимся на первых полосах газет. Клеветническая кампания в печати и по радио достигла своего апогея: нападки на Престеса, которого расписывали как чудовище, носили самый грубый характер. Наряду с этим всячески восхвалялись энергичные действия полиции, «вырвавшей из почвы родины сорную траву коммунизма», как написал в своей статье поэт Шопел. Суд над Престесом должен был, по выражению одной из газет, «закрыть золотым ключом победоносную кампанию по ликвидации влияния коммунистических организаций в стране».
Мариана, гостившая в Рио у Маркоса и Мануэлы, каждую среду ходила в тюрьму на свидание с Жоаном и брала туда с собой сына. Ребенок радостно бегал по помещению, где происходили эти свидания; возвращаясь, Мариана приносила известия об арестованных. Руйво стал немного поправляться. Когда его перевозили в Рио, состояние больного было исключительно тяжелым; опасались за его жизнь. Теперь ему стало несколько лучше. Олга последовала за ним в Рио, носила ему лекарства и медикаменты для инъекций, ходила по адвокатам, стараясь добиться, чтобы после суда он остался отбывать заключение в тюремной больнице, вместо отправки на Фернандо-де-Норонья. Маркос собирал среди сочувствующих интеллигентов деньги, чтобы помочь защите заключенных.
Процесс сан-пауловских коммунистов был начат раньше намеченной даты. В последнюю среду адвокат Жоана, весьма энергичный молодой юрист, сказал ему, что суд состоится в конце ноября: трибунал занят подготовкой нового процесса Престеса.
И вот удар: сообщение на первых полосах утренних газет, напечатанное крупным шрифтом. У Марианы подкосились ноги, она упала на диван с газетой в руке. Она обычно вставала раньше, чем супруги, приготавливала завтрак для ребенка, читала газеты, ожидая Маркоса и Мануэлу, чтобы вместе с ними выпить кофе.
Там было написано: «Агиналдо Пенья приговорен к восьми годам тюрьмы». Это было тяжелое наказание, лишь Освалдо должен был отбыть в общей сложности тринадцать лет – семь по этому приговору и шесть по предыдущему, вынесенному на процессе забастовщиков Сантоса. Руйво был приговорен к пяти годам: адвокат использовал для защиты факт его болезни и то обстоятельство, что он некоторое время пробыл в санатории, – этим с него снималась ответственность за события того периода. Судья (единственный юрист, согласившийся войти в состав этого чрезвычайного трибунала, сформированного из людей, не имеющих отношения к юстиции) рассмеялся:
– Этому больше полгода не протянуть. К нему можно проявить великодушие…
Остальные приговоры колебались от шести месяцев до шести лет, ни один из обвиняемых не был оправдан. Даже Сисеро д'Алмейда был приговорен к десяти месяцам тюрьмы, несмотря на то, что его брат нанял для защиты двух видных адвокатов и обращался ко всем за поддержкой, добиваясь оправдания Сисеро. Сисеро находился в Монтевидео, он вовремя скрылся, и теперь в Уругвае и в Аргентине участвовал в кампании солидарности с Престесом и другими бразильскими политическими заключенными.
Когда Маркос, насвистывая самбу, появился в комнате, он увидел Мариану, смотревшую на газету каким-то отсутствующим взглядом. Ребенок играл с плюшевым медвежонком – подарком Мануэлы. Мариана даже не поздоровалась. Архитектор подошел к ней.
– Что-нибудь случилось, Мариана?
Только тогда она его заметила.
– Жоану – восемь лет.
– Что?
Она протянула ему газету, встала и вышла на балкон двенадцатого этажа, на котором была расположена квартира Маркоса. Отсюда виднелись просторы океана. Эти просторы Жоану предстояло пересечь в грязном трюме парохода, направляющегося к острову Фернандо-де-Норонья. Они не будут видеться многие годы: оттуда редко приходят известия; проходящие мимо пароходы только случайно пристают к этому острову – затерявшейся точке между Бразилией и Африкой, – такому одинокому среди океана. Мариана вдруг почувствовала себя опустошенной, будто у нее вырвали сердце.
Маркос остановился возле нее, молча взял ее руку, сжал в своих руках.
– Мужайся, Мариана. Такова наша борьба…
Она ответила не сразу. Глаза ее смотрели на океан – далеко-далеко отсюда был остров Фернандо-де-Норонья, пустынный и бесплодный, – многие оттуда так и не вернулись. Она оторвалась от этих видений, повернулась к Маркосу.
– Я это отлично знаю… Но я не ожидала этого сегодня. Конечно, я никогда и не думала, что он будет оправдан. Еще на последнем свидании он мне сказал, что рассчитывает получить от шести до десяти лет. Как он угадал – дали восемь. Но известие это обрушилось на меня сейчас так неожиданно, не успела я развернуть газету. Адвокат думал, что суд состоится в конце будущего месяца. Я просто ошеломлена…
– Скоты!.. – выругался Маркос. – Придет день, и эти субъекты из трибунала безопасности ответят за все.
Мануэла из столовой звала их пить кофе.
– Вы хотите меня уморить голодом?
– Пойдем, Маркос… – сказала Мариана с дрожью в голосе.
Мануэла взяла на руки ребенка, приласкала его. Она проводила значительную часть дня, играя с мальчиком; они переворачивали вверх дном всю квартиру. Мануэла грозила, что отнимет у Марианы сына и сейчас, по обыкновению шутя, повторила:
– Я оставлю его себе. – Но тут же, заметив грустное лицо подруги, спросила: – Что с тобой?
Маркос ответил за нее сдавленным голосом:
– Жоана приговорили к восьми годам.
Мануэла прижала к себе ребенка, слезы полились из ее прекрасных голубых глаз.
– Мариана, милая моя…
Печальным был этот утренний завтрак. Мануэла отодвинула чашку, она не могла ничего есть. Держа мальчика на руках, она продолжала ласкать его. Маркос вернулся к себе, чтобы переодеться. Мариана решила выйти вместе с ним.
– Я пойду к адвокату. Он, наверное, отправится в тюрьму сообщить приговор. Я поеду с ним: может быть, мне разрешат поговорить с Жоаном.
Вернулась она уже не такой удрученной. Ей удалось вместе с адвокатом попасть в тюрьму, она разговаривала с Жоаном. Теперь она уже не чувствовала себя такой опустошенной, она снова обрела равновесие и была готова перенести эту долгую разлуку. Жоан ей сказал:
– Я вернусь к тебе гораздо раньше, чем пройдет восемь лет… – И, сжав руку, добавил: – Ты с товарищами вытащишь нас из тюрьмы.
Это было как раз то, о чем Мариана говорила Мануэле: Жоан никогда не терял присутствия духа, он видел завтрашний день. Мариана во время свидания сказала ему о своем желании как можно скорее вернуться к партийным обязанностям. Теперь, когда он был осужден, только на партийной работе она будет чувствовать себя тесно связанной с ним, словно океану не суждено разъединить их. Только так, вместе с партией, она будет бороться за его освобождение. Она просила Жоана разрешить ей немедленно вернуться к активной деятельности. Но Жоан не согласился.
– Ты еще слишком слаба, – сказал он. – Подожди, по крайней мере, месяц; питайся, отдыхай, набирайся сил. Не такое ли задание тебе дали товарищи? Ты помнишь, когда заболел Руйво? Как мы тогда рассуждали? Если ты сейчас не отдохнешь, то потом не вынесешь напряженной работы, сорвешься, заболеешь и вместо того, чтобы помочь товарищам, только обременишь их.
– Но партийная работа поможет мне перенести разлуку…
– Знаю, и мне это поможет. Но ты коммунистка, Мариана, и не имеешь права приходить в отчаяние от этого приговора. Ты здесь в Рио для того, чтобы набраться сил. И сделать это нужно с той же сознательностью, с какой ты выполняешь все другие задания. Используй время для чтения, чаще общайся с Маркосом: он может научить тебя многому. И, пока я буду здесь, приходи меня навещать. Приводи нашего сына…
Мариана рассказала об этом разговоре Мануэле; балерина обрадовалась:
– Я не отпущу тебя отсюда до тех пор, пока ты не станешь здоровой, толстушкой. Ни тебя, ни Луизиньо.
Вернулся Маркос. Он не завтракал в центре, как это обычно делал, – хотел узнать, как себя чувствует Мариана. Предложил пойти всем в кино, чтобы отвлечься, но Мариана не захотела.
– Спасибо, Маркос, ты обо мне не беспокойся. Я возьму себя в руки, – улыбнулась она с грустью. – Достаточно мне было повидать Жоана, и он меня вылечил. Лучше всего я буду заниматься.
– Ну что ж, хорошо, – согласился Маркос. – Я верю, что ты скоро придешь в себя. В таком случае я опять поеду на постройку.
Вечером втроем они вышли прогуляться по набережной. Говорили о самых различных вещах, но все трое думали о Жоане, Руйво, Освалдо и других осужденных товарищах. Мануэла замечала время от времени тень грусти в глазах Марианы, устремленных на просторы океана, волны которого разбивались о прибрежный песок. «Как отвлечь ее от тяжелых мыслей?» – спрашивала она себя.
Когда они вернулись, Маркос прошел в кабинет; ему надо было закончить работу. Мануэла осталась с Марианой.
– Ты ведь никогда не видела, как я танцую, Мариана…
– Никогда… – улыбнулась Мариана. – По правде сказать, я знаю балет только по кинофильмам. В театре я его никогда не видела.
– Тогда сегодня я дам спектакль только для тебя одной. Давай приготовим сцену… – Она сдвинула в сторону стулья и столы, выбрала пластинки для радиолы. – Я переоденусь и тотчас вернусь.
Мануэла загримировалась и оделась, как для настоящего спектакля. Она появилась в полумраке залы, воздушная и прекрасная. Раздалась музыка «Лебединого озера», Мануэла начала свой танец, Маркос вышел из кабинета и остановился в дверях.
Сидя в кресле с влажными от волнения глазами, Мариана улыбалась. Музыка, подобно бальзаму, успокаивала ее страдающее сердце. Из легких, прекрасных и смелых движений Мануэлы как бы исходила уверенность в счастливом завтрашнем дне. «Настанет день, – думала Мариана, – вернется Жоан, мы будем вместе работать, вместе строить такой же гармоничный и чистый мир, как эта музыка, как этот танец. Чтобы завоевать этот мир, чтобы заложить его прочный фундамент, стоит вынести все, даже разлуку, еще более долгую и еще более печальную. Да, стоит вынести все, чтобы построить этот мир, полный любви, красоты и радости, наполненный всем тем, что Мануэла выразила в своем танце».
17
Когда, сходя с трамваев, при еще неясном свете раннего утра, рабочие заметили красные флажки на электрических проводах, улыбка заиграла у них на лицах, и они стали подталкивать друг друга локтями. Были даже такие, что останавливались, чтобы лучше разглядеть флажки; другие замедляли шаг; кто-то прошептал:
– Я же говорил, что никто не в состоянии с ними покончить…
Их было немного, этих маленьких флажков из красной бумаги, раскачивавшихся под порывами утреннего ветерка: они висели, зацепившись за электрические провода, заброшенные туда ночью, вероятно, теми же людьми, которые на стене банка, немного поодаль от этого места, сделали надпись:
«Амнистию Престесу! Долой Варгаса!»
Небольшое это дело, конечно, но какое огромное значение оно имело для рабочих, сошедших с трамваев в это октябрьское утро! Полиция не замедлит явиться, чтобы сорвать флажки, чтобы стереть надпись на стене банка. Но новость уже обежала фабрики и заводы, предприятия и учреждения. Она распространилась и по предместьям, далеко за пределы Сан-Пауло ее занесли шоферы грузовиков и автобусов: партия жива; ложь,– что она окончательно ликвидирована! Целые группы рабочих – их становилось все больше и больше – видели флажки на проводах, читали лозунг на стене, написанный этой ночью. Воодушевление овладевало, казалось, самыми различными группами людей: слышались оживленные замечания, лица становились радостными.
А красные флажки весело развевались на ветру не только на площади да Сэ. Флажки и надписи появились и перед крупными фабриками и заводами в Сан-Пауло и его пригородах, свидетельствуя, что партия продолжает существовать. К вечеру того же дня в различных пунктах города были разбросаны листовки, разоблачающие политику правительства, которое заключает в тюрьмы лучших сынов рабочего класса, обрекает народ на голод и продает страну иностранным империалистам – американцам и немцам. Эти листовки были подписаны Сан-пауловским районным комитетом коммунистической партии, и трудящиеся самых различных профессий, интеллигенция, простые люди тайком читали их. Полицейские машины с воющими сиренами снова стали проноситься по улицам, не обращая внимания на знаки, регулирующие движение. Неизвестно откуда появившиеся листовки распространялись на фабриках и заводах. И с ними распространялась радость, с ними возрождалась надежда.
К концу этого дня, когда работа на предприятиях уже закончилась, старый рабочий с седой головой и усталыми глазами толкнул дверь маленькой лачуги в предместье города. В единственной комнате, на голой кровати без матраца, лежала исхудавшая больная. Она была такой же старой, как и муж, щеки у нее ввалились, глаза были воспалены. По временам из ее уст вырывался легкий стон. Рядом с койкой на пустом бидоне из-под керосина стояли пузырьки с лекарствами.
Рабочий вошел в комнату, нагнулся над больной, взял ее горячую от жара руку.
– Ну, как ты себя чувствуешь?
– Все так же… – прошептала она.
Она попробовала подняться, опираясь на локоть, но старик не позволил:
– Оставь, я все сделаю сам…
Она попыталась улыбнуться.
– Еда в шкафу, надо только разогреть.
Но муж не сразу вышел из комнаты. Он сел на край постели, расстегнул рваный пиджак и, сунув руку под рубашку, вытащил печатную листовку. Жена подняла голову, чтобы лучше видеть.
– Что это?
– Послушай: «Сан-пауловский районный комитет Коммунистической партии Бразилии обращается к рабочим и крестьянам…»
– Я знала… я знала… – прошептала больная, снова опуская голову на дощатое изголовье. – Я знала, что они работают. Тяжело было думать, что все кончено. – Она закрыла глаза, и на ее худом лице появилось выражение удовлетворения.
Старик продолжал читать, его руки дрожали, настолько он был взволнован. Никогда ни он, ни его жена не были коммунистами. Но почти два десятилетия, с тех пор как в 1922 году была основана партия, они следовали ее указаниям, давали деньги в фонд МОПР, под ее руководством боролись за лучшие условия жизни; в их лачуге скрывались партийные активисты в те времена, когда партия подвергалась свирепым репрессиям. Как и многие другие на фабриках и фазендах, они прочли заявление начальника полиции Рио о мнимом уничтожении партии, знали об аресте членов ее национального руководства и людей, которые были им знакомы по комитету штата Сан-Пауло: Руйво, Жоана, Освалдо. Они видели, что всякая деятельность партии прекратилась и, подобно многим другим, какое-то время думали, что, может быть, и правда – всему конец. Старик кончил читать и сказал:
– Я видел красные флажки на проводах, это так красиво…
Больная открыла глаза.
– Я хочу поправиться… Теперь, когда они вернулись, стоит жить.
В других бесчисленных лачугах, в бедных хижинах, где нехватало еды, тот же свет надежды возрождался во взволнованных словах рабочего, рассказывавшего о надписях и флажках или читавшего огненные призывы листовки. Снова партия с ними, она для них, как яркий свет в конце узкого и мрачного туннеля.
18
Португалец Рамиро посмотрел на исхудавшее лицо товарища Витора. В его взоре сквозило восхищение и горячая привязанность. Витор, размахивая руками, попытался разогнать дым от сигарет, выкуренных только что ушедшими. Это была маленькая комната с закрытыми окнами, и Витор, который вообще не курил, ворчал:
– Надымили хуже заводской трубы. Не знаю, что только хорошего находят в курении…
Рамиро смеялся:
– Надеюсь, ты не объявишь декрет о запрещении табака в партии? Мы потеряем тогда много хороших людей.
Витор тоже рассмеялся:
– Нет, это никому не угрожает. – И серьезным тоном сказал: – Ну, как там, говори!
Рамиро стал рассказывать о том, какое впечатление произвели первые проявления публичной деятельности нового комитета: флажки, надписи на стенах, листовки.
– Товарищи с завода «Нитро-кимика» говорят, что они никогда не видели рабочих такими довольными. Ведь многие думали, что партия ликвидирована. – Улыбка расплылась на его лице. – Любовь, которую трудящиеся питают к партии, воодушевляет нас. Даже люди, которые как будто не имеют с нами ничего общего и соприкасаются с партией только в случае забастовки или какого-нибудь другого массового движения, и те проявляют свою радость. Листовки сегодня обсуждались, передавались из рук в руки.
Витор интересовался подробностями: ему нужны были конкретные факты, пусть даже мелкие, которым другие не придавали бы значения.
– Здешняя полиция появилась в Санто-Андре, шарит там по фабрикам. Но люди настроены так, что никто не испугался. Знаешь, Витор, я теперь начинаю осознавать то, что ты всегда говоришь: да, мы можем организовать здесь большую, массовую партию. Правда, до сих пор я не понимал этого толком, я был далек от масс, замкнувшись внутри партийной организации…
– Да, мы замкнулись, отдалились от масс. Товарищи, стремясь обеспечить безопасность организации, уж слишком глубоко ушли в подполье. Вот и получилось…
– Мы так долго не выходили на улицу, – заметил португалец, – что люди действительно могли поверить слухам о ликвидации партии.
Витор покачал головой.
– Ты неправ. Это был необходимый этап: надо было заново сколотить костяк организации, прежде чем начать снова агитацию. Какой толк выходить на улицу, не создав руководства партии, не имея организованных низовых ячеек? Я понимаю нетерпение некоторых товарищей. Но было бы неправильно ускорять ход событий. Мы действовали именно так, как надо. И теперь не следует увлекаться. Не думай, что мы будем тратить время только на то, чтобы забрасывать флажки на провода и делать надписи на улицах. Гораздо важнее укреплять партию, создавать ячейки на предприятиях, вербовать и воспитывать кадры, готовиться к предстоящей борьбе.
Рамиро внимательно слушал. За эти месяцы он крепко привязался к Витору, чувствовал все большее восхищение перед своим руководителем. Он часто вспоминал, как они были подавлены, до того как Витор прибыл из Баии и начал работу по восстановлению партийной организации штата.
Не так давно они собрали, наконец, пленум, избрали новый комитет. В течение трех дней обсуждали предстоящие задачи и методы их осуществления. Рамиро, избранный в состав руководства, не скрывал своей радости. Всего каких-нибудь несколько месяцев назад положение казалось ему безнадежным. Он вспомнил свою первую встречу с Марианой после провала прежнего состава секретариата, ареста десятков товарищей, почти полной ликвидации низовых партийных ячеек. В тот час заявление начальника полиции приобретало, казалось, трагическую реальность. Даже Мариана, всегда полная такого воодушевления, потеряла было на мгновение присутствие духа, да и сам он, споривший с ней, не очень-то был уверен в том, что удастся снова поднять организацию, так сильно пострадавшую от ударов полиции. Когда прибыл Витор, он, Мариана и немногие другие действовавшие члены партии были в подавленном состоянии и занимались лишь мелкими текущими вопросами, не решаясь взяться за восстановление партийного аппарата. Вся деятельность партии сводилась к печатанию на ротаторе нескольких сот листовок, распространявшихся почти исключительно среди активистов и их семей. Витор подтолкнул их вперед, к смелой, терпеливой и настойчивой работе, и Рамиро отдавал себе теперь отчет в том, сколь многому он научился у руководителя за эти месяцы.
Они заново создали важнейшие ячейки, завербовали новых членов партии, восстановили комитеты в наиболее значительных городах штата, вновь занялись работой среди крестьян. Пленум показал, насколько продвинулась партия, теперь у них уже был избран комитет, руководители, облеченные доверием товарищей. Многое еще, конечно, надо было сделать, да к тому же и планы у Витора были весьма широкие. Но уже сейчас партия вновь появилась на улицах Сан-Пауло, рабочие на фабриках и заводах узнали, что она продолжает существовать, газеты заговорили о «красных агитаторах». Рамиро был вне себя от радости, когда рассказывал Витору все эти подробности.
Лицо руководителя, исхудавшее и усталое, воодушевлялось, когда португалец с таким энтузиазмом рассказывал ему обо всем этом. Затем Витор дал ему конкретные указания, как продолжать работу, проанализировал условия, наметил пути, по которым следовало идти дальше. Его голос, обычно грубоватый, стал мягким, когда он сказал:
– Знаешь, Рамиро, что действительно важно? Это верить в рабочий класс, в трудящихся. Когда мы оцениваем наши силы, нельзя забывать, что мы – партия пролетариата, партия всех рабочих, даже тех, которые еще не выступают активно вместе с нами. Не переоценивать своих сил, быть смелыми и в то же время уравновешенными – наша задача. – Он на миг замолчал. – Нелегко все это, знаю. Надо не опьяняться успехами, но и не пугаться трудностей. Нелегко, но мы должны суметь вести партию вперед.
– Какое качество, по-твоему, более всего необходимо коммунисту, чтобы верно служить партии и революции?
– Не одно, ряд качеств… – ответил Витор. – Целый ряд… Коммунист должен изо дня в день учиться, коммунисту нужно мужество, честность, прямодушие, живость ума, столько всего… – Он посмотрел на португальца, и его усталые глаза приняли мечтательный вид. – Но есть одно, что особенно важно. Товарищ Сталин учил нас, что самым драгоценным капиталом является человек. У коммуниста, Рамиро, сердце должно быть преисполнено любви к людям. Я знал таких, кто пришел в партию с сердцем, полным ненависти к жизни и к людям, ненависть была единственным чувством, которое привело их к нам. Но ни один из них не оставался долго в партии. Я признаю только одну ненависть – ненависть класса, ненависть к эксплуататорам. Но даже эта ненависть содержит в себе любовь к эксплуатируемым, понимаешь? Любить людей, иметь сердце, способное понимать других, уважать их, помогать им. Важнейшее качество коммуниста? Это его любовь к народу, Рамиро, – в чем наша задача, как не строить счастливую жизнь для людей? – и любовь к Советскому Союзу, где такая жизнь уже стала действительностью…
Он поднялся. Португалец взглянул на него: высокого, с редеющими волосами, с глазами, сверкающими, как у поэта в момент творчества. Великая сила, которую он нес в своем сердце, вдохновляла его.
– Вот почему наша партия бессмертна и непобедима, Рамиро. Мы не какие-то сверхчеловеки… Мы простые люди с их достоинствами и недостатками; но от других людей нас отличает принадлежность к партии. От нее, от партии, – вся наша сила. От идей, которые составляют смысл ее существования, – счастье человека на земле, создание мира без голода и без страданий. И поэтому никто и никогда, никакой начальник полиции, никакой Гитлер – никто не в силах нас победить. Ибо мы любим человечество, боремся за него, ибо человек – наш самый драгоценный капитал. Наша партия бессмертна и непобедима, ибо коммунизм – это жизнь, он возвышает человека. Никто и никогда не в силах уничтожить жизнь, Рамиро. Никто!
19
– Иногда я думаю, – сказал Артур Карнейро-Маседо-да Роша, поднимая хрустальный бокал и любуясь тонким прозрачным стеклом, – что никто не в силах с ними справиться… Что мы ведем безнадежную борьбу…
– Это ты мне уже однажды говорил, и я тебе ответил, что думать так – глупо, это теория самоубийства. У меня отвращение к самоубийцам: они дезертиры. Я знаю, что нелегко покончить с коммунистами; они, как сорная трава, их нужно вырывать с корнем. – Коста-Вале отпил глоток виски.
Они находились в кабинете банкира вечером того самого дня, когда на электрических проводах появились красные флажки. В комнате, выходящей в сад, вокруг Мариэты собрались друзья дома, приглашенные на обед в честь графа Заславского, прибывшего из Европы на постоянное жительство в Бразилию. Обсуждали дерзкую вылазку коммунистов. Эти простые флажки и эти надписи на стенах отодвинули на задний план графа с его романтическим видом беженца, несмотря на то, что он привез свежие известия о Пауло и Розинье; каждый вновь пришедший сразу же начинал разговор о новой демонстрации коммунистической партии, об этих флажках, висящих на проводах на площади да Сэ, о надписях в самом центре города, даже на фасаде банка Коста-Вале. Все говорили об этом: поэт Шопел, которого это доказательство существования и деятельности коммунистов повергло в такой ужас, что его чуть не хватил удар; комендадора да Toppe, живые глазки которой горели бешенством, – она громко возмущалась бездарностью и бездеятельностью полиции; Лукас Пуччини, проповедующий необходимость проведения хитроумной трабальистской политики, способной обмануть рабочих; полковник Венансио Флоривал, требующий очередного суда и смертной казни для всех коммунистов; профессор Алсебиадес де Мораис, восхваляющий Гитлера, Муссолини и Салазара. Лишь Сузана Виейра-Соарес ничего не знала и только по прибытии сюда услышала о происшедших событиях.
– Я, милочка, понятия об этом не имела. Мы репетируем новую американскую пьесу, и я ни о чем другом сейчас не думаю… Но эти коммунисты действительно какие-то дьяволы. Даже у нас в труппе есть люди, которые им сочувствуют…
«Ангелы» закончили сезон в Сан-Пауло и готовили репертуар на будущий год для выступлений в Рио. Бертиньо был занят хлопотами в столице республики, добиваясь у министра просвещения предоставления его труппе постоянного театрального здания и большей субсидии, чем прежде. Но только Теодор Грант интересовался театральными новостями Сузаны. Неужели и среди артистов труппы, среди выходцев из гран-финос есть сочувствующие коммунизму?
– Оказывается, есть! – заявила Сузана. – С тех пор, как труппа после прошлогоднего успеха покончила с любительством и превратилась в профессиональный ансамбль, в нее вошли молодые артисты из других кругов общества, и некоторые из них не скрывают своих симпатий к коммунизму. Они восхваляют советский театр, считая его первым в мире…
Атташе американского консульства по вопросам культуры проявил интерес, он захотел узнать имена этих артистов. Остальные были увлечены горячей дискуссией относительно более конкретных способов окончательной ликвидации «коммунистической чумы», как выразился профессор Алсебиадес де Мораис.
Граф Заславский включился в спор, он говорил на прекрасном французском языке. Он рассказывал о довоенной Польше, где, по его словам, правительству удалось искоренить всякое коммунистическое влияние. Женщины внимательно его слушали, и даже Сузана Виейра покинула Теодора Гранта, чтобы подсесть к графу; его славянский профиль буквально очаровал супругу Соареса. Граф прибыл в Бразилию несколько недель назад, привезя с собой рекомендательные письма от Пауло и Розиньи к комендадоре и к Коста-Вале. Он был представлен в обществе и имел большой успех; о нем рассказывали разные истории: о знатности его рода, о состоянии, которое было вложено в его поместья, в акции фабрик и других предприятий в Польше. Однако большинство его земель осталось на украинских территориях, ныне отошедших к Советскому Союзу, а что касается капитала, вложенного в фабрики, то о нем граф ничего не знал со времени германской оккупации. Его родители, сестра и свояченица сумели вовремя выехать в Париж, и он надеялся, что сможет впоследствии выписать их в Бразилию. Только его младший брат остался в Польше защищать интересы семьи. Все это казалось женщинам романтичным и привлекало их к графу. Заславский приторным актерским голосом рассказывал о своих богатых украинских землях: как ему удалось узнать, большевики роздали их крестьянам – его бывшим рабам. – Однако, – улыбнулся граф, – когда война закончится, я вернусь и проучу этих бандитов… Вообразите, какой абсурд: мой охотничий павильон, эту драгоценность, они превратили в «клуб культуры» для крестьян. «Клуб культуры» для неграмотных! Можно просто умереть со смеху…
Он не смеялся, но улыбался Алине да Toppe, на которую стал посматривать с первого момента своего приезда в Сан-Пауло: в конце концов ведь не на службу хотел поступить граф Заславский. Его дворянские титулы не позволяли ему заниматься низменным трудом, объяснил он комендадоре, когда та, откликаясь на письма Пауло и Розиньи, предложила ему службу на одном из своих предприятий. Из того, что граф мог выбрать, лишь один пост показался ему совместимым с его дворянским достоинством, – это был пост режиссера варьете в Сантосе, которого усиленно добивался и Бертиньо Соарес. В ожидании этих благ граф ухаживал за племянницей комендадоры, он еще в Европе наметил себе кое-какие планы в этом направлении, услыхав от Розиньи о ее сестре и о размерах состояния тетки. Поэтому Лукас Пуччини подозрительно посматривал на него, хотя комендадора как-то на днях объяснила ему:
– Если этот нищий граф рассчитывает обосноваться в моем доме и вскружить голову Алине, то он ошибается. Я уже сыта дворянством Пауло. По горло сыта…
Женщины жалели графа, их реплики были полны симпатии, а тем временем Венансио Флоривал продолжал горячо требовать смертной казни для всех коммунистов.
Коста-Вале увел Артура Карнейро-Маседо-да-Роша из этого шумного зала в свой тихий кабинет, где они потягивали виски, продолжая комментировать последние события. В течение нескольких месяцев все было тихо и спокойно. Артур припомнил заявления начальника полиции о полной ликвидации Коммунистической партии Бразилии – факт, который тогда примирил Коста-Вале с правительством. А теперь коммунисты опять начали действовать, снова появились подрывные надписи на стенах банка, на фабричных заборах, снова стало ощущаться это беспокойное присутствие коммунистической партии. Теперь не замедлят, конечно, последовать и забастовки, волнения среди рабочих. Снова возникнут затруднения в долине реки Салгадо, опять появятся лозунги против американцев. Голос банкира был холоден и суров; он заявил экс-министру:
– Нужно уничтожить их, но уничтожить без сожаления и сострадания, отрубить партии голову…
Постукивая по хрустальному бокалу пальцем с выхоленным ногтем, Артур извлекал из него музыкальные звуки.
– Сколько уже раз говорилось, что коммунизм ликвидирован!.. Ведь именно ради этого ты помогал перевороту Жетулио. А результат? Что толку арестовывать их и присуждать к тюремному заключению? Ведь народ все больше верит коммунистам, верит Престесу.
– Я уже тебе однажды сказал: надо отрубить голову партии, вырвать заразу с корнем. – Голос Коста-Вале звучал повелительно, подобно голосу генерала, излагающего план решительного сражения. – Чтобы покончить с коммунизмом в Бразилии, нам нужно, во-первых, покончить с Россией (этим займется Гитлер, и здесь нам беспокоиться нечего), во-вторых, – это уже наше дело – покончить с авторитетом Престеса.
– Ну, это трудное дело… Чем суровее его осудят, тем больше вырастет его авторитет…
– Это зависит от того, в какой форме его осудить. Я над этим много размышлял. Нужно покончить с авторитетом Престеса, тогда мы покончим и с партией. Одних избиений мало, я с тобой согласен; только такое животное, как Венансио, может думать, что этого достаточно. Нам нужно действовать гораздо умнее.
– Что же ты посоветуешь? Что ты думаешь предпринять?
– У нас готовится новый процесс Престеса. Ты обратил внимание, какая вокруг этого ведется пропаганда?
– Да. Престеса изображают убийцей, вором, уголовным преступником…
– Именно. Я уже имел в Рио беседу по этому поводу. Нам нужно дискредитировать Престеса. Процесс хорошо состряпан, неважно, верны или неверны обвинения. Тебе хорошо известно, что чем клевета грубее, тем больше вероятия, что она покажется правдой. Но у нас неправильно ведутся подобные процессы. Коммунистов судят чуть ли не тайком, в их отсутствие, без публики. Этим мы добиваемся результатов, противоположных нашим желаниям. Народ думает, что от него что-то скрывают. Понимаешь?
– Да, но ведь это довольно деликатная штука…
– Ничего тут нет деликатного. Поразмысли хорошенько. Если мы будем судить Престеса публично, обвиняя его во всех смертных грехах, посадим его на скамью подсудимых перед народом, откроем для публики двери трибунала, публично его дискредитируем, – тогда прощай весь его престиж. Авторитет зарабатывается годами, а потерять его можно в одну минуту. Это мы и сделаем: уничтожим ореол героя, которым окружен Престес. Народ должен увидеть его на скамье подсудимых, обвиняемым в качестве жестокого убийцы и простого мошенника. Мы должны дискредитировать его, понимаешь? А дискредитировав Престеса, легко покончить и со всей партией. Нам нужно вырвать корни коммунистического влияния…
– Возможно, ты прав.
– Я безусловно прав. Я говорил об этом в трибунале безопасности. Пусть Престеса судят публично, предоставят ему слово для самозащиты; так он погубит и себя и свою партию. Мы развернем широкую кампанию по его дискредитации, для этого у нас есть Шопел, Сакила, печать. Какой толк осуждать и арестовывать людей, если мы не наносим главного удара? Подорвать авторитет Престеса, покончить с тем уважением, которое к нему питает народ, с надеждой, которую на него возлагают, – это уже половина дела во всей программе борьбы против коммунизма. После этого останется только подождать, чтобы Гитлер уничтожил Кремль. Если Престес будет дискредитирован здесь, а там нацисты разгромят Москву, мы сможем спать спокойно. От коммунизма не останется и следа.
Артур допил виски.
– Хорошо, если бы так…
Жозе Коста-Вале свысока посмотрел на него:
– Ты слабый человек, Артур. Именно из-за таких людей, как ты, коммунизм и распространяется по всему свету. Ты принадлежишь прошлому, еще веришь в такие пустые слова, как «демократия» и «свобода». Теперь, мой дорогой, иные времена. Это времена Гитлера и Муссолини. А они, мой дорогой, сумели ликвидировать коммунизм в своих странах. Мы сделаем то же и здесь. А для начала покончим с Престесом. Пусть его смешают с грязью перед народом. Я хочу, чтобы ты завтра же отправился в Рио и присутствовал на процессе…
Звуки рояля, донесшиеся из залы, проникли в кабинет. Тео Грант напевал свои фокстроты. Коста-Вале прислушался.
– Или мы покончим с престижем этого бандита Престеса, разжигающего надежды черни, или они покончат с нами… Я как-то прочел в одной листовке – из тех, что они неизвестно каким образом выпускают, – якобы Престес это свет, озаряющий путь народу. Так вот: забросаем Престеса грязью, Артурзиньо, и свет померкнет.
Артур снова налил себе виски.
– Да, ты прав. Будет ликвидирован Престес – в Бразилии будет покончено с коммунизмом. Завтра утром я пошлю за билетом на самолет в Рио. Действительно, мне нужно присутствовать на этом процессе… Когда назначено заседание суда?
Коста-Вале сунул руку во внутренний карман пиджака и вынул билет на самолет.
– Билет уже куплен. Самолет идет в одиннадцать. Вместе с тобой отправится Венансио Флоривал…
– А что ему делать в Рио?
Банкир улыбнулся.
– Правительство собирается предложить ему наместничество в Мато-Гроссо. Отныне этот штат подвластен «Акционерному обществу долины реки Салгадо»…
– А пост наместника?
– То же самое… Этот пост принадлежит акционерному обществу…
Холодные глаза банкира выражали такую решимость, что депутат поспешил изменить тему разговора. Услышав громкие звуки песенки, раздававшейся в зале, он заметил:
– Хорошо поет этот Грант…
– Он понимает, что к чему. Эти американцы знают, что делают. Они – хозяева мира, дорогой Артур.
20
Накануне моросил дождь, перешедший ночью в сильный ливень. Но утро 7 ноября 1940 года было замечательным, все вокруг было залито солнечным светом. Это утро, когда природа Рио-де-Жанейро празднично сияла, когда город, возникший из гор и моря, представлял собой ослепительное зрелище для глаз.
Артур Карнейро-Маседо-да-Роша, направлявшийся на такси в трибунал национальной безопасности, воскликнул, обратившись к полковнику Венансио Флоривалу, который сидел рядом, погруженный в свои мысли, и потягивал дорогую сигару:
– Хороша погода!
Плантатор очнулся от своих мыслей. Как бы из вежливости по отношению к экс-министру он бросил равнодушный взгляд на сверкающую бухту Ботафого; лучи тропического солнца придавали яркие оттенки и зелени моря и зелени деревьев. Их внимание привлекла фигура торопившейся, скромно одетой женщины с красивым профилем.
Флоривал, посмотрев на нее, согласился:
– Хороша, нет сомнений! Ах, что за женщины в Рио, дорогой Артурзиньо! Я все еще чувствую, что мне нехватает сенаторского кресла… А теперь, вместо этого, придется завязнуть в Мато-Гроссо…
– Вы можете прихватить с собой кое-кого под видом секретарш, блистательный наместник…
– Но я еще не назначен… – рассмеялся плантатор.
Накануне он получил официальное предложение занять пост наместника штата Мато-Гроссо и вечером отметил это обильным, продолжительным обедом, а затем кутежом в одном из веселых баров Копакабаны.
Артур снова прервал его:
– Знаете, что сегодня за дата, Венансио?
– Дата? Какая дата? Какая-нибудь годовщина? Праздник?
– Сегодня седьмое ноября…
– Седьмое ноября… – Плантатор порылся в памяти, вспоминая далекие уроки истории. – Что же, чорт возьми, случилось седьмого ноября? Переворот Жетулио был десятого…
– Именно, чорт знает что случилось… – засмеялся Артур. – Сегодня исполняется двадцать три года, как в России был провозглашен коммунистический режим. Только по старому русскому календарю это был еще октябрь. Потому революция и называется Октябрьской.
– Вот видите, сеньор Артурзиньо, даже и в этом коммунисты – путаники. Все у них делается для того, чтобы больше запутать простонародье. Чтобы обмануть, натравить на нас трудящихся… – Он подумал мгновение, вынул изо рта сигару, чтобы ему удобнее было говорить. – Это для них сегодня праздник? И в этот день мы судим Престеса? Неплохо… Даже если это так и задумано…
Артур обратил внимание на шофера, который, услышав имя Престеса, повернул голову.
– Конечно, так задумано.
Венансио Флоривал смахнул через окно пепел с сигары и сказал своим грубым голосом:
– И все же я считаю, что все эти козни, которые вы затеваете, чтобы похоронить Престеса, – просто потерянное время. К чему тратить на этого бандита столько усилий? Есть только один способ расправиться с Престесом, сеньор Артур: поставить его к стенке – и пулю в лоб! Будь я правительством, я бы так и поступил… – Он обратился к шоферу, который снова с любопытством повернулся. – Что такое, кабокло? Что-нибудь не так?
Шофер прикинулся дурачком:
– Я не слышал разговора. Что-то неладно с мотором… – И он сразу затормозил.
Вылезая из машины, шофер услыхал ответ Артура:
– Не всегда можно сделать то, что хочется, Венансио. И не всегда это лучше… Вместо того, чтобы превращать его в мученика, не вернее ли его дискредитировать?
Шофер поднял голову от мотора.
– Простите, хозяин, аккумулятор разрядился.
Они вышли. Венансио Флоривал ворча расплатился.
– Ни одного такси нет поблизости, придется нам идти пешком…
Они пошли дальше пешком. Шофер подождал, пока они отойдут, и выругался:
– Добирайтесь пешком, если вам нужно, сволочи!.. Убить Престеса! Да, они хотят этого, но хватит ли у них наглости?
Венансио Флоривал снова углубился в свои думы, не обращая внимания на окружающее. Коста-Вале принудил правительство, как и раньше, считаться с ним, он снова распоряжался и командовал всем. В Сан-Пауло банкир сказал ему:
– Вот что, Венансио, пора возвращаться к активной политике. Мы не можем оставить Мато-Гроссо в чужих руках. Теперь, когда мы начинаем добывать в долине марганец, нам нужна крепкая рука, нужен такой наместник штата, который не допустил бы туда коммунистов. Что вы скажете насчет поста наместника штата?
Но не только в этом плантатор мог видеть могущественную руку банкира. Точно так же и в публичном суде над Престесом, вокруг которого была поднята такая шумиха, во всей этой инсценировке он тоже чувствовал влияние Коста-Вале, руководившего политиками, судьями и журналистами. Он, Коста-Вале, как бы мозг, – думал Венансио Флоривал, – все, что банкир ни делал, он делал по расчету, имея перед собой определенную цель, и почти всегда его действия приводили к замечательным результатам.
В это сияющее солнечное утро, направляясь к трибуналу безопасности, экс-сенатор и без пяти минут наместник штата понял, какое значение имеют его политические и экономические связи с банкиром. Несколько лет назад сенатор Венансио Флоривал, владелец огромных кофейных плантаций и пастбищ, высокомерно полагал, что на социальной лестнице он стоит выше этого банкира, с которым он в некоторых делах вступил в компанию. В то время Коста-Вале, который предпочитал скрывать свои планы, заслуживал, с его точки зрения, даже известной жалости: жена только и делала, что обманывала его, а он даже не реагировал на это. Только теперь, размышляя о пути, пройденном банкиром, Венансио понял, что и обаяние жены использовалось Коста-Вале так же, как и страсть поэта Сезара Гильерме Шопела к деньгам, как политическое честолюбие Артура Карнейро-Маседо-да-Роша, как феодальная власть самого Венансио Флоривала… Да, действительно, «он – хозяин», как цинично говорил, захмелев, поэт Шопел… Хозяин над ними всеми, хозяин министров, редакторов газет, начальников учреждений, полицейских инспекторов, таких социологов, как Эрмес Резенде…
Артур молчал, идя рядом с плантатором. Взгляд его машинально скользил вокруг, схватывая каждый оттенок цвета, но мысли все так же были заняты особой банкира. Мариэта сумела выбрать мужа. Коста-Вале – самый могущественный человек в стране. Он пользуется доверием американцев, это их «доверенное лицо» в Бразилии. Всюду можно было встретить доказательства его влияния, и, по правде говоря, он должен был бы председательствовать на заседании суда над Престесом.
Артур пригласил Сезара Гильерме Шопела пойти вместе с ним, однако встревоженный поэт отказался. Он боялся даже тени коммунистов, и одна мысль появиться на суде над Престесом, руководителем компартии, заставляла его трепетать. Не помогло и напоминание Артура по поводу положения Престеса: ведь он будет доставлен прямо из тюрьмы, где находится в строгой изоляции, его будет окружать полиция, он будет смят под тяжестью ужасных обвинений, заклеймен эпитетами убийцы, вора, изменника родины, – все это прокурор трибунала бросит ему прямо в лицо… Престес – сраженный и разбитый – будет выставлен перед публикой на поругание специально для того, чтобы покончить с легендой о Престесе, командовавшем великим походом Колонны Престеса, возглавлявшем Национально-освободительный альянс, Престесе – генерале восстания 1935 года, Престесе – коммунистическом вожде, выступившем с обвинениями против правительства на двух предыдущих процессах[192]В августе 1936 года, через несколько месяцев после ареста Луиса Карлоса Престеса, рассматривалось дело по обвинению его в «дезертирстве». Престес не мог присутствовать на заседании, потому что полиция провокационно отказалась «гарантировать» доставку в здание суда и поведение на процессе «опасного преступника». По изучении дела суд был вынужден вынести оправдательный приговор. Несмотря на это, Престес не был освобожден, и правительство, произвольно аннулировав решение суда, передало «дело» Престеса на разбор военного трибунала. Выступая на заседании военного трибунала, Престес в своей речи разоблачил инсценировку процесса, показал всю несостоятельность выдвинутых против него обвинений и потребовал, чтобы ему, находившемуся в условиях строжайшей тюремной изоляции, дали возможность подготовить защиту. Военному трибуналу пришлось отложить заседание., о «Рыцаре надежды», пользующемся таким авторитетом и любовью народа…
– Коста-Вале поистине гениален, дорогой Шопел. А этот его план изумителен, – заявил Артур.
Но Шопел – его жирное тело даже содрогалось от страха – все равно не хотел идти. В глубине его души таились опасения, а весь этот план Коста-Вале и правительства представлялся ему слишком примитивным и к тому же рискованным.
– Конечно, он гений, но гений лишь в делах финансовых. Это и американцы признают. Однако во всем остальном, что выходит за рамки бизнеса, он ничего не смыслит. Так же как и американцы. Он не знает психологии народа. Не знает и Престеса. Кто ему сказал, что процесс пройдет так, как он замышляет? То же самое хотели сделать с Димитровым в Германии, а вы помните, что получилось? Прав этот осел Флоривал: таким, как Престес, – пуля…
Артур смеялся над страхами поэта, показывал ему газеты, где сообщения о военных действиях отошли на второй план, а материалы о предстоящем процессе над Престесом печатались под громадными заголовками; длинные столбцы заполнялись клеветой и руганью по его адресу. Одна из махрово-консервативных газет опубликовала на своих страницах интервью с Эйтором Магальяэнсом: аферист описывал мнимую встречу с Престесом в 1935 году, когда, по словам репортера, «коммунисты хотели привлечь его – Эйтора – к осуществлению чудовищных террористических актов».
– Все это наша с Сакилой работа, – говорил Шопел. – Дай бог, чтобы она принесла плоды. Но я сомневаюсь…
Артуру вспомнились резкие слова Коста-Вале о пессимистах, сказанные дня два назад в Сан-Пауло. Подняв палец с тщательно выхоленным ногтем, банкир изрекал перед напуганным поэтом:
– Ты пессимист. Завтра политическая карьера Престеса будет окончена. Из героя ему придется превратиться в уголовного преступника, и те люди, которые сегодня клянутся ему в верности, завтра будут проклинать его имя… Сам народ скажет: «Нет, он не был героем, он нас обманул». И навсегда отойдет от него и от его партии.
И сейчас, по пути в трибунал безопасности, слушая разглагольствования Венансио Флоривала о Коста-Вале («Вот это мозг!»), Артуру хотелось отделаться от опасений Шопела. «У него патологический страх, он смертельно боится коммунистов», – размышлял Артур.
Плантатор чуть не захлебывался от восторга, говоря о величии банкира:
– Сеньор Артур, Коста-Вале заслуживает статуи. Да, да и не обыкновенной, а из тех… громадных… ну, как их зовут?.. – Сморщив лоб, он стремился припомнить слова, слышанные им как-то в сенате. – Он даже приостановил шаг, напрягая память. – Статуи… статуи… Ага! Наконец-то вспомнил: конной статуи!
21
Девушка, на которой остановился взор Венансио Флоривала, была Мариана, также направлявшаяся в трибунал безопасности. Накануне, обсуждая с Маркосом и Мануэлей сообщения газет относительно процесса, она сказала, что хочет пойти на суд, однако архитектор стал возражать против этого.
Мариана опровергла его опасения.
– Я устроюсь где-нибудь в уголке, мне только хочется увидеть Престеса. Никогда его не видала, а это – единственный случай…
Она вышла из трамвая у набережной Ботафого. У нее было много времени в запасе и ей не хотелось прийти слишком рано, чтобы не привлекать к себе внимания. К тому же утро было таким прекрасным, что стоило пройтись пешком. Идя вдоль набережной, она размышляла о Престесе, о партии, о борьбе. Несколько дней назад она узнала о листовках, разбросанных по улицам Сан-Пауло, о красных флажках на электрических проводах, о надписях, снова появившихся на стенах домов. Витор и другие товарищи вновь хорошо поработали. Она, Мариана, тоже не замедлит принять участие в борьбе: как только Жоана отправят на Фернандо-де-Норонья, она вернется в Сан-Пауло, чтобы отдать себя в распоряжение партии. Так она сможет лучше перенести разлуку с мужем, так она почувствует себя ближе к нему, несмотря на огромные морские просторы, которые будут их разделять.
Во время одного из свиданий с Жоаном он ей объяснил значение проведения публичного процесса над Престесом, рассказал, каких результатов ожидают от этого процесса враги. И, конечно, именно эта беседа заставила ее принять решение присутствовать на судебном заседании. В зале трибунала предстояла битва между партией и реакцией, и исход этой битвы мог значительно повлиять на дальнейшее развитие борьбы. Так она и аргументировала накануне, в разговоре с Маркосом, когда они обменивались мнениями, свое намерение посетить трибунал.
Мануэла, преисполненная симпатии к коммунистам и встревоженная этой подлой кампанией, спрашивала:
– Что они затевают?
– Они хотят дискредитировать Престеса перед народом. Они хотят показать народу, якобы Престес одинок и ему не на кого рассчитывать. Они ожидают, что народ не будет больше верить ему и решит, будто режим «нового государства» воцарился здесь навечно.
Мануэла раскрыла свои прекрасные голубые глаза, в которых сквозило сомнение.
– Вы думаете, народ поверит всему, что говорят о Престесе?
– Я уверена, – заявила Мариана, – что Престес выйдет из трибунала еще более любимым народом.
– Я тоже уверен в этом, – тихо сказал Маркос. – И нужно, чтобы получилось именно так. Народ доверяет Престесу: каждый раз, когда я думаю о бразильском народе, я вижу перед собой Престеса.
У здания трибунала собралась толпа, она пробивалась к входу. Полицейские разгоняли любопытных, покрикивая на них и расталкивая по сторонам.
– Мест нет, все переполнено!
Но люди не расходились, они оставались у входа, разглядывая тюремную машину, на которой привезли Престеса. Агенты угрожали, народ продолжал тесниться. Мариане случайно удалось пробраться. Она подошла как раз в тот момент, когда два агента расчищали дорогу для Венансио Флоривала и Артура Карнейро-Маседо-да-Роша. Она бросилась вслед за ними, один из агентов хотел загородить ей путь, но Венансио, узнав в ней девушку, виденную им на набережной Ботафого, спросил:
– Хотите войти?
– Да, я журналистка, – ответила Мариана. – Из сан-пауловской газеты…
– Дайте пройти девушке, – обратился экс-сенатор к полицейскому.
И она неожиданно очутилась в переполненном зале. Полицейские агенты затесались в толпу, подслушивая разговоры. Артура и Венансио Флоривала усадили в приготовленные для них кресла неподалеку от судей. Разбор дела уже начался, оглашалось обвинительное заключение.
Мариана, поднявшись на цыпочки, чтобы лучше видеть, смогла рассмотреть Престеса. Он стоял между двумя рослыми солдатами специальной полиции, в рубашке без галстука, распахнутой на груди, и спокойно смотрел перед собой. Председательствовал на суде майор, который в 1924 году одновременно с Престесом взялся за оружие, чтобы бороться против власть имущих[193]Председателем сессии «трибунала национальной безопасности» по «делу» Престеса был назначен майор Майнард Гомес. Во время похода Колонны Престеса, в 1924 и 1926 годах, Майнард Гомес, тогда лейтенант, дважды поднимал восстание в северо-восточном штате Сержипе против правительства президента Бернардеса. Пытавшийся использовать революционное движение в своих личных авантюристических целях, Гомес позднее открыто изменил народу и, перейдя в лагерь реакции, стал выслуживаться перед Варгасом.. Позднее он переметнулся на сторону реакции, а теперь даже взялся судить того, кто некогда был его революционным руководителем.
Мариана не могла отвести взгляда от спокойного лица Престеса, от его глаз, в которых светился страстный огонь. Вот он – легендарный руководитель, неустрашимый капитан[194]Бразильский народ называет Престеса и капитаном и генералом. Возглавив в октябре 1924 года восстание гарнизона в городе Санто-Анжело, в штате Рио-Гранде-до-Сул, он имел воинское звание капитана инженерных войск. После соединения повстанцев Рио-Гранде-до-Сул и Сан-Пауло в марте – апреле 1925 года Луис Карлос Престес был произведен в полковники, а в январе 1926 года ему было присвоено звание генерала революционной армии., первый труженик Бразилии – тот, в кого верят миллионы людей и на кого они возлагают свои надежды, олицетворение непоколебимой воли, поддерживаемой сознанием правоты, верой в будущее.
Не только глаза Марианы были прикованы к нему, но и всех присутствующих захватила уверенность и спокойствие этого человека. Здесь были мужчины и женщины – простые люди из народа; они пришли, чтобы увидеть Престеса, чтобы выразить своим молчаливым присутствием солидарность с ним, они пришли потому, что верили ему. В этот момент Мариана поняла, насколько она была права, когда выражала уверенность, что народ нельзя обмануть! Чувство гордости и радости смешалось с волнением от того, что она увидела Престеса.
Среди присутствующих почувствовалось какое-то волнение: люди перешептывались, и вдруг сразу наступила полная тишина. Мариана подняла голову; председатель трибунала почти неслышным голосом предоставил слово подсудимому.
И вот раздался громкий голос Престеса – голос, полный правды, каждое слово его звучало как послание надежды и уверенности, оно разносилось из того тесного, набитого полицией зала суда в самые далекие уголки Бразилии. Мариану пленил этот голос, это был голос партии, провозглашавший ее торжество над силами реакции и террора:
– Я хочу использовать представившуюся мне возможность выступить перед бразильским народом, чтобы торжественно отметить величайшую историческую дату – день двадцать третьей годовщины великой русской революции, освободившей народ от тирании…
Судья истерически закричал, лишая его слова. Солдаты специальной полиции и агенты набросились на него, намереваясь вывести из зала. Мариана увидела, как целая группа полицейских стала насильно уводить подсудимого. Возникло смятение; публика, не обращая внимания на угрозы полиции, толкалась, чтобы лучше видеть происходящее. Мариана, очутившаяся почти рядом с судейским столом, около Венансио и Артура, услышала чей-то шопот:
– Мы проиграли партию…
Она не знала, что это сказал экс-министр Артур Карнейро-Маседо-да-Роша, влиятельный политический деятель правящих классов, ставленник банкира Коста-Вале и американцев. Она также не знала, что человек, который ответил голосом, полным безудержной ненависти к Престесу, был экс-сенатор и латифундист, владелец обширных земель, Венансио Флоривал:
– Только пуля заставит его замолчать.
Она только знала, что это враги, сраженные мужественным поведением Престеса, это те, кто хотел дискредитировать его перед народом, кто мечтал покончить с авторитетом партии, с любовью народа к Престесу.
На мгновение Престес вдруг освободился от полицейских, повернулся к публике, желая что-то сказать. Но тут же полиция снова набросилась на него. Мариана не выдержала и крикнула:
– Да здравствует Луис Карлос Престес!
Это было так неожиданно, что в этот момент с ней ничего не сделали. Престес, уже находясь около двери, куда его тащили, повернул голову и улыбнулся. Кто-то закричал рядом с ней:
– Вот эта! Она!.. – Это был Венансио Флоривал, находившийся в состоянии крайнего возбуждения.
Мариану тут же крепко схватили за руку. Агенты прокладывали дорогу среди публики. Они с силой тащили Мариану. Небольшая толпа вышла вслед за ней и полицейскими, будто в суде не оставалось ничего интересного: Престеса там уже не было.
На улице блистало ослепительное солнце. Один из агентов толкнул Мариану к тюремной машине, она споткнулась, чуть было не упала, но кто-то ее поддержал. Поднимаясь, она увидела в глазах всех, кто столпился у дверей и на улице, ту же горячую солидарность, как и у того человека из народа, который поддержал ее и пожал ей руку.
– Спасибо… – улыбнулась Мариана.
Твердым шагом, с высоко поднятой головой, она вошла в тюремный автомобиль.
Добрис, Замок Союза чехословацких писателей, март 1952 г.
Рио-де-Жанейро, ноябрь 1953 г.
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления