Онлайн чтение книги
Портрет А
Из сборника. «Испытания, заклинания: 1940–1944»{114}
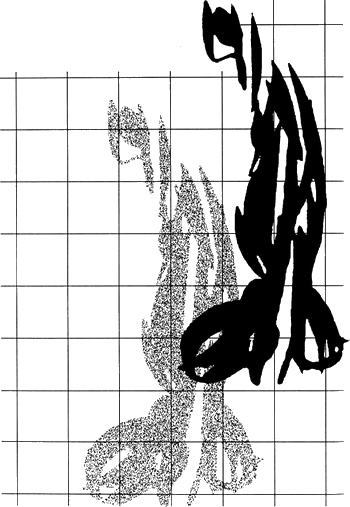
Цепочка человечков
(пер. А. Поповой)
В конце долгой болезни, после большого упадка сил, я встретился с цепочкой человечков.
Мне бы их выгнать, но я сам тогда еле держался на ногах… И они прошли сквозь меня: у меня-то рост оставался прежним, а они — малюсенькие, и мне стало ужасно не по себе… Иногда они просто стояли передо мной, но и тогда мне было не легче: я знал, что скоро они снова пройдут сквозь меня, что ткани моего тела им не помеха — словно косяк сардин, неторопливо пересекающий северные моря.
Продвигались они, как правило, напряженно, будто в области повышенного давления.
Не могу утверждать, что они наносили какой-то ущерб. Но после них оставался неуловимый след, и он был мне отвратителен.
Мне бы привыкнуть, но кто же, узнав, что у него в зубе дырка, будет дальше жевать как ни в чем не бывало? А у меня был затронут не просто зуб, а все тело.
Иногда внутри у меня вытвердевал стержень, и я думал: «Вот теперь давайте, приходите. Посмотрим, удастся ли вам пройти… и если вы решите пробивать себе путь, я вам выставлю преграду».
В такие моменты они исчезали из виду. Однако мои силы улетучивались вместе с кофеином, и я снова ощущал свою пустотелость, я был со всех сторон до безобразия открыт для цепочки человечков, всегда готовых пройти сквозь меня. Для них это не составляло никакого труда, а на меня они вообще не обращали внимания.
И все же я погрузился в глубокий сон, а потом вновь обретенное подобие здоровья позволило мне после долгого уединения принять нескольких посетителей. Я глядел на них с удивлением.
Пока я молча, откинувшись на подушки, рассматривал знакомых, застывших в благопристойном проявлении сочувствия, я заметил, что у них тоже есть цепочки человечков (человечки, впрочем, были мягче и гибче моих), и посетители мои иногда ими обменивались, не придавая этому никакого значения.
Я же был так слаб, что моих человечков никто не мог ни отобрать, ни обменять на своих.
Поменять их, может, было бы и неплохо — и для здоровья полезно, и развлечение (я сужу по другим, которые, казалось, были рады поменяться человечками). Но получалось так, что мои оставались при мне и не могли ни уйти от меня, ни найти себе спутников или замену.
Вот так обстояли мои дела, и радоваться тут было нечему: я чувствовал себя в своем теле, как в огромном монастыре.
Тем временем прошли годы, здоровье ко мне вернулось, потом — еще годы, потом — война, нужда, и я был снова подавлен, а мои человечки стали такими крохотными и нечеткими, что их кто угодно мог согнать с места, а кое-кому удавалось даже похитить их у меня, что они и делали с нахальством сильных.
Глядя на все это, я осознавал, как далеко зашел в своем отчаянье. От самоубийства меня удерживал даже не страх смерти, а просто неспособность на что-то решиться.
Тем временем прошло еще много лет, война кончилась, ко мне вернулись память и силы, и тут я обнаружил, что обзавелся семьей, пятью детьми, и у меня теперь нет своего угла, где бы я мог бы приткнуться с моей цепочкой человечков.
Так они и пропали, а я-то думал, что связан с ними на веки вечные.
Алфавит
(пер. А. Поповой)
Когда на меня повеяло холодом подступающей смерти, я присмотрелся ко всему живому — в последний раз.
От смертельного прикосновения этого леденящего взгляда всё, кроме самого главного, исчезало.
Но я продолжал тасовать мир живых существ, пытаясь найти что-то, что устоит перед Смертью.
А они съеживались, съеживались и наконец так уменьшились, что стали напоминать алфавит, только он годился и для другого мира, для любого другого мира.
Так я перестал бояться, что у меня отнимут всю вселенную, в которой я жил.
Эта схватка меня укрепила, и я, цел и невредим, рассматривал алфавит, когда кровь удовлетворенно хлынула в мои артериолы и вены, и я начал медленно отползать от обрыва собственной жизни.
Те, кто ко мне приходил
(пер. А. Поповой)
Я не сказал бы, что те, кто ко мне приходил, и вправду были ко мне, ну да ладно… а если кто-то считает, что это к нему, — пусть объявится.
Они приходили ко мне, полагаясь на мою безучастность, и оставляли ненужные части тела. Отрезанные руки, голый торс, а вот покачивается, откинулась назад, голова из мертвых ветвей, или топорщатся три-четыре гребня перьев над горделивым лбом, или тот же тающий в воздухе лоб развевается, будто шарф; у этих дарителей рук да ног душа нараспашку, наивность, лица цветут, взгляды — как чаша, и все же они стараются не бросаться в глаза, как цветочки полевые, неразличимые среди тысяч собратьев.
Так они приходили, а чаще других приходил он — единственный, Король-мозгоглаз, с расщепленным пером, Король, что умеет сдерживать оползни в человечьих делах. Миролюбивый Король с колодезным пузом. Король с пальмовой ветвью.
Я искал попутчика, а нашел Короля. Вжились и вжались друг в друга, и взгляд его — маяк в полушариях моей жизни.
Ну, а ты, ты подходишь все ближе, и глаз у тебя — как просунутая в окно голова, ты кто? Подглядываешь, сдерживая и дыхание, и чувства, прячешь руки, которые рассказали бы слишком много, а глаз у тебя — как бык, что просовывает рога сквозь колючую изгородь соседского луга. Какой нежданный тропизм повернул тебя к ближнему твоему? Ищешь кого-то? Или уже нашел? А может, ошибся адресом?
Худосочные, непригодные для жизни, опустошенные поиском, люди из ниоткуда — вот моего поля ягоды.
Точеные князьки-гордецы колют глаз своей независимостью… Князья Падучей… И вот Князь — ведь он все еще Князь… Вот князь одноокий судья (другой судья, господин копья пока не пришел, его ждут). Вот князь одноокий судья, и молния блистает в руке его, и молния венчает главу.
Порой у него на лбу видна струйка крови. Или это собственный ад его истязает?
Князь-громовержец презрел злословье, выполнил уговор — проник в сиянии молний в промерзший воздух жалкой коморки, в которой я даже и не хозяин. Пальцы его — яркий свет, пробегают, словно ударная волна динамита, когда он взорвется в расщелинах скал, где только что яростно рыскал. Быстролетный князь, втиснутый в свой зигзаг. Августейший князь, разбитый трепетом сотрясений. Князь — слияние пламени и человека.
Письмо
(пер. В. Козового)
Я пишу вам из некогда ясной страны. Я пишу из страны тумана и мрака. Мы живем — живем долгие годы — на Башне с приспущенным флагом. О лето! Отравленное! И неизменно все тот же день: день, который врезался в память…
Выловленная рыба, пока есть силы, мечтает о влаге. Пока есть силы — это ли не естественно? На самой вершине горы тебя вдруг настигает копье. После чего вся жизнь сразу меняется. Одно мгновение вышибает храмовые врата.
Мы советуемся. Мы больше не понимаем. Любой из нас понимает не больше соседа. Один обезумел. Другой растерян. Все обескуражены. Спокойствие вымерло. Минута мудрости стала короче минутной догадки. Скажите: если в лицо трижды вонзится стрела, сможет ли кто выглядеть как ни в чем не бывало?
Смерть унесла одних. Тюрьма, изгнание, голод, нищета унесли других. Нас пронзили свирепые копья озноба; нас пронзили затем низость и вероломство.
Кто на нашей земле впивает еще всей душой поцелуй радости?
Вино в твоей крови — поэма. Женщина в твоем сердце — поэма. Небо сольется с землей — поэма, но поэма, которую мы услышали, оледенила наш ум.
Наша песнь в тисках нестерпимого горя замерла на устах. Прервался искусства нефритовый след. Лишь облака несутся — облака в форме скал, облака в форме пчел, — и мы проносимся, как облака, раздуваемые пустыми стихиями боли.
Мы прокляли день. Он хрипит. Мы прокляли ночь, которую осаждают заботы. Тысячи голосов — чтоб увязнуть. Ни одного — чтобы опереться. Наша кожа больше не в силах выносить мертвенность наших лиц.
Случившееся огромно. Ночь тоже огромна, но как может она помочь? Тысячи полночных звезд не освещают и одной постели. Те, кто знал, больше не знают. Поезд несется — они трясутся, колесо — они катятся.
«Сохранить себя в своем собственном?» Где там! На острове галдящих попугаев нет места для уединенного дома. Коварство в злосчастье сделалось явным. Чистое утратило чистоту. В нем заговорило упрямство, злопамятство. Одни выдают себя своей визгливостью. Другие — своей уклончивостью. Но величье ничем себя не выдает.
Притаившийся пыл, отреченье от истины, немота плит, вопль безоружной жертвы — это единство ледяного покоя и жгучего трепета стало нашим единством, а путь заблудшего пса — нашим путем.
Мы не узнали себя в безмолвии, мы не узнали себя ни в криках, ни в наших пещерах, ни в жестах чужестранцев. Природа вокруг безучастна, и небо смотрит на нас отрешенно.
Мы посмотрелись в зеркало смерти. Мы посмотрелись в зеркало обесчещенной клятвы, льющейся крови, обезглавленного порыва, в нечистое зеркало унижений.
Мы вернулись к изумрудным истокам.
Песнь в лабиринте
(Фрагмент)
(Перевод В. Козового)
Она пришла, жестокая эпоха, жестокостью превосходящая жестокий человеческий удел.
Она пришла, Эпоха.
Я обращу их дома в груды щебня, сказал голос.
Я обращу их корабли, блуждающие вдали от земли, в молниеносно тонущие глыбы.
Я обращу их семьи в затравленные своры.
Я обращу их сокровища в то, во что моль обращает меха, оставляя лишь хрупкий призрак, который рассыпается в прах при первом прикосновенье.
Я обращу их счастье в изгаженную губку, которой место — среди отбросов, и все их давние надежды, расплющенные, как труп клопа, кошмаром выстелят и ночи их, и дни.
Я заставлю смерть парить буквально и реально, и горе тому, над кем зашумят ее крылья.
Я опрокину их богов чудовищным пинком, и, роясь в их обломках, они увидят других богов, которых прежде перед собой не замечали, и эта новая утрата добавит к их печали иную, пострашней.
* * *
Угрюмый, угрюмый год!
Угрюмый, как вдруг затопленный окоп.
Угрюмый, как дот, замеченный внезапно, и слишком поздно, слишком поздно, — с амбразурой, напоминающей сощуренный зловеще глаз, но то, что она мечет, впивается куда похлеще.
Угрюмый, как крейсер без воздушного прикрытья, в ночи, в прожекторах врага, в то время, как в небе раздается гул, знакомый каждому, покамест еще слабый, но нарастающий с ужасной быстротой, и крейсер уходит стороной, выписывая зигзаги, точно запутавшаяся, неловкая фраза, потерявшая нить рассказа.
Угрюмый… и нет ему конца.
В компании чудищ
(пер. Т. Баскаковой)
Мне рано (еще в юности) стало понятно: я родился, чтобы жить среди чудищ.
Они долго оставались ужасными, но потом ужасными быть перестали — их прежняя чудовищная злобность мало-помалу поблекла. В конце концов они порастратили агрессивность, и я зажил среди них спокойно.
Тогда-то и начали исподволь подрастать другие чудища, которых я не ждал, — и вот в один прекрасный день все они явились передо мной, агрессивные и ужасные (а зачем бы, по-вашему, им заявляться ко мне, оставаясь праздными и ручными?); но, зачернив собою весь горизонт, они через какое-то время опять-таки поблекли, и дальше я жил среди них со спокойным сердцем — это было прекрасно, особенно по сравнению с возможным отвратительным, чуть ли не смертельным исходом.
Хотя они и были на первых порах нелепыми, гадкими и отталкивающими, но со временем обрели такую расплывчатость очертаний, что чуть ли не сливались с природой.
Произвел эту перемену возраст. Ну да. Вы спросите, где доказательства того, что в таком состоянии они безвредны? Очень просто. У них больше нет глаз. Они лишились органов обнаружения, и теперь их лица, пусть и чудовищные, их головы и тела мешают мне ничуть не больше, чем те конусы, сферы, цилиндры и другие фигуры, которые природа воплощает в скалах, камешках и во многих других своих творениях.
Отдел чудищ
(пер. Т. Баскаковой)
После третьего рецидива болезни я увидел внутренним зрением мой липкий, складчатый мозг; я как бы воочию наблюдал все его отделы и центры, среди которых почти не осталось функционирующих, и ждал, что вот-вот увижу, как там накапливается гной или образуется опухоль.
Я искал хоть один пока еще здоровый отдел и действительно обнаружил такой: он обнажился, потому что другие сморщились. Он активно работал — опасная активность, ибо, как выяснилось, то был отдел чудищ. Чем дольше я на него смотрел, тем больше в этом убеждался.
Значит, именно отдел чудищ, обычно угнетенный и пассивный, теперь, когда отказали все другие, вдруг стал для них мощной поддержкой и сохранял мне жизнь: сплав моей собственной жизни с жизнью чудищ. А ведь я всегда, сколько себя помню, прилагал отчаянные усилия, чтобы держать их в узде!
Наверное, то были последние попытки моего естества спастись, выжить. Обо всем чудовищном, в чем я тогда обрел опору (и какой ценой!), даже не смею говорить. Кто бы поверил, что я до такой степени дорожу жизнью?
Так я и выкарабкивался: от одних чудищ к другим, от гусениц — к гигантским личинкам, цепляясь за каждую из этих тварей…
Большая бесформенная рука
(пер. Т. Баскаковой)
Часто мне кажется, что по предметам, на которые я смотрю, скользит большая бесформенная рука.
По предметам, даже по памятникам и фасадам многоэтажных домов, — выглядит это так, будто она хочет все разрушить. На самом деле она нащупывает себе путь, только и всего.
Вот что подсказывают мне мои уже давние наблюдения: она нащупывает себе путь. К тому же неуверенно.
Настоящего веса в ней нет: чтобы попасть туда, где она появляется, ей нужно раз за разом проникать сквозь толстые стены, которые бы должны от ее ударов развалиться на кирпичики, но, насколько я знаю, никаких заметных разрушений после нее не остается. Потому-то я и не особенно беспокоюсь — во всяком случае, не больше, чем архитекторы — они ведь, как многие меня уверяют, практически не принимают ее в расчет.
Старый стервятник
(пер. Т. Баскаковой)
Старый стервятник — вот кто не дает мне покоя.
И всегда-то он взгромоздится на что-нибудь неподалеку! Знает, где меня искать.
Бывает, он вдруг покажется на голове друга или в лице незнакомца, который пытается примерить себе его круглый глаз, его неподкупный взгляд и даже клюв — он и клюв пытается нацепить, хотя человеческая физиономия совершенно не приспособлена для такого рода украшений.
Но вот он устроился и теперь старается, чтобы я его узнал. Тут уж и мое лицо каменеет, и я спешу покинуть этих ненадежных друзей — людишек, которые мнят себя чем-то и, больше того, кем-то, хотя даже не научились сохранять лицо.
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления