Онлайн чтение книги
Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастичных повествованиях
Szlachcic Zawalnia, czyli Białoruś w fantastycznych opowiadaniach
Книга третья. Раздумья отшельника
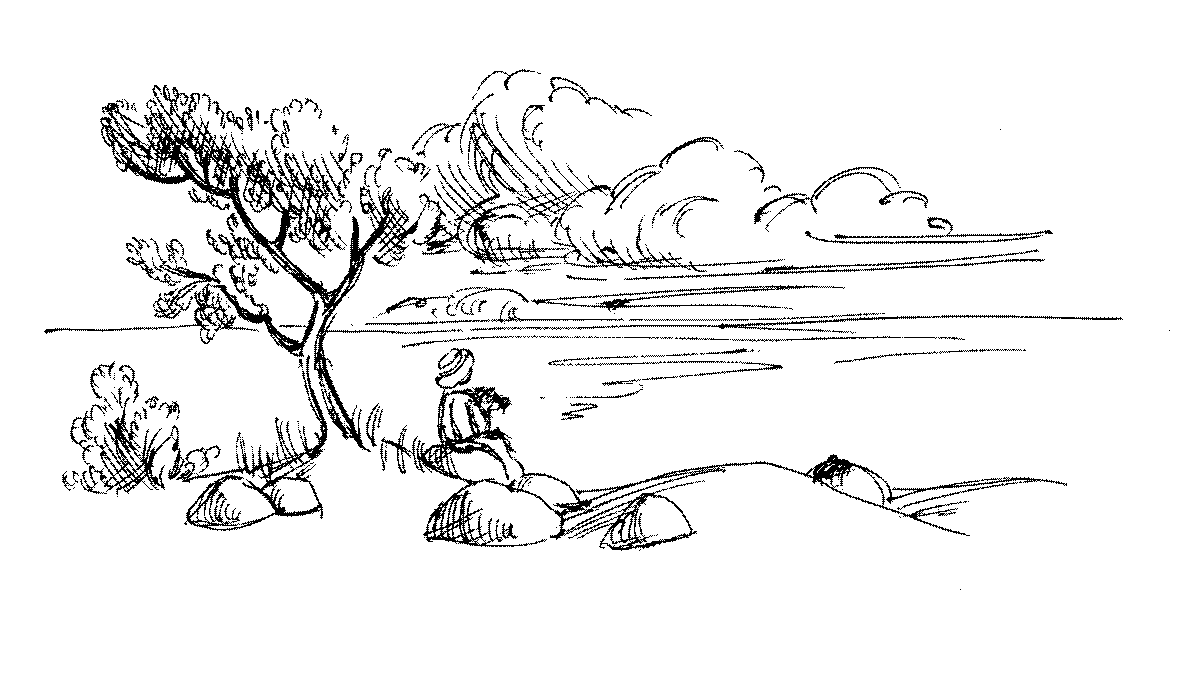
От заката до восхода солнца сидел я на берегу Финского залива, любуясь прекрасной картиной майских ночей. Звёзд было не видать, белый свет заливал небесный свод и морской простор. Майские ночи чужого края! лишь вы внимали грустным и печальным песням моим, когда тут, на берегу залива, погружённый в мысли, вспоминал я горы и леса родимой земли.
Горят золотым огнём купола храмов столицы; какая тишина царит в воздухе! Пробили часы на башне, их звучный гул достигает дальних окраин города. По спокойной воде плывёт лодка, слышу весёлые песни матросов; в пышных садах звучит музыка, допоздна шумят весёлые танцы и ещё не разошлись гуляющие под покровом парковых деревьев.
Майские ночи родимой стороны! милей мне было встречать закат солнца на берегу Нещерды, не сравнить мне самую виртуозную музыку с нежным и восхитительным пением соловьёв и тоскливым голосом кукушек. Дикие леса, вы куда милее пышных парков! шум ваших ветвей погружал меня в раздумья о неразгаданных тайнах природы, что скрываются в тени ваших столетних деревьев. В народных повествованиях прозревал я искренние чувства и глубокую истину, слышались в них мудрость и молитвы всего народа, и они милее мне во сто крат, чем пустые разговоры в раззолоченных салонах.
Море! Я читал стихи, что слагали о тебе поэты, тихие или бурные воды твои сравнивал с родными озёрами, которые сверкают среди заросших берегов, как хрусталь, или шумят, потревоженные ветром. Когда я был ещё совсем юным и неискушённым, то представлял всех людей добрыми и справедливыми и смотрел в будущее с надеждой. Находясь в безопасном порту, безмятежно мечтал я в те времена о грозовом небе и о высоких океанских волнах.
Море! В твоих глубинах воображал я себе иной мир, счастливый и чудесный, о котором слышал столько преданий из уст простых людей. Там когда-то обитала дочь великого Океана, необычайно прекрасная дева Анна; была она королевой духов, незримые силы земли и моря тотчас исполняли все её приказы. Чудо доброты! она оценила благородство полюбившегося ей юноши, который спустился в морскую пучину и предстал пред великим Океаном, чтоб отслужить ему за возвращение своего отца на родную землю. Но он был всего лишь слабый человек и не мог выполнить повеления властителя морей, и тогда Анна, спасая возлюбленного, отдала духам приказ, и за одну ночь возник дворец из кораллов и драгоценных жемчугов. Оценил Океан достоинства и ум человека и в награду отдал ему в жёны свою дочь Анну.[195]Изложение народного предания об Анне, дочери Океана. — Прим. авт .

Море! Ныне я уже не то думаю о тебе. Ты подобно слепой фортуне — то обогащаешь людей, то бросаешь их в бездонные глубины. Когда несчастный мореплаватель, занесённый волнами далеко от родной земли, гибнет в одиночестве на берегу пустынного острова от тоски либо от голода, не пробудится жалость в твоём холодном лоне. Даже в ясную погоду не дремлют на дне твоём ненасытные чудовища с отверстыми пастями, наблюдая за теми, кто путешествует по спокойной глади вод. О море! ты похоже на мир людей, по которому человек странствует разными дорогами жизни.
Скоро сменится погода, с востока подул ветер. Над водою белеет поднятый парус. О люди высшего света! взгляните на небо из ваших высоких и пышных дворцов! Над морем и над городом нависли густые облака, и в вышине из них возникают дивные видения, будто кто-то возводит в воздухе величественную твердыню. Её окружают валы и стены, возносятся высокие башни и дома, а неподалёку становятся в боевой порядок конные рыцари исполинского роста. Но через несколько минут видны лишь торчащие руины, а всё войско превратилось в клубы дыма, и огненная молния, словно змея, промелькнула среди туч.
О люди высшего света! взгляните на небо из ваших высоких и пышных дворцов, постарайтесь постичь знамения в изменчивых очертаниях облаков, что испокон веку плывут пред вашими глазами — Божья рука предостерегает, что нет на земле ничего вечного. Дворцы ваши превратятся в руины, сила, богатство, гордость и слава рассеются и исчезнут, как лёгкий туман в воздухе.
Весна! Как быстролётна твоя улыбка, недолговечны и дуновение лёгкого ветерка, и яркие краски садов. Влажные туманы затмят небесный простор, улетят за море птицы, поднимется ветер и понесёт жёлтую листву по кладбищам, рассыпая её у подножья величественных памятников и безмолвных статуй, что стоят на могилах знаменитых людей. Когда-то фортуна усыпала дорогу их жизни цветами из рога изобилия, а ныне ветер заносит песком хладный мрамор, и имена их исчезают в пустынях забвения, ибо за всю свою жизнь не увенчали они главы свои короною правды.
О правда! ты посланница неба в эту юдоль терпения, ты ангел-хранитель и наставница в странствии жизни, освещай нас своими лучами, когда истинную веру — драгоценнейшее сокровище наших отцов, наичистейший свет небес — хотят затмить туманы спеси, лжи и изощрённой мудрости философов.
Когда природа дремлет под снегом и воет северный ветер, в окнах дворцов долгими и тёмными зимними ночами горят тысячи огней, не стихает весёлый гомон обитателей столицы. В ту пору люблю я в одиночестве погружаться в раздумья, мысли мои летят вдаль, к родимым пенатам, зовут из могил почтенных старцев, я вижу их веселье, слышу разговоры о счастливых временах, о золотом веке, когда человек пахал своё поле, возводил дом для себя и для чад своих. В те времена урожаи были лучше, пахарь, трудясь в поле, напевал весёлые песни, в лесах обитало множество лосей и диких коз, и охотник без труда находил зверя, а рыбак уверенно закидывал в воду сеть.
Но когда люди размежевали железной цепью поля и леса, когда каждый захотел стать богатым паном, носить дорогую одежду и ездить в роскошных экипажах, всё изменилось на свете. Бедных начали притеснять всё больше, и разгневанный Бог не благословил труд человека. Упали урожаи, медвяная роса,[196]Медвяная роса (падь) — сладкие выделения на листьях растений, появляющиеся в результате жизнедеятельности тли и червецов. Также медвяной росой называют одну из стадий заболевания злаков спорыньёй. что была для скотины страшным ядом, не раз выпадая перед восходом солнца на травы, наносила большой урон.
И теперь ещё старики, рассказывая молодым о давних временах, вспоминают удивительные знамения, что появлялись на небе, когда на берегах Балтийского моря отряды шведов сошлись с великим войском северного Цезаря.[197]Имеется в виду Петр I Великий. Под оружием победителей содрогались Нарва и прочие крепости,[198]Речь идёт о Северной войне (1700–1721). В данном случае, по-видимому, имеется в виду не поражение русских войск под Нарвой 19 ноября 1700 г., а взятие этой крепости в 1704 г. Прочие крепости, взятые на этом этапе войны, — Нотебург (Шлиссельбург) (1702 г.), Ниеншанц (1703 г.), Дерпт и Ивангород (1704 г.). зарево страшных пожаров, плывя в облаках от берегов моря, не раз по ночам заливало кровью небо надо всей Беларусью. Народ с дрожью смотрел вверх, где в дымящихся кровавых тучах, сражались полки конных и пеших великанов, и не раз это видение длилось на небе до восхода солнца.
Часто вспоминают они и Лебедлiвый год, когда во время той Шведской войны по всей Беларуси свирепствовали голод и моровое поветрие. Земля тогда стояла без снега, пригорки, лишённые травы, напоминали бесплодные скалы, северный ветер, проносясь над голыми полями, будто над песчаной степью, сметал сухую землю и губил своим дыханьем посевы ржи, от сильных морозов трескалась земля, гибла рыба в озёрах, скованных необычайно толстым льдом.
Пришла весна, зазеленели деревья и луга, но сердце крестьянина пронзила тяжкая печаль — поля были покрыты лебедой, колосья ржи торчали в нескольких саженях[199]Сажень — мера длины, равная 3 аршинам или 2,134 м. друг от друга, на берега озёр волны выбрасывали множество дохлой рыбы. Голод и моровое поветрие распространились по всему краю.
В деревнях в полночь под окнами некоторых домов происходили необычайные и страшные чудеса — спящих будил громкий детский крик, но если кто-нибудь выходил из хаты, чтобы забрать ребёнка в дом, то никого на дворе не находил и плача больше не слыхал, лишь выли на соседних дворах собаки. Такие случаи повторялись часто и приводили всех в крайнее отчаяние.
«Кара Божья за тяжкие грехи», — стонал народ, и люди каждый день заливались слезами перед образом Пречистой Богоматери.
С благодарностью и умилением вспоминают старики в рассказах своих и о вас, великие души! Были вы благодетелями для крепостных, соседей и несчастных земляков ваших. В час неурожая щедрой рукою давали помощь бедным крестьянам, вдовам и сиротам; народ, гонимый жестокой судьбою и несправедливостью, вы поддерживали мудрым советом, воскрешали надежду в сердцах, напоминая о всемогуществе и милосердии Божьем. Никто не ушёл без утешения из вашего дома, и обогретый нищий, покидая ваш порог, с успокоением в сердце благословлял небеса. Не искали вы награды на этом свете за добродетель свою, не искали пустой славы, за которой бесталанные люди гонятся, как дети за игрушкой: вознаграждение ваше, слава ваша — пред лицом Господа.[200]По-видимому, здесь автор обращается к иезуитам, которые действительно оказывали помощь голодающим.
Отцы мои святые! Нет на могилах ваших
Ни пышных монументов, ни мраморных надгробий.
Лишь тень берёз плакучих, ковёр листвы опавшей,
Замшелый дикий камень иль старый крест сосновый.
Отцы мои святые! Господним повеленьем
Прибудет ангел правды к отчаявшимся детям
Поведать о вас миру; младое поколенье
Про добродетель вспомнит, и век златой засветит.
Когда придёт день судный, весь мир пронзит тревога,
Труба пробудит мёртвых и задрожит земля,
Вы встанете в сиянье пред милостивым Богом —
Большая ждёт вас слава, великая хвала!
Гости в доме Завáльни
Накануне Нового года мой дядя со слепым Францишеком и двумя соседями вспоминали минувшие времена, говорили об урожаях и о бедствиях, что испытал этот край, когда посеянный хлеб пропал в поле и скотина перемёрла от заразы; обсуждали, как улучшить пашни и сенокосы, как завести хорошее стадо, о выгоде, которую может получить от этого рачительный хозяин, и как прививать садовые деревья. До полудня и после обеда, только и говорили, что об этом. Наконец, дядя сказал гостям:
— На другой день после Рождества я гостил у пана Мороговского, много там было господ, которых я видел впервые, да только разговоры их меня не увлекли. Бог знает, о чём они там болтали, переходя с одного предмета на другой, говорили о собаках и лошадях, об удачах и неудачах в карточной игре, ругали и хвалили своих приятелей, перешли, наконец, к Библии. Тут уж и впрямь показали, что они за птицы — болтали о том, в чём ничего не разумеют, да может, даже и не читали. Пан Мороговский не выдержал и попросил их, чтоб не подавали дурного примера молодёжи и женщинам. Куда приятней мне посвятить сегодняшний день беседе с добрыми соседями; разговор наш не оскорбит Бога.
— Это всё мудрствования нынешней молодёжи, — подтвердил пан Сивоха.[201]Сивохи (Сивохо) — многочисленный шляхетский (впоследствии — мещанский) род, владевший землями в Полоцком повете. — Ещё ляжет мороз на молодую крапиву. Опомнятся, как коснётся их во гневе десница Господняя.
— Я заметил, — сказал дядя, — что Янкó во время того разговора сидел молча и смотрел на них со стороны, не желая вообще вмешиваться в эти споры.
— Я, дядюшка, помню слова, что слышал от своего учителя — люди впадают в неверие не оттого, что видят в вере какие-либо недостатки, а потому, что, имея неповоротливый разум и притуплённые распутной жизнью чувства, не способны ни ощущать, ни любить, ни понимать истину религии. Потому я и молчал, ибо что толку спорить с людьми, понятия и познания которых столь ограниченны.
— Это правда. Они не понимают, что означает быть добрым человеком, а думают лишь о заслугах и гербах своих предков. Но почему ж вместе с гербами не унаследовали они стародавних добродетелей, а ведь в старину почитали веру, и Бог благословлял жизнь.
Стась, прерывая разговор, спросил отца:
— А кто сегодня будет рассказывать истории?
— Твоя очередь, — сказал тот, улыбнувшись.
— Я, папа, расскажу о Твардовском.[202]Твардовский — герой польской легенды XVI в., записанной врачом и историографом Сигизмунда III Иоахимом Посселем в его « Historia rerum Polonicarum et Pruthenicarum ab anno 1388 ad annum 1623 », краковский чернокнижник, продавший душу дьяволу. Персонаж литературных произведений многих славянских писателей и поэтов (М. Н. Загоскин, А. Мицкевич, Ю. И. Крашевский, П. П. Гулак-Артемовский и др.).
— Хорошо, расскажи о нём, мы все будем слушать.
— О! Я много слыхал о Твардовском, — заметил пан Лотышевич.[203]Фамилия персонажа, по-видимому, образована от названия д. Латыши, что находится в 6 км к югу от фольварка Завáльни. — Это был великий чернокнижник, но может, Стась расскажет о нём что-нибудь новое?
Твардовский и ученик
— Хозяин, у которого мы живём,[204]Студенты Полоцкой иезуитской академии жили либо в пансионе (конвикте), либо в домах местных жителей. — сказал Стась, — рассказал нам, что Твардовский ходил в школу в Полоцке. Учился он хорошо, да только не слушался учителей, тайком читал запрещённые книжки и так дошёл до того, что совсем не боялся смертных грехов. Наконец выучился чернокнижничеству и продал свою душу злому духу, а профессоры и отец-префект ничего об этом не знали и сделали его директором[205]Директор ( лат. director < dirigere — направлять), здесь — студент, руководящий учениками младших классов. над несколькими студентами начальных классов.
Твардовский в свободное от наук время иногда развлекал вверенных ему учеников, показывая им разные диковинные вещи. Однажды погода была ясная и тихая, студенты в комнате из открытого окна пускали в воздух мыльные пузыри. Твардовский, стоя рядом, сказал:
— Смотрите! На ваших пузырях по воздуху летают чёртики.
И вправду, они увидели, что на прозрачных мыльных пузырях сидели какие-то уродцы наподобие крылатых купидончиков, глазки крохотные, светлые. Корчили они забавные рожицы и поглядывали на ребят. Один студент испугался и закричал: «Иисус, Мария!», и видение тут же исчезло. Ни отец-префект, ни профессоры ничего про это не узнали.
Был среди них студент Гугон, которого Твардовский любил больше остальных. На загородных прогулках разговаривал чаще всего с ним, и если Гугон хотел что-нибудь купить и просил денег, никогда ему не отказывал, всегда хвалил его, будто тот учился лучше остальных.
После девяти часов вечера, когда студенты ложились спать, Твардовский обычно уходил из дома и до полуночи развлекался где-нибудь в городе у своих знакомых, а отдельную комнату, где он иногда занимался один, замыкал на ключ. Никто из товарищей не знал, какие у него там были книжки, и даже Гугону не позволял он заходить туда одному.
Как-то раз он вышел из дома и позабыл вынуть ключ из замка, оставив дверь незапертой; около десяти все пошли спать, Гугон же не гасил огонь и сидел один. На башне иезуитского костёла уже пробило полночь, а Твардовский всё не возвращался. Тут Гугон заметил, что в замке торчит ключ, а дверь открыта. Вошёл он в комнату и увидел на столе большую книгу в старинном кожаном переплёте. Заглянув в неё, он удивился, ибо впервые в жизни встретил белые буквы на чёрной бумаге. Едва он прочёл полстраницы, как появился перед ним пузатый карла, глаза светятся белым огнём, лицо чёрное, как уголь.
— Зачем ты меня вызывал? — спросил злой дух, глядя на Гугона, а тот онемел от ужаса и не мог ничего ответить. Разгневанный бес ударил его и убил на месте, а сам исчез.[206]В чернорусской легенде «Чёрная книга» сообщается следующее: «Со времён незапамятных остались на земле чёрные книги. Листы в них чёрные, а что написано — лукавый один знает. Есть в чёрных книгах места, которые лишь станешь читать, тотчас являются черти под разными видами […]; тут нужно не испугаться и потребовать чего-нибудь — хоть бы и птичьего молока. Уж такова сила чёрной книги, что нечистая сила должна всё исполнить. Но беда, если человек струсит и промолчит: черти подумают, что он хотел только посмеяться над ними, и тотчас замучат. […] Говорят, иметь её не беда, нужно только не поддаваться чёрту, и пусть его работает, что прикажут; но дело в том, что нельзя книжку бросить так, как хлам — не знаешь, кому попадётся в руки: станет читать дитя, — нечистая сила либо замучит его, либо сделает своею жертвою; а достанется злому человеку — и того горше: какой беды не причинит он ближнему!» (Боричевский И. П. «Повести и предания народов славянского племени», ч. 2, СПб, 1841).
После полуночи Твардовский вернулся домой и нашёл в комнате мёртвое тело своего приятеля, а на столе лежала раскрытая книга. Он всё понял и тут же вызвал к себе беса.
— Зачем ты убил несчастного мальчика? — с гневом спросил чернокнижник.
— Для того, — ответил злой дух, — чтобы он не раскрыл твою тайну всем, кому о ней знать не положено.
— Коли так, надо было сделать иначе, ведь ни ты, ни я не сможем его оживить. Теперь меня покарают как убийцу. Надо как-то скрыть это злодеяние — полезай в его тело, будешь вместо души, покуда не придёт час его смерти.
Как только он это сказал, дьявол залез в мёртвое тело, и Гугон ожил, но был уже совсем другим — глаза сверкали, но этот блеск был неприятным, а черты лица у него хоть и остались прежними, но появилось в них что-то отталкивающее.
Когда он пришёл в школу, профессоры и одноклассники заметили в нём какую-то перемену, но никто не мог понять, в чём причина.
Во время богослужения вёл он себя нескромно, смешил других, а во время мессы, когда ксёндз подносил Святые Дары, не мог переносить этого и выбегал из костёла, прикладывая к носу платок, будто останавливал кровь.
Ни наставления, ни наказания не помогали, и его выгнали из школы. Он навсегда сделался врагом для всех иезуитов — писал на ксёндзов пасквили, восставал с философствованиями против святой религии, всех, кто вступал с ним в разговор, старался развратить. Потом он ушёл из Полоцка и скрылся незнамо где.
* * *
— Браво, Стась, — сказал пан Сивоха. — Рассказ короткий, но занимательный. Верно, кое-кто из наших молодых паничей и теперь ещё в беседах повторяет слова того дьявола, что был в теле Гугона.
— Вот тебе и наука, Стась, — сказал дядя, — что надо избегать знакомств со злыми людьми. Гугона погубила дружба с Твардовским, и бес получил обширное поле для распространения зла.
— О! Если бы этот пан Гугон, — сказал Лотышевич, — за время своего пребывания на земле стал судьёю, секретарём или иным каким чиновником, что б творилось на свете?
Во время этой беседы панна Малгожата принесла из людской письмо и сказала:
— Пришёл Якуш. Вот письмо от пана Мороговского.
Дядя прочёл и, передавая мне, сказал:
— Пан Мороговский очень расположен к тебе, просит, чтобы ты навестил его; можешь ехать туда завтра после святой мессы и погостить у него несколько дней. Да пусть Якуш зайдёт сюда. Это человек словоохотливый, мне очень понравился его рассказ про волколака.
Когда тот зашёл в комнату, дядя приказал подать ему водки и закуски, а сам заговорил о гостях, которых видел в доме пана Мороговского. Самым странным моему дяде показался один из них — длинноволосый, худой, усатый пан Чубкевич, который всё время бубнил о знатности своих предков, о своих намерениях относительно женитьбы, дескать, поскольку дела его в критическом состоянии, то надо ему непременно искать жену, которая имела бы, по крайней мере, хоть двести душ приданого.
Услышав про Чубкевича, Якуш состроил презрительную мину и сказал, кивая головой:
— Пусть бы этот Чубкевич сперва подумал, чего стоит его собственная душа. Продавал молодых парней и девушек Бог знает каким людям, не внимая слезам бедных матерей — мучил людей в своё удовольствие, уж ответит он перед Паном Богом. Пусть бы искал себе белую сороку, славная была бы ему пара. Удивляюсь, что наш пан, который заботится о своих крепостных, как отец о детях, приглашает его к себе.
— Расскажи мне, — сказал дядя, — что это за белая сорока, о которой ты вспоминал?
— А, уж лучше поведаю пану про белую сороку, чем говорить про Чубкевича, суди его Бог.
Повесть восьмая. Белая Сорока
— Вы, панове, знаете окружённое тёмным лесом озеро Язно, где граничат три повета: Полоцкий, Себежский и Невельский. Недалеко от того озера было большое имение, и жил в нём пан, которого и сейчас, вспоминая, называют Скоморохой, и были у него крепостные во всех трёх поветах.
Так вот этот пан Скомороха был очень беспокойного нрава, спесивый и жадный, к соседям ездил только с претензиями. Деньги у него были, и он постоянно вёл тяжбы в судах, притеснял бедняков, вдов и сирот. Жизнь его крепостных была сущим адом.
Дом его редко кто навещал. При нём завсегда находился большой чёрный пёс. Слуги заходили в его покои лишь тогда, когда он свистом давал знать, что кто-то из них ему понадобился.
Однажды Скомороха был, как обычно, один в своей комнате, смотрелся в зеркало, подкручивал усы и внимательно приглядывался к своему широкому лицу, которое, говорят, было похоже на полную луну. Потом сел в кресло, закурил трубку и погрузился в раздумья, а рядом с ним на полу спал чёрный пёс.
Пока он перебирал в мыслях разные способы, как бы увеличить свои владения, опустился вечер, наступили сумерки. Неожиданно над его жильём сгустились тучи, за стеною зашумел ветер и хлынул дождь. Стало темно, лишь тускло светились окна.
Едва Скомороха очнулся от своих дум, как комнату осветила молния, и увидал он, что в углу возле двери стоит какая-то странная и страшная фигура. Испугавшись, он вскрикнул, стал звать к себе слуг, но гром и шум ветра заглушили крики, никто не услышал и не прибежал на зов пана.
Высокая худая фигура приблизилась к нему.
— Не кричи, — произнес незнакомец. — Никто не услышит твой голос, и пёс твой чёрный спит крепким сном.
— Кто ты и как сюда попал?
— Подожди немного и обо всём узнаешь, — говоря это, гость высек огонь и зажёг свечу, что стояла на столе перед зеркалом.
При свете пан Скомороха увидел странное существо: человек на тоненьких ногах, худой, глаза круглые, лицо сухое и острое, похожее на птицу. Пан закричал дрожащим голосом:
— Какое гнусное лицо! Я вижу — ты злой дух!
— Не кричи, я такой же, как и ты. И могу сделать для тебя немало доброго.
— Зачем ты пришёл, да так тихо, что пёс не услышал?
— Слышишь шум бури? Я спрятался тут от ливня и молний, а пёс твой сейчас спит беспробудным сном и будет спать, покуда я его не разбужу.
— Но скажи же, кто ты?
— Сядь в своё кресло, успокойся хоть на минуту, и я расскажу тебе обо всём. Днём я сплю, а после захода солнца брожу по свету и выведываю, о чём люди думают, о чём говорят, что едят и пьют. Знаю секретный способ, с помощью которого можно насылать крепкий сон на собак и сторожей. Подслушиваю, о чём говорит простолюдин, выведываю мысли панов. Глаз мой остёр, а слух такой чуткий, что за самой толстой каменной стеной могу разобрать шёпот. По чертам лица распознаю характеры людей, подначиваю их к беседам и запоминаю всё, что они скажут. Проникаю сквозь маленькую щёлочку, и дверь не скрипнет, когда отмыкаю её.
Скомороха свистнул, призывая к себе людей, и пнул ногой пса.
— Зря свистишь, никто не услышит. Шумит ветер, льёт дождь, уснули слуги твои, и пса не разбудишь.
— С какой же целью ты бродишь по свету? Зачем тебе всё это выведывать?
— Я — посланец Белой Сороки. Узнал я, что мысли твои достойны похвалы, а замыслы превосходны.
— А кто та белая сорока, о которой ты говоришь? — спросил встревоженный хозяин.
— О! Белая Сорока мудростью весь свет изумляет, лицо её — чудо красоты, станом стройная, высокая, одеянье её из дорогих брильянтов и жемчугов, живёт во дворце, какого ты и в глаза не видывал. Склоняются пред нею богатые паны и мудрые головы, духи по мановению её руки добывают сокровища из глубин земли и морской пучины, приручила она даже диких медведей, и те, словно верные псы, всегда готовы служить ей. Словом, она самая могущественная из всех чернокнижников. Когда она хочет видеть тех, к кому благоволит, то облачается в перья белой птицы, награждает их, делает богатыми и счастливыми.
Бледный Скомороха, глядя на посланца, только и смог произнести:
— Чудные и непонятные речи говоришь ты мне.
— Завтра в эту же пору я снова буду у тебя, и Белая Сорока прилетит отдохнуть под крышей твоего дома. Постарайся принять её хорошо да будь благоразумен в разговоре; пусть слуги около полуночи не заходят в твои покои, первый визит этой пани должен остаться в тайне.
Он открыл окно и, посмотрев вверх, добавил:
— Тучи разошлись, только ветер шумит. Думаю, стрелы молний не настигнут меня по дороге, не пройдёт и получаса, как уже буду говорить о тебе с Белой Сорокой.
Сказав это, он выскочил в окно. Хозяин увидел только, будто какой-то чёрный зверь пробежал по двору. Исчез страшный гость.
Долго стоял Скомороха посреди комнаты, будто статуя, какая-то тревога овладела его мыслями, и по телу пробегала дрожь: что означает это видение? или ему это всё почудилось? а может, злой дух хочет впутать его в какую-то беду? На стене пробили часы, он посмотрел на них и увидел, что уже полночь. Свистнул. Пёс проснулся, встопорщил шерсть, глаза его загорелись огнём, и он, ворча, забегал по комнате. Прибежали слуги и, стоя у дверей, ожидали приказа пана.
— Полчаса назад, не больше, я звал вас к себе, но ни один не явился. Что это значит? Что глаза щурите на свету? Спали? Мало вам ночи, гультяи?
— Не ведаю, пан, что это значит, но на нас напала какая-то тоска, — ответил первый слуга. — Мы долго сидели молча, не могли друг другу слова сказать. Потом почувствовали в себе необычайную тяжесть, глаза сами собой закрылись, и мы все помимо воли разом заснули.
Скомороха некоторое время стоял задумавшись, потом спросил:
— Вам что-нибудь снилось?
— У меня был странный сон, — ответил первый слуга. — Видел покойного старого пана, будто переходил с ним какую-то пустынь, где было множество страшных змей. Они всё время преграждали пану дорогу, будто хотели ужалить. Он, погружённый в скорбь, не говоря мне ни слова, шёл всё дальше и дальше между каких-то скал. Потом я видел места, совсем не похожие на наши края, и какие-то руины. На западе в чёрных тучах гасло солнце, и шумели опавшие деревья в лесах. Недалеко от дороги я увидел жутких зверей и закричал: «Пан, давай вернёмся домой! Нас застанет тёмная ночь, а дорога опасна!» — «О! долгая и страшная будет ночь, — ответил он мне, плача. — Не скоро звон и утренняя молитва восславят восход солнца; этих зверей я не боюсь, но тебя они могут сожрать, потому не отходи от меня». Тут эти жуткие страшидла кинулись на нас. Я перепугался и лишился чувств, а теперь вот очнулся и всё ещё дрожу от страха.
— А мне, — сказал другой слуга, — казалось, что я ходил возле какой-то реки. Вода в ней была мутная, а по обоим берегам торчали камни, по виду похожие на каких-то сидящих людей в длинных грязных одеждах. Потом мне встретился человек — высоченный, пузатый, широкоплечий, глаза страшные. Хотел я от него убежать, да не мог сдвинуться с места, словно ноги мои были закованы в кандалы. Он подошёл ко мне и ударил так сильно, что я отлетел почти на самую середину реки. Вода понесла меня, я кричал, звал на помощь, но на мои крики только торчащие камни отвечали жутким смехом, и гул их насмешек разносился над берегами. Потом увидел вдалеке своего отца, возносящего руки к небу, и мать, изнемогающую от горя, ибо они не могли помочь мне. Затем снова неожиданная перемена: стою я над какой-то бездною, и там меня снова встретил тот страшный человек. Он толкнул меня в бездонную пропасть, и я тут же проснулся в жутком страхе.
— Мне снилась буря, — начал третий слуга. — Она срывала крыши с домов, а по ветру летел какой-то бес, и опустился он прямо перед крыльцом…
— Довольно, довольно уже наслушался я этих глупостей; шум ветра и сырой воздух навели на вас тяжесть и сонливость, а горячая кровь пробудила в головах странные нескончаемые грёзы; идите к себе и ложитесь спать.
Оставшись снова в одиночестве, Скомороха стал беспокойно ходить по комнате. Странные мысли мелькали в его голове, страшное привидение всё время стояло перед глазами. Он вздрагивал, вспоминая его мерзкую фигуру, но золото он любил так, что хотел иметь его как можно больше, хоть бы и из рук сатаны, да и красота Белой Сороки всё время представала в его растревоженном воображении. Хотел он поскорее увидеть её и попасть в число её друзей.
В одиночестве он то мерил комнату быстрыми шагами, то, погрузившись в мысли, стоял как статуя. Брался читать книгу, но сразу бросал её и гладил своего пса. Чаял успокоить утомлённые мысли сном, но тут же вскакивал с постели, зажигал свечу и думал всё о том же. Только перед восходом солнца задремал ненадолго, но даже в этом беспокойном сне виделся ему посланец Белой Сороки.
Наступило тихое утро. Солнце уже поднялось высоко. На пригорках паслись стада, пахари трудились в поле. Пан Скомороха, лёжа на кровати, размышлял о странном вчерашнем происшествии, словно о вещем сновидении. Наконец он свистнул. Прибежал слуга и ждал приказа.
— Поспешайте, чтоб сегодня все покои были прибраны самым тщательным образом. Вымыть полы, стены и потолок хорошо осмотреть, чтобы не было пыли и паутины; как следует отполировать мебель и бронзу, смотрите, чтоб стёкла на люстре сверкали ярко; картины, рамы и стёкла в окнах старательно вымыть, чтобы были как новые. Скажи также эконому, чтоб вокруг усадьбы тоже был порядок.
— Пан сегодня ожидает каких-то важных гостей? — спросил удивлённый слуга.
— Не твоя забота знать, кого ожидаю, выполняй, что сказано. Иди и этот мой приказ передай остальным.
Сказав это, пан Скомороха вышел в парк, долго ходил в задумчивости в сени лип, потом свистнул, позвал к себе пса и пошёл в поле. Бродил там и сям и всё никак не мог дождаться вечера. Тем временем слуги обсуждали, что за нежданная перемена случилась с их паном, рассказывали друг другу страшные сны, что видели во время вчерашней бури. За разговорами работа в покоях шла своим чередом, и ещё до захода солнца мебель, бронза и люстры, отмытые и отполированные, были как новые.
Вот уж сгустился в воздухе вечерний сумрак. Скомороха приказал слугам увести пса, и чтоб ни один из них не смел входить к нему, пока он не позовёт. В одиночестве прохаживаясь по комнате, курил трубку, потом открыл окно: всюду стояла тишина, в небе уже светилось несколько звёзд. Зажёг свечу, поставил на стол и вдруг увидал вчерашнего гостя. Тот стоял в углу на своих тонких ногах, глаза блестели, как две искры, и жуткая усмешка пробегала по его мерзкому лицу. Скомороха, испугавшись от неожиданности, отскочил на несколько шагов и сказал:
— Не могу смотреть на тебя без отвращенья, твоё лицо ужасно.
— Слабая у тебя выдержка; ничего, когда познакомимся ближе, на всё станешь глядеть без неприязни да страха и научишься из всего извлекать пользу. Ты хорошо подготовился к приёму гостьи, сейчас она прилетит сюда.

Только произнёс это, как в окно влетает сорока, но куда больше и красивее других сорок, перья на ней были белые, как снег, глаза чёрные. Прервав свой стремительный полёт, опустилась на стол. Удивлённый хозяин смотрит на оживлённые и стремительные движения прекрасной птицы. Слетела на пол, и во мгновение ока стоит посреди комнаты женщина — чудо красоты, ростом высокая, лицо румяное, большие, полные очарования очи, на голове и по всему платью сияют жемчуга и искрятся драгоценные камни. Скомороха остолбенел, слова не смеет вымолвить. Она ж прервала молчание такими словами:
— Когда летела, то видела прекрасные горы и леса этого края, тут очень много озёр. Как вижу, у здешних жителей ни в чём нет недостатка.
— Так, пани, — тихим голосом ответил хозяин, поклонившись. — Наши края природа одарила всем, что только нужно для жизни.
— Я давно собиралась побывать тут, познакомиться с этим краем и его жителями. Надеюсь, что найду здесь гостеприимных друзей.
— Многие из тутошних помещиков будут почитать за счастье увидеть пани.
— А как живут здешние крепостные?
— И они счастливы. На лугах и пригорках трава растёт обильно, можно разводить прекрасные стада.
Белая Сорока села в кресло, а пан Скомороха подле неё. Долго описывал ей окрестности, что лежат на берегах Дриссы и Двины; рассказывал, что за соседи живут в этой округе, какие доходы собирают с имений, и кто из них наиболее уважаем. Рассказывал, как торгуют с Ригой, когда весенней порою разливаются реки, и какая от того выгода жителям этого края. Беседа их тянулась без перерыва до полуночи.
— Я ещё наведаюсь в твой край, и ты познакомишь меня со своими добрыми соседями. А сейчас должна я спешить домой, уже полночь, а дорога дальняя.
Сказав это, поклонилась хозяину, во мгновение ока обернулась Белой Сорокой и вылетела в окно.
Скомороха долго стоял удивлённый и смотрел туда, где она скрылась в ночной мгле. Вернувшись к креслу, на котором сидела красавица, увидал посреди комнаты её посланца. Тот, держа в руках большой мешок золота, произнёс:
— Белая Сорока передаёт тебе этот подарок, чтобы ты сам был ей верен и нашёл других, что тоже были бы ей преданы. Она снова посетит твой дом, когда тут уже будет несколько твоих соседей, по-настоящему доброжелательных к ней.
Сказав это, он выскочил в окно и исчез.
Снова пан ходил по комнате в одиночестве. Дивные мечты проносились в его голове. Богатый наряд и необычайная красота Белой Сороки живо рисовались в его воображении; не мог он ни на минуту забыть о ней, сон бежал от беспокойных мыслей. Не успел сомкнуть глаз, а уж всё вокруг пробудилось и солнце стояло высоко.
Свистнул. На зов пана вошёл слуга, и чёрный пёс, поскуливая, прибежал в комнату. Погладив собаку, Скомороха обратился к слуге:
— А что, может, и сегодня вас мучили ужасные сны?
— Ах, пан! Непонятная тоска напала на нас и этой ночью, — ответил слуга. — У всех нас сон был короткий и тревожный. Сторожа рассказывают, что слышали ночью, как по деревням выли собаки, мычала скотина, и видели, как с севера, полыхая огнём и рассыпая искры, летел змей, верно, нёс золото для какой-то пропащей души, что побраталась с дьяволом. А эконом сказал, что некоторые видели женщину, которая плакала на кладбище, да так, что её голос наводил на всех тревогу и печаль.
Скомороха, слегка изменившись в лице и задумавшись, несколько раз быстро прошёл по комнате.
— Не повторяй мне больше эту чушь, — сказал он. — Вы всё время болтаете о каких-то чудесах и пророчествах, как суеверные бабы; каждая вещь вас пугает и лишает покоя. Скажи, чтоб запрягали лошадей, хочу сегодня съездить к пану Л. и к пану С., а может, и других соседей проведаю.
Переезжая из усадьбы в усадьбу, он повсюду увлечённо описывал красоту, богатство, разум и щедрость Белой Сороки. С удивлением все слушали эти рассказы и разное о них думали. Некоторые доказывали, что тут кроется какое-то предательство, за которое всех ждут большие несчастья. Другие радовались и просили пана Скомороху, чтобы порекомендовал их Белой Сороке, если она ещё раз наведается к нему в дом, и с нетерпением ожидали дня, когда смогут её увидеть.
Вот приехали к Скоморохе гости, все они были из числа усердных почитателей Сороки, хотя ещё не имели случая видеть её. Слугам заходить в покои запретили, чтоб не слышали секретных разговоров своих панов. На столе стояли бокалы, наполненные чудесным вином. Весёлый Скомороха, сидя за столом, рассказывал о своей давешней беседе с Белой Сорокой. Вдохновенно и с запалом говорил о её уме и красоте, убеждая, что в жизни не видел, даже на самых лучших и дорогих картинах таких благородных и восхитительных черт лица, как у неё.
Часы пробили полночь. Ночь была ясная, тихая, луна светила в открытое окно.
Хозяин вновь наполнил бокалы вином и воскликнул:
— Выпьем за здоровье пани, что всё это время была главным предметом нашей приятной беседы.
Едва он это произнёс, как стремительно, словно молния, влетает в окно Белая Сорока и садится на стол посреди наполненных бокалов. Все, поражённые этим, вскочили с мест и смотрят на неё. В комнате воцарилось молчание. Сделав несколько быстрых движений на столе, она посмотрела на гостей, потом легко, как ветер, слетела на пол, и никто не успел и глазом моргнуть, как видят перед собой женщину необычайной красоты, всю в жемчугах и брильянтах.
— Издалека спешила я к вам, — сказала она. — Надеялась найти тут добрых друзей. Не ошиблась я в своих ожиданиях: вижу, в этом обществе все люди с добрым сердцем. Я сумею оценить ваши чаяния и буду усердно думать о вашем счастье.
— Так, пани, — сказал хозяин. — Ваше имя всё это время неизменно звучало в наших устах. Все, кого пани видит пред собою, наивернейшие ваши поклонники и самые преданные слуги до гробовой доски.
Затем Белая Сорока села в кресло, ласково говорила с каждым гостем, расспрашивала о хозяйстве и о доходах с имений, сопровождая их речи своими суждениями и советами.
В разговорах время бежало быстро, наконец, хозяин взял со стола полный бокал и воскликнул:
— Выпьем за здоровье нашей госпожи.
И все гости с полными бокалами в руках крикнули разом:
— Да здравствует Белая Сорока!
И единым духом выпили до дна.
Она встала с кресла, поблагодарила всех собравшихся, отведала вина и поставила бокал на стол. Так почти вся ночь прошла за разговорами и тостами.
На небе уже занялась заря, зарумянились облака, предвещая восход солнца. Гостья поблагодарила хозяина за любезность, а всех остальных за добрые и приветливые пожелания, обернулась Белой Сорокой и вылетела в окно.
Говорят, что она таким образом посещала по ночам всех тех, с кем познакомилась в доме пана Скоморохи, и всюду за её здоровье лилось вино и звучали приветственные возгласы.
В скором времени начали исполняться предчувствия простого народа. Эта страшная чаровница тайком разослала во все стороны зловредных людей, чтоб они пакостили бедным крестьянам. Расскажу панам случай, который в то время произошёл недалеко отсюда в деревне Клишково,[207]Клишково (Клешково) — деревня недалеко от Мурагов, на северном берегу озера Нещердо. Ныне не существует. там до сих пор все про это помнят.
Все дойные коровы вдруг сразу начали сохнуть, и у них совсем пропало молоко: явно, чары. По всем околицам слышались жалобы и сетования, но откуда пошло это зло, узнать было невозможно. Случайно один сторож из деревни Клишково, возвращаясь домой на самом восходе солнца, увидел, как из хаты одной женщины, которой пан построил в той деревне новый дом с большими окнами, вылетела сорока, белая, как снег. Рассказал он об этом остальным. Заподозрили, что там живёт чаровница, и начали следить разными способами, чтобы вывести её злодеяния на чистую воду.
Наконец по счастливому случаю всё открылось само собой. В ночь на Купалу та чаровница, укрывшись в диком лесу, собирала в ладонь росу и призывала злых духов, чтобы те собирали со всей округи молоко и сливали в её посуду. А нанятая за несколько дней перед этим женщина, не зная о намерениях своей хозяйки, перемыла все глиняные кувшины и деревянные бадейки и оставила их сохнуть, перевернув вверх дном. Злые духи, не заметив этого, всю ночь носили молоко и выливали на пол, а на восходе солнца вся деревня увидела, что из-под дома чаровницы течёт глубокая молочная река. Не миновать бы ей смерти, но она, как только узнала об этом, тут же обернулась птицей и улетела куда-то далеко.
В то время было много заломов во ржи, потом появились какие-то зверьки, настолько прыткие и юркие, что убить их было невозможно, и они стригли овец на скотных дворах, а медведи повсюду разоряли ульи и губили пчёл.
Ещё более дивную вещь скажу панам: по округе сновали такие стаи волколаков, что страшно было выйти в поле.
— Почему ты называешь их волколаками? — спросил дядя. — А может, это были обыкновенные волки, что набежали из соседних лесов, спасаясь от пожаров? Так и медведи, и иные звери переходят из одних мест в другие.
— Я хорошо знаю, — ответил Якуш, — что это были волколаки, ведь рассказывают, что загривки у некоторых из них были белые, чёрные и других цветов.
— А отчего такая разница?
— А оттого, что они на самом деле люди, превращённые в зверей; какого цвета раньше носили платки на шее, такая шерсть на загривках у них и выросла после превращения в волков.
— Дивные вещи ты рассказываешь!
— Но правдивые; горестные были времена, весь народ страдал, вой волколаков разрывал сердца.
— Что ж потом случилось с паном Скоморохой и другими друзьями Белой Сороки?
— Белая Сорока, слыша проклятия и сетования народа и узнав от дьяволов, что охотники подкарауливают её с заряженными ружьями, улетела далеко и больше в наших краях не появлялась. Но зло, которое она навела, расползлось повсюду. Друзья, что пили вино за её здоровье, пьют слёзы несчастного народа; пан Скомороха уехал из этих мест, и говорят, будто он во дворце Белой Сороки, приняв обличье страшного медведя, охранял её бессчётные сокровища.
Тут Якуш закончил свой рассказ о Белой Сороке и взялся за шапку.
— Куда спешишь? — спросил дядя. — Или пан приказал тебе вернуться непременно сегодня?
— Пан позволил мне зайти в корчму на игрища, повидаться со знакомыми, повеселиться. Но завтра до рассвета, пока в усадьбе ещё не проснулись, непременно надо быть дома. Солнце уже низко, скоро темнеть начнёт.
— Кланяйся от меня пану и скажи, что Янкó завтра после святой мессы обязательно будет у него.
Повесть девятая. Страждущий дух
Во время разговора Завáльни с гостями слепой Францишек сидел молча, а когда Якуш рассказывал свою повесть, погрузился в какие-то печальные мысли; но по лицу можно было заметить, что это повествование сильно тронуло его чувства. Дядя, чтобы прервать его молчание, сказал:
— Пан Францишек всё молчит, и сдаётся мне, что-то его опечалило?
— Веселье моё окончилось ещё в детские годы, когда день сокрылся от меня; среди нескончаемой ночи всё время слышу я жалобы несчастных людей: чужие страдания больно ранят сердце того, кто сам их познал.
— А, Бог милостив, всему когда-нибудь наступает конец. Янкó, скажи, чтоб нам подали водки и закуски, уже время подкрепиться. Наш век короткий, напьёмся водки.
Выпив и закусив, дядя сказал гостям:
— Слава Богу, через несколько часов настанет Новый год, милосердый Бог дозволил нам встретить его в добром здравии. Покуда петух пропоёт полночь и минет последний час старого года, пан Францишек расскажет нам что-нибудь из того, что он слышал на свете, ибо в своей жизни он встречал много разных людей и помнит все разговоры с ними, а потом придёт черёд пана Сивохи.
— Мои повести вряд ли могут всем понравиться, ибо помню я только печальные.
— Таковы уж повести нашего края, — сказал Сивоха. — Мой рассказ тоже не рассмешит слушателей. Пусть пан Францишек начинает, а я тем временем, может, что-нибудь припомню.
— Хорошо, раз уж такова воля хозяина и гостей, — сказал слепой. — Несколько лет тому назад направлялся я из Полоцка в Невель; выехав из города, вскоре оказался среди леса. Над головой шумели деревья, конь мой шёл медленно, словно тянул по песчаным пригоркам нагруженный воз. Я сидел, раздумывая о том, о сём, а товарищ мой шёл пешком. Прерывая мои раздумья, он сказал:
— Проехали двадцать пять вёрст, уже недалеко деревня Бобовики,[208]Бобовики — деревня в 25 км к северо-востоку от Полоцка. там есть корчма. Надо, чтобы конь немного отдохнул; потом ещё несколько вёрст, и будет река[209]Река Страдань. и хорошее пастбище; если как следует накормим коня, то сможем ехать всю ночь, а то солнечный зной переносить тяжело, да и коня он изнуряет.
Я охотно согласился с его советом.
Приехали в деревню; мой товарищ хлопотал возле воза, а я, сидя в корчме, слушал разговоры и разные суждения тамошних крестьян о каком-то незнакомом человеке. Потом завязался между ними спор: одни доказывали, что он, гонимый судьбой либо обиженный людьми, вынужден скитаться по свету; другие ж называли его бездельником и зловредным человеком, с которым и встретиться-то страшно. И спорили они так запальчиво, что аж до драки дошло.
— Уж которую неделю, — сказал один из них, — он появляется в разных сторонах нашей околицы. Рассказывают, будто заходит он к тем, кто его знает, недолго гостит у них и снова уходит, чтоб бродить по горам и лесам. Он спокойный и добрый, говорят даже, что некоторые видели, как, встретив убогих, он делился с ними куском хлеба или отдавал им последние деньги.
— Видать, он совсем помешался, раз последний кусок хлеба или последние деньги отдаёт другим, не думая о завтрашнем дне; порядочный человек прежде всего должен обеспечить себя; жизнь прожить — не поле перейти, и потому пусть каждый думает о себе. Что это за жизнь — не иметь своей норы, чтоб укрыться от дождя и ветра, — такой человек не заслуживает и доброго слова.
Третий обратился ко мне:
— Как вижу, едешь в Невель; будь осторожен, чтоб не набрести на беду, в наших лесах проезжим подчас небезопасно, да и про того незнакомца Бог знает, что и думать.
— Я не боюсь, — отвечаю, — сокровищ с собой не везу.
— Коли так, то счастливой дороги!
И вся компания, продолжая спорить, вышла из корчмы.
Вскоре после этого пришёл мой товарищ и говорит:
— Коня запряг, поехали дальше; лучше отдохнём возле реки, где много травы и воды.
Сказав это, он помог мне дойти до телеги.
Когда мы были уже на назначенном для выпаса месте, и телега наша стояла на берегу реки, товарищ мой повёл коня туда, где заметил траву погуще, а я остался сидеть под деревом. День клонился к вечеру, кукушка надо мной повторила несколько раз свою печальную жалобу, а неподалёку в кустах соловей не прекращал своей нежной, прекрасной песни; в одиночестве погрузился я в приятные воспоминания.
— Добрый вечер, — сказал кто-то рядом, прерывая мои раздумья.
— Добрый вечер, — отвечаю, — какая тишь повсюду, и как прелестно поют соловьи.
— Но тебе, я вижу, доступна лишь половина этой красоты, ибо хоть и слышишь ты пенье птиц, но не зришь ни небесной синевы, ни весеннего убранства гор и лесов.
— Давно уж скитаюсь по свету, не видя его.
— Худо не видеть света, но худо также иметь острый глаз и зреть самые дальние дали.
— Человек не может видеть и слышать дальше, чем ему позволила природа.
— А веришь ли, что есть на свете чудеса? Я не только вижу и слышу дальше всех, но и могу принимать разные обличья.
— Не понимаю, как человек может менять облик.
— Не видишь меня, потому и не понимаешь.
— Кто ж ты такой? живёшь где-то поблизости? или тоже странствуешь?
— Я — страждущий дух; странствую к вечности быстрей, нежели прочие.
— Твою душу тяготит какое-то беспокойство?
— Да, беспокойство души. Страдальцу трудно быть спокойным; хворый мечется на ложе, чтобы хоть немного унять боль, — так и я, чтоб получить облегчение, то и дело принимаю разные обличия. Расскажу тебе про страшный мой грех: когда исчезли все мои надежды, а душа погрузилась в печаль, вообразил я, будто летучую травку,[210] Пералёт-трава (см. главу «Очерк Северной Беларуси»). что приносит покой и счастье, можно найти лишь на кладбищах. Мечтая о ней и разыскивая её цветок, порой до поздней ночи бродил я, словно упырь, меж могил. Размышляя о духах, я позавидовал их счастью и покою — согрешил, ах! и, может, именно тот грех отравил кровь мою, расстроил нервы, потряс всю мою сущность. Тяжкая немочь поразила тело, а слух обострился, и глаза мои сделались подобны очам духа. Вижу и слышу далеко — ужасный это недуг! не в силах переносить его, принимаю разные обличия, но ни в одном из них не нахожу облегчения.
— Что же ты слышал и видел на свете, — говорю я, — что так мучит твою душу?
— Видел диких чудовищ, которые рвали детей и женщин. Внимая воплям этих несчастных, высокие скалы не стронулись с места, а лишь эхом повторили несколько раз стоны страдающих жертв и смолкли. Глядя на эту жуткую сцену, я сам был чудовищем, я проклинал звёзды, которые безучастно смотрели с неба на всё это, и тучи, что не разразились стрелами молний.
Ещё скажу тебе: люди-великаны смотрят на всех свысока, будто на ничтожных карликов, мечтают о славе, но дрожат перед любым ненастьем, даже по широкой дороге идут со страхом и осторожностью, боясь ступить на колючие тернии. Я встречал их, видел мелкие души в великих телах. Вся сущность моя была потрясена! Не знаю, как, но смотрел я на этих великанов сверху вниз и презирал их величие.
Однажды в полдень во время сильного зноя присел я на траве у дороги, чтоб отдохнуть в тени берёзы. По дороге шёл один лукавый, ещё издали почуял я в нём ядовитую кровь, и потому не удалось ему застать меня врасплох, хоть приблизиться ко мне он пытался в обличии змеи, прячась среди кустов и травы. Но он обманулся, ибо и я уже обернулся змеёю: посмотрел он мне в глаза, но не смог выдержать моего взгляда, попятился в кусты и скрылся в чаще леса.
Долгий вышел бы рассказ, если бы я перечислил тебе все обличья, которые неохотно и с болью вынужден был я принимать, бродя по деревням, городам и местечкам. Когда в богатых домах горел свет, кипели танцы, раздавался весёлый смех и шла по кругу чаша, а под соломенной крышей нищий голодный крестьянин поднимал к небу полные слёз глаза, я в облике зверя прятался от проливного дождя под ветвями густой ели, слушая, как ветер шумел в густом лесу.
Видя эти перемены в моей натуре, некоторые меня не понимали, называли беспокойным и диким.
Тсс… слышишь голоса? Кричат: «Волк! Волк!» Они заметили меня — я в облике волка — сейчас начнут стрелять. Прощай! Я спрячусь в чаще леса и навсегда покину эти края.
Там, где он забежал в лес, послышался шелест ветвей, а я сидел и думал о его рассказе, как о чудесном сне. Пришёл мой товарищ и сказал:
— Солнце уже низко, время запрягать коня. Поехали дальше.
— Ты не видел возле меня кого-нибудь? — спрашиваю я.
— Тут не видно никого, — ответил он, — только вдалеке кто-то быстро пробежал через пригорок, не знаю: то ли зверь, то ли человек.
* * *
— Это, верно, тот самый незнакомец, — сказал Завáльня, — из-за которого был спор и драка в корчме.
— Наверно, он. В самом деле, страждущий дух. Всю ночь в пути не мог я ни на минуту забыть о нём и, размышляя, всё время видел его пред собой в разных обличиях. Вспоминал спор, что слышал в корчме, ругань и разные домыслы об этом незнакомце. Людское злословие всегда таково! иного похвалами возносят до небес, другого топят, называя бездельником и негодным человеком. Один лишь Бог справедливый судья людям; придёт последний день мира сего, и тогда станет видно, кто как жил на свете и почему принимал разные обличья.
— Рассказ пана Францишека, — сказал Лотышевич, — наводит печаль; упаси Боже иметь такое острое зрение и слух. Ведь тогда бы человек, умеющий сострадать, никогда не смог быть спокоен и счастлив.
— У него все рассказы такие, — сказал дядя. — Помню, поведал он мне про одного человека, который называл себя сыном бури, скитался по свету и нигде не мог найти покоя.
Вечер перед Новым Годом
Облака, словно туман, закрывали небо, возле дома моего дяди застыли в молчании клёны и берёзы, заснеженные ели были похожи на белые столбы, в воздухе сгущался вечерний сумрак, а в комнате на столе горела свеча. Дядя, слепой Францишек, пан Сивоха и пан Лотышевич от рассказов перешли к разговорам о счастливой и несчастной жизни своих знакомых и соседей.
— Вот прожили мы, слава Богу, и ещё один год, — сказал Завáльня. — Я родился и вырос в этих местах, не странствовал в дальних краях, однако немало повидал в жизни; сколько перемен пережил! сколько разных превратностей помню! Если б восстал из гроба кто-нибудь из дедов наших, то, увидев нынешние обычаи, не узнал бы своей родины. Ему бы показалось, что он воскрес в какой-то чужой стране, — до каких же времён доживут мои дети? Расходов на воспитание я не жалею, делаю, что могу, но когда выйдут они в мир из-под ока отца и учителей, пусть уж Бог не оставит их своей заботой и охранит их души от злых и безбожных людей.
— Ах, пан Завáльня, — сказал Сивоха, — мы сами виноваты, что дьяволы размножились в наших краях; причина всему глупость шляхты, жадность и распри панов; не буду долго об этом рассуждать, история эта всем известна, до сих пор ещё не забыли эти вирши:
Кошка Цялiцу забiла,
Жук, Жаба Кошку судзiла;
А же справа была кепска
То прэнесьлi да Вiтебска.
А в Витебске что сделали? Кошка был на стороне панов, которые были ненасытны до богатства и хотели получить ещё больше. Кошка, защищённый их протекциями, не прекратил своих дел, а ещё больше погряз во вредительстве. Телица умер за правду, и о нём всегда вспоминают как о добром человеке.
— Вечно у нас так, — сказал пан Лотышевич, — за Двиною в Ушачах собрались на совет.[211]К сожалению, установить, какое именно происшествие имеется в виду, пока не удалось, можно лишь предположить, что оно произошло в период с 1796 г. (создание Белорусской губернии, центром которой стал Витебск) до момента действия повествования данной книги (конец 1816 г.). Однако известно, что Кошки — многочисленный шляхетский род, представители которого владели, в частности, несколькими деревнями в окрестностях Ушачей (Липовец, в 2 км к югу от Ушачей, а также Черевечье и Узречье). Телицы — шляхетский род, владевший деревней Волче в 2 км к северо-востоку от Ушачей. Жуки — шляхетский род, владевший, в частности, местечком Гомель в 18 км к югу от Полоцка, в 16 км к северо-востоку от Ушачей. Жабы — графский род, владевший землями в окрестностях Полоцка, в частности, некоторое время и местечком Ушачи (в 35 км к югу от Полоцка). Между тем, читателям, на которых ориентировался Барщевский, по всей видимости, было вполне ясно, о чём идёт речь.
— Ну довольно уже об этом говорить; когда я слышу такое, меня охватывает скорбь. Вспоминая минувшие печали, дойдём, наконец, до того, что встретим Новый год со слезами.
Во время этой беседы в людской запел петух.
— Браво, браво! — воскликнул Завáльня. — Не нужно плакать, скоро наступят перемены, вечер едва начался, а уж и петух запел. Это знак, что поднимается ветер и с озера кто-нибудь пожалует к нам. Подождём; был бы только добрый человек, в большей компании будем встречать Новый год.
Сказав это, зажёг он по своему обычаю свечу, поставил на окно и добавил:
— Знак, что хозяин дома и приглашает всех к себе.
Сивоха посмотрел в окно.
— Да, погода скоро переменится, — сказал он. — Ни одной звезды на небе, и я заметил, что в летнюю пору, если петух пропоёт на заходе солнца, то уже назавтра с утра посылай косарей — обязательно будет дождь, а по мокрой траве и тупая коса хорошо косит.
— Опытный хозяин должен замечать любую мелочь, — сказал Лотышевич. — Если в конце декабря и в начале января часто бывают бури и выпадают глубокие снега, то летом на лугах трава густая, а на ниве уродятся буйные хлеба. Нынешняя зима должна радовать хозяина, ибо мороз и северный ветер не тронут под глубоким снегом рожь и пшеницу.
— А у меня летом панна Малгожата узнаёт о перемене погоды, глядя на скотину, когда та возвращается с поля. Ежели первой идёт чёрная корова, то непременно будет буря, а если белая — обязательно ясная погода.
Во время этого разговора в комнату зашла панна Малгожата и, увидав свечу на окне, спросила:
— А это ещё что значит? Ночь тихая, путники на озере не заплутают.
— Милостивая пани не слышала, что недавно несколько раз пропел петух? Может, ветер неожиданно заметёт дорогу и так завьюжит, что за пять шагов ничего перед собой не увидишь. У нас бывали несчастные случаи, когда на озере находили замёрзших людей, которых уже никак нельзя было вернуть к жизни.
— Чудной человек! Раз сам любит проводить время с холопами, то думает, будто это и гостям приятно.
Сказав это, она вышла, хлопнув дверью.
— Вот женщина, — произнёс дядя, — что деется в её голове. Уж видно, такова их натура; каждая рада побахвалиться своим титулом. А по-моему, благороден тот человек, который, живя на этом свете, исполняет все веления Божьи.
— Знавал я и мужчин со слабой душою, — сказал слепой, — что хвастали знатностью своих предков, а сами вели такую грязную жизнь, что были недостойны людьми называться.
— Что-то разговор наш отклонился слишком далеко; пан Сивоха недавно обещал нам что-то рассказать.
— Помню своё обещание, — сказал пан Сивоха и начал повествование.
Повесть десятая. Волосы, кричащие на голове
— В Витебске встретил я на улице доктора из нашего повета, пана М. Случилось так, что оба мы приехали в город по своим делам. После беседы о том, о сём, доктор говорит:
— А где ты будешь обедать?
— Да где Пан Бог позволит, — отвечаю. — За деньги в городе везде легко найдёшь обед.
— Пойдём в трактир Карлисона, там всегда подают отменные блюда.
— А не дороговато ли будет для шляхтича?
— Не дороже, чем у других; а если и будет стоить чуть больше, так зато и повкуснее: не след экономить на себе.
Я согласился. Заходим в большой зал — там уже было несколько господ, ели, курили трубки, смешили друг друга, выставляя напоказ изъяны и странности своих знакомых; издевались над всеми подряд, не щадя ни женщин, ни стариков.
Сидя за столом, с удивлением смотрел я, как эти вертопрахи старались щегольнуть своим остроумием, хохотали во всё горло и, подходя к зеркалу, оглядывали себя с головы до ног.
— Неплохо иногда побывать в трактире, — сказал доктор. — Тут люди смелее снимают с себя маски, и можно доподлинно увидеть, кто каков.
Едва он это произнёс, заходит высокий человек, волосы густые, взъерошенные, глаза беспокойные, лицо полное, бледное, будто в нём разлилась желчь и вода. Все посмотрели на него. Он сел на диван и, схватившись за голову, застонал:
— Нет им покоя.
Потом попросил подать стакан рома, выпил половину и, будто задумавшись, сидел несколько минут молча; потом встал и оглядел себя в зеркале, положил руку на голову и говорит:
— О! теперь хотя бы не шевелятся и замолкли ненадолго.
Все с удивлением смотрели на него, а мой товарищ сказал:
— Ты, как видно, нездоров, может, страдаешь от головной боли? Не думаю, чтобы ром мог помочь — лишь ещё больше себе навредишь.
— Я не просил у тебя совета.
— Я доктор, это моя обязанность.
— Доктор, а болезни моей не знаешь. Скажи мне лучше, какая смерть самая лёгкая? Нет у меня надежды на выздоровление, хочу умереть.
— Моя наука призвана продлевать жизнь человека, а не открывать пути к смерти. Смерть сама придёт к нам.
— Смерть сама придёт к нам, это правда, но кто об этом не знает?
— Да, эта правда всем известна, но не все о ней думают.
— Кому жизнь мила; но тем, кто мучается так, как я, не о чем жалеть на свете.
— Так что за боли мучат тебя?
— Волосы, волосы отравили жизнь мою!
Когда он это говорил, со стороны, где сидела компания веселящихся приятелей, послышался смех и донеслись слова:
— О! А не режь волóс, не порти кос!
— Нечего было их отрезать; без них и взаимные чувства рвутся.
— Ишь, надоели ему волосы — отхватил ножницами, а они при свете месяца ожили.
— Славно волосы те пели, да не мог он их ценить.
— Глядите, глядите, ему на голову светит солнце, и волосы шевелятся, как живые.
Услыхав эти остроты, бедняга гневно посмотрел на насмешников, ничего не говоря, вскочил с места и пошёл в их сторону.
Те паны сразу похватали шапки. Выходя, один из них произнёс:
— Бывай здоров, пан Генрик! Пей больше рому, и всё будет хорошо!
— Вот до чего дожил, — сказал Генрик, обернувшись к доктору. — Стал я посмешищем для бесчувственных людей, смешно им чужое несчастье. Всюду, где только их ни встречу, стараются увеличить мои страдания и издеваются над горестями, выпавшими на мою долю.
— Очень уж чувствительные у тебя нервы, — сказал доктор, — коль обижаешься на легкомысленных людей. Я, сидя тут и слушая, как лихо, не жалея колких слов, поносили они всех своих городских знакомых, ясно понял, что это за люди.
— Когда-то я был совсем другим, равнодушно слушал и смех и стоны, ничто не беспокоило мои нервы — волосы, волосы разрушили всю мою сущность!
Замолчал, будто прислушивался к чему-то и вдруг, показывая на свои волосы, воскликнул:
— Вот, один запел и остальные зашевелились… скоро закричат все вместе. Вы не видите, что делается на моей голове!
Он схватил стакан, чтобы выпить остатки рома.
— Послушай моего совета, — сказал доктор. — Прикажи подать воды и сахара; смешай их с ромом, по крайней мере, будет меньше вреда. Но я советовал бы тебе совсем отказаться от такого лечения.
Тот взял стакан, встал перед зеркалом, пощупал рукою волосы, пожал плечами, потом повернулся к доктору, посмотрел на него тревожным взглядом и говорит:
— Откажусь, если найдёшь способ лучше; но первый твой совет не отвергну.
Сказав это, он попросил подать воды и выпил стакан пунша.
— Расскажи мне о своей жизни; если бы я знал, с чего начались твои страдания, может, придумал бы способ, как прекратить их.
— Может, отыщешь способ вернуть прошлое?
— Прошлое учит нас, как пользоваться настоящим.
— Моя болезнь новая; ни простые люди инстинктивным путём, ни наука медиков не открыли лекарства, чтоб её вылечить. Однако вижу, что ты искренне хочешь помочь мне в беде; потому расскажу тебе о тех бедах, что довелось мне пережить.
У родителей я был один. Детство моё текло беззаботно, мне ни в чём не отказывали, слуги исполняли все мои приказы, домашний учитель преподавал мне основы французского языка самым лёгким способом — чтоб я, занимаясь один час, не утомился и не заглушал в себе весёлых мыслей, которые в светском обществе ценят больше глубоких познаний в высоких науках.
Когда мне было лет пятнадцать, отец отправил меня в Ригу на один год, чтобы я изучал там немецкий и французский языки у лучших учителей, да чтоб приобрёл хороший вкус в тех предметах, что окажутся мне полезными среди людей, о которых идёт молва в светских салонах.
Денег он мне оставил более, чем достаточно, и я лишь собирал цветы весёлой жизни. Никто мне в ту пору не напоминал, что время уходит безвозвратно, здоровье человека ненадёжно и, к несчастью, переменчиво, а веселье счастливых лет быстролётно, как мечта.
Когда вернулся я из города домой, то с утра до вечера был занят лишь охотой. Мой отец не жалел расходов на охотников, борзых и гончих собак. Мне было позволено держать столько людей для услуг, сколько захочу; были у меня красивые лошади и модные экипажи.
Через несколько лет был я избран от местных помещиков на должность в том же повете.[212]До 1831 г. в Витебской и Могилёвской губерниях продолжал действовать Статут Великого княжества Литовского, согласно которому местная власть избиралась представителями шляхты на поветовых сеймиках. В городе я нашёл множество приятелей; в моём доме часто были шумные и весёлые пиры, порой гости мои за вином или за карточным столом встречали восход солнца.
Прошло четыре года; родители мои ушли в лучший мир, а я, вернувшись домой с намерением заняться хозяйством, нашёл своё наследное имение в долгах. Съехались ко мне кредиторы отца и с угрозами напоминали о займах, суд требовал невыплаченные подати по имуществу за несколько лет. Я почувствовал опасность и тогда впервые задумался о страшном будущем.
— Тебе надо жениться, — сказал мне мой сосед. — Панна Амелия, дочь комиссара, который сейчас управляет имениями пана Г., девушка красивая, хорошо воспитанная, к тому же я слыхал, что за ней дают приданое больше десяти тысяч рублей серебром. Отец её сколотил порядочный капитал, исполняя должность комиссара и доверенного лица, а что он не в родстве с тутошними ясновельможными панами, которые делают, что хотят во время выборов местных чиновников,[213]О злоупотреблениях на сеймиках писал, например, Ф. В. Булгарин в романе «Иван Иванович Выжигин»: «В старину богатый помещик привозил с собою, на нескольких телегах, бедных, но буйных и вооружённых шляхтичей, заставлял их выбирать себя и своих приятелей в разные звания, бить и рубить своих противников. Это называлось „золотою вольностью“». так ты на это не смотри. В твоих обстоятельствах нужны деньги, а не фамильные связи, которые, по моему мнению, всё равно тебе не пригодятся.
Вижу, что совет моего соседа — истинная правда; понравился мне его выбор, и попросил я его о помощи. Десяти тысяч рублей серебром, а хоть бы даже немного меньше, было бы достаточно, чтоб спасти моё имение от долгового бремени. А к тому ж о высоких достоинствах дочки пана комиссара я и раньше слыхал от многих господ. И вот, не откладывая дела в долгий ящик, поехали мы вдвоём в дом её родителей.
Увидев Амелию в первый раз, я понял, что о её чудесных достоинствах говорили правду: стан такой стройный, что с неё можно было бы написать прекрасную картину, в лице сказывался кроткий характер, в голубых очах отражалась тихая меланхолия и какая-то прекрасная мечтательность. Беседуя с нею о будущем и об изменчивом счастье на этом свете, понял я, что воспитана она в смирении, верит в предчувствия и в неразгаданные тайны природы. Сосед мой открыто рассказал её матери и отцу о состоянии моих дел и обо всех нуждах моего имения. Родители и дочка ответили мне согласием. После свадьбы я чувствовал себя счастливейшим из людей — и жену привёл в дом, и выплатил все долги.
Ах! почему я не верил предчувствиям! Доктор, согласен ли ты, что чуткая человеческая душа способна услышать в тихом голосе ангела гораздо больше, чем то, что доступно мудрости, приобретённой наукой и опытом?
— Я тоже заметил это, — ответил доктор, — но такой инстинкт встречается не у всех людей.
— Отчего же не хотел я верить чуткому сердцу Амелии?
— Так что же случилось, и чем всё это кончилось?
— На протяжении трёх лет мы оба были счастливы, и хотя по причине несходства некоторых наших мнений между нами иногда случались споры, однако всё всегда заканчивалось спокойно. Амелия, видя моё упрямство, вскоре находила иную тему для беседы, лишь бы только избежать разлада.
Как-то весной стоял погожий вечер, и мы вышли на прогулку в ближайший лес. Вокруг слышалось пение птиц. По пути Амелия часто умолкала и будто впадала в какие-то печальные думы.
— Вижу, — сказал я, — что томит тебя какое-то предчувствие, ибо ты что-то всё грустишь и то и дело прерываешь беседу.
— Правда, напала на меня какая-то тоска, сама не знаю почему.
— Песни соловьёв и кукушек действуют на твои нервы.
— Может быть, — ответила она тихим голосом.
Во время разговора вижу я, как с левой стороны, идя через лес узенькой тропкой, приближается к нам какой-то сгорбленный старец в чёрной одежде. Лицо бледное, яркие глаза светились из-под густых бровей, за плечами висела корзина, накрытая старою чёрною сермягой. Мне стало интересно, кто этот странный человек и откуда идёт. Когда он подошёл поближе, я спросил:
— Кто ты, дедушка, и откуда путь держишь?
Он, снимая с головы старую рваную шляпу и низко кланяясь, ответил:
— Живу, где придётся, ищу милостивых ко мне благодетелей и вечно воюю с суевериями и выдумками людскими.
Этот его ответ пробудил во мне желание продолжить разговор.
— С чего же, — спрашиваю, — началась эта война с суевериями и людскими выдумками?
— Всё из-за того, что люди не понимали ни меня, ни своей выгоды. Я обошёл весь свет, знаю все человеческие нужды, раскрыл самые сокровенные тайны природы, хотел принести облегчение жителям этого неурожайного и убогого края, но они вместо благодарности осыпали меня проклятиями, нигде не давая мне покоя и приюта.
— Что же ты делал, — говорю, — жителям нашей земли?
— Хотел сделать добро, но из-за доброты своей дважды должен был спасаться от преследования. Не могу забыть, хоть уже прошло двадцать и ещё сколько-то лет: научился я искусству получения золота, хотел усовершенствовать свой способ и открыть его тутошним жителям. У пана ***, богатого человека, неподалёку от Полоцка было имение и дом в городе, где он жил. Там он отвёл мне маленький уголок для занятий и совершенствования моей науки. Но со мной приключился ужасный случай: уходя, я оставил дверь незапертой, а на столе в бумажных пакетиках у меня лежали белые порошки, необходимые для многих вещей в моей науке. Жена пана ***, зайдя в мою комнатку, взяла один пакетик с порошком, думая, что это лекарство. У неё болела голова, и она приказала подать стакан воды, высыпала туда порошок, выпила и сразу же умерла. Преследуемый судом, невиновный, вынужден я был бежать и искать приюта в ином месте.
Поселился у пана *** и хотел посвятить его в великие тайны. В полночь на кладбище было испытание, но этот пан и его слуга, который был нужен для помощи, оба, не имея сил выдержать испытание великим делом, лишились чувств. Опасаясь преследования, оставил я их лежать на кладбище — бежал, никогда уж не показывался в тех местах и на веки вечные зарёкся открывать миру свои секреты.
* * *
Тут, прерывая рассказ пана Сивохи, Завáльня сказал:
— Помню, недавно один проезжий рассказывал мне о чернокнижнике, который учил пана *** делать золото, а слуга его, Карпа, носил под мышкой яйцо, снесённое петухом, и вырастил змея; должно быть, это тот самый чернокнижник. Рассказывай же скорее дальше, всё это очень интересно.
— Генрик, видя, что мы с доктором внимательно слушаем историю его жизни и не обращаем внимания на трактирную прислугу, что, стоя поблизости, смеялась и болтала о чём-то, продолжил, не вставая с места, свой рассказ:
* * *
— А что там у тебя в корзине под сермягой? — спросил я.
— Кролики, — ответил он. — Несу их с собой, и если какой-нибудь милостивый пан пожалует мне где-нибудь пустующий дом, то буду их там выращивать. Они быстро расплодятся, и вскорости у меня будет, чем прокормиться в моём несчастном положении.
— Открой корзину и покажи нам своих кроликов.
Едва открыл он корзину, как Амелия отшатнулась и в ужасе закричала:
— Ах, ах! какие жуткие нетопыри! закрой, закрой их скорее, смотреть не могу на эти страшидла!
Я посмотрел на неё с удивлением, ибо и в самом деле видел маленьких чёрных кроликов, а старец, бросив на неё быстрый взгляд, сказал:
— Приглядись, пани, получше; это маленькие чёрные кролики, просто они ещё пока не выросли.
И, взяв одного из них за уши, вынул из корзины.
— Ах, ах! какой страшный нетопырь! сделай милость, не показывай, спрячь его в корзину, не хочу и не могу я смотреть на эту мерзость.
Думая, что причина этого нелепого страха — какой-то странный каприз и упрямство Амелии, я приказал старцу, чтоб шёл переночевать в фольварк, а утром ему будет выделено какое-нибудь обиталище. Он поклонился и пошёл прямо в имение.
Домой с прогулки возвращались молча. Амелия была очень взволнована, бледная, со слезами на глазах. Я смотрел на неё с удивлением и гадал, почему она перечила столь очевидной правде? Я же своими глазами видел маленьких кроликов. Наконец, прервав молчание, говорю:
— Так что ж, Амелия? и теперь ещё будешь доказывать, что у этого старца в корзине были нетопыри? Странный каприз пришёл тебе в голову, издеваться над старым человеком и обвинять его во лжи.
— Не хотела я, — отвечает, — обижать его, но как же мне не верить своим глазам.
— Жаль, что ты огорчила бедного старца. По его разговору можно понять, что этот человек от природы одарён большим умом, образованный, да только несчастливый.
— Взгляд и лицо у него страшные… Зачем было его останавливать, пусть бы шёл себе дальше.
— Удивляет меня сегодня твой странный характер. Я остановил его не на короткое время; дам бедняге приют, будет жить у меня в имении, покуда сам захочет.
Амелия не сказала на это ни слова. Спор наш окончился, и мы молча вернулись домой.
Неподалёку от имения, над рекой, стоял одинокий домик, окружённый тёмным еловым лесом. Ещё во времена моего отца жил в нём со своей семьёю один крепостной, которого позднее я переселил в ближайшую деревню, а поле, что он пахал, присоединил к землям своего имения. На следующий день я проснулся рано и привёл старца в пустующий дом, чтобы был у него на склоне лет свой приют. Он поблагодарил меня и выпустил посреди хаты из корзины своих кроликов.
Жил он одиноко; временами бродил по полю либо в тени лесов; по ночам не спал, появлялся в разных местах в чёрной одежде, будто страшное привидение. Крестьяне, встречая его при свете месяца, боялись подходить, убегали, как от упыря, и по всей округе о нём ходили странные слухи. Рассказывали, будто в полночь над крышей его дома видели большую стаю нетопырей, а на его зов к нему прилетали совы и вóроны.
Слыша эти выдумки простого народа, я только смеялся. Потом полюбил навещать одинокое пристанище старца, порой беседовал с ним по нескольку часов; осенней порою слушал, как шумели над крышей его хаты старые ели, смотрел на его лицо, на котором всегда присутствовала весёлая усмешка. Под его окошком на песчаном пригорке среди сосен жил большой выводок чёрных кроликов, которые то прятались под землёй, то вновь выскакивали из своих нор. Глядя на всё это, я чувствовал в себе какие-то перемены, и душа моя погружалась во мрачные думы.
Амелия не хотела его видеть и не любила, если кто-нибудь вспоминал о нём; я, наоборот, с удовольствием беседовал с ним, и через несколько месяцев он получил надо мной такую власть, что я верил всему, что бы он мне ни сказал.
Однажды в конце сентября перед самым закатом солнца захожу в хату старца; за стеной выл осенний ветер, он, опершись на руки, смотрел на своих кроликов, которых было полным полно и в доме, и на дворе. Заметив меня, он встал с места и сказал:
— Странно, за всё то время, что живу в имении пана, обойдя все тутошние места, видел я в лесах разные деревья, а вот дубов поблизости совсем нет; лишь за несколько вёрст отсюда нашёл два столетних дерева этой породы, а вокруг молодые деревца, которые, я думаю, выросли из желудей, что раскидал там ветер.
— Я совсем не замечал этого, — отвечаю. — Для хозяйственных нужд у нас хватает и иной древесины.
— Для использования хороши вяз и берёза, но что может быть прекраснее, чем видеть дубовую рощу? Эти деревья растут веками, и я советовал бы пану, прямо сейчас, осенью, приказать выкопать их и посадить на пригорке, который виднеется позади пруда в парке, и на котором сейчас не растёт ни одного дерева.
— Много лет придётся ждать, покуда они вырастут большие, и, верно, не доведётся мне увидеть на том пригорке высоких раскидистых дубов, ведь жизнь человеческая очень коротка.
Он сурово посмотрел на меня, так, что дрожь пробежала по телу, и, будто издеваясь, повторил мои слова:
— Жизнь человеческая очень коротка… Но к чему думать об этом? Пан ещё молод, у него хорошее здоровье, лет сто будешь жить на этой земле и в сени тех дубов веселиться с приятелями. Отбрось все печальные мысли, ты — пан, и всё должно служить для твоей пользы.
Я послушался его совета. На другой день приказал садовнику идти к старцу, который живёт над рекой возле елового леса, чтобы тот показал молодые дубки, которые надо перенести в парк и посадить на пригорке.
Садовник, услышав мой приказ, испугался, побледнел и сказал изменившимся голосом:
— Откуда пану пришли эти мысли? Дубы не цветут, и от плодов их нет никакой пользы; для украшения парков больше подходят липы, их и стоило бы посадить на том пригорке.
— Я твоего совета не просил, — сказал я. — Слушай, что приказано, и исполняй.
— От стариков я слыхал, что тот, кто сеет жёлуди или сажает дубы, и года не проживёт.[214]В некоторых местах Беларуси у простого народа существует поверие, что тот, кто посадит дуб или посеет жёлуди, сокращает свою жизнь, так как его сила переходит к растущим дубам, которые он посадил и за которыми ухаживал. — Прим. авт .
— Если ты ещё раз, — говорю, — повторишь мне эти глупости, то прикажу дать тебе пятьсот розг. Иди, делай, что велено.
Садовник, боясь дальше говорить со мной, вышел опечаленный и искал случая просить мою жену, чтоб она уговорила меня отказаться от моего намерения.
Вечернею порой, когда я на некоторое время покинул дом, он сам не свой зашёл в комнату к Амелии, со слезами на глазах упал ей в ноги и всё рассказал.
Когда я вернулся, Амелия встретила меня с улыбкой и сказала:
— Генрик, с чего ты решил сажать в парке дубы? Я не вижу в этом ни надобности, ни красоты. Бедный садовник пришёл ко мне страшно опечаленный, сказал, что от их пересадки наступит большое несчастье, ибо это дерево забирает силы у того, кто за ним ухаживает, а от этого укорачивается жизнь. Знаю я, что суеверия происходят от непросвещённости, но разве имеем мы право жестоко обращаться с людьми за то, что им не было дано должного образования? Надо употреблять более мягкие способы, чтоб отучить их от глупых суеверий, ведь чинить несправедливость ближним своим великий грех.
— Как вижу, — сказал я, гневно взглянув на неё, — ты такая же, как садовник; собралась защищать глупость, но напрасной будет твоя протекция.
— Верно, тот ужасный старец дал тебе этот совет; ну так поручи ему самому занять место садовника, пусть сделает всё это собственными руками, ибо всё равно целыми днями ничем не занимается, лишь бродит по полям и лесам.
— Люди мои. Как мне пожелалось, так и должно быть.
Когда я это сказал, из глаз Амелии ручьём потекли слёзы, и она сразу ушла в другую комнату.
Садовник, видя, что его надежда не оправдалась, привёз из леса молодые дубки и посадил их на назначенном месте. После этого он был всё время грустным; напрасно остальные убеждали его, что дубы не имеют никакого влияния на здоровье человека, он всё сох, силы его покинули и следующей весной, едва только те деревца покрылись листвою, он печально окончил свою жизнь.
После смерти садовника, когда я рассказал старцу о простоте этого человека, о его предрассудках и слабости характера, — тот глянул на меня, наморщил лоб, будто в знак презрения, и сказал:
— Тем лучше, о чём тут жалеть? У тебя вдосталь глупых людей — что с того, что потерял одного?
Другое злодейство этого старца ещё больше нарушило согласие и мир между мною и женой. Собрался я строить новый деревянный дом, но на фундамент не хватало кирпича. Желая восполнить недостачу, вышел я в поле и, гуляя там, выбирал подходящее место для кирпичной мастерской. Он же, встретив меня, указал на кладбище и на старую часовню, что стояла на виду недалеко от имения, да говорит:
— На каком неподходящем месте устроили это кладбище! Из окна панского дома всегда видны деревянные кресты и часовня, что за отвратительный пейзаж! Приедут к пану соседи, средь них немало молодых да весёлых людей, а эти кресты и часовня всё время перед глазами — они каждого могут довести до скорбных мыслей и меланхолии. Я бы посоветовал пану назначить крестьянам место для кладбища где-нибудь подальше за лесом, чтоб человеческое око не так часто его видело; кирпич от часовни можно пустить на фундамент, а на этом месте посеять овёс, чтоб и следа не было, что тут гниют зарытые кости умерших людей.
Я похвалил прогрессивные взгляды старца и его умение познавать характеры людей и тайны природы. И вот приказал немедленно снести деревянные кресты, собрать камни, что стоят на могилах, в кучу, разрушить часовню, а кирпич свезти в имение.
Напрасно мои крепостные, собравшись со всех деревень, просили, чтобы я не уничтожал часовню и не трогал того места, где покоится прах их родителей и прочей родни; напрасно противился отец-плебан, стараясь доказать, что я беру на свою совесть великий грех; напрасно старшие соседи в глаза попрекали меня, что отступаю от обычаев предков. Наконец Амелия, увидев, что все просьбы и уговоры оказались напрасны, тяжело огорчилась и сказала:
— Генрик, ведь эта часовня и кладбище были на этом самом месте ещё при жизни отца твоего и деда. На них эти кресты и могилы не наводили печальных мыслей, не раз они там на восходе и заходе солнца, преклонив колени, усердно молились за своих умерших крестьян. Так заведено во всём нашем крае, что кладбище устраивают на виду либо возле дороги, чтобы люди, встречая взглядом кресты и могилы, молились за души умерших. Верно, это тот злой старец дал тебе безбожный совет, но помни, Генрик, что Бог будет судить все наши дела.
— Не твоё дело! — ответил я в гневе. — Я знаю, что делаю; старец, которого ты называешь злым, смеётся над вашей глупостью; очень уж вы беспокоитесь о тех, кого уже давным-давно нет на этом свете.
И так я настоял на своём. Через два дня от кладбища не осталось и следа, а кирпич от часовни пустили на фундамент нового дома, в который через пару месяцев я и переселился.
С той поры я начал замечать, что характер Амелии всё больше меняется. Её глаза и лицо всегда были затуманены печалью; говорила, что в новом доме ей являлись привидения, снились страшные сны, а в полночь иногда слышала какие-то стоны. Утром и вечером она по нескольку часов молилась, преклонив колени, и так изменилась лицом, что те, кто знал её раньше, теперь едва узнавали, хотя прошло всего несколько недель.
Когда я рассказал старцу о страданиях моей жены, он глянул на меня, кивнул головой и говорит:
— Как плохо ты, пан, ещё знаешь, что такое женщина! всё это не более чем упрямство да злоба из-за того, что не может она править мужем и делать всё по своей воле. Открыл бы я пану один секрет, что мне удалось разгадать, да пусть уж лучше он навечно останется тайной моей души, ибо и так уже кое-кто поговаривает, будто именно я виновник разлада в вашей семье.
— Сделай милость, расскажи мне о нём, — говорю я. — Кого ж это может касаться больше, чем мужа?
— Я многим обязан пану, облагодетельствовал он меня, дал этот приют старику. Я встретил в жизни немало превратностей, прошёл через все испытания, научился хладнокровно смотреть на мир и постигать все тайны людских дум и поступков. Открою пану этот секрет, о котором знаю уже несколько месяцев, никому о нём я ещё не говорил — у жены пана на голове живые волосы.
— Никогда ещё я не слыхал о таких чудесах, — говорю я. — Не пойму, что это значит?
— Тогда расскажу всё по порядку, как я об этом узнал. Помню, как-то раз съехались в имение гости. День был тихий и ясный, вышли все тогда из дома и, пользуясь хорошей погодой, гуляли по полю. С паном шли двое пожилых господ, и были вы весьма заняты каким-то разговором, а жена пана шла впереди, в кругу молодых людей. Те во время беседы постоянно поглядывали на её косу. Когда подошли к роще, я, укрывшись за деревом, заинтересовался и решил присмотреться, почему это их взгляды прикованы к её волосам? Мой глаз зоркий, видит далеко, и я заметил, что при свете солнца волосы жены пана шевелились — и в косе и на всей голове. О! за этим делом, пан, нужен глаз да глаз, ибо есть на свете чудеса и чары; молодёжь на неё заглядывается и не понимает, что за сила разожгла в их сердцах чувства и беспокойство.
— Разве ж может такое быть? — спросил я с удивлением.
— Дело несомненное! Расскажу пану, как можно убедиться в истинности моих слов. Мало того, что у неё живые волосы, среди них на её голове есть один волосок, который после захода солнца, когда сумрак накрывает землю, кричит всю ночь аж до самого утра, и потому она может заснуть лишь на короткое время, часто просыпается, а по вечерам стонет и плачет. Когда она пойдёт в ту комнату, где обычно преклоняет колени и молится, ты, пан, тихонько подойди к ней и хорошенько прислушайся. А ещё лучше постарайся прислушаться в час ночной тиши, когда тот волос поёт громче всего.
Я был необычайно удивлён и встревожен; решил не спать всю ночь, лишь бы только узнать правду. Вечером, когда Амелия зажгла свечу и пошла в маленькую комнатку помолиться, я подошёл на цыпочках к приоткрытой двери, напряг ухо и услыхал писк, такой тонкий, будто комар, зудя, летает вокруг головы и ищет, где бы укусить. Слушал несколько минут, не двигаясь с места, потом так же тихо отошёл, не дожидаясь, пока она закончит свои молитвы.
После полуночи не ложился спать, а сидел в отдельной комнате за столом, раскладывая карты, будто хотел карточным гаданием узнать, исполнятся ли мои замыслы и желания. После полуночи, когда все заснули и везде стало тихо, я погасил свечу, захожу в спальню, словно ночной страх; окно в ней было наполовину закрыто. Амелия, постанывая во сне, лежала на кровати, лунный свет сквозь окно падал к её ногам, а в головах слышался писк, будто муха попала в паутину. Дрожь пробежала по моему телу. «Вот теперь узнал всю правду!» — подумал я и всю ночь ни на минуту не сомкнул глаз. На другой день рано утром пришёл к старцу и всё ему рассказал.
— Теперь веришь, пан, что я говорил правду? — спросил старец, — Но это ещё не всё; надо употребить способ, чтобы эти живые волосы не притягивали к себе глаза молодых людей. Прикажи, пан, своей жене отрезать косу и ночью, пока петух не пропоёт, принеси её мне, а я позабочусь, чтобы ты ещё раз увидел чудеса своими собственными глазами.
Не знала Амелия и даже не подозревала о нашем уговоре и о моих ужасных замыслах. Встретив меня, сказала спокойным голосом:
— Что с тобою, Генрик? Отчего провёл ты эту ночь без сна? Допоздна сам с собой играл в карты, а на рассвете тебя уже не было дома.
— Не спал ночью и утром убежал из дома, ибо твои волосы, что кричат на голове, не давали мне покоя.
— Не понимаю я твоих слов и вообще впервые слышу про кричащие волосы.
— Шевеление твоих волос всем гостям понравилось.
— Скажи, Генрик, яснее, — говорит она, — не умею я такие загадки разгадывать.
— Скажу и яснее: хочу, чтоб ты остригла волосы; замужней женщине пристойней ходить с покрытой головой.
— Странный каприз пришёл тебе в голову.
— Может, и странный, но справедливый, — отвечаю. — Не хочу, чтобы ты хвалилась своею чудесной косой, которая чародейской силою притягивает к себе чужие глаза; так что будь добра, если хочешь видеть меня спокойным, прикажи обрезать себе волосы.
— Теперь понимаю, — сказала Амелия, — речь идёт о твоём покое.
Позвала служанку, приказала, чтобы та отрезала ей косу, и, заливаясь слезами, вышла в другую комнату.
Перед самой полночью, взяв с собой косу Амелии, отправился я к одинокому жилищу старца. Он не спал, я видел, что в окне горел огонёк. Вошёл в дом: он сидел возле стола, опершись на руку, будто погрузился в какие-то мысли. В углах копошились чёрные кролики, их глаза пылали рубиновым огнём. Он поднялся с места и обратился ко мне:
— Ну что, пан, сделал, как я советовал?
— Сделал всё как надо, волосы жены у меня с собой.
Проговорив это, я достал из кармана косу и положил перед ним на стол.
— Ну вот, скоро, пан, увидишь чудеса.
Сказав так, он взял большую деревянную миску, налил воды и часть волос из косы положил в эту посуду. Некоторое время он стоял, пристально глядя на волосы; огонь на столе горел тускло, будто догорал, из-за чёрных облаков выглянул месяц, кинув через окно бледный луч. Неожиданно поднялся ветер, шум леса за окном нарушил тишину. Посмотрел я на старца — мне показалось, что его губы, бледные, как у покойника, шевелились, будто он что-то шептал: меня охватила тревога, по телу пробежала дрожь. Наконец он сказал мне:
— Подойди сюда и глянь, что творится.
Смотрю в миску и вижу чудо! Волосы, как живые, извиваясь в разные стороны, будто пиявки, двигались в воде. Задумавшись, я долго глядел на них. Наконец он вынес из дома миску с мокрыми волосами и остаток косы и всё это бросил в реку. И показалось мне, будто вижу я в свете месяца, что все они, извиваясь, плавают по водной глади.
— Теперь, пан, будь спокоен, — сказал мне старец после этого страшного испытания. — Больше эти волосы не будут тайною силой притягивать к себе глаза твоих гостей.
После этого моего страшного поступка Амелия долго плакала украдкой, и здоровье её с каждым днём стало убывать. По ночам она не могла уснуть, лишь только закрывала глаза, сразу чудились ей какие-то поднявшиеся из гробов привидения.
Однажды перед заходом солнца произошёл страшный случай. Амелия сидела в парке одна, но когда начали сгущаться сумерки, на траву легла роса, а воздух стал холодным и влажным, вернулась в свою комнату. Едва ступила на порог, как закричала истошным голосом и упала, словно мёртвая. Сбежались все, подняли её, в лице ни кровинки; уложили на кровать и едва смогли вернуть ей дыхание.
Когда она пришла в себя, то рассказала, что увидела тогда пред собой того чёрного старца в жутком обличии: кровавым огнём светились его очи, в руке он держал большой нож и грозил ей смертью.
Увидев, до какой степени нарушено её здоровье и ослаблены нервы, почуял я, наконец, жалость в сердце и послал скорее за доктором.
Каждый день в город бегали посланцы с рецептами, употребили все средства медицины, чтоб вернуть ей силы. Прошло несколько дней, лекарства были бесполезны, улучшения здоровья они не принесли, а лишь еще больше ослабили да добавили мучений.
Родители, узнав об опасной болезни своей дочери, приехали навестить её. Она захотела продолжать лечение в родительском доме, и доктор посоветовал то же, надеялся, что может тогда к ней вернётся покой, и лекарства будут лучше действовать.
Я согласился с этим, и Амелия с отцом и матерью уехала из моего дома, обещая вернуться, как только поправит здоровье.
А через три дня я получил письмо с чёрной печатью. Пробежав его глазами, увидел слова: «Амелия закончила свою печальную жизнь вчера в пятом часу пополудни».

Едва я прочёл это, как вдруг волосы на моей голове зашевелились и начали страшно кричать. Жуткий ужас охватил меня. Наконец я увидел, до какого несчастья довёл меня тот злобный старец. Схватил заряженный пистолет и побежал с намерением пристрелить его на месте… едва открыл дверь, как из пустого дома вылетела огромная стая нетопырей. Со страшным писком начали они метаться в воздухе над крышей хаты и вокруг деревьев, а старца и его кроликов уже и в помине не было.
Покинул я свой дом, страшно было в нём жить, страшно было выйти в поле и видеть луга, пригорки и леса, ибо повсюду появлялась пред моими глазами чёрная, как у сатаны, фигура ужасного старца.
* * *
— Вот, доктор, исповедь моей жизни.
Немного помолчав, он положил руки на голову и, глядя в зеркало, сказал:
— И сейчас волосы шевелятся и кричат. Ну что, знаешь ли ты способ помочь мне в беде?
Доктор, стараясь утешить его, пригласил к себе, дал свой адрес, и вскоре мы вышли из трактира, а тот остался. Через два дня я уехал из Витебска и больше не видел этого человека.
— Ужасный старец! — сказал Завáльня. — Не тот ли это чёрт, которому Твардовский приказал оживить тело Гугона? Является теперь в разных концах света, чтобы вредить роду людскому.
— Страшную историю рассказал пан Сивоха! Но у меня нет такой хорошей памяти, — сказал Лотышевич. — Много слыхал я разных рассказов, но что сегодня услышу, то утром забуду.
Цыган Базыль
Пока мы беседовали и каждый высказывал свои мысли о тех рассказах, что прозвучали этим вечером, за стеной среди деревьев, которые окружали дом, начал шуметь ветер. Дядя посмотрел на свечу, что догорала на окне, и сказал:
— Недаром петух пропел сразу после захода солнца; вот погода уже и меняется, подул ветер, и теперь самое главное, чтоб огонь в окне горел ярко.
Он поднялся, заменил свечу и обратился ко мне:
— Янкó, попроси панну Малгожату, чтобы зашла к нам. Странная это женщина! случается у меня, как и сегодня, что гости рассказывают прекраснейшие истории. Я слушаю, будто прикован к месту, а она не имеет к этому никакого интереса, да ещё и гневается, не хочет заходить в комнату во время рассказов, доказывая, что не только рассказывать, но и слушать про дьяволов и чары — грех.
Когда пришла панна Малгожата, дядя сказал:
— Милостивая пани всё одна, да одна, не хотела послушать чудесную историю, которой сейчас так прекрасно позабавил нас пан Сивоха. Он видел в Витебске человека, у которого были кричащие волосы.
— Вот вечно все истории у вас такие! И кто ж поверит, что волосы на голове могут кричать?
— Хорошо, пусть так. Милостивая пани не хочет верить, но попросим об одной вещи: прикажи принести нам доброй водки, мёду да приготовить клюквы. За палёнкой[215]Палёнка — белорусское название напитка, который готовят из горящей водки, клюквы и мёда. — Прим. авт . распрощаемся со старым годом и встретим новый, а теперь это питьё будет ещё приятнее, ведь мороз крепчает и ветер дует с севера.
На дворе завывал ветер, на столе горела водка. Завáльня старался как следует приготовить напиток и добавить всех необходимых приправ в меру. Пан Лотышевич был занят беседою со слепым Францишеком. Стоя возле пана Сивохи, Стась и Юзь рассказывали о своих школьных товарищах, о майских прогулках в поле и о студенческом театре. Я, глядя на голубой огонь горящей водки, вспоминал разные истории, которые слышал в дядином доме, а больше остальных мне грезился рассказ органиста Анджея про огненных духов. Казалось, из этого пламени на зов сразу бы выскочил Никитрон.
Вдруг открылась дверь, и в комнату вошёл мужчина, которого я видел впервые. Высок ростом, лицо смуглое, волосы чёрные, а глаза, как два уголька; одежда короткая, как у казака, за поясом с левой стороны плётка.
— Припадаю к ногам пана хозяина-добродия! — сказал он мощным голосом.
— А! Как поживаешь, пан Базыль! Из каких краёв Пан Бог тебя привёл?
— Далеко ездил, добродий! А сейчас был в имении у отцов-доминиканцев, возле Горбачева.[216]Горбачево — деревня в 6 км к северо-западу от фольварка Завáльни. Ехал через озеро, замёрз совсем, мороз крепкий и ветер пробирает насквозь. Увидел огонёк в окне дома пана и поскорее поспешил сюда, к ближайшему месту, где можно обогреться.
— А может, потому, — сказал Сивоха, — что конь уже дальше бежать не может?
— О, нет! Мой конь пробежал бы ещё мили четыре.
— Хорошо, хорошо сделал, что приехал ко мне, будем вместе встречать Новый год.
— И ведь сейчас самое время для ворожбы и предсказаний, — сказал Сивоха. — Так скажи всем нам, кого какая судьба ожидает в наступающем году?
— Зачем ворожить! Кому какую судьбу Бог назначил, такая и будет. Мне, цыгану, ездить из одного края в другой, либо жить в поле под шатром, а пану управлять хозяйством дома.
— А много ли в этом году сбыл старых коней и выторговал молодых?
— В этих краях и паны не хуже цыган! Разбираются в конях, не дадут обмануть.
— Скажи мне, Базыль, — сказал дядя, — почему ты не обзаведёшься хозяйством? Спокойней бы жил на свете.
— Так жили наши предки; наверное, они прикладывали к голове жáбер-траву, узнали будущее, презрели суету, да и нам оставили свои склонности.
— А что это за трава, — спросил я его. — В наших местах она растёт, или только где-то в дальних краях?
— Он расскажет об этой траве потом, — прервал меня дядя, — а сейчас пусть обогреется. Садись, пан Базыль, а может, ты ещё и не ужинал?
— Об ужине, добродий, ещё не думали ни я, ни мой конь.
— Конь голодать не будет; есть у меня и сено, есть, слава Богу, и хлеб, чтобы накормить путника, — сказал дядя и тут же приказал принести гостю ужин.
Цыган, сидя за столом, ел с хорошим аппетитом. Когда согрелся и утолил голод, начал рассказывать о минувшем, хвалил доброту и лёгкую руку одних своих знакомых, у которых некогда покупал хороших коней и имел с этого большую выгоду. Жаловался и ругал себя, что легко верил другим, и оттого имел убытки в торговле, не раз обманывался в своих надеждах и отступался от важных замыслов, не имея возможности быть на конских ярмарках в Бешенковичах[217]Бешенковичи — местечко в 60 км к юго-востоку от Полоцка. Ярмарка там проходила с 29 июня по 24 июля. и Освее.[218]Освея — местечко в 70 км к северо-западу от Полоцка. Ярмарку в ней проводили 29 июня, и славилась она, в основном, лошадьми.
Хвалил некоторые места в Беларуси, а особенно берега Дриссы и Двины, где он летом на изобильных пастбищах растил хороших коней и жил там часто под шатром до поздней осени. Рассказывал о своём зимнем жилище и о жилищах других цыган, о том, как они, зная разные секреты и имея власть над огнём, раскладывают большой костёр под соломенной крышей, и пламя солому не трогает.
Тем временем палёнка была уже готова. Завáльня наполнил стаканы, подвёл к столу слепого Францишека, поставил перед ним горячий напиток и остальных гостей пригласил подсаживаться поближе. Каждый из них, отведав, хвалил вкус и цвет палёнки, которая в свете огня сверкала, как тёмный рубин. Тут же началась беседа о цене и качестве местных напитков и заграничных вин.
— Как неразумно, — сказал пан Сивоха, — привозить из Риги араки[219]Арак — крепкий спиртной напиток, изготавливаемый в Южной Азии из риса или сока кокосовой либо финиковой пальм. и заграничные вина, в которые, как я слышал, немцы для вкуса добавляют не совсем полезные для человеческого здоровья приправы, да ещё и платить за это приходится дорого! Лучше потратить деньги на что-нибудь другое. У нас есть свои напитки, замечательные на вкус и полезные, как например, эта палёнка! Ослабевшему человеку можно выпить стаканчик — не повредит, а лишь укрепит его; от лихорадки, от простуды, да и зимой в дороге — лучшее лекарство!
— Правда, добродий, — сказал Базыль, держа в руке наполовину выпитый стакан и глядя в миску. — Бедное наше цыганское житьё! Когда в морозную зиму ищем приюта в пустых постройках, где нет ни печи, ни потолка, а только стены, да и в них ветер свищет сквозь щели, когда жена жмётся к костру и дети пищат, поворачиваясь к огню то одним, то другим боком, — эх, если б дать тогда жене и детям по стакану такой палёнки, забыли бы о холоде, им бы и зимой соловьи пели, словно тёплой весною.
— Это чистая правда, — сказал пан Лотышевич. — А что ж тогда говорить о нашем мартовском пиве и о мёде-тройняке! В прошлом году перед Рождеством поехал я в город за покупками для разных домашних нужд. В дороге застигла меня ужасная буря, в Полоцке остановился у жида в холодной комнате, видать, там и застудился. На другой день голова у меня разболелась, дрожал всем телом, однако, не имея времени сидеть на месте, прошёлся по городу, купил всё, что было необходимо, а потом мне ещё нужно было побывать в монастыре у отцов-иезуитов. Там в коридоре встретил меня отец Попе,[220]По-видимому, имеется в виду коадьютор (монах, не рукоположенный в священники) ордена иезуитов Игнатий Попп (родился в 1773 г., вступил в братство в 1803 г.). которому был поручен надзор за винным погребом, где в огромных бочках хранят знатный старый мёд. Посмотрев на меня, он сказал:
— Что это ты изменился в лице и так растревожен? Должно быть, нездоров?
— Нездоров, — отвечаю. — Сперва долго ехал во время жуткого ненастья, а потом ещё ночевал в холоде у жида, — вот и простудился.
— Я вылечу, — сказал он и завёл меня в винный погреб. Там налил большой кубок тройняку. Едва я выпил, сразу почувствовал, что по всему телу разлилось тепло, выступил пот, и простуда прошла.
— Отличное лекарство! — сказал Завáльня. — Но недавно Базыль поминал о какой-то дивной жáбер-траве, которую прикладывают к голове. Тут, должно быть, что-то интересное, просим рассказать, будем слушать, не жалея времени. А действие пива и мёда уже давно всем известно.
— О! Жáбер-трава способна на многие чудеса, и действие её удивительно. Перед нею теряет силу огонь, око человека иначе смотрит на мир и видит будущее.
Сказав это, начал он свою повесть.
Повесть одиннадцатая. Жáбер-трава[221]Согласно цыганским преданиям, растёт в глубине воды, спасает от пожаров и помогает предсказывать будущее. — Прим. авт . Название этой травы может быть связано с местными наименованиями таких растений, как пикульник ( жабер, жабрэй, зябер ), ряска ( жабур, жабер, жабор ), незабудка болотная ( жабернiк ) и водокрас ( жабнiк, жабер ). — Прим. перев.
— Жил некогда в этих краях бывалый цыган Шилко, который знал силу духов, что имеют влияние на здоровье людей, лечил больных, разгадывал тайны судьбы, предсказывал будущее, ворожил на разные случаи и никогда не ошибался, а потому и старики, и молодые отовсюду приходили к нему за советом.
Однажды вечером, пока его родня, что разбрелась по округе, ещё не собралась под шатром, он в одиночестве раскладывал разные сухие травы, что помогают животным и людям. Пока он был занят своей работой, к нему подошёл молодой человек по имени Адольф и сказал:
— Как поживаешь, Шилко! Пришёл к тебе узнать, какая судьба меня ожидает, каково будущее Альмы и что она обо мне думает?
Шилко взял руку Адольфа, нахмурил лоб, несколько минут молча глядел на ладонь, кивал головою и пожимал плечами. Наконец посмотрел ему в глаза и промолвил:
— Не спрашивай, пан, ни о судьбе Альмы, ни о своём будущем.
— Но я желаю знать, почему бы нет? Хочу поскорее сорвать пелену с глаз.
— Коли так, то приложи к голове жáбер-траву, и тогда спадёт с твоих очей сотканный из прекрасных цветов покров, что закрывает будущее в молодые годы.
— Где же найти мне эту траву?
— Много в тебе любопытства, но найдётся ли столько отваги? — спросил Шилко.
— Скажи, где она растёт, пойду к ней хоть в полночь, хоть среди диких зверей.
— Иди туда, где видишь с левой стороны две песчаные горы, а внизу, во мшистой низине растут небольшие берёзы и кусты вербы. Берег озера порос густым тростником, а в том месте, где начинается открытая вода, увидишь вбитый кол — он торчит из воды, будто мачта. Рыбаки сделали этот знак на озере, чтоб поблизости от него никто не ловил рыбу, ибо если закинуть в этом месте сеть, то она всегда оказывается, словно ножом изрезанной.
Там в глубине торчат огромные острые камни, а среди них, яркая, как звезда, светится под водой жáбер-трава. Дух Фарон[222]Один из восьми духов, что причиняют людям болезни. — Прим. авт . См. прим. 187. — Прим. перев . устроил там себе жилище, полюбилась ему эта трава. В час, когда погода тихая и на небе светит ясное полуденное солнце, он в одиночестве сидит в глубине, опершись правою рукой на камень, смотрит на ясную жáбер-траву и засыпает в чарующих видениях грядущего.
На закате солнца этот дух накрывает жáбер-траву густой сетью растений, которые там, наподобие хмеля, сплелись вокруг камней, чтоб проплывающие мимо рыбы и потревоженная вода не колебали её листья. Сам же выныривает из озера, на водяных туманах выплывает в поле, осматривает долины и прилески.
Поутру, если облака не закроют солнце, вода будет спокойная, будто стекло. В час самого зноя не теряй времени, вступи в озеро и иди под водой к жилищу духа Фарона; он будет спать, опершись на камень, а перед ним увидишь светящуюся на солнце жáбер-траву. Сорви листик, но не возвращайся назад, ибо нужно перейти всё озеро. На другом берегу, приложи жáбер-траву к голове, и вскоре увидишь чудеса и узнаешь будущее.
— Разве я рыба, — спросил Адольф, — чтобы быть под водой так долго и перейти всё озеро?
— Держи вот это во рту и ничего плохого с тобой не случится.
Говоря это, Шилко дал ему кусочек коры какого-то дерева.
Вот самый полдень. Адольф заходил всё дальше от берега, погружаясь в воду, наконец, скрылся под нею совсем. Проходя по владениям немых и холодных тварей, он встречал удивительные стоглавые, стоногие и прозрачные существа, которые просыпались от дрёмы, поднимали вверх свои лапы и снова засыпали на дне. Когда приблизился к обиталищу духа, то увидел жáбер-траву. Её листья сверкали ярким светом, как хрусталь на солнце, а дух Фарон, покрытый зеленью, словно огромный куст водных растений, спал, опершись на камень. Над ним и над жáбер-травою сновали тысячи водяных созданий неописуемого вида. Адольф сорвал листик и, не прервав сна духа, покинул это место и пошёл дальше.
Вынырнув из воды, вдохнул свежего воздуха, вышел на другой берег озера, передохнул на зелёном лугу и, приложив к голове холодный листик жáбер-травы, сразу ощутил в себе перемены, а поля и горы к его изумлению на глазах приобрели совсем иной вид.
Там, где на пригорке, среди берёз стояла каменная церковка, от деревьев остались лишь торчащие из земли пни, а храм оказался в руинах, без дверей и крыши. Где была деревня — теперь пустошь, остались лишь две старые груши, которые он недавно видел посреди сада. На поле неподалёку от него когда-то колосилась буйная рожь — теперь та нива заросла дикой травою, будто на этой земле пахарь не трудился несколько лет.
Тревога проникла в его сердце; отошёл Адольф от озера и отправился дальше оглядеть окрестности, по которым он всего несколько дней назад проходил с ружьём за плечами, и всюду видел большие перемены. Забрёл далеко, забыл, какая дорога ведёт к дому, а солнце уже было низко. Идя быстрым шагом, смотрел, не встретится ли где-нибудь человеческое жильё, чтоб отдохнуть, переночевать да разузнать, что это за места, в какие края он забрёл.
Когда день уже угасал, а на долины легла густая мгла, Адольф подошёл к совсем незнакомой деревне. Возле одного дома звучала музыка, скрипач и дударь играли весёлый танец, а несколько молодых людей плясали под открытым небом. Адольф, остановившись поблизости, смотрел на танцоров. И тут он услыхал, как несколько пожилых незнакомых людей говорили меж собою:
— Как не стыдно им плясать? — сказал первый. — Сейчас такие печальные времена! всюду нужда.
— Думаешь, они способны на какие-нибудь чувства? — отозвался другой. — Говорят порой хорошо, а поступают совсем иначе, не помнят о каре Божьей.
Встреча эта так поразила Адольфа, что он не смог им слова сказать. Покинул это место, прошёл мимо всех домов и заночевал в корчме на краю деревни.
На восходе солнца он собрался в путь, рассказал хозяину, где живёт, и спросил его, какой дорогой ему лучше возвращаться домой. Но тот ответил ему:
— Первый раз слышу про такие места. Должно быть, пан живёт где-то далеко отсюда.
Удивлённый Адольф стал расспрашивать других жителей деревни, но ото всех слышал такой же ответ. Тогда он собрался в дальнюю дорогу, купил еды на несколько дней и с узелком на плече пошёл дальше, держа путь к югу.
Погода начала меняться. В небе загрохотало, и Адольф увидел позади себя чёрные тучи, поднялся ветер. Вблизи дороги жилья было не видать, и он поспешил в гущу деревьев, чтобы хоть под покровом ветвистых елей укрыться от ливня.
Там он увидел какого-то старца. Тот сидел на трухлявом пне, над ним шумели сосны, а на челе его ветер развевал белые волосы. Подошёл ближе и хорошенько присмотревшись, узнал цыгана Шилко. Старик поднялся и, поклонившись, сказал:
— День добрый, пан Адольф!
— Ах! Это ты, Шилко! Едва узнал тебя. Что это значит? Почему ты такой постаревший? Мы ж всего несколько дней, как виделись, тогда у тебя ещё не было седины в голове, а сейчас твои волосы белые, как молоко.
— Нет, пан Адольф, не несколько дней. С тех пор, как ты меня видел, прошло уже больше десяти лет. Скажи же, панич, куда идёшь?
— Не знаю, в какой стороне мой дом, где я сейчас, куда ведёт эта дорога. И небо прячется за тучами, и буря бушует над головой.
— Не скоро настанет такая хорошая погода, какая была в тот час, когда я рассказывал тебе про жáбер-траву и про обиталище духа Фарона. Дом пана далеко, знакомые и приятели уже редко вспоминают имя Адольфа, думают, что ты давно распрощался с этим светом.
— Скажи же мне, Шилко, какой дорогой вернуться мне домой?
— Проходя через этот дикий лес, встретишь три дороги. С левой и с правой стороны широкие тракты, а между ними узкая, заросшая травой, тропинка, что идёт через каменистое поле и тёмные боры. Не бойся, пан, идти по этой узкой стёжке, оставь широкие дороги, что будут слева и справа. Расскажу тебе, что встречают люди, которые едут и идут туда, желая совершать своё странствие с удобством.
С левой стороны чудесные картины чаруют глаз. Пригорки покрыты восхитительной зеленью, на деревьях спеют сладкие плоды, луга усеяны душистыми цветами; озёра спокойные и ясные, словно зеркала, в их водах отражаются облака и деревья, что растут на берегах; журчат чистые, как хрусталь, ручейки, а в прекрасных рощах шелестит на прохладном ветру листва.
Но на лугах и в рощах гуляют там русалки, на головах красивые венки из васильков, у них коралловые уста и ясные очи, длинные волосы спадают на плечи. Они приветливо встречают путников. Одни из них легкомысленны, всегда веселы, поют и пляшут, зовут к себе, смешат игривым разговором, заманивают в тёмные леса, заблудившись в которых, несчастный путник никогда не выйдет на дорогу. Другие печальные, в глазах тоска, слова исполнены чувств, нежные их песни ранят сердце, подобно стреле, и погружают мысли в печаль. Доведя своими чарами до отчаяния, они убегают прочь.
С правой же стороны — высокие горы. На этих горах величественные замки, в них много золота и серебра, хозяева этих громад презирают тех, кто беден и терпит страдания, но и сами мучаются, ибо в полночь в их салонах танцуют скелеты, поражая их лютым страхом и гася весь блеск величия.
Ну, прощай, пан, не могу я быть тебе попутчиком, ибо идём мы в разные стороны.
Сказав это, Шилко закинул за плечи узелок и пошёл неторопливым шагом.
Адольф зашёл в лес: день был пасмурный, ветер шумел в густых ветвях. Задумчиво вспоминал он минувшее, которое казалось ему вчерашним днём. Потом достал листик жáбер-травы, который нёс с собой завёрнутым в бумагу, и подивился непостижимой силе этого зелья. Увидев, до чего довело его желание знать будущее, пожалел он, что отважился идти в подводный край к жилищу духа Фарона. Спрятал снова свой листик, вздохнул и пошёл дальше.
Пришёл на то место, о котором говорил Шилко, и, оставив справа и слева две широкие дороги, пошёл узкой стёжкою через каменистые поля и тёмные боры.
Шёл он один, не с кем было и словом перемолвиться. Редкий человек осмелится идти через те места. Видно было только, как дикий зверь в испуге прячется в чаще, слышны лишь стук дятлов на сухих соснах да крики соек.
Настал вечер, небо потемнело. Измученный долгой дорогой, Адольф прилёг на взгорке и, положив голову на камень, заснул. Сон был крепкий, но недолгий; едва засияла на небе заря, поспешил, чтобы где-нибудь найти человеческое жильё и переночевать под крышей.
Идучи дальше, поднялся на гору, но и оттуда нигде не увидел людей, только невдалеке за берёзовой рощей поднимался дым, густой, словно туман. Едва подошёл он к тому месту, как вышла из рощи какая-то женщина, высокого роста, в белом платье, с лицом, залитым слезами, и с мечом в руке; остановилась она возле дороги.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………[223]По-видимому, эти две строки были исключены из текста книги цензором либо в процессе корректуры.
* * *
Запел петух.
— Вот теперь уже не на перемену погоды, — сказал дядя. — Самая полночь. Пришёл Новый год, встречаем гостя. Какими новостями порадует он нас?
Сказав это, он налил в стаканы палёнки и все выпили, желая друг другу счастья в доме, здоровья и богатых урожаев на полях будущим летом.
Пан Лотышевич, выпив до дна, поставил стакан на стол и сказал:
— Мы не знаем, что будет, одно лишь ясно, с каждым годом нас, стариков, становится всё меньше. Только бы Бог хранил молодое поколение, чтобы не отступали от добродетели и не забывали традиции и обычаи предков своих!
— Ай, пан Лотышевич своими разговорами о смерти портит нам хорошее настроение. Так не годится, — сказал Базыль. — Даже на меня напала тоска, и сдаётся, что будто и не пил ничего. Зачем говорить сейчас о таких вещах? Я цыган, кроме лошади у меня ничего нет, а всё ж таки не хотел бы ехать на тот свет.
Сказав это, он налил себе ещё стакан и выпил, пожелав всем здоровья и весёлого настроения.
— Базыль, как я заметил, — сказал Сивоха, — человек чувствительный, его трогает каждое слово, но, помнится, он ещё не закончил своего рассказа.
— Да, не закончил я ещё свой рассказ, может, когда-нибудь закончу.
Дядя снова наполнил стаканы и, подавая слепому Францишеку, сказал:
— Пан Францишек всё время задумчивый и печальный. Выпей с нами, и положимся на Бога!
— Желаю вам и детям вашим счастья. Пусть небо благословит всех добрых людей да пошлёт нам урожай и счастливые годы!
Сияние на небе
Неожиданно в окно ударил яркий свет, осветило комнату. Все умолкли, напуганные таким нежданным чудом, потом выбежали из дома, подумав, что где-то по соседству пожар. И увидели, что по небу наподобие огромной реки разлилось такое яркое сияние, что глаза слепило. Поля, леса и горы, покрытые снегом и освещённые пылающим небом, имели дивный и захватывающий вид. На горизонте лежали тучи, расцвеченные алым огнём, казалось, будто там тонут в пожарах исполинские здания и высокие башни. Долго мы стояли и в молчании смотрели на эту дивную и страшную небесную картину; наконец, сияние огненной реки начало тускнеть и таять в воздухе; погасли тучи, и ночная тьма снова покрыла небо и землю.
Вернулись в дом.
— Дай Боже, — сказал дядя, — чтоб это предзнаменование оказалось благоприятным для нас. На моём веку третий раз случилось мне видеть подобное диво, и всегда в тот год, когда на небе были такие пожары, случались какие-нибудь негаданные события.
— Я знавал старика, который помнил Лебедлiвый год, — сказал пан Лотышевич. — Он часто рассказывал про дивные видения, которые сам наблюдал на небе. В воздухе тогда горели замки, и в пламени сражались войска. Страшные бедствия настали тогда для всех. Кроме травы людям нечего было есть; однако ж через год Бог смилостивился над их тяжкой долей, и кладовые повсюду наполнились рожью.
— Бедность в нашем краю дело не новое, — отозвался Сивоха. — Придёт весна, и редкий крестьянин, садясь за стол, положит пред собою хлеб и будет иметь, чем засеять поле. И эта извечная недоля до того запала всем в память, что всё непонятное у нас всегда — предзнаменование несчастья. Нужно быть более бережливыми и рачительными. Кто трудится и просит Бога, тот и сам живёт, не зная нищеты, и людям помогает.
Слепой Францишек вздохнул и произнёс:
— Мы встречаем и проводим каждый год с одной и той же песней. Этот свет для нас лишь странствие, и небеса часто напоминают нам об этом. Летом, когда я слышу гром, который сотрясает всю землю, то думаю о всемогуществе Творца и о Его милосердии. Да будет на всё воля Его! Наше будущее в Его длани.
— Когда-то я слыхал такое повествование,[224]Из народных преданий. — Прим. авт . — сказал Сивоха. — Однажды летнею порой после захода солнца перед воскресным днём ночь была тихая и погожая. Крестьяне после дневных трудов допоздна беседовали о своём хозяйстве. Одни батраки погнали коней на луг в ночное, другие пели в поле песни, возвращаясь с панщины. Вдруг в небесной вышине возникло дивное видение; на всём просторе небо будто бы раскрылось и среди этого света показались ангелы, их одеяния были белее снега, а головы окружены лучами, что были ярче солнца. Все упали ниц, и тем, кто усердно молился, Бог ниспослал такие щедрые милости и земные дары, что они всю жизнь не знали нужды.[225]Существует сербское предание «Отверстое небо»: «Ночью перед Богоявлением отверзается небо. Нужно только не спать, дождаться святой минуты, и тогда чего бы человек ни попросил, — всё получит. Но не все могут видеть селения горние. Кого ослепил грех, где тому увидеть отверстое небо!» (Боричевский И. П. «Повести и предания народов славянского племени», ч. 2, СПб, 1841).
— Слыхал и я эту историю, — сказал Завáльня. — По моему мнению, для искренней и усердной молитвы небо всегда открыто. Но куда подевался Базыль? Он ещё не закончил своего рассказа.
Все огляделись, но Базыля в комнате уже не увидели.
— Верно, сон его одолел, — сказал Сивоха. — Я давно заметил, что он едва сидел и то и дело начинал клевать носом. Но, пан хозяин, время бы и нам уже отдыхать. Завтра не целый день спать, нужно быть на святой мессе.
— И всё ж рассказ о жáбер-траве не закончен, — сказав это, дядя вышел и приказал приготовить гостям постели.
Огонь потушен. Все спали крепким сном.
Конец третьей книги
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления