Онлайн чтение книги
Кентавр
The Centaur
Проклятые
Глава I
— Мне уже за сорок, Фрэнсис, и привычки мои порядком сложились, — сказал я добродушно, готовый уступить, если сестра станет настаивать, что совместная поездка осчастливит ее. — И, как ты знаешь, именно сейчас мне нельзя оторваться от работы. Вопрос в том, смогу ли я писать там — в доме, где будет множество незнакомых людей?
— В письме Мэйбл ничего не упоминала о других людях, Билл, — последовал ответ. — Мне представляется, что бедняжка одинока и страдает от этого.
Она говорила, устремив в окно отсутствующий взгляд, и было очевидно, что Фрэнсис огорчена, но, к моему удивлению, настаивать не стала. Я бросил быстрый взгляд на приглашение миссис Франклин, лежавшее у нее на коленях, — аккуратный, детский почерк вызвал в моем воображении образ робкой и застенчивой вдовы банкира с блекло-серыми глазами и выражением лица, как у туповатого ребенка. Я подумал также о громадном загородном особняке, Башнях, переделанном ее покойным мужем в соответствии с его запросами. Помню сравнение, на которое тогда, несколько лет назад, навели меня просторы тамошних зал: будто крыло Кенсингтонского музея[33]Крупнейший в мире музей искусства и дизайна. приспособили наскоро для еды и ночлега. Мысленно сравнив его с убогой квартиркой в Челси[34]Район в западной части Лондона, известный также как район художников., где мы с сестрой влачили бедственное существование, я осознал, правда, и преимущества. Соблазнительные подробности, о которых не стоило бы думать, мигом пронеслись в моем воображении: превосходная библиотека, орган, тихий кабинет, который наверняка у меня будет, вышколенная прислуга, восхитительная чашка утреннего чая и горячие ванны в любое время дня — без газовой колонки!
— Мы туда надолго, почти на месяц, да? — упирался я, улыбаясь пленившим меня мечтам, стыдясь своего человеческого эгоизма и зная, что Фрэнсис его-то от меня и ожидала. — Ну, в этом есть свои плюсы. Если без меня никак, то, так уж и быть, поехали.
Я говорил еще долго, потому что Фрэнсис не отвечала. Ее глаза устало созерцали непримечательный пейзаж Оукли-стрит, и, почувствовав острые угрызения совести, я умолк. Когда же молчание затянулось, добавил:
— Станешь писать ей, намекни, что я, скажем так… не очень общительный гость! Она поймет, вот увидишь.
Я привстал, чтобы вернуться к чертовски увлекательной статье «Сравнительные жизненные ценности слепых и глухих людей» — работе, над которой я корпел в то время.
Однако Фрэнсис не двинулась с места. Ее серые глаза были по-прежнему устремлены на Оукли-стрит, еще более печальную в вечернем тумане, наползающем с реки. Стоял конец октября. Было слышно, как на мосту громыхают омнибусы. Однообразие широкой безликой улицы наводило тоску еще больше, чем обычно. Даже в солнечном июне улица смотрится безжизненной и мертвой, а уж в осеннее время каждый дом между Кингс-роуд[35]Одна из главных улиц Челси. и набережной погружается в гнетущее уныние. Она уносит мысль в прошлое, а не зовет в будущее с надеждой. Казалось, трущобы из-за реки посылают по всей свободной ширине улицы ползучие миазмы безнадежности. Я всегда считал Оукли-стрит лондонским парадным входом старухи-зимы: туман, слякоть и мрак обосновывались здесь каждый ноябрь, и всю зиму, пока наконец март не обращал их в бегство, пировали под своими штандартами.
Единственное, за что можно было любить эту мрачную улочку, — южный, пахнущий морем ветер, иногда освежавший ее по всей длине. Естественно, все эти скорбные мысли я держал при себе, хотя не прекращал сожалеть о том, что пришлось поселиться здесь, в маленькой квартирке, покорившей нас своей дешевизной. Но теперь по безучастному лицу сестры понял, что и она, конечно, чувствовала то же самое — хотя отважная женщина в этом и не признавалась.
— И, Фанни, послушай. — Я пересек комнату и положил руку ей на плечо. — Это как раз то, что тебе нужно. Ты устала от готовки и уборки. Кроме всего прочего, Мэйбл — твоя давняя подруга, а вы не виделись с того самого момента, как умер ее муж…
— Мэйбл была за границей целый год, Билл, и вернулась совсем недавно, — перебила меня Фрэнсис. — Она приехала так неожиданно. Я даже подумать не могла, что она захочет жить здесь, — тут она внезапно остановилась, не договорив. — Наверное, — продолжила она, — Мэйбл хочется снова повидать старых друзей.
— Точно, и ты — первейшая среди них, — вставил я, намеренно пропустив намек на дом Мэйбл.
Хотя бы для того, чтобы не заводить речь о мертвеце.
— Мне кажется, я в любом случае должна поехать, — резюмировала Фрэнсис, — и конечно, мне будет намного веселее, если ты тоже поедешь. Здесь ты превратился в такого растяпу: ешь непонятно что, забываешь проветривать комнаты и — ох, да что там, ты обо всем забываешь! — Она глянула на меня, засмеялась и тут же добавила: — Только вот до Британского музея[36]Самый знаменитый музей Великобритании, в котором находится национальное археологическое и этнографическое собрание: 95 галерей вмещают около 13 млн экспонатов. несколько далековато.
— Там огромная библиотека: все книги, которые только могут мне понадобиться. Меня больше волнует, чем тебе там заняться. Возможно, стоит вернуться к рисованию; у тебя неплохо получается: обычно расходится половина картин. Это было бы замечательным отдыхом, ведь Сассекс[37]Бывшее графство Англии; теперь разделено на Восточный Сассекс и Западный Сассекс. — чудный край для прогулок. Короче говоря, Фанни, я советую…
Тут наши глаза встретились, и я запнулся, поняв тщетность своих попыток скрыть мысль, тревожащую нас обоих. У сестры была слабость: она обожала всякие «новые» теории жизни, а Мэйбл, которая еще до свадьбы состояла во множестве глупых обществ, занимавшихся исследованием будущей жизни, пренебрегая жизнью настоящей, только поощряла во Фрэнсис это дурное стремление. Ее чувствительный, восприимчивый ум был открыт любой парапсихологической чепухе. Я же все это ненавидел. Даже больше: испытывал настоящее отвращение к мрачным теориям мистера Франклина, которые со временем поглотили его жену. Я содрогался от одной только мысли, что они завладеют и моей сестрой.
— Теперь, когда она снова одна…
Я запнулся. Правда, мелькнувшая в наших глазах, хоть и не высказанная вслух, сделала дальнейший обман невозможным. Мы рассмеялись и на мгновение отвернулись друг от друга, обводя комнату взглядом. Фрэнсис взяла какую-то книгу и стала рассматривать ее так пристально, будто всю жизнь искала, я же задымил сигаретой, хотя совсем не хотел курить. Этим дело и закончилось. Я поспешил выйти из комнаты прежде, чем атмосфера начала накаляться. Разногласия всегда превращаются в ссоры из-за пустяков — будь то опрометчивое определение или неверная интонация. Фрэнсис так же, как и я, вольна иметь свою точку зрения на жизнь. «По крайней мере, — не без удовольствия отметил я, — в этот раз мы оба расстались, хоть в чем-то согласившись, пусть и не признав этого вслух».
И объединило нас странным образом отношение к умершему.
Мы оба питали страшную неприязнь к мужу Мэйбл и за все три года ее семейной жизни посетили их дом только однажды — да и то был простой воскресный визит: приехав вечером в субботу, мы уехали сразу после завтрака в понедельник. За неприязнью Фрэнсис крылось естественное чувство ревности от потери старого друга, меня же муж Мэйбл просто раздражал. Однако в действительности наши чувства были куда глубже. Фрэнсис — великодушное, благородное существо — хранила молчание, и с ее языка не сорвалось больше ни слова, кроме фразы, что дом и окрестные земли — а он перестроил первый и заложил вторые — терзают ее как напоминание о его постоянном присутствии («терзают» — именно так она и говорила).
Наша неприязнь к нему была легко объяснима: люди творческие, мы с Фрэнсис считали, что дотошно отмеренная и тщательно высушенная вера — безобразная вещь, а учение, в которое приверженцы должны безусловно уверовать или навечно погибнуть, есть варварство, основанное на жестокости. Но если моя собственная неприязнь была основана исключительно на абстрактной вере в Прекрасное, то сестра, с ее склонностью к новым веяниям, верила, что в каждой религии есть своя доля истины и что в конечном счете даже самый жалкий негодник попадет на «небеса».
Преуспевающего банкира Сэмюеля Франклина все любили и уважали, отчего женитьба на Мэйбл, хоть та и была младше на целых пятнадцать лет, вызвала всеобщее одобрение. В приданое невесте достался пивоваренный завод, а ее обращение в ревивалистскую веру[38]Ревивализм (англ. revival — возрождение, пробуждение) — религиозное течение, возникшее в протестантских церквах США и Англии, выступавшее за «духовное возрождение истинной Апостольской церкви» с упором на религиозную этику и эмоциональное воздействие. Послужил одной из основ пятидесятничества. на собрании, где Сэмюель Франклин страстно ораторствовал о небесах, пугал грехом, адом и проклятием, было похоже на сцену из романа. Она была «головней, исторгнутой из огня»[39]Зах. 3: 2.; его обстоятельные речи просто заталкивали девушку на небеса; спасение пришло как раз вовремя; слова будущего мужа подхватили ее, готовую сорваться вниз с самого края геенны огненной, «где червь их не умирает, и огонь не угасает»[40]Мк. 9: 44–48.. Мэйбл сочла его своим героем, облегченно встала под защиту его осененных святой миссией плеч и с благодарным смирением приняла покой, который он ей предложил.
И хотя Сэмюель был «религиозным человеком», его огромное богатство удачно сочеталось с ореолом спасителя душ. Высокого роста, он обладал внушительным телосложением и крупными руками мастерового с толстыми красными пальцами. От него веяло непреклонным чувством собственного достоинства, граничащего с надменностью. Когда он проповедовал, в его глазах блестела непоколебимая, даже безжалостная уверенность в своей правоте; а грозные рассказы об адском пламени пугали души и куда более сильные, чем у робкой и чувствительной Мэйбл, на которой он женился. Сэмюель облачался в небрежно застегнутый сюртук, сапоги с квадратными носами и брюки, немного коротковатые для него и вытянутые на коленях. Цилиндр у него был не шелковый, высоких воротничков он не носил, а гетры надевал изредка. Его голос то суровел, то становился вкрадчивым; а все театры, бальные залы и ипподромы он почитал за преддверие той геенны огненной, в чьей географии он разбирался не хуже, чем в местоположении собственных банков в лондонском Сити. Однако он был филантропом до мозга костей, и никто ни разу не усомнился в его совершеннейшей искренности. Убеждения подкреплялись личным примером, ведь без него не обходилось ни одно уважаемое благотворительное общество: тут он был казначеем, там — подписывал дарственную, здесь возглавлял лист пожертвований. Он заметно выделялся в мире вершителей добра, являл собой крепкий оплот на пути зла. Его сердце было открыто для всех, кто верил в то, что он проповедовал.
Однако, несмотря на его искреннюю симпатию к страждущим и на желание помочь, к спасению вела тропинка не шире телеграфного провода, и в отстаивании своего мнения Сэмюель был непреклоннее церковного столпа. Его буржуазный дух породил собственную, отвратительную и самодостаточную схему небес, и к ней он относился с эгоизмом и фанатизмом инквизитора. Вера была непреложным условием спасения, и под «верой» он подразумевал исключительно преданность его собственной версии — «тот же, кто не сохраняет ее неизменной и неподдельной, несомненно останется навеки потерянным»[41]Из «Символа веры», известного также под названием Quicunque, приписываемого Афанасию Александрийскому (IX в. н. э.).. Мир, оставшийся за пределами его единственной маленькой секты, должен был быть проклят навеки — жаль, но, увы, неизбежно. Прав был лишь он.
При этом он не переставал молиться и щедро подавал деньги нищим, да вот только придать величия своему мелкопоместному божеству никак не выходило. Он с ослиным упрямством придирался к вещам, к которым и комар носа не подточит, и все это с показным смирением «избранного», недосягаемым для простых смертных. Ко всему прочему он был церковным старостой — читал наставления в «обители» без органа, где было то зябко, то душно, где нельзя было надевать ризы и даже зажигать свечей, а воздух наполнял резкий запах умащенных волос мальчиков, которые заполняли задние ряды.
Для нас с Фрэнсис этот образ банкира олицетворял всех богатых и власть имущих неба и земли; впрочем, это, наверное, преувеличение — мы были людьми творческими и к типу людей деловых относились с недоверием и неприязнью, перерастающими в презрение. Большинство признавало Сэмюеля Франклина достойным человеком и порядочным гражданином. Без сомнения, это большинство смотрело на вещи трезвее нас. Еще пару лет — и он, возможно, получил бы титул баронета. Муж Мэйбл помог многим несчастным, но многих же и поверг в ужасные муки своими речами о вечном проклятии.
Будь в нем хоть капелька доброты — мы бы, возможно, не были столь жестокосердны; но не нашли в нем ничего стоящего снисхождения, хотя, признаю, не очень и старались. В тот единственный визит в Башни мы пропустили утреннюю воскресную молитву — и я никогда не забуду, с каким кислым видом он даровал нам прощение, выслушав наши оправдания. Моя сестра узнала, что вскоре после этого он стал «приносить молитвы» после завтрака, а не до него.
Башни мрачно возвышались на Сассекском холме посреди распланированного на современный манер парка. Стоит лишь отметить, что здание представляло собой помесь вычурной заросшей плющом норвудской виллы и угрюмого учреждения для инвалидов, мимо которого пристыженно пролетает поезд по пути из южной части Лондона в Сюррей. Дом был «богато» обставлен и представлял собой грандиозное зрелище для незнакомца, но человек более сведущий знал, что за этим скрывается пустая и нелюдимая личность его хозяина. На стенах того и гляди проступят Правила и Предписания, одобренные Порядком. Дом казался тюрьмой, отгораживающей жителей от внешнего мира. Конечно же, в доме не было ни бильярдной, ни курительной комнаты, ни помещения для игр какого-либо рода, а некогда служившая домовой церковью большая зала в глубине дома, которая могла бы использоваться для танцев, представлений и прочих невинных забав, отводилась Сэмюелем исключительно для богоугодных целей — главным образом встреч с добровольными пожарными, обществом трезвенников и миссионерами. В одном конце залы располагалась фисгармония, а в другом — возвышение, поверху шла галерея для слуг, садовников и кучеров. Зал обогревался трубами с горячей водой и был увешан гравюрами Доре — впрочем, последние вскоре были сняты и с глаз долой убраны на чердак как недостаточно одухотворенные. Зала, вся блестевшая полированным деревом, была уменьшенной копией небес, подогнанных Франклином под себя, и это накладывало отпечаток на все, за что ни брался банкир-благотворитель.
Фрэнсис поведала мне, что за тот год, что Мэйбл вдовствовала за границей, Башни претерпели существенные изменения: в большой зале появился орган, библиотека сделалась уютней и книги стало легче искать. Итак, можно было предположить, что через год Мэйбл вернулась к привычному образу жизни здорового человека: стала интересоваться развлечениями, спектаклями, музыкой, живописью — конечно, без налета легкомысленности, что говорило бы об отсутствии духовных интересов. Миссис Франклин, насколько я ее помнил, была женщиной тихой и, возможно, недалекой, легко внушаемой, но при этом по-собачьи искренней и верной в дружбе. В глубине души она была католичкой, и душа эта была нетребовательной и безыскусной. Каким бы модным движениям она ни следовала, это лишь означало, что она ищет, как может, веру, которая принесет ей мир и покой. В общем-то, она была самой заурядной женщиной, и широтой ума не могла сравниться с Фрэнсис. Я знал, что вместе они частенько обсуждали всевозможные теории, но знал также, что от дискуссий они ни разу не перешли к делам, — поэтому я довольно скоро признал Мэйбл безвредной. В общем, я не был тронут ни ее женитьбой, ни возобновлением их с Фрэнсис общения. Детей от банкира-благотворителя у нее не было, иначе бы она стала чувствительной и благоразумной матерью. Без сомнения, Мэйбл снова выйдет замуж.
— Мэйбл писала, что живет одна в Башнях с самого августа, — сказала Фрэнсис за чаем. — Уверена, она одинока и чувствует себя не в своей тарелке. Навестить ее было бы правильно. И потом, она мне всегда нравилась.
Я согласился, оправившись от приступа эгоизма, и выразил свое одобрение.
— И ты написала, что приедешь, — сказал я полуутвердительно.
Фрэнсис кивнула и тихо добавила:
— Я уже поблагодарила Мэйбл и от твоего имени, объяснив, что сейчас ты занят, но со временем, если она не против, присоединишься ко мне.
Я взглянул на нее в молчаливом изумлении. За Фрэнсис такое водилось: она частенько поступала так, как ей казалось правильным в данный момент. Меня заочно осудили и сослали к Мэйбл.
Разумеется, за этим последовали доказательства и объяснения, как это обычно бывает между любящими братом и сестрой, но едва ли пересказ таких бесед может быть интересен. Получившееся устраивало и меня, и Фрэнсис. Через два дня она отправилась в Башни, оставив меня в квартире, где все было призвано обеспечивать мой комфорт и добропорядочное поведение — все-таки Фрэнсис была тихим маленьким тираном, — и ее прощальные слова еще долго оставались в моем сердце после того, как она сказала их на вокзале Чаринг-кросс:
— Я напишу тебе и расскажу обо всем, Билл. Ешь как следует, береги себя и обязательно дай мне знать, если что-то случится.
Она помахала мне ручкой, затянутой в перчатку, наклонила голову в прощальном поклоне — перо на шляпке коснулось вагонного стекла, — и поезд умчал ее.
Глава II
После телеграммы, сообщающей о том, что Фрэнсис благополучно добралась до Башен, неделю не было никаких писем — но затем я получил пухлый конверт. Письмо оказалось полно разнообразных советов, как улучшить мое существование; внушительную часть послания составляли разного рода многословные описания, которые Фрэнсис так любила, с обилием выделенных слов.
«И мы совсем одни, — было выведено гигантскими буквами; крупный почерк сестры казался мне напрасным трудом и переводом бумаги, — хотя ожидаем гостей. Здесь ты сможешь поработать всласть. Мэйбл все прекрасно понимает и будет очень рада видеть тебя, как только ты сможешь приехать. Она немного изменилась: стала почти такой же, как прежде, и больше никогда не вспоминает мужа. Дом тоже изменился в некотором смысле: по-моему, здесь стало жизнерадостнее. Это Мэйбл привнесла жизнерадостность в непередаваемом количестве и старается распространить, если ты понимаешь, о чем я; но та остается наносной и не приживается. А вот орган прекрасен. Должно быть, Мэйбл теперь невероятно богата, но при этом она так же мила и предупредительна, как и раньше. Знаешь, Билл, мне кажется, Сэмюель взял ее испугом, вот Мэйбл и вышла за него замуж. По-моему, она его боялась». Последнее предложение было вымарано чернилами, но его все равно можно было прочесть: у Фрэнсис крупный почерк, и буквы не так-то просто зачеркнуть. «Сэмюель обладал железной волей, хоть и скрывал ее под приторной добротой, которая сходила за духовность. Та еще была личность. Уверена, живи мы несколькими столетиями раньше — и он с готовностью отправил бы нас с тобой на костер, причем для нашей же пользы. Нет, ну не странно ли вообще не говорить о бывшем муже, даже со мной?» Последнее вновь было зачеркнуто, но, думаю, не из желания вымарать предложение совсем, а, скорее, потому, что эта мысль повторялась. «Во всем доме есть одно-единственное напоминание о Сэмюеле — это копия его парадного портрета с лестницы Политехнического института в Пекхэме. Ну, ты знаешь его, это тот самый, в натуральную величину, где одна из его толстых рук, унизанная кольцами, покоится на Библии, а другая заложена за борт обтягивающего сюртука. Портрет висит в столовой и не дает спокойно есть. Мне так хочется, чтобы Мэйбл его сняла. Думаю, она бы так и сделала, если бы осмелилась. Вообще, во всем доме нет ни одной его фотографии — даже в ее собственной комнате. Миссис Марш тоже тут — помнишь, экономка Сэмюеля, ее муж еще был осужден на каторгу за убийство ребенка или что-то вроде того. Ты еще говорил, что она грабит Сэмюеля как может и оправдывает это тем, что в Библии тоже есть история о непорядочном управляющем! Как мы над этим потешались! Да, она все та же: бесшумно скользит по дому и появляется, когда ее меньше всего ожидаешь».
Подобные воспоминания тянулись еще на целую страницу и безо всякого намека на пунктуацию выливались наконец в инструкцию о том, как подогреть мою квартирку с помощью печки «Саламандер»; затем следовал список того, что я должен был приготовить; и просьба прислать ей те вещи, что она запамятовала взять с собой; среди прочего упоминались две блузки, описанные так пространно и противоречиво, что я даже вздохнул, пока читал о них. «Если ты собираешься приехать вскорости, то тебя, возможно, не затруднит захватить их с собой; мне нужна не та розовато-лиловая, которую я иногда надеваю по вечерам, а другая, бледно-голубая, с кружевным воротничком и жабо. Они в комоде — или в одном из ящиков шкафа, точно не уверена в каком, у меня в спальне. Спроси Энни, если не найдешь. Безмерно тебя благодарю. Главное, пошли телеграмму, не забудь, и мы встретим тебя на автомобиле в любое время. Не думаю, что я смогу проторчать здесь в одиночестве весь месяц. Все зависит от…» И так далее до самого конца, по мере приближения к которому число подчеркнутых слов все увеличивалось, равно как и заверений в том, что Мэйбл будет рада видеть меня «ради меня самого», а также заиметь «мужчину в доме» и что мне нужно всего-то телеграфировать день и поезд, на котором я собираюсь приехать… Письмо, пришедшее второй почтой, оторвало меня от увлекательной работы, и я, убедившись после поверхностного изучения, что происходящее не требует моего немедленного вмешательства, отложил конверт в сторону и вновь погрузился в свое чтение и записи. Впрочем, через пять минут я снова держал его в руках. Что-то тревожное, читавшееся «между строк», не давало мне покоя. Мой интерес к балканским государствам — заказанной мне политической статье — угас. Что-то тревожило меня. Я упорно продолжал работать, усиленно пытаясь сконцентрироваться, но вскоре обнаружил, что мое внимание поглощено чем-то в письме. Как будто промелькнула некая тень, которая рассеялась при ближайшем рассмотрении. Раз или два я поднимал глаза от бумаг, ожидая найти кого-то в комнате или увидеть в дверях Энни, заглянувшую за распоряжениями. На мосту громыхали омнибусы. Я живо ощущал происходящее на Оукли-стрит.
Черногория и голубое Адриатическое море утонули в октябрьском тумане, наползающем на унылую набережную, которая тщетно пыталась быть похожей на берег настоящей реки, и строчки письма пронеслись перед моим внутренним взором, заставив вздрогнуть. Взяв письмо и вчитавшись в него внимательнее, я звякнул колокольчиком и попросил Энни найти блузки и упаковать их для отправки по почте. Для этого пришлось, правда, показать ей само описание, почти сразу она с превосходством улыбнулась, перебила меня — «Я знаю их, сэр» — и испарилась.
Но волновался я не из-за блузок: меня выводило из себя что-то сокрытое между строк, и именно это, неуловимое и досадное, окончательно положило конец моей работе. Лишь первое яркое впечатление и важно в таких случаях, потому что стоит начать анализировать, как в воображении тут же начинают роиться всевозможные досужие догадки. Чем больше я размышлял, тем больше терялся. Мне казалось, что в письме заключен совсем другой смысл, чем передавали эти восемь страниц пространного текста. Я подошел к самому краю разгадки, но остановился.
Фрэнсис явно на что-то намекала, отчего я чувствовал себя неуютно. Впрочем, тщательное прочтение каждого предложения мне ничего не дало, а только еще больше запутало; беспокойство осталось, а брезжившая догадка исчезла. В конце концов я захлопнул книги и отправился в библиотеку Британского музея уточнить кое-что для себя. Возможно, удастся разгадать загадку таким образом — подкинув уму абсолютно другую задачу. Я пообедал неподалеку, в кафе-молочной на Оксфорд-стрит, и позвонил Энни, сказав, что приду к чаю, к пяти часам.
Когда я сидел за чашкой чая, уставший морально и физически после целого дня, проведенного в душном читальном зале Британского музея, меня неожиданно посетило новое чувство, яркое и ясное: откровение, ничем не подтвержденное, несмотря на зыбкость, было весьма убедительным. В голове у Фрэнсис беспорядок — в ее правильной, благоразумной голове домохозяйки; она была смущена, возможно, даже испугана чем-то в Башнях, и ей просто нужен был я. Если я не приеду, так необходимая ей передышка будет испорчена. Фрэнсис было неловко признаться в этом, поскольку эгоизм ей был несвойствен, но это читалось между строк. Теперь я ясно это понял. Кроме того, миссис Франклин — а это значит, что и Фрэнсис тоже — «мужчина в доме» не помешал бы. За этой неуклюжей формулировкой крылось что-то, о чем она не осмелилась написать прямо. Две женщины в огромном, неуютном доме были напуганы.
Оказались задеты чувство долга, братской любви, самоотречения (не знаю, как еще это назвать), прибавьте сюда еще и мое тщеславие. Я действовал быстро, чтобы никакое размышление не поколебало моего добропорядочного решения.
— Энни, — сказал я, когда девушка откликнулась на звон колокольчика, — не отправляй блузки на почту. Завтра я захвачу их с собой, когда поеду. Меня не будет неделю или две, а может, и дольше.
Отыскав в газете нужный поезд, я поспешил на телеграф, пока не успел передумать.
Однако той ночью желание передумать у меня не возникло. Я поступал так, как следовало. Можно даже сказать, что я спешил очутиться в Башнях как можно скорее. И выбрал поезд около двух часов дня.
Глава III
Фрэнсис телеграфировала мне, что я должен добраться до города в десяти милях от Башен, — это избавляло меня от участи тащиться на пригородном поезде, не пропускавшем ни одного полустанка, и я поехал экспрессом. Стоило выехать из Лондона, туман рассеялся, а осеннее солнышко хоть и не грело, раскрасило окружающие просторы в теплые желтые и золотисто-коричневые тона. У меня поднялось настроение, и я уютно устроился в роскошном купе, проносясь мимо лесов и зеленых живых изгородей. Как ни странно, от моей ночной тревоги не осталось и следа. Она, конечно, была следствием мнительности, которую подчас вызывают размышления в одиночестве. Мы с Фрэнсис не разлучались уже как год, а письмо из Башен рассказало мне так мало. Я тяжело переживал, что лишен близкого общения, к которому так привык. Мы очень доверяли друг к другу. Хотя Фрэнсис была всего на пять лет младше меня, я считал ее ребенком и относился к ней по-отцовски.
Она же ухаживала за мной с материнской нежностью, которая просто не могла надоесть. У меня не возникало никакого желания жениться, пока Фрэнсис была рядом. Она довольно сносно рисовала акварелью и вела домашнее хозяйство; я писал статьи, рецензии на книги и читал лекции по эстетике; мы были самым типичным союзом самодеятельных художников, совершенно довольных жизнью. Единственное, чего я боялся, так это чтобы Фрэнсис не стала суфражисткой[42]Участницы движения за предоставление женщинам избирательного права. или не была поймана в сети одной из диких теорий, порой захлестывавших ее сознание и одобряемых Мэйбл. Что до меня самого — без сомнения, она считала меня невозмутимым или непоколебимым — уж не помню, какое слово ей больше нравилось. Словом, мы достаточно отличались друг от друга, что разнообразило наше общение, но до ссор не доводило.
С наслаждением втягивая в себя холодный осенний воздух, я был счастлив и весел. Мне казалось, что я еду в отпуск, когда предвкушаешь отдых и не задумываешься о каждом потраченном сантиме.
Тем не менее мое сердце предательски екнуло, как только Башни показались в поле зрения. На фоне привычных полуотдельных[43]Некоторое время в селах Великобритании одним двухквартирным домом владело две семьи, причем у каждой был свой вход. Такие дома получили название «полуотдельных». загородных «резиденций» широкий подъезд к Башням, усаженный по краям недружелюбными араукариями и строгими веллингтониями, казался степенным и важным. Поэтому когда после очередного поворота дороги моему взору открылись Башни, мне показалось, что это начало скучной развязки истории, начавшейся так интересно и даже захватывающе. В ночном сумраке сквозь стену ливня проступили очертания особняка с претензией на лондонский Хрустальный дворец[44]Огромный выставочный павильон из стекла и чугуна, построенный в Лондоне в 1851 г. для «Великой выставки». В 1936 г. уничтожен пожаром., которые упрямо не собирались никуда исчезать. Плющ увивал добротные стены красного кирпича, но увивал слишком симметрично, чем заметно портил вид: так обычно декорируют тюрьмы или — сходство заставило меня улыбнуться — сиротские приюты. Не было ни намека на приличествующую дикому плющу беспорядочность, с которой он обычно наползает на стены старых зданий. Подрезанный и пущенный с пуританской строгостью, он будто украшал новехонькую протестантскую церковь. Готов поклясться, там не было ни одного птичьего гнезда, даже ни единой уховертки. Однако около крыльца плющ буйно разросся, почти закрыв светильник семнадцатого века, что выглядело довольно дико. Громадные теплицы тянулись по другую сторону от особняка; в многочисленных башенках, которым дом и был обязан своим именем, могли уместиться разве что школьные колокольчики; а подоконники, уставленные цветами в горшочках, навевали мысли об унылых пригородах Брайтона или Бексхилла. Из дома на самом гребне холма открывался вид на безбрежные холмистые и лесистые дюны южного Сассекса, но с севера от чистых порывов свежего ветра его отгораживали густые вечнозеленые заросли остролиста, падуба и бирючины. Поэтому дом хоть и стоял на возвышенности, не был открыт взору. Целых три года прошло с того момента, как я видел Башни последний раз, но на деле дом оказался не краше образа, застрявшего в моей памяти. Печальная картина.
Я не стыжусь вслух заявить о том, что меня раздражает, но в тот раз, раскутавшись из дорожных пледов и войдя в дом, я только вздохнул: «Господи!» Меня встретили высокая горничная с выправкой гренадера и миссис Марш, экономка, которую я узнал исключительно по неопрятным кудряшкам на затылке — мне всегда казалось, что их кто-то подпалил. Хозяйка уже одевалась к обеду, я сразу же проследовал в свою комнату, а Фрэнсис зашла поприветствовать меня. Я как раз боролся с черным галстуком, запутавшимся, как шнурок для ботинок. Фрэнсис завязала его аккуратным, впечатляющим бантом, и в то время, как я старательно задирал подбородок и безучастно таращился в потолок, мне пришло в голову — интересно, не ее ли прикосновениями была вызвана эта мысль? — что Фрэнсис внутри вся дрожит. Или затаилась — да, пожалуй, вот правильное слово. При этом на ее лице не дрогнул ни один мускул, она не выказала никакого беспокойства: мило беседовала, приводя в порядок мои вещи, журя, по привычке, за неумение уложить чемодан и расспрашивая о прислуге в нашей квартирке. Хоть я и нашел нужные блузки, они изрядно помялись в пути, и упреки сестры были справедливы. Фрэнсис не выказала даже нетерпения. Однако ощущение затаенности и скрытности не исчезало. Конечно, Фрэнсис одиноко, но причина не только в этом; она обрадовалась моему приезду, но мне казалось, что по каким-то неясным причинам без меня ей было бы лучше. Мы обсудили немногие происшествия за время нашей короткой разлуки, и мимолетная тревога прошла.
Моя комната была огромна и замечательно меблирована; гостиная и столовая нашей старой квартирки легко бы уместились в ней, вместе взятые; тем не менее здесь я вряд ли смогу спокойно работать. Неуютное пространство навевало мысль о непостоянстве, в нем я чувствовал себя так, будто остановился переночевать в гостинице. С этим ничего не поделаешь. Даже в гостиницах некоторые номера наполнены уютным, спокойным радушием, но не эта комната. А так как я привык работать там же, где и сплю, по крайней мере в гостях, то, по-видимому, морщинка неодобрения пролегла у меня меж бровей.
— Мэйбл обставила для тебя кабинет, прямо рядышком с библиотекой, — проницательно сказала Фрэнсис. — Никто не потревожит тебя там, а всегда под рукой будет пятнадцать тысяч книг, тщательно учтенных в каталоге — ты с легкостью отыщешь нужную. Кроме того, туда ведет отдельная лестница. Ты сможешь завтракать у себя в комнате и спускаться в кабинет в халате, если захочешь.
Фрэнсис засмеялась. Мое настроение улучшилось так же внезапно, как и испортилось.
— А как ты? — спросил я, запоздало чмокнув ее в щечку. — Какая радость снова быть вместе. Признаюсь, мне тебя так не хватало.
— Естественно, — засмеялась Фрэнсис. — И я рада.
Она очень хорошо выглядела: на щеках деревенский румянец. Фрэнсис рассказала мне, что ела с аппетитом и хорошо спала, иногда выходила с Мэйбл проветриться, вернулась к ландшафтным зарисовкам, что она счастлива такой перемене и отдыхает всей душой; правда, несмотря на весь этот воодушевленный рассказ, ее слова показались мне неискренними. В особенности последние. В этой фразе было что-то невысказанное, я чувствовал, отчего ее смысл менялся с точностью до наоборот: Фрэнсис не отдохнула, она чего-то боится, ей тревожно. Какие-то струны внутри нее были перетянуты. Она взвинчена до предела — эта разговорная фраза молнией пронеслась в голове. Я испытующе посмотрел сестре в глаза, будто она сама мне только что призналась.
— Разве что… вечерами, — добавила Фрэнсис, заметив вопрос в моем взгляде и отводя глаза, — вечера, они… ну, иногда мне тяжеловато по вечерам, меня клонит ко сну, и я едва не засыпаю.
— Это чистый деревенский воздух после душного Лондона навевает на тебя сон, — предположил я, — и тебе хочется пораньше лечь спать.
Фрэнсис повернулась и минуту смотрела на меня не отрываясь.
— А с другой стороны, Билл, мне совсем не нравится спать — здесь. И Мэйбл тоже ложится рано, — сказала Фрэнсис как бы между прочим, при этом перебирая вещи на моем туалетном столике так бестолково, что стало ясно: она думает совершенно о другом и целиком поглощена этими размышлениями.
Вдруг она оторвалась от щеток и ножниц с очень обеспокоенным видом.
— Билли, — отрывисто произнесла Фрэнсис, понижая голос, — тебе не кажется странным, что я не могу спать здесь в одиночестве? И не могу разобраться отчего. Никогда в жизни не чувствовала ничего подобного. Как ты… как ты думаешь, это вздор?
И она засмеялась, но лишь губами, не глазами, как будто бросала какой-то вызов, но я не понимал какой.
— Что бы ни чувствовал человек вроде тебя, Фрэнсис, вздором это быть не может, — ответил я успокаивающе.
Однако и я ответил только губами, так как мое сознание было поглощено совершенно другими думами — и не очень приятными. Я почувствовал что-то вроде замешательства, потому что просто не знал, что говорить дальше: если рассмеюсь, она мне больше ничего не расскажет, а если приму происходящее слишком серьезно, то струнки в ее душе натянутся еще больше. Тем более что ощущаемое ею чувствовал и я, хоть и воспринимал иначе. Чувство это было так же неопределенно, как приближение дождя или бури, за много часов до своего прихода наполняющих воздух тревожным напряжением. Я не пробыл в доме и часа — в этом огромном, хорошо меблированном, роскошном доме, — но при этом уже чувствовал себя не в своей тарелке. Подобное непостоянство должны испытывать путешественники, остановившиеся в гостинице, но никак не человек, приехавший погостить к друзьям, будь его визит долог или короток. У впечатлительной Фрэнсис это вызывало смятение. Она не любила спать в пустой комнате, даже если сильно клонило ко сну. Какая-то идея вертелась у меня в голове, но я никак не мог ухватить ее целиком, однако выходило, что мы с Фрэнсис чувствуем одно и то же, но не понимаем, что именно.
Впрочем, как бы мы ни беспокоились, пока ничего не происходило.
Некоторое время я пребывал в странной растерянности. Мне показалось только, что Фрэнсис не мешает подбодрить.
— Спать в незнакомом доме, — наконец ответил я, — поначалу всегда тяжеловато, чувствуешь себя таким одиноким. После пятнадцати месяцев в нашей крохотной квартирке кому угодно покажется, что он одинок и брошен — в таком-то большом доме. Неприятное чувство, я хорошо его знаю. А этот дом — сущая казарма, ну разве нет? Башни набиты мебелью, а уюта это не придает. Однако не стоит предаваться нелепым фантазиям, даже если…
Фрэнсис перевела взгляд на окно; она казалась немного разочарованной.
— После нашего густонаселенного Челси, — быстро продолжил я, — тут совершенно безлюдно.
Но Фрэнсис продолжала смотреть в окно, и стало очевидно, что я ляпнул совсем не то. Неожиданно меня захлестнула волна жалости. А может, сестра и вправду испугана? Фрэнсис, конечно, была впечатлительной девушкой, но мнительной — никогда; ей несвойственно было поддаваться пустым тревогам, хотя порой она и волновалась ни с того ни с сего. Теперь я улавливал отзвуки охватившей ее всеобъемлющей тревоги. Лес подступал прямо к моему балкону — угрюмый и неясный в спускающихся сумерках, и Фрэнсис не могла оторвать от него взгляда. Глубокие тени накрыли комнату, и я вообразил, что они поднялись из-под земли. Проследив за отсутствующим взглядом сестры, я испытал удивительно острое желание уехать, убежать. По ту сторону окна — ветер, пространство и свобода. В огромном же здании было тягостно, тихо и неподвижно.
Мне померещились бесконечные лабиринты, подземные катакомбы, плен и неволя. Полагаю, я даже содрогнулся.
Я тронул Фрэнсис за плечо. Она медленно повернулась, и мы задумчиво посмотрели друг другу в глаза.
— Фанни, — сказал я куда серьезнее, чем собирался, — ты не испугана, нет? Что-нибудь случилось, не так ли?
— Конечно нет! — ответила она почти с вызовом. — Как я могла… то есть, почему я должна была пугаться?
Она запнулась, словно собственная оговорка ее смутила.
— Это просто… мой ужа… мое нежелание спать в пустой комнате.
Естественно, моей первой мыслью было уехать из Башен немедля, но я оставил ее при себе. Будь такой выход правильным, Фрэнсис сама бы мне о нем сказала.
— А Мэйбл не хочет составить тебе компанию и лечь в той же комнате? — спросил я вместо того, чтобы предложить уехать поскорее. — Или в соседней, оставив дверь открытой? Здесь бог знает сколько места.
Снизу раздался звук обеденного гонга, и тут Фрэнсис с усилием выговорила:
— Мэйбл предлагала… на третью ночь… когда я пожаловалась. Но я отказалась.
— Тебе лучше быть одной, чем с ней? — спросил я с некоторым облегчением.
Ее ответ прозвучал очень серьезно, даже ребенок понял бы, что в нем кроется нечто большее:
— Нет, но ей не слишком хочется этого.
В этот момент во мне пробудился голос интуиции и я спросил:
— Она тоже это чувствует, но хочет пересилить?
Сестра склонила голову, и это движение неожиданно заставило меня осознать, как серьезна и важна оказалась наша беседа, хотя некоторые важные вещи и не обсуждались. Тон изменился неуловимо, как постепенное изменение температуры. Отчего — непонятно, нащупать причину не удавалось ни мне, ни сестре. По виду ничего не случилось, и наши слова ничего не выявили.
— Так мне показалось, — сказала Фрэнсис, — ведь стоит только уступить, будет только хуже. Привычки так легко приобретаются. Только представь, — добавила она со слабой улыбкой, впервые попытавшись повернуть беседу в менее тягостное русло, — как было бы неудобно — с какой стороны ни посмотри, — если бы все боялись оставаться одни — как мы.
Я с готовностью ухватился за эту фразу. Мы коротко рассмеялись, хотя смех тут прозвучал приглушенно и неестественно. Я взял Фрэнсис за руку и проводил до двери.
— И вправду, это было бы катастрофой, — согласился я.
Она заговорила громче.
— Без сомнения, это пройдет, а теперь вот и ты приехал. Конечно, это все мое воображение. — Она говорила очень несерьезно, однако теперь ничто не могло убедить меня в том, что и само дело было таким же несерьезным. — Да и в любом случае, — заметив на выходе из просторного ярко освещенного коридора миссис Франклин, ожидавшую нас в угрюмом холле внизу, сестра сильнее сжала мою руку, — я очень рада, что ты тут, Билл, и Мэйбл, я уверена, тоже рада.
— Если это не пройдет, — у меня как раз было время на жалкую попытку развеселить Фрэнсис, — то я приду ночью и буду храпеть прямо у тебя под дверью. После этого тебе так захочется избавиться от меня, что ты будешь совсем не прочь остаться в одиночестве!
— Договорились, — сказала Фрэнсис.
Я пожал руку Мэйбл и отпустил полагающееся в таких случаях замечание о радости встречи после долгой разлуки. Сетуя в глубине души на порыв, заставивший нас покинуть свою уютную квартирку ради этого уединения богачей и фальшивой роскоши, где придется неведомо сколько еще оставаться, я проследовал за женщинами в огромную обеденную залу, тускло освещенную свечами. Над огромной каминной доской висел уродливый портрет покойного Сэмюеля Франклина, эсквайра, который таращился сверху вниз прямо на меня из дальнего конца комнаты.
Он смотрелся завзятым Небесным Дворецким, который отказал всему миру, в том числе и нам, в праве посещать его без специальной пригласительной открытки, подписанной им собственноручно в доказательство того, что мы принадлежим к его собственному ограниченному кругу. Остальное большинство, к его великой скорби и несмотря на его молитвы в их поддержку, должно было сгореть и «остаться навеки потерянным».
Глава IV
Благодаря природной привычке холостяка я всегда старался свить себе гнездышко, где бы и сколько бы я ни находился. В гостях, останавливаясь на съемной квартире или в гостинице, первым делом я всегда старался обосноваться там — расставлял повсюду собственные вещи, вроде птички, что устилает гнездо своими перышками. Центральной деталью в моем интерьере всегда были не кровать и не гардероб, не диван и не кресло, а огромный крепкий письменный стол, без изгибов и с большой столешницей, что другим могло показаться безотрадным и неуютным.
Башни для меня ярко характеризовались уже одним тем фактом, что я не мог «обосноваться» в них.
Признать этот факт пришлось через несколько дней безуспешных попыток, первое ощущение непостоянства было куда сильнее, чем я подозревал. Перышки отказывались ложиться одно к другому. Они топорщились, путались и не слушались.
Роскошная обстановка совсем не означает уюта — с таким же успехом я мог попробовать устроиться в отделе мягкой мебели большого магазина. В спальне было еще терпимо, настоящим изгоем чувствовал я себя в кабинете, приготовленном исключительно для меня.
Внешне лучше нечего было и желать: в библиотеке стоял даже не один, а два стола благородного дуба, не считая множества маленьких столиков, расставленных напротив стен с вместительными комодами.
Были там и журнальные столики, и механические устройства для поддержки книг, совершеннейший свет, тишина, как в церкви; никто меня тут не потревожил, даже чтобы войти туда, нужно было пересечь огромный сопредельный зал. При всем том библиотека не манила.
— Надеюсь, вы сможете работать здесь, — сказала маленькая хозяйка большого дома следующим утром, когда отвела меня в библиотеку (то был единственный раз, когда Мэйбл переступила ее порог за все время моего пребывания), и показала мне десятитомный каталог. — Тут совершенно тихо, и никто вас не побеспокоит.
— И если ты не сможешь работать здесь, Билл, значит, с тобой что-то не в порядке, — рассмеялась Фрэнсис, которая держала Мэйбл за руку. — Даже я смогла бы трудиться в подобном кабинете!
Я с удовольствием оглядел просторные столы, стопки промокательной бумаги, линейки, банки с сургучом, ножи для бумаг и остальные безукоризненные принадлежности.
— Само совершенство, — ответил я с тайным трепетом, чувствуя себя несколько по-дурацки. Все это куда больше приличествовало Эдварду Гиббону[45]Английский историк XVIII века. Прославился шеститомным изданием «Истории упадка и разрушения Римской империи». В его трудах блестящий литературный стиль и увлекательность повествования соединились с высоким уровнем критического анализа. и Томасу Карлайлу[46]Шотландский историк и эссеист XIX в., чьи работы были весьма влиятельны в викторианскую эпоху., чем моим литературным штудиям.
— Если я не напишу здесь шедевра, то, конечно уж, не по вашей вине, — я с благодарностью повернулся к миссис Франклин.
Она смотрела прямо на меня, и в ее маленьких блеклых глазах читался вопрос, который я так и не понял. Интересно, она заметила, какой эффект был на меня произведен?
— Но вы что-нибудь здесь напишете… может, даже историю о Башнях, — сказала Мэйбл. — Томпсон снабдит всем необходимым; стоит только позвонить. — Она указала стол посередине, по ножке которого аккуратно спускался электрический шнур от звонка. — До вас здесь никто не работал, да и вообще библиотекой вряд ли пользовались с момента основания. Надеюсь, здешняя атмосфера не окажет на ваше воображение… отрицательного влияния.
Мы рассмеялись.
— Билл не из тех, — сказала сестра, а я только и ждал, чтобы они наконец вышли, позволив мне обставить гнездышко и приступить к работе.
Конечно, я думал, что именно огромная библиотека заставляет меня чувствовать себя таким ничтожным: пятнадцать тысяч молчаливых, безмолвных книг, мрачные проходы между стеллажами, глубокие, красноречивые полки. Но когда женщины вышли и я остался один, истина начала приоткрываться, и я почувствовал первый намек того уныния, которое вскоре остановило работу окончательно. Сознание как будто захлопнулось, образы перестали возникать и течь. Я читал, что-то выписывал, но ни строчки не выдавил из себя в Башнях.
Здесь ничего не завершалось. Ничего не двигалось с мертвой точки.
Утренний свет заливал библиотеку, проникая через десяток узких окон, пели птицы; осенний воздух, напоенный тонким ароматом ноябрьской грусти, приятно будоражащей воображение, заполнял мой закуток. Я взглянул на окружавший дом лес, окаймленный вдали известковыми холмами, и почувствовал запах моря. Кричали грачи, пролетая над вязами, а ближе, на лугу, паслись ленивые коровы. Раз десять я пытался обустроить гнездо и приступить к работе и еще десяток переставлял кресло поудобнее, перекладывал книги и бумаги, вроде привередливой собаки, которая никак не может улечься на коврике у камина и все вертится. Величина собрания книг, конечно, многое объясняла, но… С подобным соблазном справиться все же не так трудно. К тому же для моей работы не требовалась полная сосредоточенность; достаточно было сделать собранные данные удобочитаемыми. Записные книжки полнились фактами, готовыми занять место в таблице, причем они меня живо интересовали. Необходимо было хоть малейшее усилие воли, и сосредоточиться не составило бы труда. Но меня как будто что-то останавливало: что-то постоянно сваливало факты в беспорядочную кучу — и, обложившись книгами, отобранными с ближних полок, я безвольно сидел в струящихся из окон солнечных лучах, не в силах даже радоваться находкам. Хотелось оказаться где угодно, только не здесь.
Даже во время чтения внимание мое блуждало. Фрэнсис, Мэйбл, ее бывший муж, этот дом, угодья, по очереди, а порой и все вместе, без приглашения возникали в потоке мыслей, мешая последовательному течению работы. Без всякой связи появлялись эти образы, отвлекая меня, представая осколочными фрагментами чего-то большего, что мозг уже неосознанно нащупал. Они порхали вокруг скрытого объекта, частями, неуловимыми интерпретациями которого были, но ни один не давал полного объяснения. И подобрать определение — приятно, к примеру, или неприятно — к чувству, выбивавшему меня из колеи, тоже не удавалось. Неясное, как привидевшийся сон, но неотступное, оно никак не хотело рассеиваться.
Отдельные слова или фразы из прочитанного порождали вопросы, на которые мозг никак не мог найти ответа — верный признак душевного беспокойства.
Вопросы возникали довольно тривиальные — даже глуповатые, как у озадаченного или любопытного ребенка: «Почему сестра боится спать одна? И почему подруга, чувствуя похожее беспокойство, все же пытается справиться с ним? Почему в продуманной роскоши дома нет уюта, нет ощущения постоянства? Почему миссис Франклин попросила приехать нас, художников, неверующих скитальцев, меньше всего похожих на спасенных овечек из окружения ее мужа? Может, это была реакция на ее поспешное обращение в веру?» Я не замечал в ней ни капли религиозного рвения; она производила впечатление благородной, но все же мирской женщины. Может, слегка отрешенной, во всяком случае, никакого определенного впечатления она на меня не производила. И мысли побежали вдогонку за этой ускользающей нитью.
Захлопнув книгу, я погрузился в размышления. Случайная догадка привела к открытию: эту женщину никак не разглядеть — невозможно почувствовать, что у нее на душе, не поймешь, что за личность. Ее лицо, маленькие блеклые глаза, платье, тело, походка — все было четко, как на фотографии, но сама она ускользала. Казалось, что ее нет здесь, осталась только безжизненная, пустая оболочка, тень, ничто. Картинка получилась неприятной, и я отбросил ее. Мэйбл тотчас растаяла, как вызванный воображением фантом, который не имеет реального прототипа. И, странно, в тот же момент я заметил ее, тихо проходившую под окном, по гравийной дорожке. Тогда мною завладело новое ощущение: «Вот идет пленница, которая хочет освободиться, но не может».
Одному Богу известно, как возникла эта нелепая мысль. Мэйбл сама выбрала этот дом, стала дважды наследницей, и мир лежал у ее ног. И все же оставалась несчастной, испуганной, пойманной в силки. Яркий образ запечатлелся в памяти, несмотря на всю его абсурдность. Минутой позже пришло объяснение, хотя оно и казалось притянуто за уши. Мне свойственно рассуждать логически, и волей-неволей пришлось что-то подыскать. Одевшись явно для дальней прогулки — ботинки, тросточка и подвязанная шарфом шляпка, будто миссис Франклин собиралась прокатиться с ветерком, — дама тем не менее кружила по садовым дорожкам. Этот костюм был фальшивкой, обманом. А ее манера быстро, беспокойно двигаться вызывала в уме образ существа в клетке, укрощенного страхом и жестокостью, замаскированными под доброту, которое ходит взад-вперед, не в силах понять, почему его здесь держат, и все время натыкается на одни и те же прутья. Разум Мэйбл был взаперти.
Я смотрел, как она шла по тропинке, затем спустилась по ступенькам с одной террасы на другую, пока лавровые деревья не скрыли фигуру из виду; и в тот же момент ее мысленный образ приобрел какой-то неприятный оттенок, которому разум, как ни старайся, не мог подыскать никакого объяснения. Потом мне вспомнились и другие мелочи, сложившиеся воедино. Если не искать намеренно ключи к разгадке, иногда кусочки головоломки случайно складываются сами собой, приводя к открытию. Так и сейчас на секунду вспыхнула важная, тревожная мысль и тут же исчезла, прежде чем я успел ее обдумать. Осталось только впечатление нависшей Тени.
Темная, отталкивающая, гнетущая — вот как можно было ее охарактеризовать, с рваными краями, наводящими на мысль о боли, раздоре, ужасе. В памяти возник виденный много лет назад в Нью-Йорке коридор тюрьмы, два ряда камер, заполненных арестантами, но какая связь между этими образами — ума не приложу. А другие мелочи, упомянутые выше, были следующими: миссис Франклин, в беседе за вчерашним ужином, называла особняк «этим домом», ни разу не назвав его своим, и без всякой необходимости для благовоспитанной женщины подчеркивала нашу «огромную доброту», поскольку мы приехали сюда и остаемся с ней так долго. В другой раз, в ответ на мой пустячный комплимент о «величественных комнатах» она тихо сказала:
— Этот дом слишком огромен для нас троих; но я не намерена оставаться тут долго; только если налажу все снова.
Тогда мы поднимались по широкой лестнице на второй этаж, собираясь лечь спать, и, не совсем уловив, что имелось в виду, я не поддержал разговор, но почувствовал, что коснулся деликатной темы. И Фрэнсис промолчала. Сейчас же мне вдруг пришло в голову, что «жить» звучало бы более естественно, чем «оставаться». Какой пустяк! Но почему он всплыл именно в этот момент?..
И, направившись пожелать спокойной ночи сестре, я неожиданно понял, что миссис Франклин продолжала какой-то начатый разговор, мне как гостю неведомый. Фрэнсис ничего мне не рассказала. Я легко мог выведать у нее суть, но чувствовал, что не стоит обсуждать с ней дом и хозяйку, потому что мы находимся под одной крышей и это было бы не очень красиво.
— Я позвоню, Билл, если испугаюсь, — со смехом сказала она на прощание.
Моя комната находилась прямо напротив через коридор. И я уснул, все размышляя, что значат слова «наладить все снова».
На следующее утро, пока я сидел в библиотеке, перед кипами бумаги и так и не пригодившихся промокательных листков без единого пятнышка, те самые легкие подозрения, вновь подкравшись, помогли придать форму большой, расплывчатой Тени, о которой уже упоминалось. Воображению представилась ступающая по воде хозяйка в прогулочном платье, которую Тень закрывала по шею. Мы с Фрэнсис, кажется, плывем ее спасать. Тень была такая большая, что в ней помещались и дом, и угодья, но дальше этого ничего нельзя было разглядеть… Отделавшись от видения, я снова уткнулся в книгу. Но не успел я перевернуть страницу, как в глаза бросилась новая тревожная деталь: миссис Франклин в этой Тени была неживой. Она перебирала ногами, как безжизненная кукла или марионетка. Зрелище было жалкое и ужасное одновременно.
Каждому, кто забылся в мечтах, конечно, могут привидеться подобные нелепые картинки, когда стройная схема мира рушится из-за ослабления воли. Наверное, так можно объяснить абсурдность грез. Я просто описываю то, что помню. Причем картинка не оставляла меня еще несколько дней, хотя я не позволял себе зацикливаться. Любопытно, что с этого момента я все больше склонялся к мысли уехать. Я нарочно говорю «уехать».
Не могу припомнить, когда эта мысль переросла в безумное желание — немедленно бежать.
Глава V
Мы наслаждались уединением в этом претенциозном загородном особняке, похожем на виллу. Фрэнсис снова взялась за живопись, и поскольку погода благоприятствовала, проводила на свежем воздухе долгие часы, делая наброски цветов и деревьев в укромных уголках леса и сада, зарисовывала даже дом, который местами многозначительно проглядывал сквозь заросли. Миссис Франклин казалась вечно занятой то одним, то другим и никогда не сталкивалась с нами, кроме тех случаев, когда предлагала прогулку на автомобиле, чай на лужайке или что-то в этом духе. Она мелькала повсюду, очень занятая, но, похоже, ничего не делала. Дом не отпускал ее. Никто не приходил в гости. С одной стороны, соседи мужа думали, что она еще за границей, а с другой — были сбиты с толку внезапным прекращением благотворительности с ее стороны. Духовные общины и общества трезвенников перестали обращаться за разрешением устроить собрания в большом зале, и викарий развернул просветительскую активность на другой ниве.
По сути, о человеке, который жил здесь, продолжали напоминать лишь портрет в столовой и управляющая с «палеными» на затылке волосами. Миссис Марш сохранила место у хорошо оплачиваемой кормушки, не выказав даже молчаливого осуждения действий новой хозяйки, которого можно было ожидать от нее. На самом деле ничего подлежащего осуждению и не было, поскольку ничего «светского» во владения не проникло. При жизни хозяина она была очередной «головней, исторгнутой из огня», и миссис Марш привыкла возглашать «свидетельство Святого Духа» на собраниях ревивалистов, где господин Франклин украшал собой подиум, увлекая собравшихся в потоке молитвы. Мне приходилось встречать ее на лестнице, рассеянно бредущую, как будто она все еще ждала возвращения хозяина, являя собой живое звено с усопшим. Она единственная из всех нас была своя в доме и воспринимала его как родное жилище. Когда я заметил почтительно-благоговейную мину на ее лице при разговоре с миссис Франклин, сразу почувствовал: несмотря на видимую смиренность, она все еще имеет какое-то влияние на хозяйку, словно не отпускающее ее из дома ни на шаг. Насколько в ее силах, она станет и дальше задерживать ее здесь, мешать «наладить все снова», расстраивать планы освободиться. Но эта мысль очень быстро улетучилась.
Однако в другой раз, когда я поздно вечером спустился взять книгу из библиотеки и наткнулся на миссис Марш, сидящую в зале — в одиночестве, — мимолетное впечатление сменилось на противоположное. Никогда не забуду, какой сильный, неприятный эффект это произвело на меня. Что она делала там в полдвенадцатого ночи, в полной темноте, совсем одна? Прямая, собранная сидела в большом кресле под часами. Я просто испытал нервное потрясение. Все это было так нелепо, так странно. С книгой я ступил на лестницу, и тут миссис Марш тихо встала, учтиво спросив — с опущенными, как обычно, долу глазами, — закончил ли я работать в библиотеке и можно ли ее уже закрывать. Больше ничего не случилось, но картинка неприятно врезалась в память.
Упомянутые впечатления посещали меня, естественно, в разное время, и не в такой простой последовательности, как я повествую о них. Я погрузился на три дня в работу: правда, ничего не писал, но читал, делал заметки, подбирал материалы на будущее из библиотеки. Именно в такие моменты возникали эти странные видения, застигая врасплох своей неожиданностью и иногда пугая меня. Все потому, что они доказывали: Тень еще не ушла из подсознания, а причина лежала далеко за пределами видимости, оставляя меня в смутном волнении, выбитым из колеи, рыщущим в поисках «уютного гнездышка» в доме, который меня отталкивал. Наверное, только по достижении гармонии в этой глубинной части разума возможна продуктивная умственная деятельность — вот чем объясняется моя писательская немощь.
И я постоянно искал здесь то, что никак не мог найти, — объяснение, которое непрерывно ускользало от меня. Ничего, кроме пустяковых намеков, не являлось. Однако они все же как-то очерчивали границы Тени. Я все больше убеждался в ее самом реальном существовании. И если я ни словом не обмолвился с Фрэнсис или хозяйкой дома по этому поводу, то только потому, что они вряд ли помогли бы разобраться. Наша жизнь была вся на виду, нормальная, тихая, небогатая событиями, а общение — и вовсе банальным, особенно с миссис Франклин. Ни она, ни сестра не сказали ничего, что подтолкнуло бы к раскрытию тайны.
Они обе пребывали в Тени, и обе знали об этом, но ни словом, ни делом не выдали и намека на объяснение. Между собой они, несомненно, говорили, но об этом мне ничего не известно.
Вот так случилось, что через десять дней самого обычного визита я обнаружил, что смотрю прямо в лицо неизвестности, которая открыто сопротивляется поимке.
«Здесь таится что-то неосуществимое, — подумалось мне, — и поэтому ни один из нас не может говорить о нем».
И когда, выглянув в окно, я увидел простых грачей, неспешно, косолапо переступая, ковыряющих лужайку в поисках земляных червей, то вдруг остро осознал, что даже они, как и все от мала до велика в доме и на угодьях, разделяют здешнюю тайну, и из-за этого внешне искажены, отличаясь от нормы. Божественные намерения были здесь искалечены, Его любовь к радости здесь зачахла. Ничто в саду не пело и не плясало.
Во всем чувствовалась ненависть. «Тень, — быстро пришел я к заключению, — это проявление ненависти; а ненависть — это дьявол». И, испуганный, снова сел в кресло, потому что понял, что частично нащупал истину.
Бросив книги, я вышел на свежий воздух. Небо было пасмурно, хотя день никоим образом не казался мрачным, мягкий, рассеянный свет сочился сквозь облака, окрашивая все вокруг в почти по-летнему теплые тона. Но теперь я видел земли без прикрас, потому что понял: ненависть подразумевает раздор, а вдвоем они плетут одеяние страха. Не имея особых религиозных убеждений, без пристрастия к набору догм какого-либо вероучения, я мог вынести эти чувства и наблюдать за происходящим со стороны. Однако они задевали и меня за живое, что помогало сочувствовать другим, с более стесненными душами (тут я себе льстил). Портрет почившего хозяина Башен преследовал меня повсюду: прятался за каждым деревом, следил за перемещениями с безобразных остроконечных башенок, оставляя отпечаток своей властной руки на каждой клумбе.
«Не следует нарушать», — носилось в воздухе рядом со мной. «С дорожек не сходить», — жестко говорили черные железные ограды. «Траву не мять», — было написано на лужайках. «Держись поближе к ступенькам». «Не рви цветы; не смейся громко, не шуми, не пой, не танцуй», — пестрел плакатами весь розарий. А от верхушки араукарии до остролиста тянулась надпись: «Нарушители будут без суда и следствия уничтожаться на месте». По краям каждой террасы стояли на страже суровые, безжалостные полицейские, надзиратели, тюремщики. «Повинуйся, — скандировали они, — или будь проклят навеки».
Помню, что почувствовал некое удовлетворение, когда обнаружил явное толкование этого места как тюрьмы. То, что посмертное влияние строгого старика Сэмюэла Франклина может оказаться недостаточным объяснением местных странностей, не пришло мне тогда в голову. Под «налаживанием» его вдова, конечно, понимала попытки снять чары страха и навязанных угнетающих убеждений, а Фрэнсис, по своей деликатности, не говорила об этом, поскольку влияние исходило от человека, которого любила подруга. Я чувствовал воодушевление, освободившись от бремени. «Делать неизвестное известным, — всплыла в памяти фраза, которую я где-то вычитал, — значит понимать». Это было настоящее облегчение. Теперь я мог говорить с Фрэнсис, и даже с хозяйкой, без всякого опасения затронуть больную тему. Ключ был в руках. Казалось, что наше длительное пребывание здесь оправдано!
Я вошел в дом, слегка посмеиваясь над собой. «В конечном счете взгляд художника, не обремененный жесткими догмами, не намного шире, чем у прочих! До чего узколобо человечество! И почему нельзя добиться верной комбинации всех мировоззрений?»
Однако, несмотря на масштаб совершенного открытия, чувство «неустроенности» во мне не улеглось. На лестнице я столкнулся с Фрэнсис, которая несла под мышкой папку набросков.
И тут я вдруг понял, что она не показала мне пока ни одной работы, хотя сделала много набросков. Это было очень странно, неестественно. Она попыталась пройти мимо, что подтверждало зародившееся подозрение — ее успехи на этом поприще едва ли соответствовали ожиданиям.
— Стой, сдавайся! — рассмеялся я, шагнув навстречу. — Я не видел ни одного рисунка с тех пор, как приехал, а ты ведь, как правило, показываешь мне все. Уверен, они отвратительны, хуже и быть не может!
И тут смех застрял у меня в горле.
Сестра ловко проскользнула мимо меня, и я уже почти решил ее отпустить, как вдруг, взглянув на вспыхнувшее лицо, просто поразился. Она выглядела смущенной и пристыженной; краска на секунду залила щеки, напомнив мне ребенка, уличенного в какой-то тайной шалости. От нее исходил чуть ли не страх.
— Это потому, что они еще не закончены? — смягчив тон спросил я. — Или потому, что слишком хороши для меня, непосвященного?
Как-то она говорила, что моя критика в отношении живописи иногда груба и безграмотна.
— Но ты позволишь взглянуть на них позже, правда?
Фрэнсис, однако, не приняла предложенного спасения. Она вдруг передумала. И вытащила из-под мышки папку.
— Можешь взглянуть, если действительно хочешь, Билл, — тихо сказала она, и ее тон напомнил мне сиделку, которая говорит юноше, только что выросшему из детских лет: «Ты уже достаточно взрослый, чтобы видеть ужас и уродство, но я не советую».
— Правда хочу, — сказал я, повернувшись, чтобы спуститься с ней.
Но она ответила так же тихо:
— Поднимемся в комнату ко мне, там никто не помешает.
И я догадался, что она шла показать рисунки нашей хозяйке, но не хотела, чтобы мы смотрели их втроем. Мозг работал с бешеной проницательностью.
— Меня попросила сделать их Мэйбл, — пояснила она со смиренным страхом, как только закрылась дверь, — просто умоляла. Знаешь, как она умеет тихо просить — так настойчиво. Я… э-э… была вынуждена.
Она покраснела и открыла папку на маленьком столике у окна, стоя позади меня, пока я перелистывал страницы: зарисовки земель, деревьев и сада. В первые минуты просмотра я не понял, чем задел чувство благопристойности сестры. Но в какой-то миг все окружающее вспыхнуло перед моим взором. Очередной кусочек мозаики встал на свое место, прояснив еще немного природу того, что я именовал Тенью. Миссис Франклин, как я вспомнил сейчас, предлагала мне что-нибудь написать об этом месте, и я отнес это к одной из банальных фраз, не придав значения. Теперь я понял, что это было сказано без шуток. Она ждала нашего толкования, выраженного с помощью соответствующего таланта — писательского или художественного. Вот чем объяснялось ее приглашение. Она призвала нас с определенной целью.
— Я бы предпочла их порвать, — с дрожью в голосе прошептала Фрэнсис у меня за спиной, — только я обещала…
Она на секунду замялась.
— …не делать этого? — спросил я, чувствуя странное угнетение, не в силах оторвать взгляд от бумаг.
— Обещала всегда показывать ей первой, — договорила она так тихо, что я еле расслышал.
Я не обладаю интуитивным, мгновенным постижением ценности живописных работ; понимание приходит ко мне медленно. Хотя каждый полагает, что его суждение хорошо, не смею утверждать, что мое весомее, чем мнение любого дилетанта, поскольку Фрэнсис слишком часто уличала меня в вульгарном невежестве. Могу только сказать, что просматривал эти наброски с растущим изумлением и отвращением, перешедшими в ужас и омерзение. Они были вопиющи. Мне хотелось высказать сестре свое возмущение, но та, к счастью, отошла под каким-то предлогом в другой конец комнаты, чтобы не рассматривать рисунки вместе со мной. Способности у нее, прямо скажем, были весьма посредственные, хотя и ее посещало вдохновение — в такие минуты красота, так сказать, божественной искрой пронизывала ее. И эти рисунки сильно поразили меня своим «наитием». Выполненные необычайно хорошо, они одновременно были ужасны. И все же смысл, заключенный в них, едва угадывался. В них чувствовались дьявольское мастерство и сила: настолько гнусные они делали намеки, оставляя большую часть на волю воображения. Найти такую многозначительность в буржуазном садике и выразить ее так осторожно и в то же время с такой отчетливой определенностью — значит владеть языком мрачного, даже дьявольского символизма. Сдержанность была ее собственной, но взгляд — чужой.
И слово, созревшее в моем мозгу для определения ее работ, не вульгарно-примитивное — «грязные», а гораздо более фундаментальное по качеству — «оскверненные».
Я молча переворачивал листы, как мальчишка, спешащий перелистать страницы страшной книжки, пока его не застукали.
— Что Мэйбл делает с ними? — тихо спросил я через некоторое время, когда приближался к концу. — Хранит их?
— Она делает заметки о них в блокноте, а потом уничтожает, — донеслось с противоположного конца комнаты, затем послышался вздох облегчения: — Рада, что ты их увидел, Билл. Я хотела, но боялась показывать тебе. Понимаешь?
— Понимаю, — был мой ответ, хотя отвечать на такой вопрос было и необязательно.
Что я понял действительно: Мэйбл была так же чиста и невинна, как моя сестра, и у нее было здравое отношение к своим действиям. Она уничтожала наброски, но сначала делала заметки! Это было истолкование, которого она так добивалась. И все же я, как брат, негодовал, что Фрэнсис тратит свое время и талант, когда могла бы делать работы, которые есть шанс продать. Естественно, я чувствовал и другое…
— Мэйбл платит мне по пять гиней за каждый лист. Настаивает изо всех сил.
Я тупо уставился на нее, на миг лишившись дара речи и способности соображать.
— Я вынуждена брать эти деньги, иначе придется уехать, — спокойно продолжала она, слегка побледнев. — Я все перепробовала. На третий день, как я приехала, был целый скандал, когда я показала ей свой первый рисунок. Хотела написать тебе, но засомневалась…
— Значит, то, что получилось, ты не рисовала специально?.. Фрэнсис, прости, что спрашиваю… — ляпнул я, не зная, что и сказать. Ко мне вернулось ощущение «междустрочия» ее письма. — В смысле, ты рисовала, как обычно, и вдруг — так получилось?..
Она кивнула, вскинув руки на французский манер.
— У нас нет нужды оставлять эти деньги себе, Билл. Можем отдать их кому-нибудь, но… я должна принимать их или уехать, — и она еще раз пожала плечами.
Потом села в кресло напротив меня, беспомощно уставившись на ковер.
— Был скандал, говоришь? — сказал я через минуту. — Она настаивала?
— Она умоляла меня не бросать это дело, — очень тихо ответила сестра. — Она думает… ну, у нее есть идея или теория, что здесь существует некая тайна, которую она не совсем понимает, — невнятно пробормотала Фрэнсис.
Она знала, что я не поощрял ее странные теории.
— Она чувствует нечто… — помог я, крайне заинтересованный.
— Думаю, ты понимаешь, что я имею в виду, — отважилась она наконец открыться. — Все кругом насыщено неким влиянием, интерпретировать которое ей не под силу из-за врожденного оптимизма или нечувствительности. Она старается настроить себя на более безрадостный и восприимчивый лад, но толка из этого мало, конечно. Верно, и ты замечал, какой она порой кажется тусклой и отстраненной, будто вовсе лишена личной окраски? Так вот, она надеется, что, сделавшись такой, сможет вернее нащупать причину, но ничего так и не выходит…
— Естественно.
— Поэтому она и пытается понять посредством нашего темперамента — чувствительного и впечатлительного, по ее представлению. А до той поры, пока не удастся определить в точности, что же это за влияние, «наладить дом», как она выражается, не выйдет.
Памятуя о собственных видениях, я воспринял ее слова с большей терпимостью. Ровно, как мог, чтобы не выказать, насколько мне интересен ее ответ, я спросил:
— И… чье же это влияние?
Единым дыханием мы оба дали ответ на прозвучавший вопрос:
— Его.
И невольно наклонили головы вниз: столовая с портретом почившего находилась прямо под нами.
В ту же секунду любопытство испарилось, сделалось вдруг скучно. Дом с привидениями определенно не вызывал во мне никакого интереса. Теперь только и жди игры воспаленного воображения, истерических припадков и прочих радостей.
Разочарование сильно подмочило настроение. Рассказы о том, кто где какую «фигуру» узрел или чье «присутствие» ощутил, станут дежурным блюдом за столом, вытерпеть такое не станет сил.
— Послушай, Фрэнсис, — решительно начал я, — не слишком ли натянуто подобное объяснение? Всякие проклятия хороши были для страшных рассказов начала прошлого века.
Лишь убеждение, что тут кроется более существенная причина, которую стоит поискать, остановило меня от предложения по возможности быстрее, не нарушая правил приличия, прервать наше пребывание в Башнях.
— Нет, это не дом с привидениями, что бы тут ни таилось, — закончил я с жаром, похлопав рукой по папке с вызывающими омерзение набросками.
Ответ сестры подбросил хвороста в костер моего любопытства:
— Я ждала от тебя таких слов. И Мэйбл так считает. Тут есть и часть его влияния, но… оно куда значительнее и сложнее.
Последним высказыванием Фрэнсис явно намекала на рисунки, но я предпочел не подхватывать намек, не испытывая желания обсуждать их тогда и вообще. Просто молчал и ждал продолжения. Вопросы мало что прояснят. Пусть лучше расскажет так, как хочет.
— Его влияние лишь самое недавнее, — медленно и внешне очень спокойно продолжила она, — есть и другие, более глубокие… как бы слои. Если бы верхний был единственным, то что-то уже случилось бы. Но тут ничего не происходит. Другие мешают одержать верх… словно каждый борется за превосходство.
И у меня возникало схожее чувство, но сама мысль навевала ужас. Я передернул плечами.
— Именно это и уродует все кругом — незавершенность, — сказала она. — Нескончаемое ожидание, напряженное и бесплодное. Просто мука. Мэйбл уже не знает, что и думать. Поэтому, когда она спросила меня, каковы мои ощущения от набросков, то есть…
Она снова замялась.
Я остановил ее. Верно, я судил слишком поспешно. Странный символизм ее зарисовок, языческий, но не простодушный, был, как я теперь понимал, результатом смешения стилей. Пусть я и не понимаю, что происходит, но относиться к сестре с большим терпением не повредит. Поэтому я не стал дальше заострять тему. Мы еще побеседовали, но на более отвлеченные темы, не затрагивая ни нашу хозяйку, ни картины, ни замысловатые теории, ни дух хозяина, пока наконец те чувства, которые Фрэнсис столь тщательно скрывала, не прорвались наружу.
Прежде заключенные между продуманных предложений, как между строк письма, приведшего меня сюда, они теперь охватили ее целиком. Но выразила она их в одной краткой фразе:
— Но тогда, Билл, если это не обычный дом с привидениями, что же это?
Обычные слова. Напряжение ощущалось в тоне звенящего голоса, в позе — она чуть наклонилась вперед, сцепив руки под коленями, — в бледности лица, а обычно смелый ее взгляд теперь, на грани паники, источал жажду услышать от меня успокоительный ответ. Она вверяла себя моему покровительству. Я вздрогнул.
— И почему тут ничего не происходит? — добавила она шепотом и с тоской договорила: — Пусть бы хоть что-то случилось уже, прорвало жуткое напряжение, принесло избавление. Ожидание невыносимо.
Дрожь охватила ее, глаза дико блеснули.
Многое бы я отдал, чтобы подыскать ответ, который мог бы ее утешить. Но увы, ничего в голову не приходило. Да и меня обуревали сходные чувства. До объяснения дотянуться не получалось. Ничего не происходило. Как бы ни желал я отбросить тему на сорную кучу, где пышно процветают ядовитые сорняки предрассудков и невежества, совесть мне не позволяла этого сделать. Отнестись к Фрэнсис как к ребенку и отделаться пустым объяснением означало бы предать ее доверие, когда она столь трогательно раскрылась. Да и по отношению к себе даже трусостью, было бы ложью не признавать, что испытываю не меньшую тревогу, чем она. Поэтому, не в силах найти, что сказать, я молча глядел на сестру, и тогда более искренняя и доверяющая чутью Фрэнсис сама вдруг дала ответ, истинность которого и глубину я не мог опровергнуть:
— Думаю, Билл, оно так огромно, что не может произойти только здесь, да и нигде в другом месте, целиком… и слишком ужасно!
Подобное заявление совсем нетрудно было отбросить как абсурдное, доказать, что оно лишено смысла, — но не тогда, не в той обстановке. Более того, я так бы и сделал, не награди меня минувшая неделя чередой живейших видений. Еще одно доказательство узости наших представлений: в других мы распознаем лишь то, что испытали сами. К тому же я чувствовал — в словах сестры есть доля истины. Они приоткрывали суть того непрестанного противоборства, которое мое представление о Тени слабо охватывало.
— Может, и так, — пробормотал я, подождав некоторое время, не добавит ли она еще что-нибудь. — Но ты ведь сказала, что ощущала некие «слои». То есть каждый из них пытается одержать верх?
Я воспользовался ее термином, чтобы скрыть свою неспособность продвинуться дальше. Если удастся выявить существо того, что тут происходит, не так уж важно, какие именно слова на него натолкнули.
По глазам Фрэнсис было видно, что она подтверждает вывод, который нащупала самостоятельно.
И в отличие от многих представительниц ее пола она не вуалировала его и не приукрашивала лишними словами.
— На тебя воздействуют сильнее одни моменты, на меня — другие. Думаю, в зависимости от темперамента каждого. — Тут она бросила многозначительный взгляд на злосчастную папку с рисунками. — А иногда они перемешиваются, и тогда совсем трудно разобраться. Во мне всегда жило больше языческого, чем в тебе, но уж не такого…
Откровенность вызывала и меня на признание. Но подобрать нужные слова оказалось совсем непросто.
— Право, не нахожу слов, Фрэнсис, чтобы передать, что я здесь перечувствовал: мои впечатления не обрели еще того вида, который поддался бы описанию. Раздор, внутреннюю борьбу, страдания от невозможности вырваться за пределы усадьбы, тревогу, атмосферу места заключения, своего рода тюрьмы, узилища — все это я ощущал не раз и с различной силой. Но определения, языческого или христианского свойства, как ты, подобрать не могу. Возможно, как у глухих или слепых людей, у тебя сильнее развиты сферы восприятия, не заложившиеся в моем эмбрионе…
— А может быть, — прервала она меня, не желая отклоняться от темы, — ты воспринимаешь все как Мэйбл. Целиком.
— И такое возможно, — неторопливо признал я, а в голове крутилось: ее слова об «огромности» и «ужасе» совершенно верны.
На меня нахлынула глубочайшая тревога. К ней примешивались жалость, непримиримое отвращение и горечь. Ярость против ложного авторитета тоже входила в смесь.
— Фрэнсис, — захваченный врасплох, теперь я отбросил всякое притворство и спросил: — Что же это такое может быть?
Мы сидели, молча глядя друг на друга. Наконец сестра ответила вопросом на вопрос:
— А не возникало ли у тебя желания интерпретировать свои переживания?
— Мэйбл, помнится, говорила, что если у меня возникнет желание написать о Башнях, то это можно будет осуществить, но не выразила ни малейшей настойчивости. Да к тому же это не в моем стиле. — Заметив, что сестра ждет продолжения, я добавил: — Мне лишь хотелось бы докопаться до причины всех этих тревог, чтобы избавиться от них навсегда. Но не посредством перенесения на бумагу, пока. — И вновь с трепетом повторил свой вопрос, невольно приглушив голос: — Что же это может быть?
Однако многозначительный ответ Фрэнсис, произнесенный с особым ударением, отрезвил меня и рассердил:
— Что бы это ни было, оно не от Бога.
Я тут же встал, чтобы спуститься вниз. Помню, даже пожал плечами.
— Так что, Фрэнсис, может, уедем отсюда? Не лучше ли нам будет вернуться в город? — уже у дверей спросил я, но когда обернулся к сестре за ответом, то увидел, что она сидит, склонив голову и закрыв лицо руками.
Вся поза говорила о том, что она вот-вот зарыдает. Женщине не под силу выдержать напряжение, обрушившееся на Фрэнсис, не впав в уныние. Поколебавшись немного в нерешительности, я, к ужасу своему, вдруг понял, какая эмоция движет мною самим: ни за что не допустить безобразной сцены, которая после будет жечь стыдом. Грубо поддавшись обычной мужской слабости, я уже почти повернул дверную ручку, чтобы выйти из комнаты, но тут Фрэнсис отняла от лица руки и посмотрела на меня. Солнечный луч высветил ее прекрасное лицо в обрамлении немного растрепавшихся золотисто-каштановых волос — казалось, оно светилось состраданием, нежностью и вечной любовью. Сомнений не было: в ее чертах читалась готовность к самопожертвованию ради других, свойственная лишь одному роду известных мне существ — матерям.
— Мы должны остаться с Мэйбл и помочь ей все наладить, — прошептала Фрэнсис, приняв решение за нас обоих.
Пробормотав что-то в знак согласия, я пристыженно спустился в сад. И только там, оставшись один, ясно осознал, что наша долгая беседа ничем не завершилась. Собственно, обмен откровенными признаниями прошел через намеки. Мы решили остаться, но это было скорее отрицательное решение отменить отъезд, чем позитивное и деятельное. Все наши словеса, догадки, умозаключения, объяснения, самые тонкие ссылки и намеки — даже сами мерзкие изображения, вышедшие из под руки сестры, — ни к какому результату не привели. Ничего так и не произошло.
Глава VI
Оставшись один, я инстинктивно двинулся туда, где Фрэнсис рисовала свои необычные эскизы, стараясь увидеть тайну ее глазами. Возможно, теперь, с ее подсказки, у меня получится воспринять что-то подобное и, быть может, выразить это в слове. Если бы мне пришлось писать о Башнях, спросил я себя, как бы я поступил? Я намеренно обратился к наиболее привычной для себя форме выражения мыслей — письму.
Но в этом случае никакого откровения не снизошло. Вглядываясь в деревья и цветы, уголки лужайки и террасы, розарий и заплетенный пламенеющей лианой уголок дома, я ничего зловещего, нечистого в цвете и форме явленного подсознанием не заметил. Поначалу. Реальность стояла перед глазами — обычная и уродливая, бок о бок с искаженной версией, сохраненной в уме. Это казалось невероятным. Усилием воли я попытался прояснить впечатление, но тщетно. То ли мое воображение пахало на меньшую глубину, чем у сестры, то ли пускало коней поперек поля, то ли сеяло не те семена. Там, где я видел в заросшем садочке, разбитом по плану вульгарного богатого ревивалиста, стращавшего прихожан вечным проклятием, лишь грубость и неразвитость, Фрэнсис усмотрела всплеск языческой свободы и радости, неясное томление первобытной плоти, которая в соединении с яростным пылом прежнего хозяина Башен изгадилась.
Однако постепенно кое-что стало проясняться. Медленно, но неотвратимо. Нет, факты остались неизменными и природные черты также не переменились — это было невозможно, — все же я стал примечать некоторые детали, которые сами по себе были достаточно обычными, но обрели для меня больший смысл в тот момент. Часть я припоминал с предыдущих прогулок, другие заметил сегодня, бродя туда-сюда, не находя себе места, — мне все казалось, что кто-то наблюдает за мной и следит, какое впечатление производит на меня сад. Это все были пустяки, но они очень меня угнетали. Причем я был почти убежден, что кто-то всеми силами пытается заставить меня прозреть. Намеренно.
Слова сестры «ты воспринимаешь один уровень событий, а я — другой» непрошено всплыли в памяти.
И тут, словно ребенок, я увидел то, что теперь привык называть гоблинским садом: дом, усадьба, деревья и цветы — все принадлежали тому миру гоблинов[47]Гоблины — в английской мифологии зловредные уродцы, чаще всего живущие в скалах, подобно гномам (Гоблинское урочище в Сомерсете), или в лесу, которые мстят людям за то, что те их понемногу вытесняют., что предстает перед детьми со страниц сказок. И впервые помог мне это понять шепоток ветра позади: неожиданно обернувшись, я почувствовал, что кто-то подбирается ближе. Старый корявый ясень специально был посажен таким образом, чтобы закрывать тот конец террасы, где располагалась лужайка для тенниса; это его листья теперь шуршали на колышущихся ветвях. Я бросил взгляд на дерево и почувствовал, что в этот момент вступил через ворота гоблинского сада, притаившегося за тем, который видели все. Под ним, на более глубоком слое, видимо, и был разбит тот сад, куда заходила моя сестра.
Но свой я буду называть гоблинским оттого, что необычный вид его все же нельзя было назвать живописным. Скорее, гротескным, ибо, куда ни глянь, повсюду виделось искажение привычного: какие-то признаки раздувались, а иные — как бы преуменьшались. Повсюду что-то словно мешало жизни донести до меня свою сладостную весть. Ее что-то останавливало на полпути, подавляя, или искривляло, преувеличивая. Несомненно, сам дом носил отпечаток ограниченного ума и был уродлив, тут не требовалось дальнейшего объяснения, то же касалось и плана разбивки сада и усадьбы, но в моем аналитическом уме никак не могло уложиться, отчего деревья, цветы и прочие растения стали ему под стать. Не сходя с места, я осмотрелся, немного походил и снова стал озираться. Повсюду та же зловещая незавершенность. Теперь мне не удавалось вернуться к обычному восприятию реальности. Мой разум отыскал этот гоблинский садочек и теперь был не в силах из него выбраться.
Несомненно, перемена наступила во мне самом и детали, демонстрирующие этот факт, были столь банальны, что поодиночке выглядели абсурдно, но для меня оказались вполне значимыми — это я могу сказать определенно. Мне казалось, что мир искажен повсюду: деревья рассажены на неестественно правильном расстоянии друг от друга вдоль лужаек; ясень, шуршащий за моей спиной, слишком уж узловат; широко раскинутые ветви веллингтонии отбрасывали чересчур мрачную тень; но в особенности примечательны оказались верхушки деревьев, ибо там нежные прошлогодние побеги увяли и поникли. Ни один из них не тянулся к небу. Жизнь от них отвернулась, хотя должна была торжествовать. Характер дерева раскрывается лучше всего в молодых побегах, а именно они поникли под искажающим воздействием гоблинского сада за последние несколько лет. То, что должно было являть собой волшебную радость жизни, выглядело непривлекательным, почти гротескным. Естественное выражение будто остановили. Гоблинский садик поймал мое сознание в силки. И корчил мне рожи.
Цветы здесь выглядели почти обыкновенными, хотя описать их было бы сложнее. Маленькие растения казались похожими на чертенят. Даже террасы наклонялись под каким-то нехорошим углом, словно бы у них просели края под тяжестью помпезных оград. Человек, бродящий между обманчиво длинными террасами, мог потеряться — потеряться среди открытых террас, когда до дома рукой подать! Весь сад казался негостеприимным, ненадежным; здесь царило беспокойство и если не смятение, то уж точно разлад.
Более того, сад сросся с домом, дом — с садом, и от обоих веяло каким-то неприятием естественности, духом, который говорит «нет» радости. Я чувствовал, что все вокруг стремится к прямо противоположному, силится броситься вперед и достичь свободного, непринужденного состояния, счастья и покоя, но стремление это неизменно разбивалось о стену мрачной тени. Здесь жизнь затекла в тихую заводь и неестественным образом замкнулась сама на себе, не умея вернуться в главное русло. Сорняки тут забивали цветы и не давали деревьям плодоносить. Я чувствовал это приближение жизни — и затем тягостный провал. Ничто не завершалось. Ничего не случалось.
И, проникнувшись состоянием несовершенства, я немного приблизился к пониманию того порока здешней жизни, который просвечивал в работах моей сестры. Порок — это отрицание свойства; сам по себе он не существует, это не более чем судорогой сведенное представление об истине, стремящейся, заикаясь, преодолеть ложные границы, что пытаются замкнуть ее и не выпускать наружу. Целостное выражение чего бы то ни было всегда прекрасно и чисто, здесь же все было не завершено, несовершенно и вследствие этого уродливо. Полно смятения, боли и стремления ускользнуть прочь, бежать. Я поймал себя на том, что дом и земли вокруг заставляют меня внутренне сжаться и отшатнуться, как обычно сторонятся прикосновения умственно отсталого, чья жизнь пошла наперекосяк. Эту усадьбу словно искалечили.
Тут же припомнилось немало примет в подтверждение моих мыслей, пока я сам гулял, лишенный свободы и наполовину искалеченный, по чудовищному садику. Дождь освежал окрестности, нарочно избегая этих земель, растрескавшихся от солнечного зноя, ненасытных и томимых жаждой; сильные ветра, что вольно продувают леса и поля кругом, запутывались в густых зарослях, прикрывавших Башни с севера, запада и с востока, слабея и едва дыша. Настоящий ветер сюда не долетал. Ничего не случалось. Я начал представлять себе — причем куда отчетливее, чем сестра, поведавшая мне о «слоях», — что тут действовало множество противоречивых, взаиморазрушающих процессов. В отличие от домов с привидениями Башни были ареной для прошлых чувств и прошлых мыслей, возможно, даже порочных убеждений, каждое из которых боролось и сдерживалось другими, не в силах возобладать, потому что ни одно не было достаточно сильным и достаточно истинным. К тому же каждое из них старалось покорить и меня, хотя достичь моего сознания смогло лишь одно из них. По какой-то неясной причине — может быть, потому, что я имел природную склонность ко всему нелепому, — дотронуться до меня сумел именно гоблинский слой. Я был к нему наиболее восприимчив…
Вначале этот «гоблинский садик» проявил, конечно же, лишь мою субъективную интерпретацию происходящего. Но я и на деле, вполне объективно ощутил то, что уже давно воспринимал субъективно: работа, неотъемлемый признак свободы для меня, стояла мертво — творить стало невозможно.
Теперь я подобрался значительно ближе к причине бесплодности своих трудов. Скорее даже, сама причина осмелела и нахально подступила вплотную. Ничего нигде не происходило: дом, сад и разум стояли бесплодными, заглушая все живое, раздираемые ни к чему не ведущими потугами, уродливыми, ненавистными и постыдными. И все же за ними стояло живое желание — желание вырваться и довершить начатое. Надежда, невыносимая надежда, как я вдруг осознал, венчала всю эту муку.
И, поняв это, инстинктивная часть сознания, неподвластная рассудку, выпустила еще более мрачное чувство, буквально схватившее за горло и заставившее содрогнуться до глубины души. Я сразу понял, откуда пришла эта волна отвращения: даже сквозь поднимающуюся красную пелену я разглядел слой, подстилающий «гоблинскую реальность». Словно бы один открывал путь другому. Их было так много, переплетающихся между собой; признать существование одного означало расчистить путь всем другим. Если я тут задержусь, то и меня захватит. Уже безвозвратно. Эти ирреальные слои столь бешено боролись между собой за первенство, что всплывший, едва показавшийся мне слой был уже перекрыт следующим, и багровый цвет, окрашивавший мысли, густо замазал пейзаж кровью. Багрово-коричневый оттенок распространился по всему саду, покрыв террасы, придавая самой почве оттенок ритуального жертвоприношения, отчего у меня перехватило дыхание, а ноги приросли к земле, которую они так стремились покинуть. Сколь ни отвратительно это было, я испытывал странное любопытство, даже желал остаться. Борясь с противоречивыми импульсами, я пошатнулся, зачарованный кошмаром. Провалившись сквозь почти невесомый первый гоблинский слой, я начал тонуть, все глубже и глубже погружаясь в разбухший и плотный слой под ним, где бурлили более бурные и древние страсти. И впрямь: тот, первый, казался просто волшебным по сравнению с жутью, которой веяло от жаждущего крови и напитанного болью человеческих жертв второго.
Верхний слой! К тому моменту я уже тонул; ноги засасывало! Какая древняя атавистическая черта, глубоко скрытая во мне, откликнулась на этот темный призыв, пробудив вспышку интуитивного понимания, я не могу сказать. Глянец цивилизации, вероятно, у всех нас непрочен. Я сделал над собой неимоверное усилие. Солнце и ветер вернулись. Клянусь, я почти открыл глаза! И нечто жестокое вновь погрузилось в глубины, унося с собой мысли о лесных чащах, поставленных в круг гигантских камнях, неподвижных фигурах в белом, связанной жертве и зловещем блеске кинжала. Их отнесло, словно пороховой дым на поле сражения…
Я стоял на гравийной дорожке чуть ниже второй террасы, окруженный уже знакомым гоблинским садиком, теперь вдвойне гротескным, корчившим рожи с еще большим усердием, но, по контрасту, почти родным. Видение мрачных глубин накатило лишь на миг.
Я с радостью приветствовал возвращение привычного мира, но теперь навсегда сохраню память о той крови, на которой он построен… На улице, в театре, на дружеских встречах, в музыкальных гостиных или на стадионе, даже в церкви — как могла память о пережитом не оставить повсюду отвратительного следа? Казалось, сама структура мысли запятналась.
Мысли прежних поколений нельзя стереть до тех пор, пока…
Я очнулся от грез и кинулся прочь, подстегнутый резким звуком, который мне впервые в жизни показался желанным. Тарахтение двигателя означало, что хозяйка вернулась.
И все же столь неотвязной была моя одержимость, что и хозяйку Башен я увидел вовсе не в привычном обличье: Мэйбл плыла с искаженным болью лицом; ее образ, захваченный чьим-то воображением, неудержимо проваливался в глубины, охваченные пламенем и залитые кровью, лишь недавно разверзшиеся у меня под ногами. Она совершенно погрязла, канув без следа, но до последней секунды ее угасающие глаза искали спасителя, что предал ее и не спас. Столько непередаваемой надежды было в ее лице!
Я ощущал, что тайна, обитавшая в этом поместье, сгущается. Сгущались и сумерки, а косо падавшие последние лучи солнца казались нарисованными бесталанным художником. Сад застыл наготове. Не могу объяснить, однако могу передать, будто все случилось только вчера, ибо память об этом не сотрется никогда. Впервые что-то почти случилось, и связь проходила через меня.
Я уже направился к дому. В голове роились образы, даже не мысли — автомобиль, чай на веранде, сестра, Мэйбл, — и вдруг сзади, как раз когда я покидал сад, налетел какой-то жуткий порыв. Уродство, боль, стремление вырваться, все затаенное страдание, заключенное здесь, сконцентрировались в эту секунду в ослепительную вспышку. Невыразимо долго копившееся желание подступило сзади, словно толпа, исполненная мучений и тоски, готовая броситься на меня. Я переходил невидимую грань, намереваясь вернуться в обычную жизнь, а сонм видений отчаянно цеплялся за меня. И целого словаря мало, чтобы описать, что стремилось вырваться вместе со мной или удержать в своих объятиях. И хоть колени мои дрогнули, я, задержав дыхание, ринулся во всю мочь вверх по уродливым террасам.
В то же мгновение будто лязг железных ворот оборвал фразу, и страшную фразу: «Проклятые…»
Это слово донеслось из гоблинского садика, который хотел удержать меня: «Проклятые!»
Слово рокотало. Я знал, что звук лишь слышится мне, но он был мощным и раздавался отовсюду. Сама же фраза нырнула обратно, в глубины, ее породившие. Ей помешали завершиться. Как обычно, ничего не случилось. Но за мной гнался подобный урагану невидимый сонм, жутко завывая: наверное, так себя ощущает человек вблизи Ниагарского водопада. Там, за шумом падающей воды, кроется звук, неслышный большинству людей, но ощутимый.
Эхо проклятья отдавалось от поверхности террас, словно колеблющихся под моими ногами, долетая откуда-то снизу из-под земли. Оно звучало в шорохе ветра, который покачивал свисающие ветви веллингтонии. Клумбы явно уступали свою территорию ползучему плющу, красному как кровь, что карабкался по стенам неказистого здания. И наконец слово впиталось в стены этого отталкивающего дома; Башни впустили его домой. Неприветливые двери и окна смотрелись ртами, изрыгнувшими проклятия, и я заметил, как две служанки пытаются справиться со ставнями на одном из верхних этажей.
Когда же я, с трудом переводя дух, добежал до веранды, меня приветливо встретили Фрэнсис и Мэйбл, стоявшие возле чайного столика. На лицах обеих явно читалось потрясение. Они видели мой стремительный рывок, но были столь встревожены своими переживаниями, что едва ли заметили мое состояние. Однако в лице нашей хозяйки я уловил беспокойство более глубокое, чем у Фрэнсис. Мэйбл знала. Она пережила то же, что и я. И слышала ужасную фразу, обрывок которой долетел до меня, причем не в первый раз и, подозреваю, полностью.
— Билл, слышал ли ты этот странный шум? — прямо спросила меня Фрэнсис, прежде чем я успел сказать хоть слово. Она была сама не своя; смотрела прямо на меня, а голос заметно дрожал.
— Ветер поднимается, — сказал я хрипло, — гудит в деревьях и отдается от стен. Налетел как-то внезапно.
— Нет. Это был не ветер, — настаивала она, даже не стремясь скрыть многозначительность этих слов. — Больше похоже на далекий гром, как нам показалось. И ты так бежал! Просто скакал по террасам!
По голосу сестры я понял, что они обе уже слышали этот грохот и теперь хотели удостовериться, что им не показалось, и сгорали от нетерпения узнать, каким он мне явился. А еще сильнее — что я о нем думаю.
— Признаю, звук очень гулкий. Возможно, в море стреляют с корабельных или береговых пушек. Учебные стрельбы. Побережье не очень далеко, и когда ветер дует оттуда…
Выражение лица Мэйбл заставило меня замереть на полуслове.
— Будто захлопнулись огромные врата, — тихо сказала она бесцветным голосом, — огромные железные врата, не пустившие наружу толпу кричащих узников, которые стремились выбраться.
Серьезность и безнадежность тона поразила меня.
Едва Мэйбл заговорила, Фрэнсис удалилась в дом:
— Я замерзла, лучше взять шаль.
Мы с Мэйбл остались наедине. Пожалуй, впервые со времени моего приезда. Она подняла взгляд от чашек; ее блеклые глаза уставились прямо на меня, будто вопрошая.
— Вам именно так кажется? — невинно спросил я, намеренно использовав настоящее время.
Она перевела взгляд, теперь уставившись на один из моих глаз, уже без всякого выражения. За спиной, в прилегающей к веранде комнате, послышались шаги сестры.
— Если бы только… — начала Мэйбл, но остановилась, и я быстро довершил предложение за нее, подхватив мысль на лету:
— …что-то случилось.
Она тут же меня поправила. Я уловил мысль, но выразил ее неточно.
— …мы могли вырваться! — быстро договорила она, чуть понизив голос.
Это «мы» меня удивило и поразило, теперь окончательно, из-за манеры, в которой это было сказано. Ледяной ужас звучал в словах женщины. Словах умирающей, безнадежно потерянной души.
В этот ужасный момент я почти не отдавал себе отчета в том, что слышу, но точно помнил — сестра вернулась, укутанная в серую шаль, а Мэйбл как ни в чем не бывало сказала:
— Да, что-то прохладно. Давайте пить чай в комнатах.
Две служанки, одна из них гренадерского роста, тут же отнесли кушанья в утреннюю гостиную неподалеку от кухни и разожгли там большой камин. Действительно, неразумно было рисковать здоровьем, отдаваясь во власть вечерней сырости, тем более что сумерки сгущались, но даже полуденный блеск солнца не мог бы превратить осень в лето. Я последним покидал веранду. И тут прямо передо мной спланировала большая черная птица — заметив человека, она резко отвернула в строну, к кустам слева, где, хлопая крыльями, исчезла в сумраке. Птица пролетела очень низко и совсем рядом. Это испугало меня: она показалась мне той самой Тенью, словно вся тьма ужаса, охватившего дом и сад, осевшая хоть незримо, но неподъемно, сосредоточилась в этом создании, что с шумом пронеслось меж днем и наступающей ночью.
Чуть постояв, ожидая, не появится ли птица снова, я последовал за остальными, но как раз когда закрывал за собой стеклянные двери, уловил очертания какой-то фигуры на лужайке — довольно далеко за кустами, там, где пропала птица. В сумерках фигура, хоть и расплывчатая, казалась ближе, поэтому ошибки быть не могло. Я слишком хорошо запомнил негнущуюся походку нашей экономки. «Миссис Марш вышла подышать», — сказал я себе под нос, почувствовав странную необходимость произнести это вслух и подивившись, чем она занималась в саду в такой поздний час. Если у меня в голове промелькнули еще какие-то мысли, то я успел их очень быстро подавить и теперь даже не припомню.
Естественно было бы ожидать, что в доме разговор о том шуме, попытка его объяснить, продолжится, выльется в обсуждение или беседу, хотя бы для того, чтобы избавиться от мрачного настроения, загнавшего нас внутрь. Но нет, все намеренно избегали той темы. Говорили совсем немного, и уж ни в коем случае не об этом. Я вновь ощутил то же замешательство, что охватило меня при первом разговоре с Фрэнсис, когда приехал в Башни. Необходимость вернуться к прерванному разговору давила на нас свинцовым гнетом, пробуждая надежду и страх. Но этого не случилось; даже намеком. Присутствие Мэйбл явно мешало. С равным успехом мы могли бы говорить о смерти в комнате умирающей.
Единственный обрывок той беседы, задержавшийся у меня в памяти, был вопрос Мэйбл. Она спросила, как бы между прочим, служанку-гренадершу, отчего миссис Марш не выполнила какое-то поручение — какое, я забыл, — на что служанка простовато ответила: «Миссис Марш очень извинялася, но рука еще не зажила». Я таким же безразличным тоном поинтересовался, серьезно ли та поранилась, но что получил не особенно приветливый ответ, будто мой вопрос был нескромным: «Она опрокинула на себя лампу и обожглась, но если она чего-то не хочет делать, то всегда найдет, чем отговориться». Этот обрывок сохранился у меня в памяти, и я особенно хорошо помню, что Фрэнсис поспешила изменить тему разговора и переключилась на лень слуг в целом, принявшись рассказывать с деланным энтузиазмом о разных случаях у нас на квартире, а общая тема завяла, на что и был расчет. Стоило ей закончить, как мы погрузились в молчание.
И как бы мы ни старались уйти от неприятного ощущения, все знали, что нечто подобралось очень близко, почти задев по дороге; теперь оно отступило, и я даже склонен думать, что та большая темная фигура, налетевшая в сумраке, похожая на хищную птицу, была своего рода символическим воплощением, отражением Тени у меня в сознании: ибо никакой птицы на самом деле не было — ее нарисовали мои страхи и смятение. Нечто пронеслось мимо и затаилось неподалеку, следя за нами.
Возможно, новая встреча с миссис Марш была простой случайностью, однако в тот вечер между чаем и ужином я встречал экономку не раз, и вид этой сухопарой угрюмой женщины все сильнее укреплял мое предубеждение против нее. Однажды, когда я направлялся к телефону, то едва не столкнулся с нею там, где коридор сужался: с одной стороны на квадратном столике стоял китайский гонг, а с другой — напольные старинные часы и коробка с молотками для игры в крокет. Сначала мы оба посторонились, потом оба двинулись вперед, затем снова посторонились. Казалось, пройти невозможно. Затем решительно шагнули в одну и ту же сторону — и столкнулись, невнятно бормоча оправдания и извинения, как водится в таких случаях. В конце концов экономка прижалась к стене, чтобы пропустить меня, но выбрала для этого проем как раз той двери, которую я хотел открыть. Это было просто смешно.
— Простите, я как раз собирался… позвонить, — объяснил я.
И она отодвинулась, продолжая извиняться и открывая для меня дверь. Наши пальцы на мгновение сомкнулись вокруг ручки двери.
Секундное замешательство — глупо до невозможности. Вспомнив о ее травме и просто чтобы переменить тему, я спросил, как она себя чувствует. Экономка меня поблагодарила: все уже зажило, но могло выйти значительно хуже; она еще что-то упомянула о «милости Божьей», но этого я не уловил. И вот, разговаривая по телефону — звонил я в Лондон, и все мое внимание было сосредоточено на разговоре, — я вздрогнул: ведь я впервые обратился к этой женщине и даже… дотронулся до нее.
По случаю воскресенья линии были свободны. Меня быстро соединили, и пока мыслями я был в Лондоне, о маленьком инциденте не думал. Но, поднимаясь к себе наверх, я вновь вернулся к раздумьям о миссис Марш, припомнив множество деталей: как очень часто натыкался на нее в доме в совершенно непредсказуемых местах; как поразился нашей ночной встрече в коридоре, где она сидела в полном одиночестве; как она повсюду бродила с траурным выражением лица и неопрятными кудряшками на затылке, которые меня рассмешили три года назад и выглядели, как будто их кто-то подпалил, и как в мой первый приезд в Башни показалось, что эта женщина каким-то образом поддерживала, не подавая вида, влияние бывшего хозяина и его мрачное учение. И каждый раз с ней ассоциировались мысли о наказании и мести. Вспомнил я и промелькнувшее подозрение, что она намеренно удерживала свою нынешнюю хозяйку здесь, пленницей холодного и неуютного дома, и что, несмотря на угодливое молчание, на самом деле всемерно препятствовала перемене направления мыслей Мэйбл, не давая ей переключиться на менее угрюмое восприятие жизни.
В долю секунды разрозненные факты слились в образ истинной миссис Марш. Вне всякого сомнения, Тень поглотила ее. Более того, экономка даже предводительствовала, словно украдкой руководя атакой на Башни и их обитателей, и сознательно либо подсознательно неустанно трудилась для достижения этой отвратительной цели.
Вероятно, лишь возбужденное состояние позволило серии незначительных мыслей принять столь драматическую форму, а произошедшее незадолго до того позволило мне поставить эту женщину во главе столь грозной процессии событий. Я передаю все точь-в-точь как мне это приходило в голову. Несомненно, нервы мои были напряжены, иначе я вряд ли поддался бы импульсу выдать желаемое за действительное. Уж очень странные впечатления обрушились на меня.
Ничто иное, возможно, не подойдет для объяснения моей смехотворной беседы с миссис Марш, когда я, уже в третий раз за вечер, наткнулся на эту женщину на лестнице, где она стояла возле открытого окна, будто прислушиваясь. Она была одета в черное платье, квадратные плечи закутаны в черную шаль, а крупные кисти рук обтянуты черными перчатками. Женщина сжимала в руках два черных предмета, по-видимому молитвенники, а со шляпки свисали черные агатовые бусинки. Вначале я не признал экономку, поскольку буквально налетел на нее, сбегая с лестничной площадки. Лишь когда она отступила, давая мне пройти, я разглядел ее профиль на фоне занавесок и понял, что это миссис Марш. Столкнуться с ней, одетой подобным образом, на парадной лестнице показалось мне совершенно нелепым и неподобающим. Я прервал свой стремительный спуск. Через открытое окно донесся колокольный звон — это звонил церковный колокол. Его гул показался очень тоскливым, даже тошнотворным. И по какому-то наитию — возможно повинуясь подспудному желанию напасть первым? — я заговорил, хотя осмотрительностью это решение не отличалось.
— Видимо, ходили в церковь, миссис Марш? — спросил я. — Или только собираетесь?
Ее лицо, когда она обернулась для ответа, напоминало голову железной куклы, у которой двигаются только глаза и губы.
— Некоторые еще туда ходят, сэр, — сказала она елейным голоском.
Фраза прозвучала вполне вежливо, однако подразумевавшееся осуждение всего прочего мира задело меня. Отменная доля чванливой надменности скрывалась за притворной скромностью.
— Для верующих это, несомненно, полезно, — улыбнулся я. — Истинная вера приносит мир и счастье, я уверен, миссис Марш, и радость, радость! — Я с огромным удовольствием сделал ударение на последних словах.
Она резанула меня взглядом. Не могу описать ни ту непримиримость, которая сверкнула в ее строгих глазах, ни мрачную тень, что наползла ей на лицо. От нее исходили волны ненависти. Мы оба знали, о ком каждый из нас думал в этот момент.
Она тихо ответила, ни на секунду не забываясь:
— Радость есть, сэр. На небесах. Когда хотя бы один грешник раскается, а в церкви молятся Господу за тех, кто… за других, сэр, кто…
Она оборвала фразу. Мрак вокруг нее напоминал скорбь, сгустившуюся вокруг погребального катафалка, возле могилы, безнадежную тоску темницы. Но язык мой как бы сам собою продолжал, при том я испытывал горькое удовлетворение:
— Мы должны веровать, что других не существует, миссис Марш. Ведь спасения не будет, если это не так. Всепрощающий и всевидящий Господь не мог изобрести столь страшный план…
Но глухим голосом, который, казалось, шел из глубин земли, миссис Марш перебила меня, не дав закончить:
— Они отвергли спасение, когда им его предлагали тут, на земле.
— Однако вам ведь не хотелось бы, чтобы их мучили вечно из-за ошибки, совершенной по неведению, — продолжал я, не спуская с нее глаз. — Не правда ли, миссис Марш, признайтесь? Никакой Бог, достойный поклонения, не дозволит такой жестокости. Задумайтесь, право.
В уставившихся на меня пустых глазах мелькнуло странное выражение. Словно женщина в ее душе восстала против такого предположения, но она не смела отступиться от своей суровой веры. То есть, не страшись она так, то с радостью бы согласилась со мной.
— Мы можем молиться за них, сэр, и… питать надежду, — выдавила она из себя, опустив очи долу и глядя на ковер.
— Хорошо, замечательно! — жизнерадостно заключил я, теперь серьезно жалея, что затеял этот разговор. — По крайней мере, уже не так безысходно, верно?
Пока я, стараясь не коснуться ее, двинулся дальше, она бормотала еще что-то о «груди Авраамовой» и о том, что «время для спасения не длится вечно», а потом остановила меня нерешительным жестом. Ей хотелось о чем-то меня спросить. На мгновение поднялись глаза, и в них вновь проглянуло женское участие.
— Возможно, сэр… — запинаясь, будто страшась, что сейчас ее насмерть поразит молнией, начала она. — Как вы думаете, сэр, капля холодной воды, поднесенная во имя Него, сможет смочить им губы?..
Но я остановил ее, дурацкий этот разговор и так слишком затянулся.
— Конечно, — воскликнул я, — вне всякого сомнения! Ведь Бог есть любовь, помните об этом, а любить означает быть терпимым, щедрым, проявлять к людям сочувствие и не давать им страдать.
С этими словами я миновал-таки ее, решительно стремясь прекратить постыдную беседу, за которую винил исключительно себя. Застыв у меня за спиной, миссис Марш не двигалась с места еще несколько минут, то ли смущенная, то ли встревоженная, как мне показалось. С губ ее слетело еще какое-то слово, нечто вроде «кары», больше я ничего не услышал. Снисходительность и высокомерие этой дамы выводили меня из себя, однако, должен признаться, втайне я испытал удовлетворение, что мне все же удалось зацепить в ней струнку сострадания. Вера ее была неколебима, она не смела от нее отступиться, но в глубине ее души шевелилось здоровое отвращение. Она бы подала руку помощи «им» — если бы осмелилась. Доказательством служил ее вопрос.
Почти стыдясь своего поступка, я быстро пересек холл, чтобы не поддаться искушению сказать что-нибудь еще, словно покидая отделение для неизлечимо больных. Меня охватил приступ дурноты: уф, вот для таких людей нужен огнь очищающий! Настоящие источники зловредных мыслей, неиссякаемо поганящих прекрасный мир Господень. Мне представилось, что я сам, Фрэнсис и Мэйбл растянуты на дыбе, в то время как отвратительная фигура экономки, это средоточие тьмы и жестокости, подкручивает винты, чтобы «спасти» нас, то есть заставить думать и верить в точности так, как она.
Почти детскому своему негодованию я дал выход, отведя душу за органом. Потоки звуков Баха и Бетховена вернули чувство меры. Но происшествие со всей очевидностью выявило, что и у меня внутри возник перекос. Вследствие близкого контакта с этой похоронной личностью, даже однократного, восприятие исказилось. Женщина искренне считала, вторя своему господину, что любой человек, чьи взгляды на веру отличались от ее собственных, достоин вечного проклятия. Тогда же у меня возникла смутная догадка о существе борьбы и страха, погрузившего усадьбу в состояние неизбывной незавершенности, но продумать ее до конца я не смог. Лишь понял, что экономка не дает противоборству успокоиться и, словно заклятием, заточила в доме свою хозяйку.
Глава VII
Той ночью меня разбудил быстрый стук в дверь. Не успел я подняться, как Фрэнсис была уже возле постели. Зайдя в комнату, она сразу включила свет. Волосы разметались по плечам, укутанным в халат. Лицо сестры поразило мертвенной бледностью и выражало крайнюю тревогу, глаза казались огромными. Просто на себя не похожа.
Она быстро зашептала:
— Билл, Билл, просыпайся, скорее!
— Я уже не сплю. В чем дело? — тоже шепотом спросил я. Поведение сестры поразило меня.
— Слушай! — только и сказала она, глядя в пространство.
Во всем большом доме ни звука. Ветер стих, полная тишина. Лишь у меня в голове словно что-то ритмично постукивало. Часы на каминной полке показывали половину третьего ночи.
— Я ничего не слышу. Что тебя тревожит? — протирая глаза, спросил я. Видимо, спал я действительно крепко.
— Слушай! — очень тихо повторила она, подняв палец и переведя взгляд на дверь, которую не прикрыла за собой.
Ни следа обычного спокойствия. Страх завладел ею.
Не меньше минуты мы вслушивались в ночь, затаив дыхание. Потом Фрэнсис перевела взгляд на меня, побледнев еще больше.
— Он меня разбудил… — сказала она едва слышно и придвинулась к кровати еще на шаг. — Тот гул…
Голос ее дрожал.
— Гул! — безотчетно повторил я. Только не это! Землетрясение, даже вражеский обстрел, который бы обрушил крышу над головой, и те были бы лучше. — Что ты, Фрэнсис! Неужели?
Не зная, что сказать, я просто тянул время.
— Словно прогремел гром. Но не прошло и минуты, как звук донесся снова — из-под земли. Просто жуть берет.
Сестра говорила невнятно, не в силах совладать с собой.
Помолчав еще с минуту, мы оба заговорили, наперебой перечисляя возможные источники этого шума, хотя ни на миг не верили в их истинность: крыша обвалилась, в подвал проникли воры, кто-то взорвал сейфы в доме… Так дети успокаивают друг друга и оттягивают момент, когда все же приходится что-то предпринять.
— Конечно, там, внизу, кто-то ходит, — слетело с моих уст, когда я, спрыгнув с кровати и сунув ноги в шлепанцы, облачился в халат. — Не бойся. Я спущусь и проверю.
С этими словами я вынул из ящика комода пистолет, без которого никуда не выходил. Фрэнсис недвижно стояла возле кровати и молча наблюдала, как я его заряжаю. Затем я двинулся к открытой двери, шепнув:
— Оставайся тут, Фэнни. — Сердце бешено колотилось, не давая даже говорить нормально. — Скоро все разузнаю. Запрись на ключ, милая. Тут ты в безопасности. Говоришь, звук шел снизу?
— Из-под земли, — чуть дыша откликнулась она, указывая вниз.
Вдруг сестра ринулась вперед и заступила мне путь.
— Тихо! Слушай! — воскликнула она. — Вот, опять!
И наклонила голову набок, чтобы уловить звук получше. Глядя на нее, я застыл, не в силах сдержать дрожь.
Но ничто не шелохнулось. Из нижних комнат слышалось лишь тиканье и жужжание многочисленных часов. Сквозняк за нашими спинами втянул в комнату жалюзи на открытом окне.
— Я спущусь вместе с тобой, Билл, на один этаж, — прервала молчание Фрэнсис, — и останусь там с Мэйбл, пока ты не вернешься.
Жалюзи с протяжным вздохом встали на место.
Тут я и выпалил, не задумываясь:
— Значит, Мэйбл не спит. Она тоже слышала?
Даже не знаю, отчего ответ сестры вызвал в моей душе такой ужас. Все в этом мрачном, втянувшем нас в свои игры доме, где ничего не случалось, было так неопределенно, отчего только больше пугало.
— Мы повстречались в коридоре. Она как раз шла ко мне.
Но как бы я ни трясся внутри, виду все же не подал, и Фрэнсис этого не заметила. Мне казалось, что гул вот-вот накатит снова. Между тем стояла мертвая тишина. Лишь в ответ на мой вопрос о том, что же Мэйбл делает сейчас, сестра откликнулась сразу же, ничуть не медля, словно устав притворяться. С облегчением, по-детски беспомощно глядя на меня, Фрэнсис еле слышно сказала:
— Она плачет и куса…
Должно быть, выражение моего лица остановило ее. Тут я зажал ей рот обеими ладонями, но чуть позже, опомнившись, обнаружил, что прижал их к собственным ушам. То было невыразимо кошмарное мгновение. Испытывая почти физическое отвращение к тишине, я с удовольствием выпустил бы в воздух все пять пуль из пистолета — ясный и недвусмысленный звук выстрелов разрядил бы напряжение. В смятенной душе разобраться было невозможно. Признаюсь, на миг страх возобладал, кровь прилила к лицу, но вскоре отхлынула, взамен холодный пот окатил ледяной волной. Однако со всей определенностью могу заявить, что боялся я не за себя, не был то и страх перед болью или возможным увечьем: всеми фибрами души я стремился оказаться как можно дальше от тех мук и терзаний, что испытывал несчетный сонм иных существ. Тогда мною вновь овладело то первое впечатление от Башен как места заключения, узилища, где без всякой надежды страдают, отчаянно борются, желая вырваться из снедающего пламени, и несбыточно мечтают о побеге. Противиться нахлынувшему чувству было невозможно, столь неотступным оно оказалось. Щемящая тщетная надежда проникла во все поры.
Неведомо как справившись с обуревавшими меня чувствами, я взял сестру за руку. Та была холодна как лед. Я повел Фрэнсис к двери и дальше по коридору. Сестра, по всей видимости, не заметила, что я чуть не потерял сознание, и прошептала:
— Какой ты смелый, Билл.
Коридоры верхних этажей спящего дома были ярко освещены: идя ко мне, сестра зажигала свет повсюду, где рука нащупывала выключатель. Ступив на последний лестничный пролет, я услышал звук тихо прикрытой двери и понял, что Мэйбл поджидала нас. Когда я подвел сестру к комнате хозяйки, Фрэнсис постучала и дверь приоткрылась на дюйм. В комнате было совершенно темно, фигуры Мэйбл я не различил. Сказав мне торопливо на прощание «Билл, обещай, что будешь осторожен», Фрэнсис зашла внутрь. Я успел лишь сказать, что постараюсь вернуться побыстрей, а Фрэнсис пообещала никуда не уходить, и тут дверь захлопнулась, не дав ей договорить.
Но слова ее оборвала не только захлопнувшаяся дверь. Исчезновение Фрэнсис в темноте было столь мгновенным, будто она прыгнула внутрь, прямо на ту, другую женщину, стоявшую там, в непроглядной тени. Ибо одновременно с последним предложением прервался тянувшийся изнутри вой, словно рот зажали ладонью, чтобы я не услышал. И все же этот натужный жуткий вой донесся до моих ушей, что объяснило и резкий обрыв прощания, и странный прыжок.
Какое-то время я стоял в полной нерешительности, обмякнув до крайней степени, будто все кости разом вынули из тела, — такое действие произвел донесшийся вой. Я полностью лишился самообладания. Вряд ли когда мне приходилось слышать подобный звук прежде, разве что малые дети сходным образом подвывают, впав в ярость. Ни один взрослый в моем присутствии так не кричал. Просто кошмар, чисто зверь. Без сомнения, на заре веков людям нередко приходилось так выть, но, к счастью, в наши дни подобное выражение чувств известно немногим, да и услышав, не каждый его распознает.
Прежняя крепость членов вернулась, но теперь все тело горело, будто кости перед тем, как вставить на место, раскалили докрасна. Теперь я разрывался между желанием взломать дверь и войти или бежать — бежать прочь, спасаясь от страха, которому не в силах был глянуть в глаза.
Страшная сумятица чувств не позволила сделать выбор в пользу того или другого. Не раздумывая и, уж конечно, не анализируя, что следовало бы предпочесть ради сестры, себя самого или Мэйбл, я просто возобновил движение с того места, где оно прервалось. Отвернувшись от страшной двери, я медленно направился к лестнице, ведущей вниз.
Между тем отзвук того воя не утих, а от бившей меня дрожи зуб на зуб не попадал. Вой мерещился повсюду, словно исходил из пустых залов, откуда длинные коридоры вели в музыкальную гостиную, и даже несся снаружи, с прилегающих к дому лужаек. Из облетевшего сада, с уродливых террас сочился он в ночь, заглушая ропот, зов о помощи — незавершенный, неполный, будто стон, будто множество душ отчаявшихся узников исторгали его, глухо стеная от боли и муки.
То, что едва уловленный в спальне звук я распространил по всему дому и усадьбе, говорило, вероятно, о плачевном состоянии моих нервов.
Без сомнения, вой не стихал лишь в моем воображении. Но чем дольше я медлил, тем сложнее становилась задача, поэтому, подобрав полы халата, чтобы не оступиться в темноте, я медленно спустился в холл нижнего этажа. Ни свечи, ни спичек у меня не было. Хотя я хорошо представлял, где находятся в помещениях выключатели, покров тьмы, скорее, успокаивал: я ничего не видел, но и меня было трудно разглядеть. Пистолет оттягивал карман и время от времени касался бедра, отчего возникало дурацкое чувство, как у мальчишки, крадущегося с игрушечным ружьем. Напряженные нервы вибрировали во тьме, пробуждавшей архаический ужас. Пистолет мог успокоить разве что ребенка у меня в душе.
Ночь выдалась не совсем непроглядная, на застекленной парадной двери виднелись железные засовы, а в холле я различал массивные деревянные кресла, зев камина, колонны, поддерживавшие лестницу, и круглый стол в центре с разложенными книгами, смутно заметными цветочными вазами и корзинкой, куда складывали визитные карточки гостей. Кроме того в комнате была стойка для тростей и зонтов, на полке расположились железнодорожные справочники, телефонная книга и стопка бланков для телеграмм. Отовсюду доносилось тиканье часов, походившее на звук легких шагов. Свет со второго этажа освещал кое-где участки пола.
Какое-то время я выжидал, давая глазам привыкнуть к полумраку и одновременно решая, с чего начать свои поиски. За одним из больших окон змеился плющ… Вдруг что-то захрипело во внутренностях высоких напольных часов возле входной двери — уродливо-громоздких, преподнесенных прихожанами бывшему владельцу Башен, — и, предваряя бой, который должен был вот-вот раздаться, я быстро принял решение. Если в ночи крылся кто-то еще, он мог воспользоваться моментом и подкрасться, когда часы начнут бить.
На цыпочках, стараясь ничего не задеть, двинулся я направо, к коридору, ведущему в столовую. В противоположном крыле располагались кофейная комната и гостиная, а также прочие апартаменты хозяина, теперь державшиеся закрытыми. Мысль о сестре, которая со второй перепуганной женщиной сидела наверху в спальне, ускорила мои шаги.
К удивлению, дверь в столовую оказалась открыта. Ее недавно отворили. Помедлив на пороге, я вгляделся в темноту, ожидая увидеть чью-то фигуру в сгустившейся тени возле буфета или по другую сторону, под портретом мистера Франклина. Но комната была пуста, ничьего присутствия я не ощутил. Сквозь полукруглые окна, выходившие на веранду, проникал мерцающий свет, даже отражавшийся на полированной поверхности стола, который обступили контуры пустых стульев. Два из них, с высокими резными спинками, стояли друг против друга у концов стола. На фоне неба виднелись силуэты искривленных деревьев на верхней террасе и величественные вершины веллингтоний с нижних. Огромные каминные часы тикали совсем редко, словно у них кончался завод, и слепо глядели на комнату бледным циферблатом. Подавив желание включить свет (пальцы мои даже сомкнулись было на спасительном рычажке), я осторожно пересек комнату, так что не скрипнула ни одна половица, не сдвинулся ни один стул, когда я слегка опирался на их спинки. Не отклоняясь ни вправо, ни влево, ни разу не обернувшись, двигался я вперед.
Теперь передо мной простирался длинный коридор, заставленный бесценными предметами искусства, который вел через несколько прихожих в просторную музыкальную гостиную, но я задержался, прежде чем ступить в него. Переход этот, куда слабый свет проникал из ряда окон слева, выходивших на веранду, был очень узок, стесненный множеством полок и вычурных столиков. Не то чтобы я боялся сбить какую-нибудь вещицу по дороге: больше заботила невозможность разминуться в такой тесноте с кем бы то ни было. Если подобная встреча произойдет. И тут я отчетливо осознал, что в коридоре не один: в неживой атмосфере, среди выпирающих углов мебели, ощущалось чье-то присутствие, причем так явно, что я инстинктивно стиснул в кармане рукоять пистолета, прежде чем успел об этом подумать. Либо кто-то прошел тут совсем недавно, либо же поджидает в дальнем конце, спрятавшись за одним из выступов, пока я не миную его. Тот самый человек, что открыл дверь в столовую. Стоило понять это, как вся кровь отхлынула от сердца.
Вперед меня гнала не смелость, а ощутимый подпор сзади, лишавший возможности отступить: словно толпа подталкивала меня, теснясь все плотнее, словно бы я уже наполовину был втянут в необъятную тюрьму, где отовсюду раздавались вопли и скрежет зубовный, где червь не умирает и пламя не угасает. Не могу ни объяснить, ни обосновать, откуда нахлынула на меня эта буря эмоций, пока я стоял и вглядывался в тишину перехода к музыкальной гостиной, могу лишь повторить, что не отвага, а страх утонуть в необъятном океане страданий и сочувствия к страдальцам толкнул меня дальше.
По крайней мере, органы чувств не подвели: мозг даже отмечал впечатления значительно острее и точнее, чем обычно. К примеру, я отметил, что обе двери, обитые зеленым сукном, расположенные по ходу коридора и разделяющие его на небольшие отсеки, стоят нараспашку, а при слабом освещении заметить подобное было не так-то просто. И еще взгляд задержался на листьях пальмы футах в десяти впереди — они еще покачивались от движения воздуха, кто-то совсем недавно прошел мимо растения в кадке. Длинные темно-зеленые листья помахивали, словно руки.
Крадучись, стараясь ступать совсем бесшумно по японским циновкам на полу, я двинулся наконец вперед, причем внутренне испытывал некую гордость, что умудряюсь еще владеть собой.
Путь казался бесконечным. Не имею представления, насколько быстро или медленно я продвигался, но по дороге внимательно всматривался в окружающие предметы, и особенно пристально — в проемы. Когда я миновал первые обитые сукном двери, коридор расширился, создав укромный уголок с книжными полками, а вдоль стен стояли диванчики и маленькие столики для чтения.
Вскоре проход вновь сузился. Окна здесь стали выше и уже, а вдоль стен застыли мраморные античные статуи, глядя на меня, словно из мира мертвых. Их белые бесстрастно сияющие лики видели меня, но ничем этого не выдавали. Вот я прошел и через вторые двери. Их створки, как и у первых, были крюками зацеплены за кольца в стенах. Все двери раскрыты — и совсем недавно.
Наконец я вошел в последнее расширение коридора — прихожую перед самой музыкальной гостиной, для людей, которым не хватило места в зале во время молитвенных собраний, что проводились здесь. От большого зала ее отделяла не дверь, а тяжелые портьеры, обычно задернутые. Но теперь они были широко раздвинуты. Именно там я ощутил, что полностью окружен. Толпа, подпиравшая сзади, обтекла меня и теперь поджидала и впереди, а в воздухе над головой сонм сгустился и застыл на мгновение. Но тут же бурлящее движение возобновилось в полной, глухой тишине — такая бывает в пещере глубоко под землей. Я ощущал заключенную в ней муку, страстное стремление и потуги вырваться на свободу. Из полутьмы проступали молящие лица, жаждущие, но потухшие глаза, запекшиеся пересохшие губы, рты, разверстые в беззвучном крике, а источаемое ими безысходное отчаяние и ненависть заставили жизнь во мне замереть от тщетной жалости. Невыносимость надежды, которой не дано было осуществиться, окутывала все.
Причем сонм этот был не един, как я вскоре осознал, их было множество, ибо стоило одной части слишком близко подойти к порогу освобождения, как ее тут же оттянули назад и не дали вырваться. И здесь был раздор. Им-то и питалась Тень, которая вообразилась мне несколько недель назад, в ней барахталась, как в бездонной яме, откуда нет выхода, тьма потерянных душ. Слои смешивались, нескончаемо борясь между собой. Именно в этой зловещей Тени узрел я прежде внутренним оком Мэйбл, но теперь был уверен, что за ее беспомощным призраком видел у самого страшного зева Тени еще одну темную фигуру, по чьей воле пребывала здесь беспросветная бездна горя без возможности утешения… Сонм двинулся на меня.
Какие-то звук и движение помогли мне прийти в себя. Напольные часы в дальнем конце зала пробили три часа. Бой часов и был тем звуком. А движение?.. Зал в самом центре пересек чей-то силуэт. Тут же меня вновь охватил острый страх за собственную жизнь, а рука сжала рукоятку дурацкого пистолета. Я отступил в складки портьеры. Силуэт приближался.
Отчетливо помню все подробности. Вначале надвигающаяся тень показалась мне гигантской, намного выше человека, но по мере приближения я неосознанно соотнес ее с отблескивавшими в лунном свете органными трубами. Вышло, что роста она была вполне человеческого.
Затих отголосок последнего удара часов. Тогда донесся звук шагов, скользящих по натертому полу. Он сопровождался монотонным бормотанием, будто еле слышно читали молитву. Фигура говорила. Это была женщина. А перед собой обеими руками она несла какой-то слабо светившийся предмет — стакан воды. И тут я узнал ее…
Оставалась еще пара секунд до того момента, как она поравняется со мной, и я ими воспользовался, отступив подальше и распластавшись у стены. Голос прервался, пока женщина плотно задергивала портьеры за собой одной рукой. Не заметив моего присутствия, хотя, потянув за шнур, даже коснулась моего халата, она возобновила свое жуткое торжественное шествие и углубилась в коридор.
Потом бормотание возобновилось, причем каждое слово доносилось очень отчетливо. Женщина шла с высоко поднятой головой, словно во главе процессии:
— Даже капля холодной воды, поднесенной во имя Него, смочит их пылающие языки[48]Ср.: «И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей» (Матф 10: 42)..
Фраза повторялась вновь и вновь, затихая по мере того, как женщина отходила все дальше, пока наконец и голос, и фигуру не поглотили тени в дальнем конце коридора.
Трудно сказать, сколько времени я стоял, вжавшись спиной в стену, кутаясь в шторы и пытаясь спрятаться, пока не осмелился хотя бы выпростать руку. Ужас, что эта женщина сейчас вернется, мало-помалу отступал. Порождения, вызванные на свет ее появлением, исчезли; я остался один в утробе этого гнусного здания… Неожиданно пришло в голову, что наверху меня ждут перепуганные женщины; я весь взмок и дрожал теперь еще и от холода.
Позднее я постарался восстановить в памяти все, что произошло. Вспомнилось, с каким трудом я оторвался от стены, покидая спасительную тень моего угла, и ступил в сумерки коридора. Вначале робко двинувшись бочком, я понял, что так идти невозможно, отважно развернул плечи и стремительно зашагал, не обращая внимания на то, что домашний халат, развевающийся от быстрой ходьбы, едва не сшибал антиквариат, расставленный в коридоре. Ветер, печально завывая за высокими узкими окнами, проникал и в здание; сквозняк пробирал до костей, а я содрогался от мысли, что женская фигура вновь выступит из-за угла или из алькова.
Но не страшился ли я чего-то еще сильнее? Не могу сказать. Знаю только, что, когда первые двери, обитые зеленым сукном, захлопнулись позади, а до вторых оставалось совсем недалеко, раскат грома настиг меня с такой чудовищной силой, как будто вырвался из потустороннего мира. Он потряс здание до самого основания. Теперь я был ближе к источнику звука, чем тогда, в гоблинском саду. Гулкий, как удар колокола. Оцепенение сковало меня, даже страх отступил, а я как заколдованный напряженно вслушивался в его раскаты. «Это и есть гул, — промелькнуло в оглушенном мозгу, и, думаю, я прошептал почти в голос: — Врата закрываются».
Гром, казалось, шел отовсюду, однако не заглушал свист ветра за окном, поэтому я даже усомнился в своем слухе. Он исходил из-под земли — грохот безжалостно захлопнувшихся врат, сотрясших землю, — последний роковой раскат. Помощи несчастным ждать неоткуда — створки сомкнулись.
Меня захлестнула жалость, агония горькой и тщетной ненависти, выплеснувшейся наружу. Это изменило увиденный мною образ женщины. Та словно снизошла с небес утолить жажду страждущих; а что же мужчина — или мужчины? — они лишь покрыли весь мир непроницаемым слоем убеждений и Догм!..
Я пересек гостиную, избегая взгляда на портрет, — а вдруг он довольно улыбается? — и наконец достиг холла, куда падал свет верхнего этажа, такой яркий в сравнении с сумраком коридора. Все двери я аккуратно затворил за собой; но вначале мне пришлось их открыть: женщина закрыла их все. По лестнице я уже бежал наверх, перешагивая через две ступеньки. Сестра стояла напротив спальни Мэйбл. По лицу ее я понял, что она тоже слышала. Спрашивать было незачем. Я быстро сообразил, что сказать.
— Там ничего нет, — пробормотал я и поверхностно описал, что видел: — Внизу все тихо и спокойно.
Да простит меня Бог за эту ложь!
Фрэнсис кивнула, бесшумно закрыв за собой дверь спальни Мэйбл. Сердце у меня заколотилось, а потом замерло.
— Мэйбл… — сказала сестра.
Это прозвучало приговором.
Я попробовал протиснуться мимо сестры и войти в комнату, но она предостерегающе подняла руку. Фрэнсис полностью владела собой.
— Тише! — сказала она вполголоса. — Я успокоила ее и дала глотнуть бренди. Теперь она спит. Не будем ее тревожить.
Сестра потянула меня в глубь лестничной площадки, и, как только мы отошли, часы в холле пробили половину четвертого. Получается, я простоял внизу в коридоре полчаса.
— Тебя не было так долго, — просто сказала Фрэнсис. — Я боялась за тебя…
И она стиснула мне руку липкой и холодной ладошкой.
Глава VIII
Затем, тем ранним предзимним утром в недрах настороженно прислушивавшегося к нашим речам дома, сестра в немногих словах поведала мне кое-что о Мэйбл. Голос Фрэнсис звучал чуть отстраненно. Ничего необычного или чрезвычайного не было в этом повествовании, собственно, я и сам почти обо всем догадался. Однако время и место, общая атмосфера усилили воздействие: Мэйбл считала себя безвозвратно потерянной и проклятой.
Впрочем, о том, что она любила супруга столь самозабвенно, что полностью вверила ему свою душу, я не предполагал, скорее всего, оттого, что вообще не очень задумывался об этом. Об ее «обращении» мне было известно, но полная искренность, с которой Мэйбл приняла самые жестокие и мрачные из догм мужа, неприятно поразила меня. В любви более слабая натура, конечно, оказывается податлива внушению. Этот же господин столь ярко внушил картину своего излюбленного «озера огненного и серного», что она уверовала в нее. Страхом загнал он жену на небеса, скроенные по его лекалу, в миниатюре представленные на земле усадьбой его Башен. Скорбная схема небес из горстки спасенных и миллионов проклятых навеки включала и собственный загончик для паствы, куда он поместил жену, прежде чем та это осознала. Собственный разум перестал ей принадлежать. И теперь подобный склад мыслей поддерживала миссис Марш, хотя и смягченный, как полагала сестра, толикой робкого суеверного милосердия.
Но я не в силах был понять, не говоря уж о том, чтобы принять внутренне тот факт, что все попытки молодой вдовы за целый год, проведенный за границей, стряхнуть с себя страх посмертной кары и вернуть более ясное состояние ума, свойственное ей до того, как этот религиозный захватчик парализовал ее волю, оказались безуспешны. Она вернулась в Башни, чтобы вновь обрести потерянную душу, но обнаружила, что утрата безвозвратна. Прояснить разум не получалось. После устранения жуткого внушения бедняжка ощутила крушение всего, чему он ее учил, но тщетно пыталась восстановить мир и красоту, разрушенные его учениями. Опустевшее место зияло чернотой. Пытаясь вновь обрести радость жизни и беззаботность, она натолкнулась на ненависть и дьявольский расчет. Человек, которого она самозабвенно любила и которому вверила душу, оставил ей в наследство лишь неугасимый ужас проклятия. Его образ мыслей сковал ее и не давал вырваться.
Обо всем этом Фрэнсис поведала мне много короче, чем я тут передал. Но во взгляде и жестах, сопровождавших лаконичный рассказ, ощущались огромная убежденность и мрачный драматизм, которые в полной мере не удалось передать. Речь шла о вещах, столь далеких от того мира, в котором я жил, что не раз на моих губах возникала сочувственная улыбка, однако, взглянув на себя в зеркало, я увидел вместо нее уродливую гримасу. Смеху не было места той ночью.
Сколь ни невероятным было произошедшее для двадцатого века, однако малодушное слово «бред» ни разу не возникло у меня в мозгу. Я помнил о зловещей Тени, об акварелях сестры, безволии хозяйки, как бы лишившейся всех личных черт, о необъяснимом громоподобном гуле и фигуре миссис Марш, исполняющей свой полночный ритуал — такой наивно-трогательный и жуткий. Невзирая на всю независимость воззрений, меня пробрала дрожь.
— Мэйбл больше нет, — от этих слов сестры новая волна дрожи охватила меня. — Он убил ее, бросив в свое «озеро огненное и серное».
Я молча смотрел на нее, как в кошмаре, где все пошло противоестественным образом.
— Убил в «озере огненном и серном», — повторила она чуть слышно.
Я испытал страстное желание сказать что-нибудь ясное и разумное, чтобы разогнать удушающий ужас, и вновь зеркало, повинуясь всеобщему здесь закону искажения, отразило вместо ободряющей улыбки пустую ухмылку.
— То есть, — тоже совсем негромко, заикаясь, выдавил я из себя, — вера ее угасла, а ужас остался?
Чтобы не смотреть больше на свое отражение, я отошел от зеркала.
Сестра медленно кивнула, словно на голову ее давила большая тяжесть. По лицу разлилась пепельно-серая бледность.
— То есть, — громче переспросил я, — ты хочешь сказать, что она — сошла с ума?
— Она во власти кошмаров, — прошелестел ответ сестры. — Мэйбл утратила душу. Ее душа — там! — Фрэнсис дрожащей рукой указала вниз. — И она ее тщетно ищет…
Слово «душа» помогло мне встряхнуться и обрести крупицу здравого смысла. Я воскликнул:
— Но ведь ужас бедняжки не… не заразен, он не может перекинуться на нас! И уж конечно не способен преобразовываться в чувственные ощущения — тактильные, зрительные и даже слуховые!
Но тут она меня перебила, быстро, почти нетерпеливо заговорив с той же убежденностью, как первый раз, когда пробудила меня той ночью:
— Именно ее ужас пробудил других . Приблизил к ним. Они преследуют ее. А попытки Мэйбл противиться дали им к тому же надежду, что вырваться все же возможно. Они не прекращают попыток ни днем, ни ночью.
— Вырваться! Другие! — возникшее было во мне возмущение тут же улеглось. Меня вновь охватила дрожь. Думаю, в тот миг я мог поверить любому ее слову. Спорить было тщетно.
— Его непреклонная вера и верования его предшественников, — отвечала она столь уверенно, что я даже обернулся посмотреть, не стоит ли кто у меня за спиной, — осели тут повсюду густой тенью. И для несчастных душ, заключенных тут неколебимыми представлениями, отсюда не было выхода, как из каменного мешка, пока попытки Мэйбл порвать путы не пустили внутрь немного света. Теперь неисчислимые толпы тянутся к слабому лучу в поисках выхода. И если ей удастся освободиться, она принесет освобождение и всем им!
У меня перехватило дух. Неужели предшественники мистера Франклина, прежние владельцы Башен, также обрекали на вечное проклятие весь мир за пределами круга своих единоверцев? Может быть, здесь крылась разгадка ее непонятных рассуждений о «слоях», стремящихся одержать верх друг над другом? Но если душа человека сохраняется после смерти, не могут ли сильные убеждения оказывать на нее влияние даже тогда?
Вопросы просто захлестнули меня и, не в силах ни на чем остановиться, я лишь в полном замешательстве молчал, хотя молчание это явно затянулось и стало неловким. Выходила невероятная смесь из похожих на истинные объяснений и тех, против которых восставало все мое существо, так многое прояснялось, но в то же время остальное делалось еще беспросветнее. Слова сестры действительно представляли истолкование череды моих ощущений и отвратительной мешанины переживаний — бесплодной борьбы, мук, сострадания, ненависти, желания вырваться, — но такое натянутое, что, если бы не сила убеждения, звучавшая в ее голосе, я ни на секунду бы ей не поверил. Теперь же я пребывал в очень странном состоянии: не мог ни мыслить ясно, ни возразить ничего против удивительных ее утверждений, высказанных в коридоре зябким ранним утром, когда всего лишь тонкая стена отделяла нас от Мэйбл. Причем, припоминаю, стоило ее словам прозвучать, вокруг нас словно сгустился дух инквизиции и забил черными крылами над головой.
На секунду все же здравый смысл пробился наружу. Я повернулся к сестре.
— А как же гул? — спросил я чуть громче, стараясь придать голосу твердости. — Тот грохот затворяющихся врат? Мы ведь все его слышали? Он также лишь субъективен?
Фрэнсис как-то чудно озиралась, пугая меня еще больше. Я повторил свой вопрос еще раз, почти сердито, и с нетерпением ждал ее ответа.
— Какой гул? — спросила она невинно. — О каких затворяющихся вратах ты говоришь?
Но лицо ее совсем побелело, на лбу заблестели капельки пота. Пошатнувшись, сестра ухватилась за спинку стула и вновь быстро, исподтишка, оглянулась, отчего кровь застыла у меня в жилах. Я понял: Фрэнсис меня вовсе не слушала, вслушивалась в иные звуки.
Последнее открытие пробудило во мне значительно более сильные переживания, чем простое желание получить объяснение. Теперь я не только не ждал ответа, но даже страшился его услышать. С растущим ужасом я понял, что тогда пришлось бы поведать о моих странствиях внизу, что закрепило бы испытанное там в реальности и тем повысило бы реальность всего в целом. Пожалуй, Фрэнсис могла бы объяснить и это!
Все еще настороженно прислушиваясь, она подняла голову и взглянула мне прямо в глаза. Губы ее дрогнули. Слова долетели ко мне как бы издалека, словно камень упал в глубокий колодец: его судьба скрыта, но ясна.
— Мы с ней в одной лодке, Билл. Вместе. Интерпретации наши отличаются, потому что каждый из нас видит лишь одну из частей. Мэйбл же в самой сердцевине.
Мною овладело дикое желание что-нибудь сломать. Отчего бы ей не выразиться прямо, без всяких уклонений! Если бы мне только удалось высказать словами то, что немо вопияло внутри! Если бы только что-нибудь произошло! Все эти экивоки лишь туманили разум и ничего не проясняли. Ужасный смысл ее слов на секунду вынырнул на поверхность, поразив меня, словно молнией, но почти тотчас потонул снова.
Но это не прошло вовсе без пользы. Ко мне вернулся дар речи. Я не особо верил в то, что произнесли мои уста, но тогда мне показалось разумнее сказать именно такие слова. Сознание при этом пребывало в приглушенном состоянии, далеком от ясного соображения.
— Да, Фрэнсис, думаю, ты права и мы с ней в одной лодке, — я хотел сказать это громко и даже с напором, но только прошептал, чтобы предательская дрожь не испортила все дело, — и именно поэтому, дорогая сестренка, мы с тобой уезжаем завтра, даже сегодня, поскольку день уже наступил, покидая этот дом проклятых навсегда. Мы едем назад в Лондон.
Фрэнсис подняла на меня глаза, и меня поразило выражение крайнего смятения на ее лице. Причем вызвали его отнюдь не мои слова, а звук, который она услышала, такой слабый, что без ее указания я бы не понял, откуда он шел. Вот вновь раздался он в ночи, скрежет зубовный. А вслед за ним тихие шаги: кто-то крался к двери.
У меня на мгновение даже голова закружилась. Сестра ринулась мимо меня к двери, и вначале я хотел удержать ее, но во взгляде у нее появилась такая решительность, что я счел разумным последовать за нею, доверившись ее импульсу. Пистолет в кармане снова бесполезно ткнулся об ногу. Я был возбужден сверх всякой меры и стыдился признаться себе в этом.
— Держись ближе ко мне, Фрэнсис, — успел я сказать хриплым голосом.
И тут дверь распахнулась, луч света упал на женскую фигуру, быстро удаляющуюся от нас по коридору. А возле лестницы виднелась в густой тени другая фигура, манившая Мэйбл к себе.
— Не дай им завладеть ею! Скорей!
Крик резанул мне уши, и через мгновение мы подхватили Мэйбл с обеих сторон. Это было ужасно. Нет, Мэйбл не сопротивлялась, напротив, она сразу обмякла и повисла у нас на руках мертвым грузом. А зубы ее продолжали скрежетать. Даже рука Фрэнсис не остановила жуткий этот звук…
Мы отнесли ее обратно в спальню, где она отчасти успокоилась. Будто буря пронеслась. Все кончилось так быстро, что заставило сомневаться в реальности произошедшего. Словно случилось это не с нами, а всплыло на мгновение из памяти. Мэйбл почти сразу уснула, как если бы ходила во сне. Не знаю. Я не задавал тогда никаких вопросов, просто молча находился рядом, хотя защиты от меня требовалось не больше, чем мне от пистолета. Фрэнсис странным образом действовала очень уверенно и собранно… Какое-то время я бесполезно подпирал дверь, пока Фрэнсис со вздохом не сделала мне знак идти к себе.
— Подожду у тебя в спальне наверху, пока ты не придешь, — шепнул я.
Однако, выйдя в коридор, дальше не пошел, чтобы уловить первый же призыв о помощи. В темном коридоре простоял я так около четверти часа, когда Фрэнсис вышла из спальни Мэйбл, тихо притворив за собой дверь. Перегнувшись черед перила, я хорошо ее видел.
— Я зайду к ней около шести часов, когда рассветет, — шепотом сказала она. — Бедняжка спит крепко. Не стоит дежурить. Если что-нибудь случится — я позову… лучше, наверное, оставить твою дверь приоткрытой.
И она поднялась к себе, бледная, как привидение.
Но я сначала проследил, как она легла, сам же не стал ложиться, проведя остаток ночи в кресле возле открытой двери, чтобы услышать любой шорох. Вскоре после пяти часов ключ в двери Фрэнсис повернулся и сестра спустилась к Мэйбл. Перегнувшись через перила, я подождал, пока она не появилась снова и благополучно поднялась к себе. Сестра закрыла свою дверь. Видимо, у подруги все было спокойно.
Только после этого я лег, но так и не уснул. Все треволнения этой ночи не шли у меня из головы, а особенно застряла в памяти одна деталь, которую, я надеялся, сестра не заметила: безмолвную темную фигуру экономки, поджидавшую у подножия лестницы, — без сомнения, поджидавшую Мэйбл.
Глава IX
Дальше мне осталось лишь наблюдать в роли зрителя. Во-первых, сестра не сомневалась в своих действиях, а во-вторых, всю ответственность за то, что мы оставим Мэйбл одну, Фрэнсис возлагала исключительно на мои плечи, и такой ноши мне не хотелось. Да и к тому же, когда мы втроем встретились в тот день, все пошло обычным чередом, без малейшего напряжения, поэтому оказалось совсем неловко выдвигать причину для внезапного отъезда. По меньшей мере это выглядело бы дезертирством. В общем, я не в силах был ничего предпринять, а Фрэнсис собиралась остаться в любом случае. Поэтому мы никуда не уехали. Ночные происшествия всегда представляются преувеличенными и искаженными при ярком свете дня — нельзя ни воссоздать кошмар, ни объяснить, отчего он был столь непередаваемо ужасен.
Я проспал до десяти часов, а когда собрался позвонить, чтобы мне принесли завтрак, на подносе обнаружил записку от сестры. Она писала, что Мэйбл вновь вполне в себе и ничего о ночных похождениях не помнит; нет необходимости ни в каких энергичных мерах; следует вести себя по отношению к хозяйке как обычно, словно мне ничего не известно. «И если не возражаешь, Билл, давай не будем упоминать ни о чем и в разговорах между собой. Если начать обсуждать подробности, дело раздуется до неузнаваемости, поэтому лучше молчать. Сожалею, что побеспокоила тебя без всякой необходимости, я просто поддалась экзальтации. Прошу, забудь все, что я тебе наговорила». Вначале она написала вместо «все» — «ту чепуху», но потом вычеркнула. Она стремилась убедить меня, что мы все стали жертвой истерического состояния, которым была насыщена минувшая ночь, и я молча проглотил предложенное объяснение, хотя оно меня ничуть не устраивало.
Оставалась еще неделя нашего пребывания, и мы дожили в Башнях до последнего дня без всяких дурных последствий. Хотя порой желание бежать, оказаться как можно дальше от этих стен становилось почти невыносимым, но я все же сдерживал его, наблюдал и размышлял. Ничего не происходило. Как и прежде, никакого развития, никаких взаимодействий между причиной и следствием, а уж кульминациями и не пахло. Жизнь наша в усадьбе лениво покачивалась, как длинная штора на ветру, и можно было лишь догадываться, откуда взялся сквозняк и зачем тут вообще эта штора. Конечно, романисту не составило бы труда оформить странный этот материал во внятную последовательность эпизодов, которые вполне способны были бы вызывать читательский интерес, но не были бы правдой.
Поэтому перед вами не повесть, а записи о том, как это было. Ничего не случилось.
Возможно, моя сильная неприязнь к наступлению ночи объяснялась исключительно возбужденным воображением или же меня вывело из себя решение Фрэнсис спать в одной комнате с Мэйбл. Так или иначе, нервы были постоянно напряжены. Я непрестанно ожидал любого события, после которого тут нельзя будет более оставаться, но, конечно, случай так и не представился. Я спал вполглаза, оставлял дверь приоткрытой, чтобы услышать каждый шорох, даже крадучись разгуливал по нижнему этажу, пока все спали в своих постелях, но ни разу ничего не обнаружил: все двери были заперты, экономка больше не появлялась, в коридорах и переходах не слышно было ничьих шагов. Ни разу не раздался больше и гул. Тот жуткий, утробный гром, вызвавший во мне глубочайший ужас, не поднимался больше из бездны, откуда дважды доносился прежде. И хотя разум безоговорочно отказывался принять мрачную причину, она все же невероятно сильно господствовала надо мной. Попытка к бегству Мэйбл не удалась, и врата безжалостно закрылись. Она потерпела неудачу, прочие отчаялись. Таково было объяснение, витавшее в той части мозга, где под воздействием чувств рождаются намеки, еще не одетые в слова. Но я так и не выпустил его на свет.
Но если уши мои были отверсты, то и глаза также зрели, и ни к чему было бы притворяться, что я не замечал сотен подробностей, легко поддававшихся безрадостному толкованию, прояви я слабость так поступить. Некий защитный барьер вокруг меня рухнул, и снаружи бродил ужас, пробуя протиснуться во все щели. Признаю, значительная доля этих деталей возникла в развитие смутных ощущений, которые после событий той ночи и разговора с Фрэнсис проявились в виде мыслей. Поэтому я не стану здесь о них писать, так же как не упоминал о них никому на протяжении той нескончаемой последней недели в Башнях. Жизнь текла в точности так же, как и прежде: Мэйб столь же бесцветная и внешне спокойная, Фрэнсис молчаливая, бесконечно-тактичная, самозабвенно посвятившая себя спасению подруги.
Те же глупые обеды и ужины, скучные долгие вечера, уродство дома и усадьбы, от которых никуда не деться, и Тень, оседающая на всем таким густым слоем, что он казался почти вещественным. Единственными дружелюбными существами в этом враждебном и жестоком месте были малиновки. Птички бесстрашно скакали по нелепым террасам, подлетая к самым окнам дома. Одни малиновки знали радость и танцевали, не веря, что зло вообще возможно в сияющем мире Господнем. Они доверяли всем, в их мироздании не было места для ада, проклятия и озер из огня и серы. Я полюбил этих пичуг от души. Возможно, если бы Сэмюэль Франклин заметил их, то стал бы проповедовать совсем иное: любовь вместо гнева и проклятия!
Большую часть времени я проводил за письменным столом, но это была лишь видимость работы, да еще и небезопасная, возможно. Ибо в творческом состоянии разум пропускал в себя и все прочее. То же выходило и с чтением. В конце концов единственной действенной защитой стала позиция агрессивного противодействия. Дальние прогулки исключались, я не мог оставлять сестру надолго одну, поэтому гулял поблизости от дома. Но гоблинский сад больше не обступал меня. Я чувствовал, что он неподалеку, но полностью погрузиться в него не мог. Возможно, слишком пестрые впечатления осаждали мой разум, не давая остальным прочно закрепиться.
Действительно, все, по выражению сестры, «слои» проявлялись попеременно и задерживались на некоторое время. Независимо от времени дня и ночи, они самовольно возникали и располагались, подобно скваттерам. При этом они затрагивали струны, уже существовавшие во мне, ибо каждое сознание заключает в себе наследственные отложения, которые возделываются всеми потомками. И после случайного ливня могут прорасти неожиданные цветы. По крайней мере, так было со мной. С наступлением темноты коридоры переходили во власть инквизиции, в угрюмых холлах устанавливались пыточные орудия, и вот однажды, когда я сидел в библиотеке, меня посетило замечательная убежденность: стоит признать собственную злонамеренность, и потом можно спокойно творить свои козни дальше, поскольку признание есть выражение, а выражение приносит облегчение и готовит к новому накоплению. И в подобном настроении я был непримирим к прочим, придерживавшимся иного мнения. А то меня преследовали некие языческие мотивы — нечто на первый взгляд тривиальное, но еще какое значимое! К примеру, мне приснилось, что к дому несется с жутким топотом стадо кентавров, грозя его разрушить, а пробудившись, я увидел, как чуть ниже наших террас по полю скачут кони. Их недоброе ржание и шумное фырканье доносились словно из-под самых окон.
Однако наиболее примечательным, как мне представляется, был эпизод с деревом (пожалуй, любопытнее был лишь случай с детьми, но к нему я вскоре еще вернусь) — забыть невозможно, вижу как наяву.
Под окном моей комнаты, выходившим на восток, росла на лужайке гигантская веллингтония, верхушкой доходя почти до рамы. Она стояла примерно в двадцати футах от стен, на верхней террасе сада, и, задергивая шторы перед сном, я часто бросал взгляд на дерево, как бы запахнувшееся в бахрому тяжелых ветвей, на которые падали отблески света из других окон, отчего оно делалось похоже на застывшую величественную фигуру. Словно идол древнего мира, требовавший к себе внимания. Внешний вид дерева внушал почтение. Хотя движения ветвей не было заметно, они явственно шуршали, а ночью веллингтония казалась такой темной, зловещей и чудовищной, что я всегда испытывал облегчение, задернув шторы. Однако, улегшись в кровать, я начисто забывал о дереве, а днем, уж конечно, не подходил к нему.
Но вот как-то перед сном, подойдя к окну, чтобы закрыть его — дул резкий восточный ветер, — я увидел, что деревьев стало два. Рядом с первой веллингтонией выросла вторая, столь же огромная, столь же жуткая. Теперь оба дерева угрожающе возвышались на лужайке передо мной. Причем возникший двойник обладал свойством, испугавшим меня, прежде чем я смог противопоставить ему какие-то резоны, — тем же зловещим свойством, что и картины сестры. У меня возникло странное чувство, словно все прочие деревья, неясно видневшиеся на лужайках, такого же рода и придвинулись к окнам вслед за великанами-предводителями. Тут в комнате надо мной закрыли жалюзи — и второе дерево исчезло во тьме.
Несомненно, именно особое освещение поместило второе дерево в мое поле зрения, но когда черные жалюзи опустились, скрыв его, оно словно бы скользнуло в нелюбимое мною дерево на лужайке как его эманация. Так и сад превращался в способ передачи того, что крылось за ним…
Поведение дверей, обычных дверных створок, кажется едва ли заслуживающим упоминания, хотя они постоянно норовили то открыться, то захлопнуться самостоятельно, но каждый раз тому могло найтись множество естественных причин и, правду сказать, я ни разу не застал их в начале движения. Собственно, лишь после многократного повторения я обратил внимание на эту особенность, но сразу припомнил и остальные случаи. Их поведение производило неприятное впечатление, словно кто-то постоянно бродил по дому и, не показываясь, тайно сообщался с… другими.
Не стану тут приводить описания этих неясных эпизодов, в совокупности совершенно несносных, хотя каждый выглядел тривиально. Но вот случай с детьми, о котором я упомянул чуть выше, был иного свойства. Я привожу его тут оттого, что он показал, сколь живо интуитивный детский ум воспринял витавшее в воздухе впечатление. Рассказ уложится в несколько слов. Думаю, это были дети кучера, который возил еще мистера Франклина, но точно сказать не могу.
Как-то перед вечерним чаем я услышал отчаянные крики в розарии, протянувшемся вдоль стен конюшни. Поспешив туда, я обнаружил девочку лет девяти-десяти, привязанную к лавке, и двоих мальчишек — одного лет двенадцати и другого, совсем малыша, которые собирали сухие веточки под розовыми кустами. Девочка вся побелела от страха, но мальчишки смеялись и настолько оживленно беседовали между собой, что даже не заметили моего появления. Как я понял, шла какая-то игра, но пленницу она вовсе не забавляла, в глазах девочки плескался неподдельный страх. Не медля ни минуты, я развязал ее; веревка была затянута непрочно и неумело, она даже не врезалась в кожу — значит, не это заставило девочку побледнеть. Освобожденная пленница откинулась на лавку, потом подобрала юбчонки и со всех ног кинулась под спасительную крышу конюшни.
Ни звуком не отозвавшись на мои утешения, она бежала так, словно спасалась от смертельной опасности, поэтому я рассудил, что мальчишки затеяли что-то очень жестокое. Вполне вероятно, по недомыслию, как нередко бывает с детьми, но я все же решил докопаться до истины.
Мальчишки, которых мое вторжение ничуть не встревожило, лишь смущенно рассмеялись, когда я сообщил, что их пленница ускользнула, и без утайки поведали, в чем состояла их игра. Ни капли стыда не читалось в их взоре, впрочем, они также не догадывались, что подражают чудовищному обряду.
Никакого притворства. Хотя они и играли «понарошку», но в подражание тому, что почитали совершенно правильным и ничуть не жестоким. Взрослые тоже так поступали. Это было необходимо для ее же блага.
— Мы собирались ее сжечь, сэр, — сообщил мне старший из мальчиков, а на мое недоуменное «За что?» не замедлил пояснить: — Никак не хотела поверить в то, во что нам хотелось.
И хотя дети лишь играли, этот крошечный эпизод столь задел меня, был таким жутким, что ограничиться одними словами порицания удалось с огромным трудом. Ребята ретировались — испуганные, но вовсе не убежденные, что поступили в корне дурно. Подобное отношение к жизни перешло к ним по наследству, они успели впитать его, взрослея в такой атмосфере. И при удобном случае возобновят свою «благотворную» пытку, пока девочка не «поверит».
В смешанных чувствах жалости и беспокойства, слившихся в неописуемую волну, направился я к дому, но пока шел по саду, на меня накатывали все новые волны, каждая ощутимее и горше предыдущих. В результате я испытал целую серию чувств, подобно ныряльщику, что поднимается на поверхность через слои воды, обладающие различной температурой, только тут чередование шло в обратном порядке: более нагретые снизу, а более прохладные — сверху. Так вначале меня затронул гоблинский наклон ив, окаймлявших поле, затем чувственные извивы узловатого ясеня, изогнувшегося аркой, через которую я ступил в молодую дубовую рощицу, где скрывались фавны и сатиры, что устраивали игрища при свете полной луны перед языческими алтарями; и наконец, меня окутал сумрак рощи искривленных сосен, сгрудившихся друг подле друга, где вслед за ужасным крестом брели фигуры с закрытыми капюшонами лицами. Детская игра, казалось, раскрыла меня, словно перочинный ножик. И все замкнутое ринулось на меня.
По-видимому, сочетание переживаний породило во мне столь невыносимое отвращение, что я отправился к Фрэнсис убеждать, что должен немедленно уехать, пусть даже пока один. Хотя это и был наш последний день в усадьбе и мы собирались назавтра отправиться домой, я опасался, что сестра все же найдет какую-нибудь убедительную причину остаться. Но неожиданный случай устранил эту тревогу. Парадная дверь была открыта, у подъезда стоял кэб, а в холле высокий пожилой джентльмен серьезно беседовал с горничной, которую мы прозвали гренадершей. В руке он держал какую-то бумагу.
— Я приехал посмотреть дом, — услышал я слова гостя, взбегая вверх по лестнице к Фрэнсис, которая, как любопытная девочка, выглядывала через перила на незнакомца.
— Да, — сказала она со вздохом не то сожаления, не то облегчения, — дом выставлен на продажу или сдачу внаем. Мэйбл все же решилась. И вот вроде из какого-то общества приехали.
Я ликовал, теперь наш отъезд выглядел вполне естественным и возможным.
— Но ты мне ничего об этом прежде не говорила, Фрэнсис!
— Мэйбл и сама всего несколько дней назад получила от них предложение, а мне сказала только сегодня утром. Возможность вполне реальная. Одной ей ничего не выправить.
— Значит, она признала поражение? — спросил я, не сводя с сестры глаз.
— Она полагает, что это неплохой выход. Эти люди не родня, а какое-то общество, община, и собираются тут…
— Община? — ахнул я. — Религиозная?
Фрэнсис покачала головой и улыбнулась в ответ:
— Не совсем, это объединение мужчин и женщин, которым нужно помещение на природе, куда бы они могли приезжать, чтобы размышлять и излагать свои мысли на бумаге, обдумывать свои планы… Точнее я не знаю.
— Мечтатели-утописты? — продолжал уточнять я уже совсем с легким сердцем. Вопрос мой не нес ни капли цинизма и был задан из простого любопытства. Фрэнсис, конечно же, сможет меня просветить. Она разбиралась в подобных вещах.
— Не совсем, — с улыбкой отвечала она, — их учение величественно, просто и старо как мир. По сути, оно лежит в основе всех религий, пока люди не принимаются перекраивать их под свой лад.
На лестнице послышались шаги, и звуки голосов перебили нашу странную беседу; показалась гренадерша, за нею следовал высокий серьезный джентльмен, которому показывали дом. Сестра потянула меня по коридору в свою комнату и прикрыла дверь, но я успел все же бросить пристальный взгляд на визитера, и этот джентльмен произвел на меня глубокое впечатление. Его облик излучал спокойствие, двигался мужчина с достоинством, а взгляд был полон такой уверенности, что я сразу отнес посетителя к разряду людей, на которых можно положиться в трудную минуту. Я видел его всего мгновение, но уже во второй раз, и впечатление сложилось то же: джентльмен шел по коридору, уверенно поглядывая по сторонам, как и в первый раз, когда я только завидел его, он показался мне терпимым, бесстрашным, мудрым. «Искренний и добрый человек, — рассудил я, — которого воспитали с большой любовью, расположившей его к миру, в нем нет и следа злобы и ненависти». Несомненно, немало для беглого взгляда. Но голос джентльмена подтвердил мою интуицию: густой и мягкий, однако полный убеждения.
«Неужто я вдруг сделался чувствителен к свойствам человеческого характера? — спросил я себя, слыша, как дверь комнаты сестры закрывается за моей спиной. — Или у меня здесь каким-то образом развилась способность к ясновидению?» Прежде подобная мысль пробудила бы во мне лишь насмешку.
Я уселся напротив сестры, впервые с той минуты, как ступил под крышу Башен месяц назад, ощущая странное облегчение. И заметил, что Фрэнсис улыбается перемене во мне.
— Ты знаешь его?
— И ты это почувствовал? — вопросом на вопрос ответила Фрэнсис и затем добавила: — Нет, я знаю о нем лишь то, что он предводитель некоего движения и посвятил годы жизни и все свои средства на достижение его целей. Мэйбл уловила в нем те же качества и не раздумывала дольше.
— Но ты видела его прежде? — настаивал я, поскольку уверенность, что он ей знаком, не отпускала меня.
Сестра покачала головой.
— Он заезжал в начале недели, когда тебя не было. Мэйбл с ним беседовала. И думаю, — она чуть помедлила, будто ожидая, что я ее нетерпеливо оборву, как нередко бывало, — думаю, он все ей объяснил и теперь она уверяет, что в его убеждениях — ее спасение, если она сможет принять их.
— Новое обращение! — воскликнул я, памятуя о богатстве Мэйбл, которое любое общество с удовольствием употребит на свои нужды.
— Те слои, о которых я тебе говорила, — спокойно продолжала она, слегка пожав плечами, — образовались на почве сильных убеждений и неподдельной веры, но в особенности — уродливой веры, основанной на ненависти, поскольку, видишь ли, в ней намного больше страсти…
— Фрэнсис, я ничего в этом не смыслю, — возразил я вслух, но почти смиренно, все еще под впечатлением мимолетной встречи с гостем, которому был благодарен за позитивное ощущение мира, каким-то образом ступившего под крышу вместе с ним. Я пережил столько ужасов, и нервы мои, конечно же, перенапряглись. Как ни абсурдно может показаться, но в воображении я соотнес его с малиновками — беззаботными малиновками, полными доверия ко всем и не страшащимися зла.
Таким мыслям я даже рассмеялся, а сестра, ободренная этим, продолжала более развернуто:
— Так ли уже ничего не смыслишь, Билл? Конечно, к чему тебе. Тебе и в голову ничего подобного не приходило. Сам ни во что не веришь и все прочие верования считаешь ерундой.
— Я открыт и вполне терпим, — перебил я.
— Да ты столь же узколоб, как Сэм Франклин, и не меньше него набит предрассудками, — парировала она, зная, что может говорить мне сейчас что угодно, я не стану противиться.
— Тогда, прошу тебя, посвяти меня в то, во что он или его общество верит, — отвечал я, не желая спорить, — и каким образом это может спасти Мэйбл. Неужели они смогут привнести красоту в это средоточие ненависти и безобразия?
— Толику надежды и мира, того успокоения, что таится в понимании, обнимающем все верования и оттого терпимого к ним всем.
— Терпимость! Слово, которое человек верующий ненавидит больше всех! В то время как самое излюбленное для него — проклятие.
— Терпимого ко всем, — ничуть не отреагировав на мою вспышку продолжала она, — поскольку включает их все.
— Прекрасно, если так, — признал я, — просто великолепно. Но как же им это удается?
— Девиз общества: «Нет религии выше Истины», и нет ни единого догмата. Самое же главное — они утверждают, что никто не «потерян». Это учение о всеобщем спасении. Проклинать тех, кто придерживается других взглядов, — нецивилизованно, это говорит о незрелости и нечистоте. Некоторым труднее и дольше приходится искать, но, развиваясь, все обретают мир и покой — так члены общества верят и так живут. Души, которые иные религии считают безнадежно потерянными, они рассматривают как те, которым предстоит проделать более долгий путь. И проклятия не существует…
— Ладно, ладно, — воскликнул я, видя, что она оседлала любимого конька и теперь скачет во весь опор, — пусть так, но какое это имеет отношение к Мэйбл и к этому жуткому месту? Признаю, что тут витает некий необъяснимый ужас, и если это не говорит о том, что усадьба проклята, ее стоило бы проклясть. Не стану отрицать, я и сам это почувствовал.
К счастью, ответ ее был краток. Она изложила то, что знала, оставив на мое усмотрение — принять или отвергнуть ее слова.
— Прежние владельцы Башен оставили по себе мысли и убеждения. Здесь сошлось, должно быть, редкое стечение обстоятельств. Место, где воздвигнут современный дом, некогда занимали римляне, а до них — древние британцы, чьи погребальные курганы здесь кругом, а еще прежде — друиды, и друидические камни по-прежнему лежат возле курганов в той рощице вблизи поля, среди падуба за парадным въездом. Старинные здания, перестроенные Франклином и почти снесенные им — монастырские, часовню он переделал в залу для собраний, теперь ставшую музыкальной гостиной. До него в доме жил некий Манетти, ревностный католик, совершенно нетерпимый к чужим взглядам, а сразу после Манетти дом перешел к Джулиусу Вейнбауму — иудею самого ортодоксального толка, и все они оставили свой отпечаток…
— Пусть так, — повторил я, хотя мне хотелось услышать продолжение, — и что с того?
— Просто-напросто вот что, — убежденно заключила Фрэнсис, — каждый оставил по себе слой концентрированных мыслей и убеждений, ибо каждый верил без удержу и без сомнений. Теперь редко встретишь подобную интенсивность веры, когда все вокруг пропитывается единой волей и духом нетерпимости к чужому, одним словом, становится зачарованным. Причем каждый владелец полагал себя абсолютно правым, с той же убежденностью проклиная весь остальной мир. Все проповедовали если не прямо, то своим образом жизни, что свойственно любой религии. Последним в ряду предубежденных упрямцев был Сэм Франклин.
По мере ее рассказа мое удивление нарастало. У нее выходило так стройно и складно. Если все верно, то она провела превосходное наблюдение над свойствами человеческой психики.
— Тогда почему же тут ничего не происходит? — осведомился я. — Столь основательно зачарованное место должно было бы порождать массу странных происшествий.
— Доказательство налицо, — продолжала она, понизив голос, — доказательство страха, внушаемого этим местом, и искаженной реальности. Мысли и верования каждого из обитателей погребали все прежние слои под собой, после чего те не подавали признаков жизни. Но крепкие убеждения не умирают. Стоит возникнуть слабине — и они прорываются наружу. С возвращением Мэйбл, не верящей ни во что, слои, погребенные друг под другом, впервые получили возможность воспроизводить хранимые истории.
Проклятие, адское пламя и все прочее — наиболее постоянное и живучее представление всех этих вероучений, поскольку применялось в отношении большей части человечества — ничем более не сдерживаемые, вырвались наружу и принялись бороться за первенство. Но ни одно не могло взять верх. Разверзлось скопище ненависти и страха, желания вырваться наружу, мучительной горькой борьбы за обретение безопасности, покоя и спасения. Здесь все насыщено жуткой безысходностью — ужасом проклятых. И все обрушилось на Мэйбл, чье неприятие обеспечило скопившимся чувствам канал выхода. Поскольку мы с тобой симпатизировали ей, то оказались также вовлечены. Ничего не случилось, поскольку ни один из слоев не смог одержать верх.
Меня так захватил ее рассказ, можно даже сказать, увлек, что я не осмелился прервать паузу, боясь, что она окоротит себя и замолкнет раньше срока.
— Верования этого человека или, вернее, общества, принятые к сердцу и оттого энергично проникающие вовне, выправят тут положение. Послужат своего рода растворителем. Все активно отвергаемые едкие слои сольются и исчезнут в потоке мягкого, терпимого сочувствия любви. Ибо каждый достойный член общества любит мир, и все верования идут на переплавку; и Мэйбл, если присоединится к ним по убеждению, найдет спасение…
— Знаю, убеждения, мысли обладают первостепенной важностью, — возразил я, — но не преувеличиваешь ли ты силу чувств, ведь они в любой религии по сути истеричны?
— Что есть мир, — отвечала она, — как не наши мысли и чувства? Мир каждого человека полностью зависит от того, что он думает и во что верит, это интерпретация, толкование. Иного не дано. Без неподдельных усилий ума и искренних убеждений постоянства мира не существует. Верно, не многие люди самостоятельно мыслят и еще меньшее число приходят к убеждениям сами, большинство носят готовые костюмы и не ищут других. Лишь сильные духом творят. Рыба помельче плывет по течению или по тому руслу, что проложено другими, Мэйбл среди них. Они прозябают. Мы с тобой заботимся о себе самостоятельно, Мэйбл — нет. Она пока никем не стала, а если забрать у нее то, во что она верит, не станет и ее.
Мне не хотелось критиковать сестру за уклонение от темы разговора или пытаться отделить софистику от истины. Поэтому я просто ждал, когда она продолжит. Однако Фрэнсис молчала, поэтому я наконец сказал:
— Но ведь никто не обладает абсолютной Истиной, дорогая Фрэнсис.
— Именно так, — отвечала она, — и все же у большинства есть убеждения, а то, что думает каждый из нас, влияет на мир в целом. Подумай о том наследии ненависти и жестокости, встроенном в доктрины человеческих верований, когда безусловное приятие лишь одного набора взглядов дает надежду на спасение, альтернативой же выставляется вечная гибель, ибо, лишь отвергая историю, могут они отринуть ее, сняв с себя ответственность.
— Ты не совсем точна, — вмешался я. — Ведь совсем не все религии толкуют о вечном проклятии. Франклин, без сомнения, так и делал, но прочие теперь стараются идти в ногу со временем, разве не так?
— Да, они, возможно, пытаются от этого несколько отойти, — признала она, — однако проклятие неверующих или верующих иначе, то есть большинства людей в мире, — одна из их излюбленных идей, стоит повести с ними разговор.
— Я и не пытаюсь.
Сестра улыбнулась.
— А я пытаюсь, — с упором сказала она, — поэтому, если представить силу убеждений прежних владельцев Башен, не стоит удивляться мрачности и жути оставленного здесь отпечатка. Ведь мысли, как тебе известно, оставляют…
Тут, к большому моему облегчению, дверь отворилась и гренадерша ввела посетителя осмотреть комнату. Он поклонился нам, извиняясь, окинул помещение взглядом и удалился, а с его уходом наш разговор естественным образом подошел к концу. Я последовал за гостем. Прерванную беседу мы не возобновляли.
Насколько мне известно, необычная история Башен тут обрывается. Ни кульминации, ни развязки она в классическом смысле не имеет. Ничего так, собственно, и не произошло. На следующее утро мы отбыли в Лондон. Знаю лишь, что общество въехало в дом и с тех пор занимает его с полным удовлетворением, что Мэйбл вскоре вступила в его ряды и теперь нередко останавливается в Башнях, когда хочет отдохнуть от нелегких и бескорыстных трудов, принятых ею на себя. Только позавчера она обедала с нами в челсийской квартирке, и более веселой, пышущей здоровьем, более интересной и счастливой гостьи нельзя было и желать. Ее переполняла жизнь, в лучшем смысле слова, манекен ожил. Даже не верилось, что это ее страшное подобие перемещалось по пустым коридорам и почти оказалось поглощено жуткой Тенью.
Во что она теперь верила, я счел разумным не затрагивать, и Фрэнсис, к счастью, не заводила разговора на эту небезопасную тему. Было, однако, очевидно, что Мэйбл обрела некий внутренний источник радости и преобразилась в деятельную позитивную силу, обретя уверенность в себе и, по всей видимости, не страшась ни Бога, ни черта. Она лучилась надеждой, была полна смелости и говорила так, словно верила, что мир — чудесное место, а все люди добры и прекрасны. Причем оптимизм ее был заразителен.
О Башнях упоминали лишь вскользь. Всплыло имя Марш, но подразумевалась не экономка, а некая героиня из книги, которую обсуждали Мэйбл с сестрой. И я не удержался, любопытство пересилило. Если бы Мэйбл захотела, она могла бы оставить мой осторожный вопрос без ответа, однако у нее не было никакой причины его избегать. Открыто улыбнувшись, она ответила:
— Только представьте, она вышла замуж, — сказала Мэйбл, несколько удивившись, что я вообще помнил об экономке, — и совершенно счастлива. К тому же нашла наконец для себя подходящее занятие в жизни. Она сержант…
— Экономка завербовалась в армию! — воскликнул я.
— …Армии спасения, — весело пояснила Мэйбл.
Мы с Фрэнсис переглянулись, и я рассмеялся, столь неожиданным был поворот судьбы бывшей экономки. Не знаю отчего, но я ожидал услышать, что женщина нашла ужасный конец, вполне вероятно, в огне.
— А Башни, теперь переименованные в Дом отдохновения, — продолжала весело щебетать Мэйбл, — кажутся мне теперь самым покойным, самым восхитительным местом в Англии.
— Пожалуй, вы правы, — вежливо вставил я.
— Прежде, когда вы гостили у меня, — продолжала Мэйбл, — поговаривали, что в доме живет нечистая сила. Не странно ли? Места менее подходящего для духов и привидений мне не доводилось видеть. Ни следа гнетущей атмосферы.
Эти слова были обращены к Фрэнсис, потом Мэйбл с улыбкой спросила меня, без малейшей задней мысли:
— А вы заметили что-то странное во время вашего визита?
Отвертеться от ответа было уже нельзя.
— Мне там… э-э-э… трудно было собраться, — сказал я после секундного замешательства. — Работа не шла.
— А я думала, что вы написали ту замечательную книгу о слепых и глухих, пока жили у меня, — наивно заметила она.
Чуть запнувшись, я ответил:
— О нет, не тогда. В Башнях мне удалось сделать лишь несколько выписок. Отчего-то моя голова отказывалась там работать. Но… почему вы спросили? Разве что-то должно было случиться?
Пристально посмотрев мне в глаза, она ответила лишь:
— Мне об этом ничего не известно.
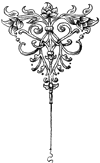
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления