Онлайн чтение книги
Легенда об Уленшпигеле
The Legend of the Glorious Adventures of Tyl Ulenspiegel in the Land of Flanders & Elsewhere
Книга четвертая

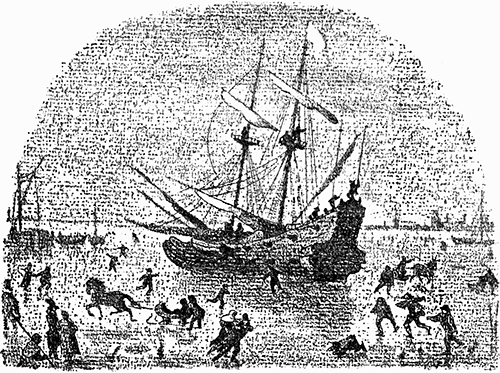
I
 В Гейсте Ламме и Уленшпигель смотрели с дюн на рыбачьи суда, которые шли из Остенде, Бланкенберге и Кнокке; эти суда, полные вооруженных людей, направлялись вслед за зеландскими гёзами, на шляпах которых был вышит серебряный полумесяц с надписью: «Лучше служить султану, чем папе».
В Гейсте Ламме и Уленшпигель смотрели с дюн на рыбачьи суда, которые шли из Остенде, Бланкенберге и Кнокке; эти суда, полные вооруженных людей, направлялись вслед за зеландскими гёзами, на шляпах которых был вышит серебряный полумесяц с надписью: «Лучше служить султану, чем папе».
Уленшпигель весел и свистит жаворонком. Со всех сторон отвечает ему воинственный крик петуха.
Суда плывут, ловят рыбу и продают ее и друг за другом пристают в Эмдене. Здесь задержался Гильом де Блуа, снаряжая, по поручению принца Оранского, корабль.
Уленшпигель и Ламме явились в Эмден в то время, как корабли гёзов, по приказу Трелона, ушли в море.
Трелон, сидя одиннадцать недель в Эмдене, невыносимо тосковал. Он сходил с корабля на берег и возвращался с берега на корабль, точно медведь на цепи.
Уленшпигель и Ламме шатались по набережным, и здесь они встретили важного офицера с добродушным лицом, который старался расковырять камни мостовой своей палкой с железным наконечником. Его старания были мало успешны, но он все-таки стремился довести до конца свой замысел, между тем как позади него собака грызла кость.
Уленшпигель приблизился к собаке и сделал вид, что хочет отнять у нее кость. Собака заворчала. Уленшпигель не отстал, собака подняла бешеный лай.
Обернувшись на шум, офицер спросил Уленшпигеля:
— Чего ты допекаешь собаку?
— А чего вы, ваша милость, допекаете мостовую?
— Это не то же самое, — говорит тот.
— Разница невелика, — отвечает Уленшпигель. — Если собака цепляется за кость и не хочет расстаться с нею, то и мостовая держится за набережную и хочет на ней остаться. Какая важность, что люди вроде нас возятся с собакой, если такой человек, как вы, возится с мостовой.
Ламме стоял за Уленшпигелем, не смея сказать ни слова.
— Кто ты такой? — спросил господин.
— Я Тиль Уленшпигель, сын Клааса, умершего на костре за веру.
И он засвистал жаворонком, а офицер запел петухом.
— Я адмирал Трелон, — сказал он. — Чего тебе от меня надо?
Уленшпигель рассказал ему о своих приключениях и передал ему пятьсот червонцев.
— Кто этот толстяк? — спросил Трелон, указывая пальцем на Ламме.
— Мой друг и товарищ, — ответил Уленшпигель, — он хочет, так же как и я, быть на твоем корабле и петь прекрасным ружейным голосом песню освобождения родины.
— Вы оба молодцы, — сказал Трелон, — я вас возьму на свой корабль.
На дворе стоял февраль: был пронзительный ветер и крепкий мороз. Наконец, после трех недель тягостного ожидания, Трелон с неудовольствием покинул Эмден. В расчете попасть на Тессель, он вышел из Фли, но, вынужденный пойти на Виринген, застрял во льдах.
Вокруг него быстро развернулась веселая картина: катающиеся на санях; конькобежцы в бархатных одеждах; девушки на коньках, в отделанных парчой и бисером, сверкающих пурпуром и лазурью юбках и «баскинах»; юноши и девушки прибегали, убегали, хохотали, скользили гуськом, парочками, напевая песни любви на льду или заходя выпить и закусить в балаганы, украшенные флагами, угоститься водочкой, апельсинами, фигами, peper koek’ом, камбалой, яйцами, вареными овощами и eetekoek’ами — это такие ушки с зеленью в уксусе. А вокруг них раздавался скрип льда под полозьями саней и салазок.
Ламме, разыскивая свою жену, бегал на коньках, как вся эта веселая гурьба, но часто падал.
Уленшпигель заходил выпить и поесть в недорогой трактирчик на набережной; здесь он охотно болтал со старой хозяйкой.
Как-то в воскресенье около десяти часов он зашел туда пообедать.
— Однако, — сказал он хорошенькой женщине, подошедшей, чтобы прислужить ему, — помолодевшая хозяюшка, куда делись твои морщины? В твоем рту все твои белые и юные зубки, и твои губы красны, как вишни. Это мне предназначается эта сладостная и шаловливая улыбка?
— Ни-ни, — ответила она, — а что тебе подать?
— Тебя, — сказал он.
— Слишком жирно для такой спички, как ты; не угодно ли другого мяса? — И так как Уленшпигель промолчал, она продолжала: — А куда ты дел этого красивого, видного и полного товарища, которого я часто видела с тобой?
— Ламме? — сказал он.
— Куда ты девал его? — повторила она.
— Он ест в лавчонках крутые яйца, копченых угрей, соленую рыбу, zuertjes, и все, что может положить себе на зуб; и все это он делает для того, чтобы найти свою жену. Ах, зачем ты не моя жена, красотка! Хочешь пятьдесят флоринов? Хочешь золотое ожерелье?
Но она перекрестилась.
— Меня нельзя ни купить, ни взять, — сказала она.
— Ты никого не любишь? — спросил он.
— Я люблю тебя, как моего ближнего, но прежде всего я люблю господа нашего Иисуса Христа и пресвятую деву, которые повелели мне вести жизнь в чистоте. Тягостны и трудны обязанности этой жизни, но господь поддерживает нас, бедных женщин. Некоторые все же грешат. Твой толстый друг весельчак?
— Он весел, когда ест, печален, когда постится, и всегда мечтает. А ты весела или грустна?
— Мы, женщины, — ответила она, — рабыни тех, кто паствует над нами.
— Луна? — сказал он.
— Да, — ответила она.
— Я скажу Ламме, чтобы он пришел к тебе.
— Не надо, — сказала она, — он будет плакать, и я тоже.
— Видела ты когда-нибудь его жену? — спросил Уленшпигель.
— Она грешила с ним и потому присуждена к суровому покаянию, — отвечала она со вздохом. — Она знает, что он уходит в море ради торжества ереси. Тяжело помыслить об этом сердцу христианскому. Охраняй его, когда на него нападут, ухаживай за ним, если он будет ранен; его жена поручила мне просить тебя об этом.
— Ламме мой брат и друг, — сказал Уленшпигель.
— Ах, — сказала она, — почему бы вам не возвратиться в лоно нашей матери, святой католической церкви?
— Она пожирает своих детей, — ответил Уленшпигель и вышел.
Как-то в мартовское утро, когда дул резкий ветер и лед становился все толще вокруг корабля Трелона, не позволяя ему выйти, его моряки и солдаты развлекались разгульным катаньем на санях и коньках.
Уленшпигель был в трактире, и хорошенькая прислужница, видимо удрученная и как бы не владея собой, вдруг проговорила:
— Бедный Ламме! Бедный Уленшпигель!
— Почему так жалостно? — спросил он.
— О, горе, горе, — сказала она, — зачем вы не веруете в святость мессы? Вы бы, конечно, попали в рай, и в этой жизни я тоже могла бы спасти вас.
Видя, что она, насторожившись, слушает у дверей, Уленшпигель сказал ей:
— К чему ты прислушиваешься? Как падает снег?
— Нет.
— Ты слушаешь, как завывает ветер?
— Нет, — повторила она.
— Прислушиваешься к веселому шуму наших смелых моряков в соседнем кабачке?
— Смерть приходит тихо, как вор, — сказала она.
— Смерть? — вскричал Уленшпигель. — Я не понимаю тебя: подойди и скажи.
— Они там! — сказала она.
— Кто они?
— Кто? — отозвалась она. — Солдаты Симонен-Боля, которые вот-вот бросятся на вас во имя герцога. За вами здесь ухаживают, как за быками, которых готовят на убой. Ах! — вскричала она, заливаясь слезами. — Зачем я не узнала об этом раньше?
— Не плачь и не кричи, — сказал Уленшпигель. — Но оставайся здесь.
— Не выдай меня, — сказала она.
Уленшпигель быстро вышел, побежал по всем кабачкам и трактирам, оповещая на ухо моряков и солдат:
— Испанцы подходят.
Все бросились к кораблю и, наскоро изготовившись к бою, ждали врага. Уленшпигель сказал Ламме:
— Видишь, там на набережной стоит стройная бабенка в черной юбке с красной оборкой, скрывшая свое лицо под белой накидкой?
— Это мне все равно, — ответил Ламме, — мне холодно, и я хочу спать.
И, завернувшись с головой в плащ, он точно оглох.
Уленшпигель узнал женщину и крикнул ей с корабля:
— Хочешь с нами?
— С вами хоть в могилу, — ответила она, — но я не могу.
— А хорошо бы сделала, — сказал Уленшпигель, — но подумай: соловей в лесу счастлив и распевает свои песни там; но когда он покидает лес и летит навстречу опасностям открытого моря, навстречу урагану, он ломает свои маленькие крылышки и гибнет.
— Я пела дома и пела бы вне дома, если бы могла. — И, приблизившись к кораблю, она сказала: — Возьми это снадобье для тебя и твоего друга, который спит тогда, когда надо быть на ногах.
И она убежала, крича:
— Ламме, Ламме! Сохрани тебя бог от всего дурного, вернись цел и невредим!
И она открыла лицо.
— Моя жена, моя жена! — кричал Ламме и хотел спрыгнуть на лед.
— Твоя верная жена, — отвечала она.
И побежала со всех ног.
Ламме чуть было уже не спрыгнул с палубы на лед, но один солдат удержал его, схватив за плащ. Он кричал, плакал, умолял, чтобы ему позволили уйти. Но профос сказал ему:
— Если ты уйдешь с корабля, тебя повесят.
Ламме все-таки хотел броситься на лед, но один старый гёз удержал его, говоря:
— Сходни мокры, ты промочишь себе ноги.
И Ламме упал на свой зад, безутешно плача и твердя:
— Моя жена, моя жена! Пустите меня к моей жене!
— Еще увидишься с ней, — сказал Уленшпигель, — она тебя любит, но бога любит больше, чем тебя.
— Чертовка упрямая! — кричал Ламме. — Если она любит бога больше, чем мужа, зачем она является мне такой прелестной и вожделенной? А если она меня любит, то зачем покидает?
— Можешь ты видеть дно в глубоком колодце? — спросил Уленшпигель.
— Горе мне, — стонал Ламме, — я скоро умру.
И, бледный и возбужденный, он остался на палубе.
Между тем приблизились люди Симонен-Боля с сильной артиллерией.
Они обстреливали корабль, который отвечал им. И ядра их разбили весь лед кругом. Вечером пошел теплый дождь.
Ветер дул с запада, море бурлило подо льдом и поднимало здоровенные льдины, которые сталкивались, поднимались, падали, громоздились друг на друга; и это было небезопасно для корабля, который, едва заря разогнала ночные тучи, поднял свои полотняные крылья, как вольная птица, и поплыл навстречу открытому морю.
Здесь они присоединились к флоту господина де Люме де ла Марк, адмирала Голландии и Зеландии, в качестве главнокомандующего несшего фонарь на мачте своего корабля.
— Посмотри на него хорошенько, сын мой, — сказал Уленшпигель, — этот тебя не пощадит, если ты вздумаешь, вопреки приказу, уйти с корабля. Слышишь, точно гром, гремит его голос. Смотри, какой он громадный, широкоплечий. Обрати внимание на его длинные руки с крючковатыми ногтями. Посмотри на его глаза, круглые, холодные орлиные глаза, посмотри на его длинную остроконечную бороду, которую он не будет стричь до тех пор, пока не перевешает всех попов и монахов, чтобы отомстить за обоих казненных графов. Смотри, — он страшен и жесток; он без долгих слов повесит тебя, если ты будешь вечно ныть и визжать: «Жена моя».
— Сын мой, — сказал Ламме, — бывает, что о веревке для ближнего говорит тот, у кого шея уже обвита пеньковым воротником.
— Ты первый его наденешь; таково мое дружеское пожелание, — сказал Уленшпигель.
— Я вижу, как ты, вися на веревке, высунешь на аршин из пасти свой ядовитый язык.
И им обоим казалось, что они шутят.
В этот день корабль Трелона захватил бискайское судно, нагруженное ртутью, золотым песком, винами и пряностями. И оно было вышелушено и очищено от экипажа и груза, как бычья кость под зубами льва.
В это же время герцог Альба наложил на Нидерланды гнусные и жестокие налоги, обязав всех обывателей, продающих свое движимое и недвижимое имущество, платить тысячу флоринов с десяти тысяч. И налог этот стал постоянным. Все продавцы и покупатели чего бы то ни было вынуждены были платить королю десятую долю продажной цены. И в народе говорили, что товар, перепроданный десять раз в течение недели, целиком достается королю.
Так шли к гибели и разрушению торговля и промышленность.
И гёзы взяли Бриль, морскую крепость, которая была названа рассадником свободы.
II
В первые дни мая под ясным небом гордо несся корабль по волнам. Уленшпигель пел:
Пепел в сердце мое стучит.
Пришли палачи; огнем и мечом,
Силой пытаются нас истребить.
Щедро за подлость платят они.
Там, где были Любовь и Мир,
Поселились Предательство и Страх.
Мы живодеров разбить должны —
Бей в барабан войны!
Да здравствует гёз! Бей в барабан!
Взяли мы Бриль.
Флессинген взяли, от Шельды ключ;
Милостив бог — Камп-Веере взят.
Что же зеландские пушки молчат?
Есть у нас пули, и порох есть,
Пушечных ядер чугунных не счесть.
С нами бог — кто же против нас?
Бей в барабан войны и славы!
Да здравствует гёз! Бей в барабан!
Меч обнажен, страха нет в сердцах,
Не дрогнет рука, меч обнажен.
К чорту пускай десятина идет!
Смерть — палачу, громиле — петля!
Клятвопреступного короля
Свергнет восставший народ!
Меч обнажен — за наши права,
За наши дома, за детей и жен.
Меч обнажен. Бей в барабан!
Страха нет в сердцах, не дрогнет рука.
К чорту прощенья позор!
Бей в барабан войны, бей в барабан!
— Да, друзья и братцы, — говорил Уленшпигель, — да, в Антверпене перед ратушей они соорудили великолепный помост, покрытый красным сукном; на нем, точно король, восседает герцог Альба на троне, окруженный своими солдатами и челядью. Когда он хочет благосклонно улыбнуться, он делает кислую рожу. Бей в барабан, зови на войну!
Вот он дарует милость и прощение. Молчите и слушайте. Его золоченый панцырь сверкает на солнце, главный профос верхом на коне рядом с балдахином; вот глашатай со своими литаврщиками; он читает: прощение всем, за кем нет греха, прочие будут наказаны без пощады.
Слушайте, братцы: он читает указ, коим предписывается, под страхом обвинения в мятеже, уплата десятины и двадцатины.
И Уленшпигель запел:
О герцог, ты слышишь ли голос народа,
Гремящий, как буря? Все шире волненье,
И море готовится стать на дыбы.
Хватит поборов, хватит нам крови,
Хватит развалин! Бей в барабан!
Меч обнажен. Бей в барабан похорон!
Коготь вонзить в незажившую рану,
После убийства — ограбить… Ты хочешь
Золото с кровью смешать, чтоб напиться?
Долг исполняли мы. Верность хранили
Мы королю. Раз он клятвопреступник —
Значит свободны и мы от присяги.
Бей в барабан войны!
Герцог Альба, кровавый герцог!
Сам посмотри: лавки все на запоре,
Пекари хлеб не хотят продавать,
Чтоб не платить непомерных налогов,
Люди не кланяются тебе,
Если проходишь. Дыханьем чумы
Гнев и презренье тебя окружают.
Наша красавица Фландрия, наш
Радостный и процветавший Брабант
Стали мрачней и печальней кладбища.
Там, где когда-то, на землях свободных.
Лютни звенели и дудки визжали —
Нынче молчанье и смерть.
Бей в барабан войны!
Вместо сияющих, праздничных лиц
И беззаботно поющих влюбленных —
Бледные лица покорных судьбе,
Ждущих неправого приговора.
Бей в барабан войны!
Больше никто не услышит в тавернах
Дружного звона столкнувшихся кружек.
Больше никто в городах не услышит
Свежих девических голосов,
В песню сплетенных. Веселый Брабант
С Фландрией залиты нынче слезами.
Бей в барабан похорон!
Родина! Край исстрадавшийся мой!
Не позволяй, чтоб тебя затоптали!
Пчелы прилежные! Риньтесь роями
На ненавистных вам шершней испанских!
Трупы живыми закопанных женщин,
«Мести!» — кричите Христу.
В поле полночном бродящие тени,
К богу взывайте! Наш меч наготове.
Герцог! Тебя мы распотрошим
И по щекам потрохами отхлещем!
Бей в барабан! Выхвачен меч.
Бей в барабан! Да здравствует гёз!
И все солдаты и моряки с корабля Уленшпигеля и прочих кораблей подхватили:
Выхвачен меч. Да здравствует гёз!
И голоса их гремели, как гром освобождения.

III
На дворе стоял январь, жестокий месяц: он может заморозить теленка во чреве коровы. Шел снег и тут же смерзался. Мальчишки ловили на клей воробьев, искавших под мерзлой корой снега какой-нибудь жалкой поживы, и таскали эту дичь домой. На сером и ясном небосклоне четко выделялись неподвижные костяки деревьев, ветки которых были покрыты снежными пуховиками. Снег лежал также на хижинах и на верхушках заборов, усеянных следами кошачьих лап, ибо и кошки тоже охотились по снегу на воробьев. Вдали луга также были покрыты этим ч у дным мехом, оберегающим теплоту земли от резкого холода зимней поры. Черным столбом поднимался к небу дым над домами и хижинами, и не было слышно ни малейшего шума.
И Катлина с Неле сидели в своем жилище, и Катлина, тряся головой, говорила:
— Ганс, мое сердце рвется к тебе. Ты должен отдать семьсот червонцев Уленшпигелю, сыну Сооткин. Если ты в нужде, то все-таки приди, чтоб я могла видеть твое светлое лицо. Убери огонь, голова горит! О, где твои снежные поцелуи? Где твое ледяное тело, Ганс, мой возлюбленный!
Она стояла у окна. Вдруг мимо быстрым шагом пробежал voet-looper, скороход с колокольчиками на поясе, крича:
— Едет господин комендант города Дамме!
И так он бежал к ратуше, чтобы собрать там бургомистров и старшин.
И тогда среди глубокой тишины Неле услыхала звук двух рожков. Обыватели Дамме бросились к дверям, полагая, что эти трубные звуки возвещают прибытие его королевского величества.
И Катлина тоже вышла на порог с Неле. Издали они увидели отряд блестящих кавалеров верхом на конях, а перед ними, также на коне, человека в плаще из черного бархата с куньей оторочкой, в бархатном камзоле с золотой вышивкой и в опойковых сапогах на куньем меху. И они узнали господина коменданта.
За ним гарцовали молодые всадники, бархатная одежда которых, несмотря на повеление его величества, покойного императора, была отделана вышивкой, кружевами, лентами, золотым и серебряным позументом и шелковой тесьмой. И плащи, накинутые на их камзолы, так же как у начальника, были оторочены мехом. Они ехали весело, и весело развевались по ветру длинные страусовые перья, украшавшие их шляпы с золотыми шнурками и пуговицами.
Все они казались друзьями и товарищами коменданта, особенно один, с брюзгливым лицом, в зеленом бархатном камзоле с золотой вышивкой, в черном бархатном плаще и черной шляпе с длинными перьями. У него был нос крючковатый, как клюв коршуна, тонкие губы, рыжие волосы, бледное лицо, гордая осанка.
Вдруг, в то время как толпа этих господ следовала мимо домика Катлины, она схватила за узду коня бледного кавалера и в безумном восторге закричала:
— Ганс, возлюбленный мой, я знала, что ты вернешься! Какой ты красавец, весь в бархате и золоте, точно солнце на снегу. Ты принес мне семьсот червонцев? Услышу я опять твой орлиный крик?
Комендант остановил свою свиту, и бледный господин сказал:
— Что от меня нужно этой нищенке?
Но Катлина крепко держала его коня за узду.
— Не уходи, не уходи! — твердила она. — Я так долго плакала по тебе! Сладкие ночи, дорогой мой, снежные поцелуи, ледяное тело… Вот и дитя!
И она показала ему на Неле, которая сердито смотрела на него, так как он поднял свой хлыст над Катлиной. Но Катлина всхлипывала:
— Ах, неужто ты забыл? Сжалься над твоей рабыней! Увези меня с собой, куда хочешь! Убери огонь, Ганс, сжалься!
— Прочь! — крикнул он.
И он пришпорил свою лошадь так сильно, что Катлина выпустила из рук узду и упала на землю; и лошадь наступила на нее, оставив на ее лбу кровавую рану.
Тогда комендант обратился к бледному всаднику:
— Сударь, вам эта женщина известна?
— Первый раз в жизни вижу ее, — ответил тот, — это, очевидно, сумасшедшая.
Но Неле, подняв с земли Катлину, выступила вперед:
— Если она сумасшедшая, то не сумасшедшая я, ваша милость, и пусть я здесь умру от этого снега, который я ем, — она взяла с земли горсточку снега, — если этот человек не знал моей матери, если он не взял у нее всех ее денег, если он не убил Клаасову собаку, чтобы захватить спрятанные в стене колодца в нашем доме семьсот червонцев, принадлежавших покойному мученику.
— Ганс, голубчик мой, — плакала окровавленная Катлина, стоя на коленях, — поцелуй меня в знак примирения; посмотри, вот кровь течет, душа сделала себе дырочку и хочет выйти наружу; я умру сейчас, не покидай меня. — И она прибавила потихоньку: — Помнишь, ты убил из ревности своего товарища, там, на плотине? — И она показала пальцем в сторону Дюдзееле. — Ты крепко любил меня тогда.
И она обхватила колени всадника и прильнула с поцелуем к его сапогу.
— Кто этот убитый? — спросил комендант.
— Не знаю, — ответил тот, — не стоит обращать внимания на болтовню этой несчастной, едем.
Народ собирался вокруг. Горожане, именитые и простые, рабочие и крестьяне, заступаясь за Катлину, кричали:
— Правосудие, господин комендант, правосудие!
И комендант обратился к Неле:
— Что это за убитый? Говори, как указует господь и истина.
— Вот он, — ответила Неле, указывая на бледного всадника, — приходил каждую субботу в keet[55] Keet — прачечная., чтобы видаться с моей матерью и отбирать у нее деньги. Он убил одного своего приятеля по имени Гильберт на поле Серваса ван дер Вихте, но не из любви к ней, как думает эта невинная безумная страдалица, а чтобы присвоить себе одному семьсот червонцев.
И Неле рассказала о любовных делах Катлины и о том, что ее мать слышала в ту ночь, скрывшись за плотиной, пересекающей поле Серваса ван дер Вихте.
— Неле злая, — сказала Катлина, — она непочтительно разговаривает с Гансом, со своим отцом.
— Клянусь, — сказала Неле, — что он кричал орлом, чтобы известить ее о своем приходе.
— Ты лжешь! — сказал всадник.
— О нет! — ответила Неле. — И господин комендант и все эти знатные господа видят хорошо, что ты бледен не от холода, но от страха. Почему это уже не светится твое лицо? Ты, значит, потерял свое волшебное снадобье, которым мазался, чтобы оно казалось сверкающим, как волны летом, когда гремит гром. Но, проклятый колдун, ты будешь сожжен пред воротами ратуши! Это из-за тебя умерла Сооткин, ты поверг ее осиротевшего сына в нищету; ты, знатный барин, приходил к нам, простым обывателям, и один раз принес денег моей матери, чтобы отобрать у нее все, что у нее было.
— Ганс, — сказала Катлина, — ты опять возьмешь меня на шабаш и опять смажешь своим снадобьем; не слушай Неле, она злая; видишь, вот кровь, — душа пробила дыру, хочет наружу; я скоро умру и попаду на тот свет, где не жжет.
— Молчи, сумасшедшая ведьма, — сказал всадник, — я тебя не знаю и не знаю, о чем ты говоришь.
— И однако, — сказала Неле, — это ты приходил к нам с товарищем и хотел дать мне его в мужья; ты знаешь, что я его не хотела. Что сталось с глазами твоего друга Гильберта, после того как я вцепилась в них ногтями?
— Неле злая, — сказала Катлина, — не верь ей, Ганс, дорогой мой. Она сердится на Гильберта за то, что он хотел изнасиловать ее; но Гильберта уже нет теперь, черви его съели; и Гильберт был противный; только ты красавец, Ганс, дорогой мой, а Неле злая.
После этого комендант сказал:
— Женщины, идите с миром.
Но Катлина не хотела уйти с места, где стоял ее возлюбленный. Пришлось силой отвести ее в жилище.
И весь собравшийся народ кричал:
— Правосудие, ваша милость, правосудие!
На шум явились городские стражники, но комендант приказал им остаться на месте и обратился к знатным господам и дворянам:
— Государи мои! Невзирая на все права и вольности, охраняющие славное сословие дворянства Фландрии, я вынужден в силу обвинений, — особенно в колдовстве, — направленных против господина Иооса Даммана, подвергнуть его личному задержанию впредь до суда, согласно законам и указам империи. Господин Иоос, вручите мне вашу шпагу.
— Господин комендант, — с большим высокомерием и барской надменностью сказал Иоос Дамман. — Подвергая меня личному задержанию, вы нарушаете законы Фландрии, ибо вы ведь сами не судья. А вам известно, что без судебного решения можно подвергать задержанию только фальшивомонетчиков, разбойников и грабителей, поджигателей и насилователей женщин, солдат, покинувших своего офицера, колдунов, отравляющих ядом источники, монахов или монахинь, отвергнувших свою веру, и, наконец, изгнанных из страны. Посему, господа дворяне, защитите меня.
Так как некоторые готовы были послушаться его, то комендант обратился к ним:
— Государи мои! Будучи здесь представителем нашего короля, графа и господина и обладая правом разрешать сомнительные случаи, я приказываю и повелеваю вам, под страхом обвинения в мятеже, вложить ваши шпаги в ножны.
Когда дворяне повиновались, а господин Иоос Дамман продолжал раздумывать, народ закричал:
— Правосудие, господин комендант, правосудие! Пусть отдаст шпагу!
И он покорился против воли и, сойдя с коня, был препровожден двумя стражниками в городскую тюрьму.
Здесь, однако, он не был брошен в подземелье, но заключен в комнату с решетками, где за плату получал теплую печь, добрую постель и хорошую еду, половину которой съедал тюремщик.
IV
На другой день комендант, два судебных писца, двое старшин и подлекарь пошли по направлению к Дюдзееле поискать, не найдут ли они на участке Серваса ван дер Вихте тела у плотины, пересекающей поле.
Неле сказала Катлине:
— Ганс, твой возлюбленный, просит принести ему отрезанную руку Гильберта; сегодня вечером он закричит орлом, войдет в нашу хижину и принесет семьсот червонцев.
Катлина ответила:
— Я ее отрежу.
И в самом деле, она взяла нож и побежала; за ней следовали Неле и судейские.
Она шла быстро и уверенно вместе с Неле, милое лицо которой раскраснелось от свежего воздуха.
Судейские, люди пожилые и с одышкой, следовали за ней, дрожа от холода; и все они на белой равнине были похожи на черные тени; и Неле несла лопату.
Когда они добрались до поля Серваса ван дер Вихте, Катлина взобралась на середину плотины и, показав на правую сторону луга, сказала:
— Ганс, ты не знал, что я спряталась там, содрогаясь при звуке мечей. И Гильберт кричал: «Эта сталь холодна!» Гильберт был противный, Ганс — красавчик. Ты получишь его руку, оставь меня одну.
Потом она спустилась налево, стала в снег по колени и трижды закричала, призывая духа.
Тогда Неле дала ей лопату, которую Катлина трижды перекрестила, потом начертила на льду изображение гроба и три перевернутых креста; она сказала:
— Три — это Марс подле Сатурна, и три — это обретение под знаком Венеры, ясной звезды. — Затем она очертила гроб большим кругом, говоря: — Уходи, злой дух, стерегущий тело. — Затем, став на колени, она молилась: — Друг-дьявол Гильберт, Ганс, мой господин и повелитель, приказал мне прийти сюда отрезать тебе руку и принести ему; я должна ему повиноваться. Не обожги меня огнем подземным за то, что я нарушаю благородный покой твоей могилы. И прости меня ради господа-бога и святых угодников.
Затем она разбила лед по очертаниям гроба, разрыла сырой дерн, затем песок, и господин комендант, и его подчиненные, и Неле, и Катлина увидели тело молодого человека, белое, как гашеная известь, не разложившееся, потому что оно покоилось в песке. Он был в сером суконном камзоле и в таком же плаще; его шпага лежала рядом с ним. На поясе у него висела вязаная сумка, и широкий кинжал торчал в его груди под сердцем. На камзоле была кровь, и кровь протекла за спину. И он был молод.
Катлина отрезала у него руку и положила в свою кошелку. И комендант позволил ей проделать все это; затем он приказал снять с трупа всю его одежду и знаки достоинства. Катлина спросила, делается ли это по повелению Ганса, и комендант ответил, что он действует только по его приказаниям; Катлина стала делать все, чего он требовал.
Когда труп был раздет, они увидели, что он высох, как дерево, но не сгнил. Затем, засыпав его песком, комендант и судейские ушли. И стражники несли одежду.
Когда они подошли к тюрьме, комендант сказал Катлине, что Ганс ждет ее; и она радостно вошла туда.
Неле не хотела отпустить ее, но Катлина только ответила:
— Я хочу к Гансу, моему господину.
И Неле рыдала, сидя на пороге тюрьмы, ибо знала, что Катлина взята под стражу как колдунья за заклинания и чертежи, которые она делала на снегу.
И в Дамме говорили, что ей нет прощения.
И Катлина была заперта в западном подземелье тюрьмы.
V
На другой день подул ветер со стороны Брабанта, снег растаял, и луга были залиты водой.
И колокол, называемый borgstorm, созвал судей на заседание суда под навесом, так как дерновые сиденья под «липой правосудия» были мокры.
И народ стоял толпой вокруг суда.
Иоос Дамман был приведен не связанный и в своем дворянском платье; Катлина также была приведена, но со связанными впереди руками и в серой, посконной одежде, какую носят заключенные в тюрьме.
Иоос Дамман на вопросы суда признался, что убил своего друга Гильберта мечом в поединке. Когда ему сказали: «Он заколот кинжалом», Иоос Дамман ответил: «Я заколол его, когда он лежал уже на земле, так как он не умирал достаточно быстро. Я свободно признаюсь в этом убийстве, так как нахожусь под охраной законов Фландрии, запрещающих преследовать убийцу по истечении десяти лет».
Судья спросил его:
— Ты не колдун?
— Нет, — ответил Дамман.
— Докажи это.
— Для этого будет свое время и место, — ответил Иоос Дамман, — теперь же мне не угодно сделать это.
Тогда судья приступил к допросу Катлины; но она ничего не слышала и не отрывала взгляда от Ганса.
— Ты мой зеленый барин, прекрасный, как солнце. Убери огонь, дорогой мой!
Тут Неле выступила вместо Катлины.
— Она не может сознаться ни в чем, чего бы не знали ваша милость и вы, господа судьи, — сказала Неле, — она не колдунья, а только сумасшедшая.
В ответ на это судья сказал:
— Колдун — это тот, кто добивается какой-либо цели сознательно употребленными дьявольскими средствами. Стало быть, оба они, и мужчина и женщина, — и по их замыслам и по деяниям, — виновны в колдовстве. Ибо он давал снадобье для участия в шабаше и делал свое лицо светящимся, как у Люцифера, с целью получить деньги и удовлетворить свою похоть; она же подчинялась ему, принимая его за дьявола и отдаваясь его воле; один был злоумышленником, другая — явная сообщница. Здесь поэтому нет места никакому состраданию, и я должен настоять на этом, так как вижу, что старшины и народ слишком снисходительны к женщине. Правда, она никогда не убивала, не воровала, не портила сглазом людей, или животных, не лечила больных непоказанными снадобьями, а врачевала простыми известными средствами, целением честным и христианским; но она хотела предать свою дочь дьяволу, и если бы последняя, несмотря на свой юный возраст, не воспротивилась этому с мужеством, столь открытым и доблестным, она поддалась бы Гильберту и также стала бы ведьмой, как и мать. Поэтому я спрашиваю господ судей, не полагают ли они, что оба обвиняемых должны быть подвергнуты пытке?
Старшины молчали в ответ, показывая этим, что по отношению к Катлине они думают иначе.
Тогда судья, настаивая на своем, сказал:
— Как и вы, я проникся жалостью и состраданием к ней, но подумайте: разве эта безумная колдунья, столь покорная дьяволу, в случае, если бы ее распутный соучастник потребовал этого, не могла отрубить голову своей дочери серпом, как сделала во Франции со своими двумя дочерьми Катерина Дарю по указанию дьявола? Разве не могла она, по повелению своего черного сожителя, нагонять смерть на животных, портить посредством сахара масло в маслобойне, участвовать телесно во всех служениях дьяволу, колдовских плясаниях, мерзостях и непотребствах? Разве не могла она есть человеческое мясо, убивать детей, чтобы делать из них пироги и продавать их, как делал это один пирожник в Париже; срезать ляжки у повешенных, уносить их с собой, впиваться в них зубами, совершая, таким образом, гнусное воровство и святотатство? И я требую у суда, чтобы вплоть до выяснения того, не совершала ли Катлина и Иоос Дамман иных преступлений, кроме уже известных, они были подвергнуты пытке. Так как Иоос Дамман отказался сознаться в чем-либо, кроме убийства, а Катлина не рассказала всего, законы имперские повелевают нам поступить так, как я сказал.
И суд постановил произвести пытку в пятницу, то-есть послезавтра.
И Неле кричала:
— Смилостивьтесь, господа судьи!
И народ кричал вместе с нею. Но все было напрасно.
И Катлина, глядя на Иооса Даммана, говорила:
— У меня рука Гильберта, приди за ней сегодня ночью, дорогой мой.
И их увели обратно в тюрьму.
Здесь, по распоряжению суда, тюремщик приставил к каждому двух сторожей, которые должны были бить их всякий раз, когда они станут засыпать; но сторожа Катлины не мешали ей спать всю ночь, а сторожа Иооса Даммана жестоко колотили его, едва он закрывал глаза или опускал голову.
Они голодали всю среду, ночь и весь четверг вплоть до вечера, когда им дали пить и есть: просоленную говядину с селитрой и соленую воду с селитрой. Это было начало пытки. И утром, когда они кричали от жажды, стражники привели их в застенок.
Здесь они были посажены друг против друга и привязаны к скамьям, обвитым узловатыми веревками, что причиняло тяжкие страдания.
И каждый должен был выпить стакан воды с солью и селитрой.
Так как Иоос Дамман начал засыпать, стражники растолкали его ударами.
И Катлина говорила:
— Не бейте его, господа, вы разобьете его бедное тело. Он совершил только одно преступление, по любви, когда он убил Гильберта. Я хочу пить, и ты тоже, Ганс, дорогой мой. Дайте ему напиться первому. Воды, воды! Мое тело горит! Не трогайте его, я умру за него. Пить!
— Умри и издохни, как сука, проклятая ведьма! — сказал Иоос. — Бросьте ее в огонь, господа судьи. Пить!
Писцы записывали каждое его слово.
— Ни в чем не сознаешься? — спросил его судья.
— Мне нечего сказать, вы все знаете.
— Так как он упорствует в запирательстве, то он останется на этой скамье и в этих веревках вплоть до нового и полного сознания и будет терпеть жажду и лишен сна.
— Я останусь, — сказал Иоос Дамман, — и буду наслаждаться при виде страданий этой ведьмы на скамье. По душе ли тебе брачное ложе, голубушка?
— Холодные руки, горячее сердце, Ганс, дорогой мой, — ответила Катлина. — Я хочу пить! Голова горит!
— А ты, женщина, — спросил ее судья, — ты ничего не можешь сказать?
— Я слышу колесницу смерти и слышу сухой стук костей. Пить! Она везет меня по широкой реке, полной воды, свежей, светлой воды; но эта вода — огонь. Ганс, мой милый, развяжи мои веревки! Да, я в чистилище и вижу вверху господа Иисуса в его раю и пресвятую деву, такую сострадательную. О, дорогая богородица, дайте мне капельку воды! Не ешьте одна эти прекрасные плоды!
— Эта женщина поражена совершенным безумием, — сказал один из старшин, — следует освободить ее от пытки.
— Она не более безумна, чем я, — сказал Иоос Дамман, — все это игра и притворство. — И он прибавил с угрозой в голосе: — Сколько ни прикидывайся сумасшедшей, увижу тебя на костре.
И, заскрежетав зубами, он засмеялся своей злодейской лжи.
— Пить! — говорила Катлина. — Сжальтесь, хочу пить. Позвольте мне подойти к нему, господа судьи. — И, раскрыв рот, она кричала: — Да, да, теперь они вложили огонь в мою грудь, и дьяволы привязали меня к этой злой скамье. Ганс, возьми шпагу и убей их, ты такой сильный. Воды! Пить! Пить!
— Издохни, ведьма, — сказал Иоос Дамман. — Надо заткнуть ей глотку кляпом, чтобы эта мужичка не смела так обращаться к дворянину.
Один из старшин, враг знати, возразил на это:
— Господин начальник, затыкать кляпом рот тем, кто подвергается допросу, противно законам и обычаям имперским, ибо допрашиваемые присутствуют здесь для того, чтобы они говорили истину, а мы судили сообразно их показаниям. Это разрешается лишь в том случае, когда обвиняемый, будучи уже осужденным, может на месте казни обратиться к толпе, разжалобить ее и, таким образом, вызвать народные волнения.
— Хочу пить, — говорила Катлина, — дай мне напиться, Гансик, дорогой мой!
— А, ты мучаешься, ведьма проклятая, единственная причина всех моих мучений! — сказал он. — Но в этом застенке ты еще не то претерпишь: будут тебя жечь свечами, бичевать, вгонять клинья под ногти рук и ног. Тебя посадят верхом на гроб, верхнее ребро которого остро, как нож, и ты сознаешься, что ты не сумасшедшая, а подлая ведьма, которую дьявол отрядил пакостить благородным людям. Пить!
— Ганс, возлюбленный мой, — говорила Катлина, — не сердись на свою рабу. Тысячи мучений я терплю ради тебя, мой повелитель. Сжальтесь над ним, господа судьи: дайте ему полную кружку, а с меня довольно одной капельки. Ганс, не пора ли кричать орлу.
— Из-за чего ты убил Гильберта? — спросил судья у Даммана.
— Мы повздорили из-за одной девчонки из Гейста, — ответил Иоос.
— Девчонка из Гейста! — закричала Катлина, изо всех сил пытаясь сорваться со скамьи. — А, так ты меня обманывал с другой, подлый дьявол! А знал ты, что я сижу за плотиной и слушаю, когда ты говорил, что хочешь забрать все деньги, принадлежащие Клаасу? Ты их, значит, хотел истратить с ней в кутеже и распутстве! О, а я, я, которая отдала бы ему свою кровь, если бы он мог сделать из нее деньги! И все для другой! Будь проклят!
Но вдруг она разрыдалась и, стараясь подвинуться на своей скамье, говорила:
— Нет, Ганс, скажи, что ты опять будешь любить твою бедную рабыню, и я землю буду рыть ногтями и добуду клад оттуда. Да, там есть клад. Я буду ходить с веточкой орешника, которая наклоняется там, где есть металлы, и я найду и принесу тебе. Поцелуй меня, миленький, и ты будешь богат; и мы будем каждый день есть мясо и пить пиво; да, да, вон те, что сидят, тоже пьют пиво, свежее, пенистое пиво. О, господа, дайте хоть глоточек, я вся горю. Ганс, я знаю, где растет орешник для волшебной палочки, но надо подождать, пока придет весна.
— Молчи, ведьма, — ответил Иоос Дамман, — я тебя не знаю. Ты принимала Гильберта за меня; это он приходил к тебе, а ты в своей скверности называла его Ганс. А ведь меня зовут не Ганс, а Иоос, так и знай; мы были одного роста, Гильберт и я. Я тебя не знаю: это, верно, Гильберт украл семьсот червонцев. Дайте пить. Мой отец заплатит сто флоринов за стаканчик воды. Но я не знаю этой бабы.
— Господин комендант, господа старшины, — воскликнула Катлина, — он говорит, что не знает меня, а я его знаю хорошо и знаю, что у него на спине темная мохнатая родинка величиной с боб. А, ты любил девку из Гейста! Хороший любовник разве стыдится своей милой! Ганс, ведь я еще красива.
— Красива! — крикнул он. — У тебя не лицо, а гнилое яблоко, а тело — связка хвороста; посмотрите на эту паскуду, которая лезет к дворянам в любовницы. Пить!
— Ты не так говорил, Ганс, мой нежный повелитель, когда я была на шестнадцать лет моложе. — И, ударяя себя по голове и груди, Катлина заговорила: — Здесь огонь горит и сушит мое сердце и лицо. Не кори меня этим! Помнишь, как мы ели соленое, — ты говорил, для того, чтобы больше пить. Теперь соль в нас, дорогой мой, а господин комендант пьет бургонское вино. Не надо нам вина, воды дайте. Бежит в траве ручеек: студена водичка, свеж родничок. Нет, она горит! Это адская вода. — И Катлина зарыдала, говоря: — Я никому зла не делала, а меня все бросают в огонь. Пить! Я христианка, дайте мне пить. Дают же пить бродячим собакам. Я никому зла не делала. Пить!
Один из старшин сказал:
— Эта колдунья безумна только в разговорах об огне, который, как она говорит, жжет ей голову, но она совсем не безумна в других вещах; ведь в том, что она помогла нам найти останки убитого, был виден совершенно ясный ум. Если на теле у Иооса Даммана есть мохнатое пятно, то этого знака достаточно, чтобы видеть его тождество с дьяволом Гансом, от которого обезумела Катлина. Палач, покажи нам пятно.
Палач, обнажив шею и плечи Даммана, показал темное мохнатое пятно.
— О, какая у тебя белая кожа, — говорила Катлина, — совсем как плечи девочки; ты красавец, Ганс, миленький мой. Пить!
Палач воткнул длинную иглу в пятно. Крови не было.
Старшины переговаривались:
— Конечно, дьявол, он убил Иооса Даммана и принял его образ, чтобы вернее обходить несчастных людей.
И все судьи — комендант и старшины — испугались:
— Он дьявол, и это чародейство нечистого.
И Иоос Дамман возразил:
— Вы знаете, что нет никакого чародейства и что бывают такие наросты на теле, которые можно колоть, и крови не будет. Если Гильберт взял деньги у этой ведьмы, — ибо она ведьма, раз сама созналась, что спала с дьяволом, — то он мог их взять, ибо такова была добрая воля этой твари; и, значит, он, знатный барин, получал плату за свои ласки, как это каждый день делают продажные девки. Разве нет на этом свете подобных этим девкам беспутных парней, которым женщины платят за их силу и красоту?
Старшины переговаривались:
— Какая дьявольская самоуверенность! Его родимое пятно не дало крови; убийца, дьявол, колдун, он хочет сойти за простого дуэлиста, сваливая все прочие свои преступления на дьявола-приятеля, тело которого он убил, но не душу… И посмотрите, как бледно его лицо… Такой вид у всех дьяволов: они багровы в аду и бледны на земле, ибо у них нет жизненного огня, дающего румянец лицу, и внутри они из пепла… Надо опять вернуть его в огонь, чтобы он побагровел и сгорел.
Катлина говорила:
— Да, он дьявол, но добрый дьявол, кроткий дьявол. И святой Яков, его покровитель, позволил ему уйти из ада. Он просит за него ежедневно господа Иисуса Христа. Он только семь тысяч лет будет в чистилище: пресвятая дева так хочет, а господин Сатана противится. Но богородица все-таки сделает так, как ей угодно. Пойдете вы против нее? Посмотрите на него хорошенько, вы увидите, что от своего дьявольского естества он не сохранил ничего, кроме лишь холодного тела да еще лица, сверкающего, как волны морские в августе перед ударом грома.
— Молчи, ведьма, ты тащишь меня на костер! — рычал Иоос Дамман и, обратившись к судьям, продолжал: — Посмотрите на меня, я совсем не дьявол, я из мяса, костей, крови и воды. Я ем и пью, перевариваю и извергаю, как вы; у меня такая же кожа, как у вас. Палач, сними с меня сапоги, я не могу двинуть связанными ногами.
Палач исполнил это не без страха.
— Посмотрите, — говорил Иоос, показывая свои белые ноги, — разве это раздвоенные копыта, как бывает у дьявола? Что до моей бледности, то разве среди вас нет таких же бледных, как и я? Я вижу троих таких. Не я грешник, а эта подлая ведьма и ее дочка, злая клеветница. Откуда деньги, которые она дала Гильберту, откуда эти червонцы? Не дьявол ли платил ей за то, что она обвиняет и предает смерти знатных и невинных людей. Это у них обеих надо спросить, кто задушил во дворе собаку, кто достал в стене колодца деньги, а потом бежал, оставив пустой дыру, конечно, чтоб скрыть где-нибудь в другом месте украденное золото. Вдова Сооткин мне не доверялась и не знала меня совсем, а им она верила и видела их каждый день. Это они похитили достояние императора.
Писарь записал, и судья сказал Катлине:
— Женщина, можешь ты что-нибудь сказать в свою защиту?
Катлина, смотря на Иооса Даммана, нежно сказала:
— Пора кричать орлу! У меня рука Гильберта, Ганс, дорогой мой. Они говорят, что ты вернешь мне семьсот червонцев. Уберите огонь, уберите огонь! — закричала она. — Пить! Пить! Голова горит. Господь с ангелами едят на небесах яблочки.
И она лишилась чувств.
— Отвяжите ее, — сказал судья.
Палач с помощниками развязали Катлину. И все видели, как она шатается на своих ногах, раздувшихся от того, что палач слишком сильно стянул их.
— Дайте ей напиться, — сказал судья.
Ей подали холодной воды, которую она жадно проглотила, стиснув стакан зубами, как держит кость собака, не выпуская ее. Затем ей дали еще воды, и она хотела было поднести ее Иоосу Дамману, но палач вырвал у ней из рук стакан. И она упала, уснув свинцовым сном.
— Я тоже хочу пить и спать! — яростно закричал Иоос Дамман. — Почему вы даете ей пить? Почему вы ей позволяете спать?
— Она слаба, она женщина, она безумна, — ответил судья.
— Ее безумие — притворство, — сказал Иоос Дамман, — она ведьма. Я хочу пить, я хочу спать!
И он закрыл глаза, но подручные палача стали бить его по лицу.
— Дайте мне нож, — кричал он, — и я искрошу это мужичье; я дворянин, и меня никто не бил по лицу. Воды! Хочу спать, я невинен. Я не брал семисот червонцев, это Гильберт. Пить! Я никогда не занимался колдовством и заклинаниями. Я невинен, не троньте меня! Пить!
Судья спросил тогда:
— Чем ты занимался с тех пор, как расстался с Катлиной?
— Я не знаю никакой Катлины, я не расставался с нею. Вы опрашиваете меня о вещах посторонних. Я не обязан вам отвечать! Пить, пустите меня спать! Говорю вам, что все сделал Гильберт.
— Развяжите его, — сказал судья, — отведите его в тюрьму. Но не давать ему ни пить, ни спать, пока он не признается в своих чародействах и заклинаниях.
И чудовищна была эта пытка для Даммана. Он кричал в своей тюрьме: «Пить, пить!» так громко, что народ слышал это снаружи, но без всякого сострадания. И когда он падал от сна и сторожа били его по лицу, он приходил в ярость, точно тигр, и кричал:
— Я дворянин, я уничтожу вас, мужичье! Пойду к королю, повелителю нашему. Пить!
Но, несмотря на все пытки, он не сознавался.
VI
Наступил май, зазеленела «липа правосудия», зелены также были дерновые скамьи, на которых воссели судьи. Неле была призвана как свидетельница. В этот день должен был быть вынесен приговор.
И народ — мужчины, женщины, горожане, работники столпились вокруг. И солнце сияло ярко.
Катлина и Иоос Дамман предстали перед судом. Дамман казался еще бледнее от мучительной жажды и бессонных ночей.
Катлина не могла держаться на своих шатких ногах; она показывала на солнце и говорила:
— Уберите огонь, голова горит.
И с нежной любовью смотрела на Иооса Даммана.
А он смотрел на нее с презрением и ненавистью.
И его друзья, господа и дворяне, призванные в Дамме, предстали перед судом как свидетели.
— Девушка Неле, защищающая свою мать Катлину с такой великой и мужественной любовью, — сказал комендант и председатель суда, — нашла в кармане праздничного платья матери письмо, подписанное: Иоос Дамман. В вещах умершего Гильберта Рейвиша я нашел в сумке другое письмо, отправленное ему вышереченным Иоосом Дамманом, представшим перед вами в качестве обвиняемого. Я сохранил у себя оба письма, дабы в подходящее время, каково и есть нынешнее, вы могли судить об упорстве этого человека и оправдать его или обвинить, согласно праву и справедливости. Вот пергамент, найденный в сумке; я не дотрагивался до него и не знаю, можно ли его прочитать или нет.
Судьи пришли в чрезвычайное затруднение. Председатель попытался развернуть пергаментный комок, но это ему не удавалось, и Иоос Дамман смеялся.
Один из старшин сказал:
— Положим комок в воду и нагреем его на огне. Если он слипся от тайного средства, то огонь и вода раскроют все.
Принесли воду; палач развел на воздухе большой костер; синий дым подымался к ясному небу сквозь зеленеющие ветви «липы правосудия».
— Не опускайте письма в таз, — сказал другой старшина, — ибо, если оно написано нашатырем, разведенным в воде, то вы смоете буквы.
— Нет, — сказал присутствовавший при этом лекарь, — буквы не смоются, вода размягчит только то место, которое склеилось и мешает раскрыть этот чародейский шарик.
Пергамент, опущенный в воду, размяк и был развернут.
— Теперь, — сказал лекарь, — подержите его на огне.
— Да, да, — сказала Неле, — подержите его на огне; господин лекарь на пути к истине, так как убийца побледнел, и его ноги задрожали.
На это Иоос Дамман возразил:
— Я не бледнею и не дрожу, ты маленькая мужицкая ведьма, которой хочется погубить дворянина; это тебе не удастся; пергамент, верно, сгнил после шестнадцатилетнего пребывания в земле.
— Нет, он не сгнил, — сказал председатель, — сумка была на шелковой подкладке, а шелк не гниет в земле, и черви не тронули пергамента.
Начали подогревать пергамент на огне.
— Господин комендант, господин комендант, — говорила Неле, — вот на огне проступили чернила; прикажите прочитать, что написано.
Когда лекарь хотел было читать, Иоос Дамман протянул руку, чтобы вырвать пергамент, но Неле с быстротой ветра отстранила его руку и сказала:
— Ты не коснешься письма, ибо в нем написана твоя смерть или смерть Катлины. Если теперь сочится кровью твое сердце, убийца, то вот уж пятнадцать лет, как исходит кровью наше сердце; пятнадцать лет, как страдает Катлина; пятнадцать лет, как горит мозг в ее голове из-за тебя; пятнадцать лет, как умерла Сооткин от пытки; пятнадцать лет, как мы разорены, обобраны и живем в нищете, но в гордости. Читайте, читайте! Судьи — это господь на земле, ибо он — справедливость. Читайте!
— Читайте! — кричали, плача, женщины и мужчины. — Неле молодец! Читайте! Катлина совсем не ведьма!
И писарь прочел:
«Гильберту, сыну Виллема Рейвиша, рыцарю, Иоос Дамман, рыцарь, шлет привет.
Благословенный друг, не проигрывай своих денег в карты, кости и иные великие пагубы. Я скажу тебе, как выигрывают наверняка. Станем с тобой чертями, черными красавцами, возлюбленными женщин и девушек. Будем брать красивых и богатых; нищих и рож нам не надо: пусть платят за удовольствие. В Германии я этим ремеслом в шесть месяцев заработал пять тысяч талеров. Женщины, когда полюбят, готовы отдать мужчине последнюю юбку и рубаху. Избегай скряг с поджатыми губами, — они не торопятся платить. Что до тебя, то, чтобы из тебя вышел подлинный «инкуб» и дьявол-красавец, ты, когда они тебя пригласят на ночь, возвещай о своем приходе криком ночной птицы. А чтобы приобрести настоящий вид дьявола, ужасающего дьявола, натри лицо фосфором, который светится, когда влажен. Запах от него скверный, но они будут думать, что это запах ада. Убивай всякого, кто тебе помешает: мужчину, женщину или животное.
Скоро мы вместе отправимся к Катлине: эта баба смазлива и ласкова; дочка ее, Неле, мое создание, если, впрочем, Катлина была мне верна; девочка миленькая и приветливая. Ты возьмешь ее без труда; предоставляю ее тебе… Что мне до этого отродья, которое ведь никогда нельзя с уверенностью признать своим порождением. От ее матери я уже добыл двадцать три золотых с лишним — все, что у нее было. Но она скрывает клад, который, если я не дурак, представляет из себя наследство, оставшееся от Клааса, еретика, сожженного в Дамме: семьсот червонцев, подлежащих конфискации. Но добрый король Филипп, который сжег столько своих подданных, чтобы стать их наследником, не сумел наложить лапу на это соблазнительное сокровище. В моем кошельке оно будет иметь больше веса, чем в его казне. Катлина мне скажет, где оно; мы поделимся. Только мне ты отдашь б о льшую часть, так как я его открыл.
А женщин, наших покорных служанок и рабынь, мы возьмем с собой в Германию. Здесь мы научим их быть «суккубами» и дьяволицами: они будут влюблять в себя богатых купцов и знатных дворян; мы будем там жить с ними за счет любви, оплачиваемой прекрасными талерами, бархатом, шелком, золотом, жемчугом и драгоценностями; таким образом, безо всяких трудов мы будем богаты и — без ведома наших дьявольских «суккубов» — любимы красотками, которых, впрочем, тоже заставим платить нам за любовь. Все женщины дуры: они теряют всякий разум перед человеком, сумевшим зажечь вложенный в них любовный огонь. Катлина и Неле еще глупее других и, считая нас дьяволами, будут покоряться нам во всем. Ты оставайся при своем имени, но не выдавай никогда твоего родового прозвища Рейвиш. Если судья схватит женщин, мы скроемся, а они, не зная нас, не могут на нас донести. За дело, друг мой! Счастье улыбается молодежи, как говорил почивший император Карл V, этот великий учитель в делах любовных и ратных».
И писец, закончив чтение, сказал:
— Вот все письмо и подписано оно: «Иоос Дамман, рыцарь».
И народ кричал:
— Смерть убийце! Смерть колдуну! В огонь соблазнителя! На виселицу разбойника!
— Тише, народ, — сказал председатель суда, — не мешайте нам свободно судить этого человека. — И он обратился к старшинам: — Я прочту вам другое письмо, найденное Неле в кармане праздничного платья Катлины.
«Прелестная ведьмочка, вот состав моего снадобья, указанный мне самой супругой Люцифера; при помощи этого снадобья ты можешь взлететь на солнце, луну и звезды, разговаривать с духами стихий, передающими богу молитвы людские, и носиться по городам, местечкам, рекам, лугам всего мира. Свари в равных долях: stramonium, solanum somniferum, белену, опий, свежие головки конопли, белладонну и дурман.
Если хочешь, мы вечером полетим на бесовский шабаш, только надо любить меня сильнее и не быть такой скаредной, как прошедший вечер, когда ты не хотела дать мне десять флоринов, сказав, что у тебя нет. Я знаю, что ты скрываешь клад и не хочешь мне сказать об этом. Или ты больше меня не любишь, мое сердечко?
Твой холодный дьявол
— Смерть колдуну! — кричала толпа.
— Надо сличить оба почерка, — сказал председатель суда.
По сличении почерки были признаны сходными.
Тогда председатель обратился к присутствующим дворянам:
— Признаете ли вы этого человека за господина Иосса Даммана, сына гентского эшевена?
— Да, — ответили они.
— Знали вы, — продолжал он, — господина Гильберта, сына Виллема Рейвиша?
Выступил один из дворян, по имени ван дер Зикелен, и заявил:
— Я из Гента: мой steen[56] Steen — городская усадьба, укрепленный дом. находится на площади святого Михаила; я знаю Виллема Рейвиша, дворянина, гентского эшевена. Лет пятнадцать тому назад у него пропал сын. Это был молодой человек двадцати трех лет, кутила, игрок, бездельник; ему это прощали из-за его молодости. С тех пор никто ничего о нем не слышал. Я хотел бы видеть шпагу, кинжал и сумку покойного.
Рассмотрев их, он сказал:
— На рукоятях шпаги и кинжала герб рода Рейвиш: три серебряные рыбы на лазурном поле. Тот же герб вычеканен на золотом замочке сумки. А это что за кинжал?
— Этот, — ответил председатель, — был воткнут в тело Гильберта Рейвиша, сына Виллема.
— Я вижу на нем герб Дамманов, — сказал дворянин, — зубчатая башня на серебряном поле. Так да поможет мне бог и все святые.
Другие дворяне подтвердили:
— Мы признаем, что это гербы Рейвиша и Даммана. Так да поможет нам бог и все святые.
— В силу выслушанных и прочитанных перед судом доказательств, — сказал председатель суда, — Иоос Дамман есть колдун, убийца, соблазнитель женщин, похититель королевского имущества и как таковой, повинен в оскорблении величества, божеского и человеческого.
— Вы можете толковать об этом, господин комендант, — возразил Иоос, — но вы не смеете осудить меня за отсутствием достаточных улик. Я не колдун и никогда не был колдуном: я только прикинулся дьяволом. Что касается моего светящегося лица, то вам известна его тайна, а состав мази, не считая белены, растения ядовитого, исключительно снотворный. Когда эта женщина, подлинная колдунья, применяла снадобье, она погружалась в сон, и тут ей виделось, что она летит на шабаш, кружится там спиною к середине вращения и поклоняется дьяволу в образе козла, стоящему на алтаре. По окончании хоровода — так ей казалось — она, как делают все колдуны, целовала его под хвост, чтобы затем предаться со мною, ее возлюбленным, противоестественным наслаждениям, пленявшим ее извращенный дух. Если у меня были, как она говорит, холодные руки и свежее тело, то это признак молодости, а не колдовства. При любовной работе холод недолог. Но Катлина хотела верить в свои вожделения и принимать меня за дьявола, хотя я человек во плоти, как вы меня видите. Только она одна и виновна: принимая меня за дьявола и, однако, разделяя со мной ложе, она намеренно и действительно грешила против господа-бога и духа святого. Стало быть, это она, а не я, совершила преступление колдовства, она заслуживает костра, как упорная и злобная ведьма, которая притворяется сумасшедшей, чтобы скрыть свое злоумышление.
— Вы слушаете этого убийцу? — вскричала Неле. — Он ведь, как гулящая девка с цветным кружком на рукаве, промышлял продажной любовью. Вы его слушаете? Ради своего спасения он добивается, чтобы сожгли ту, которая ему отдавала все, что могла.
— Неле злая, — сказала Катлина, — не слушай ее, Ганс, дорогой мой.
— Нет, — сказала Неле, — нет, ты не человек, ты трусливый, злобный дьявол! — И, охватив Катлину руками, она умоляла: — Господа судьи, не слушайте этого бледнолицего злодея; у него одно желание: видеть на костре мою мать, за которой нет никакой вины, кроме того, что господь поразил ее безумием и что она считает действительными призраки своих видений. Слишком много она уже выстрадала и телом и душою. Не предавайте ее смерти, господа судьи. Дайте невинной жертве дожить в мире ее печальную жизнь.
И Катлина говорила:
— Неле злая, не верь ей, Ганс, мой повелитель.
И в толпе женщины плакали и мужчины говорили:
— Помилуйте Катлину!
Судьи вынесли приговор Иоосу Дамману, который после новых пыток сознался во всем. Он был приговорен к лишению дворянства и сожжению на медленном огне, каковое мучение он и претерпел на следующий день на площади перед ратушей, причем все время твердил:
— Казните ведьму, только она преступница. Проклинаю господа-бога! Мой отец убьет всех судей! — и с этими словами испустил дух.
И народ говорил:
— Смотрите, он и сейчас еще кощунствует и богохульствует. Издыхает, как собака.
На следующий день судьи вынесли приговор относительно Катлины. Ее решили подвергнуть испытанию водой в брюггском канале. Если она не будет тонуть, она будет сожжена, как ведьма; если пойдет ко дну и утонет, то кончина ее будет признана христианской, и посему тело ее будет погребено в пределах церковной ограды, то-есть на кладбище.
На следующий день Катлина с восковой свечой в руках, босая, в черной рубахе, была с торжественным крестным ходом проведена вдоль деревьев к берегу канала. Впереди же с пением заупокойных молитв шествовали каноник собора богоматери, его викарий, причетник, несший крест, а позади — комендант города Дамме, старшины, писцы, городская стража, профос, палач с двумя своими помощниками. На берегах канала уже собралась громадная толпа. Женщины плакали, мужчины роптали, и все были переполнены глубокой жалостью к Катлине, а она шла, как ягненок, покорно и не понимая, куда идет, и все время твердила:
— Уберите огонь, голова горит! Ганс, где ты?
Неле, стоя в толпе женщин, кричала:
— Пусть меня бросят вместе с нею!
И женщины не пускали ее к Катлине.
Резкий ветер дул с моря; с серого неба падал в воду канала мелкий град; у берега стояла барка, которую палач и его помощники заняли от имени его королевского величества. По их приказанию Катлина спустилась туда. И все видели, как палач, стоявший на барке, по знаку «жезла правосудия», данному профосом, поднял Катлину и бросил ее в воду. Она барахталась, но недолго, и пошла ко дну с криком:
— Ганс! Ганс! Спаси!
И народ говорил:
— Эта женщина не ведьма.
Несколько человек бросились в канал и вытащили Катлину, лишившуюся чувств и окоченевшую, как мертвец. Ее отнесли в корчму и положили у большого огня. Неле сняла с нее платье и мокрое белье, чтобы переодеть ее. Придя в себя, она, содрогаясь и стуча зубами, проговорила:
— Ганс, дай мне шерстяную накидку.
Но согреться Катлина уже не могла и умерла на третий день и была погребена в церковной ограде.
И Неле, осиротев, перебралась в Голландию к Розе ван Аувегем.
VII
На зеландских шкунах, на бригах и корветах носится Тиль Клаас Уленшпигель.
По свободному морю летят доблестные суда; на них по восьми, десяти, двадцати чугунных пушек, извергающих смерть и гибель на испанских палачей.
Стал умелым пушкарем Тиль Уленшпигель, сын Клааса. Надо видеть, как он наводит, как целится, как пронизывает борты злодейских кораблей, точно они из коровьего масла.
На шляпе у него серебряный полумесяц с надписью: «Liever den Turc als den Paps» — «Лучше служить султану, чем папе».
Моряки, видя, как он взбегает на их корабль, легкий, как кошка, стройный, как белка, всегда с песенкой или с шуточками, спрашивают его:
— Почему это, молодец, у тебя такой юный вид? Ведь, говорят, много времени прошло с тех пор, как ты родился в Дамме.
— Я не тело, я дух, — отвечает он, — а Неле моя возлюбленная. Дух Фландрии, Любовь Фландрии, — мы не умрем никогда.
— Однако кровь льется из тебя, когда тебя ранят.
— Это одна видимость, — отвечает Уленшпигель, — это вино, а не кровь.
— Ну, проткнем тебе живот вертелом.
— Я из себя вылью, что надо.
— Ты смеешься над нами.
— Тот слышит бой барабана, кто бьет в барабан.
И вышитые хоругви католических церквей развеваются на мачтах кораблей. И одетые в бархат, парчу, шелк, золотые и серебряные материи, в какие облачаются аббаты при торжественных богослужениях, в митре и с посохом, распивая вино из монастырских погребов, — вот в каком виде стоят на часах гёзы на кораблях.
И странно было видеть, как из этих богатых одеяний вдруг высунется грубая рука, привыкшая носить аркебуз или самострел, алебарду или пику; странны были эти люди с суровыми лицами, со сверкающими на солнце пистолетами и ножами за поясом, распивающие из золотых чаш аббатское вино, ставшее вином свободы.
С пением и возгласами: «Да здравствует гёз!» — носились они по океану и Шельде.
VIII
Гёзы, — среди которых были Ламме и Уленшпигель, — взяли в эти дни Хоркум. Начальником отряда был капитан Марин; в свое время этот Марин был мостовщиком на плотине; теперь же, высокомерный и самодовольный, он подписал с Гаспаром Тюрком, защитником Хоркума, капитуляцию, по которой Тюрк, монахи, горожане и солдаты, которые заперлись в крепости, получили право свободного выхода, с мушкетом на плече и с пулей в стволе, со всем, что они могут нести на себе; только церковное имущество переходит к победителям.
Но капитан Марин, по приказу господина де Люмэ, выпустив солдат и горожан, задержал в плену тринадцать монахов.
И Уленшпигель сказал:
— Слово солдата должно быть золотым словом. Почему же он не держит своего слова?
Старый гёз ответил Уленшпигелю:
— Монахи — дети сатаны, проказа народов, позор страны. Сейчас, с приближением герцога Альбы, они заважничали в Хоркуме. Есть среди них один, брат Николай, более чванный, чем павлин, и более свирепый, чем тигр. Всякий раз, проходя по улице со святыми дарами, он с исступлением смотрел на дома, откуда женщины не вышли преклонить колени, и доносил судье на всякого, кто не склонялся пред его идолищем из вызолоченной меди и глины. Прочие монахи подражали ему. Из этого проистекали многие великие бедствия, казни и жестокие расправы в Хоркуме. Капитан Марин хорошо сделал, задержав в плену монахов, которые в противном случае отправились бы с им подобными по деревням, замкам, городам и местечкам проповедовать против нас, возмущая народ и подстрекая сжигать несчастных реформатов. Псов держат на цепи, пока не издохнут. На цепь монахов, на цепь этих bloed-honden, окровавленных псов герцога! В клетку палачей! Да здравствует гёз!
— Но принц Оранский, принц свободы, — сказал Уленшпигель, — требует уважения к личному достоянию и свободной совести сдавшихся.
— Адмирал этого не применяет к монахам, — отвечали старые гёзы, — он сам господин: он взял Бриль. В клетку длиннополых!
— Слово солдата — золотое слово; почему он его не держит? — возразил Уленшпигель. — Над монахами в тюрьме издеваются безобразно.
— Пепел не стучит больше в твое сердце, — отвечали они. — Сто тысяч семейств вследствие королевских указов понесли на северо-запад, в Англию, ремесла, промышленность, богатство нашей родины. А ты жалеешь тех, кто виновен в нашей гибели. Со времен императора Карла Пятого, Палача Первого, под властью Филиппа Кровавого, Палача Второго, сто восемнадцать тысяч человек погибли в мучениях. Кто нес погребальный факел в этих убийствах и горестях? Монахи и испанские солдаты. Неужто ты не слышишь стенаний душ усопших?
— Пепел стучит в мое сердце, — отвечал Уленшпигель. — Слово солдата — золотое слово!
— Кто посредством отлучений от церкви хотел извергнуть нашу родину из среды народов? Кто готов был, если бы мог, вооружить против нас небо и землю, господа и дьявола и их полчища святых? Кто окровавил бычьей кровью святые дары? У кого слезами плакали деревянные статуи? Кто, как не эти проклятые попы и орды бездельников-монахов, всю нашу родину заставил петь De Profundis? И все для того, чтобы сохранить свое богатство, свою власть над идолопоклонниками, чтобы царить над несчастной страной посредством крови, огня и разрушения. В клетку волков, нападающих на народ, в клетку гиен! Да здравствует гёз!
— Слово солдата — золотое слово, — возразил Уленшпигель.
На другой день прибыл гонец от господина де Люмэ с приказом перевезти девятнадцать пленных монахов из Хоркума в Бриль, где находился адмирал.
— Они будут повешены, — сказал капитан Марин Уленшпигелю.
— Нет, пока я жив, — ответил тот.
— Сын мой, — говорил Ламме, — не разговаривай так с господином де Люмэ. Он человек необузданного нрава и без пощады повесит тебя вместе с монахами.
— Я буду ему говорить правду, — ответил Уленшпигель. — Слово солдата — золотое слово.
— Если ты можешь спасти их, — сказал Марин, — проводи барку с ними в Бриль. Возьми с собой, если хочешь, рулевым Рохуса и твоего друга Ламме.
— Хорошо, — ответил Уленшпигель.
Барка стояла у Зеленой набережной; девятнадцать монахов были посажены на нее. Трусоватый Рохус взялся за руль. Уленшпигель и Ламме, вооруженные, расположились на носу. Некоторые негодяи из солдат, вкравшиеся в среду гёзов ради грабежа, стояли вокруг монахов, которые страдали от голода. Уленшпигель напоил и накормил их.
— Этот изменит! — говорили негодяи из солдат.
Девятнадцать монахов, сидевшие посредине, хранили ханжеский вид и дрожали всем телом, хотя был июль, солнце сияло ярко и тепло и мягкий ветерок надувал паруса барки, грузно и тяжело прорезавшей зеленые волны.
И патер Николай обратился к рулевому с вопросом:
— Рохус, неужто нас везут на Поле виселиц? — И, встав и протянув руки по направлению к Хоркуму, он воззвал: — О город Хоркум! Сколько несчастий суждено тебе? Проклят будешь ты среди городов, ибо ты дал взрасти в стенах твоих семенам ереси. О город Хоркум! Уже не будет ангел господень стоять стражем у врат твоих. Он отложит попечение о целомудрии твоих дев, о мужестве твоих мужей, о богатстве твоих купцов. О город Хоркум! Проклят ты, злополучный.
— Проклят, проклят, — ответил Уленшпигель, — проклят, как гребень, вычесавший испанских вшей; проклят, как пес, порвавший свою цепь; как гордый конь, сбросивший с себя жестокого всадника. Сам ты будь проклят, пустоголовый болтун, которому не по душе, когда ломают палку, — пусть хоть железную, — на спине тирана.
Монах умолк и, опустив глаза, как будто погрузился в свою молитвенную злобу.
Бездельники, вкравшиеся в среду гёзов ради грабежа, окружали монахов, вскоре почувствовавших голод. Уленшпигель попросил для них у хозяина барки сухарей и селедок.
Тот ответил:
— Пусть их бросят в Маас; там покушают свежих селедок.
Тогда Уленшпигель отдал монахам весь запас хлеба и колбас, который был у него и Ламме. Хозяин барки и негодяи-гёзы говорили между собой:
— Вот предатель: кормит попов; надо донести на него.
В Дордрехте барка остановилась в порту у Bloemen-Key — Цветочной набережной; женщины, мужчины, мальчики и девочки сбежались толпой поглазеть на монахов и, показывая пальцами и грозя им кулаками, говорили:
— Посмотрите на этих прохвостов, которые корчили из себя святых и тащили людей на костер, а их души в вечный огонь; посмотрите на этих ожиревших тигров и пузатых шакалов.
Монахи, опустив головы, не смели сказать ни слова. Уленшпигель видел, что они дрожат всем телом.
— Мы опять проголодались, добрый солдатик, — говорили они.
Но хозяин барки кричал:
— Кто всегда жаден? Сухой песок. Кто всегда голоден? Монах.
Уленшпигель сходил в город и принес оттуда хлеба, ветчины и большой жбан пива.
— Ешьте и пейте, — сказал он, — вы наши пленники, но я спасу вас, если удастся. Слово солдата — золотое слово.
— Почему ты кормишь их? — говорили негодяи-гёзы. — Они не заплатят тебе. — И потихоньку переговаривались: — Он обещал спасти их, надо смотреть за ним.
На рассвете они прибыли в Бриль. Ворота были открыты перед ними, и voet-looper — скороход — побежал сообщить господину де Люмэ об их прибытии.
Получив известие, он, полуодетый, тотчас прискакал верхом, окруженный несколькими всадниками и вооруженными пехотинцами.
И Уленшпигель снова увидел свирепого адмирала, одетого как знатный и богатый барин.
— Здравствуйте, господа монахи, — сказал тот, — покажите-ка руки. Где же кровь графов Эгмонта и Горна? Что вы мне тычете белые лапы? Она ведь на вас.
Один монах, по имени Леонард, ответил:
— Делай с нами, что хочешь. Мы монахи, никто за нас не заступится.
— Верно сказано, — вмешался Уленшпигель, — ибо монах порвал со всем миром — с отцом и матерью, братом и сестрой, женой и возлюбленной — и в последний час действительно не имеет никого, кто бы за него вступился. Все-таки я попробую сделать это, ваша милость. Капитан Марин, подписывая капитуляцию Хоркума, дал в ней обещание, что монахи получат свободу, подобно всем, взятым в крепости, и будут выпущены из нее. Между тем они без всякой причины были задержаны в плену; я слышал, что их собираются повесить. Ваша милость, почтительнейше обращаюсь к вам, вступаясь за них, так как знаю, что слово солдата — золотое слово.
— Кто ты такой? — спросил господин де Люмэ.
— Ваша милость, — ответил Уленшпигель, — я фламандец, родом из прекрасной Фландрии, крестьянин, дворянин, все вместе; брожу по свету, восхваляя все высокое и прекрасное и издеваясь над глупостью во всю глотку. И вас я буду прославлять, если вы сдержите обещание, данное капитаном; слово солдата — золотое слово.
Но негодяи-гёзы, бывшие на барке, заговорили:
— Ваша милость, это предатель: он обещал спасти их, он давал им хлеб, ветчину, колбасы, пиво, а нам ничего.
Тогда господин де Люмэ сказал Уленшпигелю:
— Фламандский бродяга, кормилец монахов, ты будешь вздернут вместе с ними.
— Не испугаюсь, — ответил Уленшпигель: — слово солдата — золотое слово.
— Поговори еще! — сказал де Люмэ.
— Пепел стучит в мое сердце, — ответил Уленшпигель.
Монахи были заперты в сарае и Уленшпигель вместе с ними; здесь они пытались богословскими доводами обратить его на путь истины, но он заснул, слушая их.
Господин де Люмэ сидел за столом, уставленным вином и яствами, когда из Хоркума от капитана Марина прибыл курьер с копией письма Молчаливого, принца Оранского, «повелевающего всем губернаторам городов и иных местностей предоставить духовенству такие же права, охрану и безопасность, как и прочему населению».
Курьер пожелал видеть самого адмирала де Люмэ, чтобы передать ему в собственные руки копию письма.
— Где подлинник? — спросил де Люмэ.
— У моего господина, — ответил курьер.
— И этот мужик посылает мне копию? — вскричал де Люмэ. — Где твой паспорт?
— Вот, ваша милость.
Господин де Люмэ начал громко читать:
— «Его милость господин Марин Бранд сим приказывает всем губернаторам, начальствующим и должностным лицам республики чинить свободный пропуск…»
Де Люмэ стукнул кулаком по столу и разорвал паспорт на куски.
— Кровь господня! — закричал он. — Чего тут мешается этот сопляк, который до взятия Бриля рад был селедочной головке! Он именует себя господином и капитаном и посылает мне, мне посылает свои приказы. Он повелевает, он приказывает! Скажи его милости, твоему важному господину и повелителю, что именно потому, что он такой важный господин и повелитель, монахи будут сейчас повешены и ты вместе с ними, если не уберешься сию же минуту.
И ударом ноги он вышвырнул его из комнаты.
— Пить! — закричал он. — Какова, наглость этого Марина? Меня чуть не вырвало от злости. Повесить сейчас этих монахов в их сарае и привести ко мне этого фламандского бродягу, после того как он побывает при казни. Посмотрим, как он посмеет сказать мне, что я поступил дурно. Кровь господня! На какого чорта здесь все эти горшки и бутылки?
И он с грохотом перебил всю утварь, тарелки и бокалы, и никто не смел сказать ему ни слова. Слуги хотели подобрать осколки, но он не позволил, и, без конца вливая в себя одну бутылку за другой, он расхаживал большими шагами по осколкам, бешено давя и дробя их.
Ввели Уленшпигеля.
— Ну, — сказал де Люмэ, — что слышно новенького о твоих друзьях и монахах?
— Они повешены, — ответил Уленшпигель, — и подлый палач, убивший их ради корысти, распорол одному из них, после смерти, точно заколотой свинье, живот и бока, надеясь продать сало аптекарю. Слово солдата уже больше не золотое слово.
Де Люмэ затопал ногами по осколкам посуды.
— Ты дерзишь мне, червяк негодный! — закричал он. — Но ты тоже будешь повешен, только не в сарае, а на площади, позорно, перед всем миром.
— Позор вам, — сказал Уленшпигель, — позор вам: слово солдата уже не золотое слово.
— Замолчишь ты, медный лоб? — крикнул де Люмэ.
— Позор тебе, — ответил Уленшпигель: — слово солдата уже не золотое слово. Прикажи повесить лучше негодяев, торгующих человеческим салом.
Де Люмэ бросился к нему, подняв руку, чтобы ударить.
— Бей, — вымолвил Уленшпигель, — я твой пленник, но я не боюсь тебя: слово солдата уже не золотое слово.
Де Люмэ выхватил шпагу и, наверное, убил бы Уленшпигеля, если бы господин Трелон, схватив его за руку, не сказал:
— Помилуй его. Он храбрый молодец и не совершил никакого преступления.
Де Люмэ опомнился и сказал:
— Пусть просит прощения!
Но Уленшпигель, выпрямившись, ответил:
— Не стану!
— Пусть, по крайней мере, скажет, что я поступил справедливо! — яростно заорал де Люмэ.
— Я не из тех, кто лижет барские сапоги, — сказал Уленшпигель. — Слово солдата уже не золотое слово.
— Поставьте виселицу и отведите его к ней: пусть он там услышит пеньковое слово, — вскричал де Люмэ.
— Хорошо, — ответил Уленшпигель, — я перед всем народом буду тебе кричать: «Слово солдата уже не золотое слово».
Виселица была воздвигнута на Большом рынке. Тотчас же весь город обежала весть, что будут вешать Уленшпигеля, храброго гёза. И народ, исполненный жалости и сострадания, сбежался толпой на Большой рынок; господин де Люмэ также прибыл сюда верхом на лошади, желая лично подать знак к исполнению казни.
Он сурово смотрел на Уленшпигеля, раздетого для казни, в одной рубахе, с привязанными к телу руками и веревкой на шее, стоявшего на лестнице, и на палача, готового приступить к делу. Трелон обратился к нему:
— Адмирал, пожалейте его; он не предатель, и никто не видел еще, чтобы человека вешали за то, что он прямодушен и жалостлив.
И народ, мужчины и женщины, услышав слова Трелона, кричал:
— Сжальтесь, ваша милость, помилуйте Уленшпигеля!
— Этот медный лоб был дерзок со мной, — сказал де Люмэ, — пусть покается и скажет, что я был прав.
— Согласен ты покаяться и сказать, что он был прав? — спросил Трелон Уленшпигеля.
— Слово солдата уже не золотое слово, — ответил Уленшпигель.
— Тяни веревку, — сказал де Люмэ.
Палач уже чуть было не исполнил приказания, как вдруг молодая девушка, вся в белом и с венком на голове, взбежала, как безумная, по ступенькам эшафота, бросилась к Уленшпигелю на шею и крикнула:
— Этот человек мой; я беру его в мужья.
И народ рукоплескал ей, и женщины кричали:
— Молодец, девушка! Спасла Уленшпигеля!
— Это еще что такое? — спросил де Люмэ.
— По правам и обычаям этой страны, — ответил Трелон, — установлено, как закон и право, что невинная или незамужняя девушка спасает человека от петли, если у подножья виселицы берет его себе в мужья.
— Бог за него, — сказал де Люмэ, — развяжите его.
Проезжая затем мимо эшафота, он увидел, что палач не дает девушке разрезать веревки Уленшпигеля и борется с ней, говоря:
— Если вы их разрежете, кто за них заплатит?
Но девушка не слушала его.
Увидя ее миловидность, проворство и нежность, де Люмэ смягчился.
— Кто ты? — спросил он.
— Я Неле, его невеста, я приехала за ним из Фландрии.
— Хорошо сделала, — надменно сказал он и удалился.
К ним подошел Трелон.
— Маленький фламандец, — спросил он, — ты и женившись останешься солдатом на наших кораблях?
— Да, ваша милость, — ответил Уленшпигель.
— А ты, девочка, что будешь делать без твоего мужа?
— Если позволите, ваша милость, я буду свирельщиком на его корабле.
— Хорошо, — сказал Трелон.
И он дал ей два флорина на свадьбу.
И Ламме, плача и смеясь от радости, говорил:
— Вот еще три флорина. Все съедим; я плачу за все. Идем в «Золотой гребешок». Ах, он жив остался, мой друг. Да здравствует гёз!
И народ бил в ладоши, и они отправились в «Золотой гребешок», где было устроено великое пиршество, и Ламме бросал из окна деньги народу.
А Уленшпигель говорил Неле:
— Красавица моя дорогая, вот ты со мной! О радость! Она здесь телом, душой и сердцем, моя милая подружка. О кроткие глазки, о пурпурные уста, из которых вылетало только доброе слово! Она спасла мне жизнь, моя нежная, моя любимая! Ты будешь играть на наших кораблях песню освобождения. Помнишь?.. Нет, не надо… Наш этот сладостный час, мое это личико нежное, как июньский цветок. Я в раю… Но ты плачешь?..
— Они убили ее, — сказала Неле. И она рассказала ему о своей утрате.
И, глядя друг другу в глаза, они плакали от любви и скорби.
И на пиру они ели и пили, и Ламме грустно смотрел на них, приговаривая:
— О жена моя, где ты?
И явился священник и обвенчал Неле и Уленшпигеля.
И утреннее солнце застало их рядом в их брачной постели.
Голова Неле лежала на плече Уленшпигеля. И, когда луч солнца разбудил ее, он сказал:
— Свежее личико и нежное сердечко, мы будем мстителями за Фландрию.
И она, поцеловав его в губы, сказала:
— Отчаянная голова и могучая рука, господь благословит союз свирели и шпаги.
— Я тебе сделаю солдатскую одежду.
— Сейчас? — сказала она.
— Сейчас, — ответил Уленшпигель. — Но кто это сказал, что по утрам вкусна земляника. Твои губы много лучше.
IX
Уленшпигель, Ламме и Неле, так же как их друзья и товарищи, отбирали у монастырей то, что монахи выманивали у народа крестным ходом, ложными чудесами и прочими римскими проделками. Делали это гёзы против повеления Молчаливого, принца свободы, но деньги шли на военные расходы. Ламме Гудзак не довольствовался деньгами; он забирал в монастырях окорока, колбасы, бутылки пива и вина и возвращался с похода, обвешанный птицей, гусями, индейками, каплунами, курами и цыплятами, ведя на веревке еще несколько монастырских телят и свиней.
— Это принадлежит нам по праву войны, — говорил он.
В восторге от каждого такого захвата он приносил добычу на корабль для пиршества и угощения, но жаловался всегда, что корабельный повар — невежда в высокой науке соусов и жарких.
Как-то гёзы, победоносно налившись вином, обратились к Уленшпигелю:
— У тебя хороший нюх на то, что творится на суше; ты знаешь все военные походы. Спой нам о них, Ламме будет бить в барабан, а смазливый свирельщик посвистит в такт твоей песне.
И Уленшпигель начал:
— В ясный, свежий майский день Людвиг Нассауский, рассчитывая войти в Монс, не нашел, однако, ни своей пехоты, ни конницы. Несколько его приверженцев уже открыли ворота и опустили подъемный мост, чтобы он мог взять город. Но горожане овладели воротами и мостом. Где же солдаты графа Людвига? Горожане вот-вот подымут мост. Граф Людвиг трубит в рог!
И Уленшпигель запел:
Где твоя конница, где пехотинцы?
Прячутся в чаще лесной до поры,
Ландыши топчут и ветки сухие.
Солнечный луч заставляет блестеть
Их загорелые смелые лица
И шелковистые крупы коней.
В рог затрубив, их сзывает граф Людвиг.
Слышите? Громко не бей в барабан!
Рысью! Поводья совсем отпустить!
Молния движется медленней. Вихрем
Мчится грохочущее железо.
Тяжесть такая — не скачет, летит.
Эй, на подмогу! Скорее! Скорее!
Мост подымается… Глубже вонзайте
Шпоры в бока боевого коня!
Мост подымается: город потерян!
Вот они, близко. Не слишком ли поздно?
В воздухе кони почти распластались.
Первым Гитуа де Шомон доскакал,
Прыгнул на мост, опустившийся снова.
Взят нами город! По улицам Монса
Конница смерчем грохочущим мчится.
Слава Шомону с его скакуном!
Бей в барабан! Надрываясь, трубите!
Это пора сенокоса, трава
Пахнет сильнее, и к небу взлетает
Жаворонок… Слава птице свободной!
Бей в барабан! Победителям слава!
Чокнемся, брат, за здоровье Шомона!
Взят нами город. Да здравствует гёз!
И гёзы пели на кораблях: «Христос, воззри на войско твое! Господь, наточи мечи! Да здравствует гёз!»
И Неле, смеясь, дудела на своей свирели, и Ламме бил в барабан, и вверх к небесам, храму господнему, вздымались золотые чаши и песни свободы. И волны, ясные и свежие, точно сирены, мерно плескались вокруг кораблей.
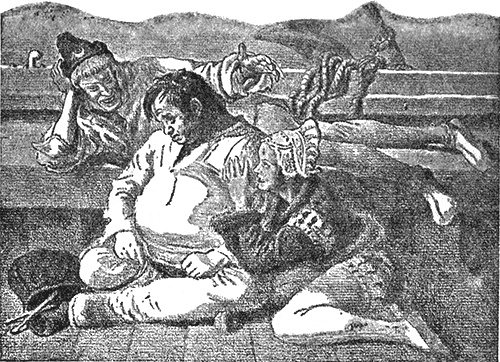
X
Был жаркий и душный августовский день. Ламме тосковал; молчал и спал его веселый барабан, и палочки его торчали из отверстия сумки. Уленшпигель и Неле, улыбаясь от удовольствия, грелись на солнце. Дозорные, сидя на верхушке мачты, свистели или пели, рыская глазами по морскому простору, не увидят ли на горизонте какой добычи. Трелон спрашивал их, но они отвечали только:
— Niets (ничего).
И Ламме жалобно вздыхал, бледный и усталый. И Неле спросила его:
— Отчего это, Ламме, ты такой грустный?
— Ты худеешь, сын мой, — сказал Уленшпигель.
— Да, — ответил Ламме, — я тоскую и худею. Сердце мое теряет свою веселость, а моя добродушная рожа — свою свежесть. Да, смейтесь надо мной вы, нашедшие друг друга, несмотря на тысячи опасностей. Насмехайтесь над бедным Ламме, который живет вдовцом, будучи женат, тогда как вот она, — он указал на Неле, — спасла своего мужа от лобзаний веревки. Неле будет его последней возлюбленной. Она хорошо поступила, да благословит ее господь. Но пусть она не смеется надо мной. Да, ты не должна смеяться над бедным Ламме, друг мой Неле. Моя жена смеется за десятерых. О женщины, как вы жестоки к чужим страданиям! Да, тоскует мое сердце, пораженное мечом разлуки, и ничто не исцелит его, кроме нее.
— Или куска доброго жаркого! — сказал Уленшпигель.
— Да, — ответил Ламме, — а где же мясо на этом унылом корабле? На королевских судах в мясоед получают четыре раза в неделю говядину и три раза рыбу. Что до рыбы, — да покарает меня господь, если эта мочала — я говорю о рыбьем мясе — производит что-нибудь, кроме бесплодного пожара, в моей крови, моей бедной крови, которая скоро уйдет с водою. У них там есть и пиво, и сыр, и суп, и выпивка. Да, у них все для радостей желудка: сухари, ржаной хлеб, пиво, масло, солонина; да, все: вяленая рыба, сыр, горчица, соль, бобы, горох, крупа, уксус, постное масло, сало, дрова, уголь. А нам только запретили забирать скот чей бы то ни было — дворянский, мещанский или поповский. Едим селедку и пьем жиденькое пиво. Ох-ох, всего я лишен, ни dobbele-bruinbier, ни порядочной еды. В чем здесь наши радости?
— Я сейчас скажу тебе, Ламме, — ответил Уленшпигель, — око за око, зуб за зуб; в Париже в ночь святого Варфоломея они убили десять тысяч человек, десять тысяч свободных сердец в одном только Париже. Сам король стрелял в свой народ. Проснись, фламандец, схватись за свой топор, не зная жалости: вот наши радости. Бей врага испанца и католика везде, где он попадается тебе. Забудь о своей жратве. Они отвозили живыми и мертвыми свои жертвы к рекам и целыми повозками выбрасывали их в воду. Мертвых и живых, — слышишь ты, Ламме? Девять дней была красна Сена, и вороны тучами слетались над городом. И в ла Шаритэ, Руане, Тулузе, Лионе, Бордо, Бурже, Mo избиение было чудовищно. Видишь стаи пресыщенных собак, лежащих подле трупов? Их зубы устали. Полет ворон тяжел, потому что брюхо их переполнено мясом жертв. Слышишь, Ламме, голос жертв, вопиющих о мести и жалости? Проснись, фламандец! Ты говоришь о твоей жене. Я не думаю, чтобы она тебе изменила: она влюблена в тебя, бедный мой друг. И она не была среди этих придворных дам, которые в самую ночь убийств своими нежными ручками раздевали трупы, чтобы удостовериться в размерах их мужской плоти. И они хохотали, эти дамы, великие в распутстве. Воспрянь духом, сын мой, несмотря на твою рыбу и жидкое пиво. Если скверно во рту после селедки, то много сквернее запах этих гнусностей. Вот пируют убийцы и плохо вымытыми руками режут жареных гусей, угощая знатных красавиц парижских, поднося им лапки, крылышки и гузку. А ведь только что они трогали руками другое мясо, холодное мясо.
— Больше не буду жаловаться, сын мой, — сказал Ламме, вставая. — Для свободных сердец селедка — тот же дрозд, жидкое пиво — мальвазия.
И Уленшпигель возгласил:
Да здравствует гёз! Братья, плакать не будем.
Среди развалин, политая кровью,
Роза свободы пышней расцветает.
Бог ведь за нас, кто посмеет быть против?
Если порой побеждает гиена,
Длится недолго ее торжество.
Лапой бьет лев — и гиена бессильна.
Око за око. Да здравствует гёз!
И гёзы на кораблях подхватили:
Альба хотел бы нас всех уничтожить.
Рана — за каждую рану, зуб за зуб.
Око за око. Да здравствует гёз!
XI
Черной ночью грохотал гром в недрах грозовых туч. Уленшпигель сидел с Неле на палубе.
— Все наши огни погашены, — сказал он. — Мы лисицы, подстерегающие испанскую дичь: двадцать два богатых испанских корабля, на которых мерцают фонари: это их злосчастные звезды. И мы мчимся на них.
— Это колдовская ночь, — сказала Неле, — небо черно, как пасть ада, зарницы вспыхивают, как улыбка сатаны, глухо грохочет вдали буря; с резкими криками носятся вокруг чайки; море катит свои светящиеся волны, точно серебряных ужей. Тиль, дорогой мой, унесемся в царство духов. Прими порошок сновидений.
— Я увижу Семерых, дорогая?
И они приняли порошок, вызывающий видения.
И Неле закрыла глаза Уленшпигелю, и Уленшпигель закрыл глаза Неле. И страшное зрелище предстало пред ними.
Небо, земля, море были заполнены толпами людей: мужчины, женщины, дети работали, бродили, плыли, мечтали. Их баюкало море, их несла земля. Они копошились, точно угри в корзине.
Семь венценосцев, мужчин и женщин, посредине неба сидели на престолах. На лбу у каждого сверкала блестящая звезда, но образ их был так смутен, что Неле и Уленшпигель не различали ничего, кроме их звезд.
Море вздымалось под небеса, неся на своей пене бесчисленное множество кораблей, мачты и снасти которых сталкивались, скрещивались, ломались, разбивались, следуя порывистым движениям воды. И один корабль явился среди прочих. Борта его были из пламенеющего железа. Его стальной киль был острее ножа. Вода болезненно вскрикивала, когда он прорезал ее. На корме корабля, оскалив зубы, сидела Смерть, держа в одной руке косу, а в другой бич, которым она, издеваясь, хлестала семерых путников. Первым из них был тощий, мрачный, надменный, безмолвный человек. В одной руке он держал скипетр, в другой меч. Подле него сидела верхом на козе девушка в раскрытом платье, с голыми грудями, возбужденными глазами, багровыми щеками. Она похотливо тянулась к старому еврею, собиравшему гвозди, и надутому толстяку, который падал всякий раз, как она ставила его на ноги, между тем как тощая женщина яростно колотила их обоих. Толстяк ничем не отвечал на это, равно как и его краснолицая подруга. Монах, сидя посредине, поглощал колбасу. Женщина, ползая по земле, скользила между ними, как змея. Она кусала старого еврея за то, что у него ржавые гвозди, толстяка — за его благодушие, краснолицую девушку — за влажный блеск ее глаз, монаха — за колбасы и тощего человека — за его скипетр. И все тут же передрались между собой.
Когда они промелькнули, бой на море, на небе и на земле стал ужасен. Лил кровавый дождь. Корабли были изрублены топорами, разбиты выстрелами из пушек и ружей. Обломки их носились по воздуху среди порохового дыма. На земле сталкивались армии, подобно медным стенам. Города, деревни, поля горели среди криков и слез. Высокие колокольни гордыми очертаниями вздымали свое каменное кружево среди огня, потом рушились с грохотом, точно срубленные дубы. Многочисленные черные всадники, словно муравьи, разбившись на тесные кучки, с мечом в одной руке и пистолетом в другой, избивали мужчин, женщин, детей. Некоторые из них, пробив проруби, топили в них живыми стариков; другие отрезали груди у женщин и посыпали раны перцем, третьи вешали детей на трубах. Устав убивать, они насиловали девушек или женщин, пьянствовали, играли в кости и, засунув руки в груды золота — плод грабежа, копошились в них окровавленными пальцами.
Семеро, увенчанные звездами, возглашали:
— Жалость к несчастному миру!
И призраки хохотали. И голоса их были подобны крику тысяч морских орлов. И Смерть махала своей косой.
— Слышишь? — говорил Уленшпигель. — Это хищные птицы, слетевшиеся на трупы людские. Они питаются маленькими птичками: теми, кто прост и добр.
И Семеро, увенчанные звездами, возглашали:
— Любовь, справедливость, сострадание!
И семь призраков хохотали. И голоса их были подобны крику тысяч морских орлов. И Смерть хлестала их своим бичом.
И корабль мчался по волнам, разрезая пополам суда, ладьи, мужчин, женщин, детей. И над морем оглушительно несся жалобный стон жертв, кричащих: «Сжальтесь!»
И красный корабль прошел через них, между тем как призраки кричали, как морские орлы.
И Смерть с хохотом пила воду, густо окрашенную кровью.
И корабль исчез в тумане, стихла битва, и исчезли семь звездных венцов.
И Уленшпигель и Неле увидели пред собой только черное небо, бурное море, мрачные тучи, спускающиеся на светящиеся волны, и — совсем близко — красные звездочки.
Это были фонари двадцати двух кораблей. Глухо грохотало море и раскаты грома.
И Уленшпигель тихо ударил wacharm (тревогу) в колокол и крикнул:
— Испанцы, испанцы! Держать на Флессинген!
И крик этот был подхвачен всем флотом.
— Серый туман покрыл небо и море, — говорит Уленшпигель. — Тускло мерцают фонари, встает заря, свежеет ветер, валы взметают свою пену выше палубы, льет дождь и стихает, восходит лучезарное солнце, золотя гребни волн: это твоя улыбка, Неле, свежая, как утро, кроткая, как солнечный луч.
Проходят двадцать два корабля с богатым грузом; на судах гёзов бьют барабаны, свистят свирели; де Люмэ кричит: «Во имя принца, в погоню!» Эвонт Питерсен Ворт, вице-адмирал, кричит: «Во имя принца Оранского и господина адмирала, в погоню!» И на всех кораблях — на «Иоганне», «Лебеде», «Анне-Марии», «Гёзе», «Компромиссе», «Эгмонте», «Горне», «Вильгельме Молчаливом» — кричат капитаны: «Во имя принца Оранского и господина адмирала!»
— В погоню, да здравствует гёз! — кричат солдаты и моряки.
Корвет Трелона «Бриль», на котором находятся Ламме и Уленшпигель, вместе с «Иоганной», «Лебедем» и «Гёзом» захватили четыре корабля. Гёзы бросают в воду все, что носит имя испанца, берут в плен уроженцев Голландии, очищают корабли, точно яичную скорлупу, от всего груза и бросают их носиться по взморью без мачт и парусов. Затем они пускаются в погоню за остальными восемнадцатью судами. Порывистый ветер дует со стороны Антверпена, борта быстролетных кораблей склоняются к воде под тяжестью парусов, надутых, как щеки монаха в ветер, дующий из кухонь; преследуемые корабли несутся быстро; гёзы под огнем укреплений преследуют их до Миддельбурга. Здесь завязался кровопролитный бой; гёзы с топорами в руках бросаются на палубу вражеских кораблей; вот вся она покрыта отрубленными руками и ногами, которые после боя приходится корзинами выбрасывать в воду. Береговые укрепления осыпают гёзов выстрелами; они, не обращая на это внимания, под крики: «Да здравствует гёз!» — забирают на кораблях порох, пушки, свинец и пули; опустошив, сжигают их и уносятся во Флессинген, оставив вражеские суда тлеть и догорать на взморье.
Из Флессингена гёзы направляют отряды в Зеландию и Голландию разрушать плотины, и другие отряды помогают на верфи строить новые суда, особенно шкуны в сто сорок тонн, способные поднять до двадцати чугунных орудий.
XII
Над кораблями идет снег. Вся воздушная даль бела, и снежинки неустанно падают, падают мягко в черную воду и там быстро тают.
Снег идет на земле: белы дороги, покрыты белым черные очертания оголенных деревьев. Ни звука; только далеко в Гаарлеме колокола отбивают часы, и этот веселый перезвон разносится в снежной дали.
Не звоните, колокола, не наигрывайте своих напевов, простых и мирных: приближается дон Фадрике, кровавое отродье Альбы. Он идет на тебя с тридцатью пятью батальонами испанцев, твоих смертельных врагов, о Гаарлем, город свободы: двадцать два батальона валлонов, восемнадцать батальонов немцев, восемьсот всадников, могучая артиллерия следуют за ним. Слышишь ли ты лязг этих смертоносных орудий на колесах? Фальконеты, кулеврины, широкогорлые мортиры — это все для тебя, Гаарлем. Не звоните, колокола, не разносите веселый перезвон своих напевов, простых и мирных, в снежной пелене воздуха!
Будем звонить мы, колокола; я, перезвон, буду звенеть, бросая мои смелые напевы в снежную пелену воздуха. Гаарлем — город отважных сердец и мужественных женщин. Без страха с высоты своих колоколен смотрит он, как копошатся, подобно адским муравейникам, черные орды палачей. Уленшпигель, Ламме и сто морских гёзов в его стенах; их корабли плавают по Гаарлемскому озеру.
«Пусть придут! — говорят горожане. — Мы ведь только простые обыватели, рыбаки, моряки и женщины. Сын герцога Альбы заявил, что для входа в наш город не хочет иных ключей, кроме своих пушек. Пусть откроет, если может, эти хрупкие ворота: он найдет за ними мужей. Звоните, колокола, несите свои веселые напевы в снежный простор!
У нас слабые стены и устарелые рвы — больше ничего. Четырнадцать орудий извергают сорокашестифунтовые ядра в Gruys-poort. Поставьте людей там, где нехватает камней. Пришла ночь, все на работе, — и словно никогда здесь не было пушек. В Gruys-poort он выпустил шестьсот восемьдесят ядер, в ворота святого Яна — шестьсот семьдесят пять. Эти ключи не открывают, ибо вот за стенами вырос новый вал. Звоните, колокола, бросай, перезвон, свои веселые напевы!
Пушки неустанно громят и громят крепость, разлетаются камни, рушится стена. Брешь достаточно широка для фронта целого батальона. Приступ! «Бей, бей!» — кричат они. Они карабкаются, их десять тысяч: дайте им перебраться через рвы с их мостами, с их лестницами. Наши орудия готовы! Вот знамя тех, кто умрет. Отдайте им честь, пушки свободы. Они салютуют: цепные ядра, смоляные обручи, пылая, летят, свистят, разят, пробивают, зажигают, ослепляют строй наступающих, который ослаб и бежит в беспорядке. Полторы тысячи трупов переполнили ров. Звоните, колокола, неси, перезвон, свои бодрые напевы!
Еще раз на приступ! Не смеют! Принялись за обстрел, ведут подкопы. Ну, мы тоже знаем минное дело. Под ними, под ними зажгите фитиль! Сюда, народ, будет что посмотреть! Четыреста испанцев взлетело на воздух! Это не путь к вечному огню. О, чудная пляска под серебряный напев наших колоколов, под веселый их перезвон!
Они и не думают, что принц заботится о нас, что каждый день по прекрасно охраняемым путям к нам прибывают вереницы саней с грузом хлеба и пороха: хлеб для нас, порох для них. Где шестьсот немцев, которых мы утопили и перебили в Гаарлемском лесу? Где одиннадцать знамен, которые мы взяли у них, шесть орудий и пятьдесят быков? Прежде у нас была одна крепостная стена, теперь — две. Даже женщины дерутся, и Кенан стоит во главе их отважного отряда. Придите, придите, палачи, вступите в наши улицы, наши дети подрежут вам поджилки своими маленькими ножами! Звоните, колокола, и ты, перезвон, бросай в даль свои веселые напевы!
Но судьба против нас. Эскадра гёзов разбита на Гаарлемском озере. Разбито войско Оранского, посланное нам на помощь. Все мерзнет, все мерзнет. Нет помощи ниоткуда. И вот уже шесть месяцев мы держимся, тысяча против десяти тысяч. Надо как-нибудь сговориться с палачами. Но захочет ли слушать о каком бы то ни было договоре отродье Альбы, после того как он поклялся уничтожить нас? Пусть выйдут с оружием все солдаты: они прорвутся через неприятельские ряды. Но женщины у ворот; они боятся, что их оставят одних охранять город. Звоните, колокола, не бросай своих напевов, веселый перезвон.
Вот июнь на дворе, пахнет сеном, жатва золотистая на солнце, поют птички. Мы голодали пять месяцев, город в отчаянии. Мы выйдем все из города: впереди стрелки, чтобы открыть путь, потом женщины, дети, должностные лица под охраной пехоты, стерегущей брешь. И вдруг письмо! Письмо от кровавого отродья Альбы. Что возвещает оно — смерть? Нет, жизнь всем, кто находится в городе. О неожиданная пощада! Но, может быть, это ложь? Запоешь ли ты еще, веселый перезвон колоколов? Они вступают в город!»
Уленшпигель, Ламме и Неле переоделись немецкими наемниками и вместе с ними — всего шестьсот человек — заперлись в августовском монастыре.
— Мы умрем сегодня, — шепнул Уленшпигель Ламме. И он прижал к груди нежное тельце Неле, дрожащее от страха.
— О жена моя, я не увижу ее, — вздохнул Ламме, — но, может быть, одежда немецких солдат спасет нам жизнь.
Уленшпигель покачал головой, чтобы показать, что он не верит в пощаду.
— Я не слышу шума разгрома, — сказал Ламме.
— По договору, — ответил Уленшпигель, — горожане откупились от грабежа и резни за взнос в двести сорок тысяч флоринов. Они должны уплатить в течение двенадцати дней наличными сто тысяч, а остальные через три месяца. Женщинам приказано укрыться в церквах. Убийства начнутся несомненно. Слышишь, как сколачивают эшафоты и строят виселицы.
— Ах, пришел нам конец, — сказала Неле. — Я голодна!
— Да, — сказал потихоньку Ламме Уленшпигелю, — кровавый выродок герцогский сказал, что, изголодавшись, мы будем покорны, когда нас поведут на казнь.
— Я так голодна! — сказала Неле.
Вечером пришли солдаты и принесли по одному хлебу на шестерых.
— Триста валлонских солдат повешены на рынке, — рассказывали они. — Скоро ваша очередь. Всегда так было, что гёз венчался с виселицей.
На другой день они опять принесли по хлебу на шесть человек.
— Четырем важным обывателям отрубили головы, — рассказывали они, — двести сорок девять солдат связаны попарно и брошены в море. Жирны будут раки в этом году. Да, вы не потолстели с седьмого июля, когда вас здесь заперли. Обжоры и пьяницы все эти нидерландцы; нам вот, испанцам, довольно двух фиг на ужин.
— Вот почему, — ответил Уленшпигель, — вы повсюду требуете от обывателей, чтобы вас кормили четыре раза в день мясом, птицей, сливками, вином и вареньем; вам нужно молоко для омовения ваших mustachos[57]Испанское слово, означающее «усы». и вино, чтобы мыть копыта ваших лошадей.
Восемнадцатого июля Неле сказала:
— У меня мокро под ногами. Что это такое?
— Кровь, — ответил Уленшпигель.
Вечером солдаты опять принесли по хлебу на шестерых.
— Где недостаточно веревки, там справляется топор, — рассказывали они. — Триста солдат и двадцать семь горожан, которые вздумали убежать, шествуют теперь в ад, неся свои головы в руках.
На другой день кровь опять потекла в монастырь; солдаты пришли, но не принесли хлеба, а только смотрели на заключенных и говорили:
— Пятьсот валлонов, англичан и шотландцев, которым вчера отрубили головы, выглядели лучше; эти изголодались, конечно, но кому же и умирать с голоду, как не гёзу: гёз ведь значит «нищий».
И в самом деле, бледные, изможденные, дрожащие от озноба, они были похожи на призраки.
Шестнадцатого августа, в пять часов вечера, пришли солдаты и со смехом раздавали узникам хлеб, сыр, пиво.
— Это предсмертный пир, — сказал Ламме.
В десять часов пришли четыре батальона: командиры приказали открыть ворота монастыря и, поставив заключенных по четыре человека в ряд, приказали им итти за барабанами и свирелями вплоть до места, где им сказано будет остановиться. Некоторые улицы были красны; и так они шли по направлению к Полю виселиц.
Здесь и там на лугах краснели лужицы крови; кровь была кругом под стенами. Тучами носились всюду вороны; солнце заходило в тумане, небо было еще ясно, и в глубине его робко зажигались звездочки. Вдруг послышались жалобные завывания.
— Это кричат гёзы, запертые в форте Фейке, за городом, — сказали солдаты, — их приказано уморить голодом.
— И наш час пришел, — сказала Неле. И она заплакала.
— Пепел стучит в мое сердце, — сказал Уленшпигель.
— Ах, — сказал Ламме (он говорил по-фламандски, и конвойные солдаты не понимали этого гордого языка), — ах, если бы я мог захватить кровавого герцога и заставить его глотать все эти веревки, виселицы, плахи, гири, дыбы, тиски, — глотать до тех пор, пока он не лопнул бы; если бы я мог поить и поить его пролитой им кровью, чтобы из его продырявленной шкуры и разодранных кишок вылезли все эти деревянные щепки и куски железа и чтобы он еще не издох от этого, а я бы вырвал у него из груди сердце и заставил его сырьем сожрать это ядовитое сердце. Тогда уже наверное, уйдя из этой жизни, он попадет в серное пекло, где дьявол заставит его жевать и пережевывать эту закуску, и так во веки веков!
— Аминь! — сказали Уленшпигель и Неле.
— Но ты ничего не видишь? — спросила она.
— Нет.
— Я вижу на западе пять мужчин и двух женщин, — сказала она, — они сидят кружком. Один в пурпуре и в золотой короне. Он кажется главою прочих; они все в лохмотьях и тряпках. И на востоке, я вижу, тоже явились Семеро; один во главе их; он тоже в пурпуре, но без короны. И они несутся к западным женщинам и мужчинам. Они бьются с ними в облаках, но больше я ничего не вижу.
— Семеро, — сказал Уленшпигель.
— Я слышу подле нас, — сказала Неле, — в листве голос, точно дуновение ветра, говорит:
Сквозь войну и сквозь огонь,
Сквозь разящие мечи —
Ищи.
В смерти, в льющейся крови,
В разрушеньях и слезах —
Найди.
— Не мы — другие освободят землю Фландрскую, — сказал Уленшпигель. — Ночь темнеет, солдаты зажигают факелы. Мы уже подле Поля виселиц. О милая моя подруга, зачем ты пошла за мной? Больше ничего не слышишь, Неле?
— Слышу, — ответила она, — в хлебах звякнуло оружие. И там, над этим склоном, повыше дороги, по которой мы идем, видишь, блеснул на стали багровый отсвет факелов? Я вижу огненные кончики фитилей аркебузов. Спят наши конвойные или ослепли? Слышишь громовый залп? Видишь, как падают испанцы под пулями? Слышишь: «Да здравствует гёз!» Бегом вверх по тропинке они подымаются с копьями наперевес; они сбегают по склону с топором в руке. Да здравствует гёз!
— Да здравствует гёз! — кричали Ламме и Уленшпигель.
— Вот солдаты дают нам оружие, — говорила Неле, — бери, Ламме, бери, дорогой! Да здравствует гёз!
— Да здравствует гёз! — кричит толпа пленников.
— Непрестанно палят аркебузы, — говорит Неле, — они падают, как мухи, потому что освещены факелами. Да здравствует гёз!
— Да здравствует гёз! — кричит отряд спасителей.
— Да здравствует гёз! — кричат Уленшпигель и пленники. — Испанцы в железном кольце! Бей, бей! Уж нет ни одного на ногах. Бей без пощады, война без жалости! А теперь собирай пожитки и бегом в Энкгейзен. Кому суконное и шелковое платье палачей? Кому их оружие?
— Всем, всем! — кричат они. — Да здравствует гёз!
И в самом деле, они возвращаются на судне в Энкгейзен.
И Ламме, Неле и Уленшпигель вновь на своих кораблях. И снова поют они в открытом море: «Да здравствует гёз!»
И крейсируют перед Флессингеном.
XIII
Здесь Ламме снова повеселел. Он охотно сходил с корабля на землю и, точно на зайцев, оленей и дроздов, охотился на быков, баранов и домашнюю птицу.
И не в одиночестве занимался он этой питательной охотой. Приятно было смотреть, как возвращаются с добычей охотники с Ламме во главе, как они ведут за рога крупный скот и гонят перед собой мелкий, хворостиной подгоняют стада гусей и на баграх с лодок тащат кур, цыплят и каплунов, невзирая на запрет.
Тогда на кораблях шел пир горой, и Ламме приговаривал:
— Запах подливы вздымается к небесам, услаждая господ ангелов, которые говорят: «Какое чудесное мясо!»
Так разъезжая, они наткнулись на торговую эскадру из Лиссабона, командир которой не знал, что Флессинген уже в руках гёзов. Эскадру окружили, приказали бросить якорь. Да здравствует гёз! Барабаны и свирели зовут на абордаж. У купцов есть пушки, пики, топоры, аркебузы.
Ядра и пули сыплются с кораблей гёзов. Их стрелки, сгрудившись за деревянными прикрытиями у грот-мачты, стреляют наверняка, не подвергаясь опасности. Купцы падают, как мухи.
— На помощь! — кричит Уленшпигель, обращаясь к Ламме и Неле. — Вперед! Вот пряности, драгоценности, дорогие товары, сахар, мускат, гвоздика, имбирь, реалы, дукаты, блестящие золотые барашки: их более пятисот тысяч штук. Испанцы оплатят военные расходы. Выпьем! Отслужим мессу гёзов: эта месса — битва.
И Уленшпигель с Ламме носятся повсюду, точно львы, Неле играет на свирели, прячась за деревянными прикрытиями. Вся флотилия захвачена.
По подсчету убитых оказалось: у испанцев тысяча человек, у гёзов — триста; среди последних был повар корвета «Бриль».
Уленшпигель попросил позволения обратиться со словом к Трелону и морякам, на что Трелон согласился очень охотно. И Уленшпигель держал такую речь:
— Господин капитан и вы, братцы, мы получили в наследство множество пряностей, а вот перед вами толстячок Ламме, который находит, что наш бедный покойник — да возвеселит господь его душу! — был не великий профессор по части соусов. Так вот, поставим Ламме на его место, он будет кормить нас небесными жаркими и райскими супами.
— Отлично, — ответил Трелон и прочие. — Ламме будет корабельным коком. Он будет носить большую деревянную шумовку, чтобы снимать пену со своих соусов и отгонять от них корабельных юнг[58]Игра слов: mousse по-французски значит и «пена» и «корабельный юнга»..
— Господин командир, друзья и товарищи, — сказал Ламме, — вы видите, что я плачу от радости, так как я совсем не заслуживаю столь великой чести. Во всяком случае, раз уж вы удостоиваете прибегнуть к моему ничтожеству, я принимаю высокие обязанности мастера кухонного искусства на славном корабле «Бриль», но покорнейше прошу вас при этом даровать мне высшие права верховного начальства над кухней, дабы ваш главный повар — это буду я — мог по закону, праву и силе воспрепятствовать кому бы то ни было забирать и есть долю другого.
Трелон и прочие кричали:
— Молодец, Ламме! У тебя будет и право, и сила, и закон.
— Но я, — продолжал он, — приношу вам еще одно покорнейшее прошение: человек я жирный, крупный и увесистый, глубоко мое чрево, вместителен желудок; моя бедная жена — да возвратит мне ее господь! — всегда давала мне две порции вместо одной: соблаговолите и вы мне даровать то же предпочтение.
Трелон, Уленшпигель и матросы ответили:
— Хорошо, Ламме, ты будешь получать два пайка.
И Ламме вдруг впал вновь в грусть и оказал:
— Жена моя, кроткая моя красавица, если что-нибудь может меня утешить в твое отсутствие, то разве только деятельное воспоминание о твоей небесной кухне в нашем сладостном уголке.
— Полагается принести присягу, сын мой, — сказал Уленшпигель. — Принесите большую деревянную ложку и большой медный котел.
— Клянусь, — провозгласил Ламме, — клянусь господом, помощь которого призываю, клянусь хранить верность господину принцу Оранскому, по прозванию Молчаливый, правящему за короля областями Голландии и Зеландии; клянусь соблюдать верность господину де Люмэ, адмиралу, командующему нашим доблестным флотом, и господину Трелону, вице-адмиралу и командиру корабля «Бриль». Клянусь, по мере моих слабых сил, согласно нравам и обычаям великих древних поваров, оставивших после себя превосходные иллюстрированные труды о великом искусстве стряпни, изготовлять мясо и птицу, какие нам пошлет судьба, и питать этими яствами вышереченного господина Трелона, командира, его помощника, в должности которого состоит друг мой, Уленшпигель, и всех вас, боцманы, лоцманы, рулевые, юнги, солдаты, пушкари, камбузные, вестовые командира, лекарь, трубач, матросы и все прочие. Если жаркое будет недожарено, а птица не подрумянится как должно быть; если от супа будет итти тошнотворный дух, пагубный для доброго пищеварения; если запах подливы не заставит вас всех ринуться — с моего соизволения, конечно, — в кухню; если я не сделаю вас веселыми, а лица ваши благодушными, — я откажусь от моих высоких обязанностей, считая себя отныне неспособным занимать престол кухонный. Так да поможет мне господь в этой жизни и в будущей!
— Да здравствует наш кок! — кричали они. — Король кухни, император жарких! По воскресеньям он будет получать три пайка вместо двух.
И Ламме сделался поваром на корабле «Бриль». И между тем как душистые супы кипели в кастрюлях, он стоял в кухонной двери, гордо, точно скипетр, держа свою большую деревянную шумовку.
И по воскресеньям он получал тройной паек.
Когда гёзам случалось ввязаться в схватку с врагом, он охотно оставался в своей соусной лаборатории, однако иногда выходил на палубу, чтобы сделать несколько выстрелов, потом поспешно спускался к себе — присмотреть за своими соусами.
Будучи, таким образом, исправным поваром и доблестным воином, он стал всеобщим любимцем.
Но никто не имел права проникнуть на его кухню. Ибо тут он приходил в ярость и, фехтуя своей деревянной шумовкой, колотил без пощады.
И с тех пор был прозван Ламме-Лев.
XIV
По океану, по Шельде, под солнцем, дождем, снегом, градом — зимою и летом носятся корабли гёзов.
Подняты все паруса, точно лебеди, лебеди белой свободы.
Белый цвет — свобода, синий — величие, оранжевый — принц Оранский: вот трехцветный флаг гордых кораблей.
Вперед на всех парусах! Вперед на всех парусах, славные корабли! Струи бьются о них, волны обливают их пеной.
Они несутся, они скользят, они летят по реке, накренив паруса до воды, быстрые, как облака под северным ветром, корабли гёзов. Слышите, как они рассекают носом волны? Бог свободных людей! Да здравствует гёз!
Шкуны, корветы, бриги и барки, быстрые, подобно ветру, чреватому бурей, подобно туче, чреватой молнией.
Шкуны, корветы, бриги скользят по реке. Волны, разрезанные пополам, стонут, когда они несутся со смертоубийственным жерлом длинной кулеврины на носу. Да здравствует гёз!
На всех парусах! На всех парусах, доблестные корабли! Волны бьются об их борта, обливая их пеной.
Ночью и днем, в дождь, град и снег пролетают они.
Христос улыбается им в облаке, в солнце, в звезде. Да здравствует гёз!
XV
Кровавый король получил известие об их победах.
Смерть уже глодала палача, и тело его было полно червей. Жалкий и свирепый, скитался он по переходам замка Вальядолида, влача свои распухшие ступни и свинцом налитые икры. Он не пел никогда, жестокий тиран; когда вставала заря, он не смеялся, и когда солнце заливало его владения как бы улыбкой самого господа, он не ощущал в своем сердце ни малейшей радости.
Уленшпигель, Ламме и Неле, ежечасно, ежеминутно рискуя своей шкурой — если речь идет о Ламме и Уленшпигеле, нежной кожей — если говорить о Неле, пели, как птички; каждый погашенный гёзами костер радовал их больше, чем черного короля пожар целого города.
В эти дни Вильгельм Молчаливый, принц Оранский, лишил адмиральского чина господина Люмэ де ла Марка за его непомерную жестокость и назначил на его место господина Баувена Эваутсена Ворста. Вместе с тем он изыскивал возможность уплатить крестьянам за хлеб, взятый у них гёзами, возместить населению убытки от наложенных на них контрибуций и предоставить римским католикам, равно как всем прочим, свободное исповедание их веры без преследований и насилия.
XVI
Под сверкающим небом, на светлых волнах свистят на кораблях гёзов свирели, гнусят волынки, булькают бутылки, звенят бокалы, блестит сталь оружия.
— Ну, вот, — говорит Уленшпигель, — бей в барабан славы, бей в литавры радости! Да здравствует гёз! Побеждена Испания, скручен упырь проклятый! Море наше, Бриль взята. Весь берег Ньюпора наш, дальше через Остенде, Бланкенберге; острова Зеландские, устье Шельды, устье Мааса, устье Рейна вплоть до Гельдерна — все наше. Тессель, Флиланд, Терсхеллинг, Амеланд, Роттум, Боркум — наши. Да здравствует гёз!
Наши Дельфт и Дордрехт. Это пороховая нить. Господь держит запал от пушки. Палачи оставили Роттердам. Свобода совести, точно лев, вооруженный зубами и когтями правосудия, захватила графство Зютфенское, города Дейтихем, Досбург, Гоор, Ольдензель и на Вельнюире Гаттем, Эльбург и Гердевейк. Да здравствует гёз!
Гром и молния: уже в наших руках Кампен, Сволле, Гассель, Стенвейк, за ними Аудеватер, Гауда, Лейден. Да здравствует гёз!
Наш Бюрэн, наш Энкгейзен. Мы не взяли еще Амстердама, Схоонговена и Миддельбурга. Но все достанется во-время терпеливым клинкам. Да здравствует гёз!
Выпьем испанского вина! Выпьем из тех самых чаш, из которых они пили кровь своих жертв. Мы двинемся через Зюйдерзее по рекам, протокам и каналам. Наши Голландия, северная и южная, и Зеландия; мы возьмем Фрисландию, восточную и западную. Бриль будет убежищем нашим кораблям, гнездом, где созреет свобода. Да здравствует гёз!
Слушайте, как разносится по Фландрии, дорогой родине, крик мести. Куют оружие, точат мечи. Все движется, все трепещет, как струны арфы под теплым ветром, под дуновением душ, исходящим из могил, из костров, из окровавленных трупов мучеников. Все в движении — Геннегау, Брабант, Люксембург, Лимбург, Намюр, Льеж, свободный город. Все кипит! Кровь бродит и оплодотворяет. Жатва созрела для серпа. Да здравствует гёз!
В нашей власти Noord-zee, широкое Северное море. У нас — отличные пушки, гордые корабли; смелые отряды грозных моряков: нищие, бродяги, попы-солдаты, дворяне, горожане, ремесленники, бегущие от преследований. С нами все, кто за свободу. Да здравствует гёз!
Филипп, кровавый король, где ты? Альба, где ты? Ты кричишь и богохульствуешь, покрывшись шляпой, пожалованной святым отцом. Да здравствует гёз! Бей в барабан радости! Выпьем!
Вино струится в золотые чаши. Весело пейте эту влагу. Жреческие облачения, одевшие простых людей, залиты красным напитком. Римские церковные хоругви развеваются по ветру. Музыка без конца. Пойте, свистящие свирели, гнусящие волынки, барабаны, гремящие о славе. Да здравствует гёз!
XVII
На дворе стоял декабрь — волчий месяц. Лил дождь, колючий, точно иглы. Гёзы крейсировали в Зюйдерзее. Адмирал звуками трубы созвал на свой корабль командиров шкун и корветов и вместе с ними Уленшпигеля.
Обращаясь прежде всего к Уленшпигелю, он сказал:
— В награду за твою верную службу и важные заслуги принц назначает тебя капитаном корабля «Бриль». Вручаю тебе твое назначение, оно написано на этом пергаменте.
— Примите мою благодарность, господин адмирал, — ответил Уленшпигель, — буду капитаном по мере моих слабых сил и твердо надеюсь, что, если бог поможет, мне удастся обезглавить Испанию и отделить от нее Фландрию и Голландию, то-есть Zuid и Noord-Neerlande.
— Прекрасно, — сказал адмирал. — А теперь, — прибавил он, обращаясь ко всем, — я сообщаю вам, что католический Амстердам собирается осадить Энкгейзен; амстердамцы еще не вышли из Ийского канала; будем крейсировать перед ним, чтобы запереть их там, и бейте всякий корабль, который покажет в Зюйдерзее свой тиранический костяк.
— Продырявим его! — ответили они. — Да здравствует гёз!
Возвратившись на свой корабль, Уленшпигель приказал матросам и солдатам собраться на палубе и сообщил им приказ адмирала.
— У нас есть крылья — это наши паруса, — ответили они. — Есть коньки — киль нашего корабля; есть руки великанов — наши абордажные крючья. Да здравствует гёз!
Флот вышел и разгуливал в море, в миле от Амстердама, так что без соизволения гёзов никто не мог ни войти, ни выйти.
На пятый день дождь стих; при ясном небе ветер дул еще резче; со стороны Амстердама незаметно было ни малейшего движения.
Вдруг Уленшпигель увидел, что на палубу взбегает Ламме, гоня перед собой размашистыми ударами своей деревянной шумовки корабельного «труксмана» — переводчика, молодого парня, бойкого во французской и фламандской речи, но еще более бойкого в науке обжорства.
— Негодяй! — говорил Ламме, колотя его. — Так ты думал, что можешь безнаказанно лакомиться до времени моим жарким! Полезай-ка на верхушку мачты и посмотри, не копошится ли кто на амстердамских судах. Лезь, по крайней мере сделаешь хоть одно хорошее дело.
— А что ты за это дашь? — ответил труксман.
— Еще ничего не сделав, уже хочешь платы! — вскричал Ламме. — Ах ты, мерзавец, если ты не полезешь сейчас, я прикажу тебя высечь. И твои французские разговоры не спасут тебя!
— Чудесный язык французский, — сказал труксман. — Язык войны и любви.
И он полез наверх.
— Эй, лентяй, что ты там видишь? — спросил Ламме.
Труксман ответил:
— Ничего не вижу ни в городе, ни на кораблях.
И прибавил, спустившись:
— Теперь плати.
— Оставь себе то, что стащил, — ответил Ламме, — но такое добро впрок не идет: наверное, извергнешь его в рвоте.
Взобравшись опять на макушку мачты, труксман вдруг закричал:
— Ламме, Ламме! Вор залез в кухню.
— Ключ от кухни в моем кармане, — ответил Ламме.
Тогда Уленшпигель, отведя Ламме в сторону, сказал ему:
— Знаешь, сын мой, это чрезвычайное спокойствие Амстердама меня пугает. Они что-то замышляют.
— Я уже думал об этом, — ответил Ламме. — Вода замерзла в кувшинах, битая птица точно деревянная; колбасы покрыты инеем, коровье масло твердо, как камень, деревянное масло побелело, соль суха, как песок на солнце.
— Замерзнет и море, — сказал Уленшпигель, — они придут по льду и нападут на нас с артиллерией.
И он отправился на адмиральский корабль и рассказал о своих опасениях адмиралу, который ответил:
— Ветер со стороны Англии; будет снег, но не мороз, вернись на свой корабль.
И Уленшпигель вернулся.
Ночью пошел сильный снег, но тотчас же задул ветер со стороны Норвегии, море замерзло и стало, как пол. Адмирал видел все это.
Опасаясь, как бы амстердамцы не пришли по льду зажечь корабли, он приказал солдатам приготовить коньки — на случай, что им придется сражаться вне и вокруг судов, а пушкарям при орудиях — железных и чугунных — держать наготове кучи ядер подле лафетов, зарядить пушки и иметь непрестанно зажженные фитили.
Но амстердамцы не явились. И так тянулось семь дней.
К вечеру восьмого дня Уленшпигель приказал устроить для матросов и солдат добрую попойку, которая будет им панцырем от резкого ветра, дующего с моря.
Но Ламме ответил:
— Ничего не осталось, кроме сухарей и жидкого пива.
— Да здравствует гёз! — крикнули они. — Это будет постный кутеж, в ожидании часа битвы.
— Который не скоро пробьет, — сказал Ламме. — Амстердамцы придут поджечь наши корабли, но не в эту ночь. Им надо еще предварительно собраться у очага да выпить по нескольку кружек горячего винца с мадерским сахаром, — пошли его и нам, господи! — потом, поболтавши до полуночи рассудительно, успокоительно и упоительно, они скажут, что можно завтра решить, нападут они на нас на будущей неделе или нет. Завтра, снова выпив горячего вина с мадерским сахаром, — пошли и нам его, господи! — они опять будут спокойно, рассудительно, за полными кружками решать, не следует ли им собраться на другой день, дабы посмотреть, выдержит ли лед или нет тяжесть большого отряда. И они произведут испытание льда при посредстве ученых людей, которые изложат свои заключения на пергаменте. Приняв к сведению, они будут знать, что толщина льда две четверти и что, стало быть, он достаточно крепок, чтобы выдержать несколько сот человек с пушками и полевыми орудиями. Затем они соберутся на совещание еще раз, чтобы спокойно, рассудительно, со многими кружками горячего вина, обсудить, не уместно ли напасть на наши корабли, а то и сжечь их за сокровища, отобранные нами у лиссабонцев. Не без колебаний, но во благовремении они решат, однако, что представлялось бы уместным захватить наши корабли, но не сжигать их, невзирая на значительную несправедливость, причиняемую ими таким образом нам.
— Ты говоришь недурно, — сказал Уленшпигель, — но не видишь ли ты, что вон в городе зажигаются огни и люди с фонарями там суетливо забегали?
— Это от холода, — ответил Ламме.
И, вздыхая, прибавил:
— Все съедено. Ни мяса, ни птицы, ни вина, увы, ни доброго dobbel-bier, — ничего, кроме сухарей и жидкого пива. Кто меня любит, за мной!
— Куда ты? — спросил Уленшпигель. — Никто не смеет отлучаться с корабля.
— Сын мой, — ответил Ламме, — ты теперь капитан и господин на корабле. Если ты не позволяешь, я не пойду. Но соблаговоли подумать, что третьего дня мы съели последнюю колбасу и что в это суровое время кухонный очаг есть солнце для добрых товарищей. Кто не хотел бы вдыхать запах подливы, упиваться сладостным благоуханием божественной влаги, созданной из цветов смеха, веселья и радости? Посему, господин капитан и верный друг, я решаюсь сказать: я истосковался душой оттого, что ничего не ем; оттого, что я, любящий только покой, охотно убивающий разве только нежную гусыню, жирную курочку, сочную индейку, следую за тобой среди тягот и сражений. Посмотри на огоньки на том богатом хуторе, где столько крупного и мелкого скота. Знаешь, кто его хозяин? Один фрисландский судовщик, который предал господина Дандло и привел в Энкгейзен, тогда еще занятый Альбой, восемнадцать несчастных дворян и друзей; он повинен в том, что они казнены на Конском рынке в Брюсселе. Этот предатель, по имени Дирик Слоссе, получил от герцога за предательство две тысячи флоринов. На эти кровавые деньги этот иуда купил хутор, который ты видишь перед собой, с крупным скотом и окрестными землями, каковые, расширяясь и принося плоды, — я говорю о землях и скоте, — сделали его богачом.
— Пепел стучит в мое сердце, — сказал Уленшпигель, — ты пробил, час господень.
— И час кормежки равным образом, — сказал Ламме. — Дай мне два десятка парней, добрых солдат и матросов, я пойду и захвачу предателя.
— Я сам поведу их, — ответил Уленшпигель. — Кто любит правду, пусть идет за мной. Не идите все, верные и дорогие мои: достаточно двадцати человек, а то кто же будет охранять корабль? Бросьте жребий костями. Вас двадцать. Ну, идемте. Кости показывают правильно. Привяжите коньки и скользите по направлению к Венере, звезде, сверкающей над хутором предателя.
Идите по звезде, конькобежцы, все двадцать, скользя по льду, с топором на плече.
Ветер свистит и гонит перед собой по льду белые вихри снега. Неситесь, смельчаки!
Вы не поете, не разговариваете; прямо, беззвучно несетесь к звезде; только лед скрипит под вашими коньками.
Кто упал, вскакивает тотчас. Мы подходим к берегу; ни одного человека на белом снегу, ни птицы в морозном воздухе. Скиньте коньки!
Вот мы на земле, вот луга; опять наденьте коньки. Затаив дыхание, мы окружили хутор.
Уленшпигель стучит в дверь, собаки лают. Он стучит вторично: открывается окно, и хозяин, высунув голову, спрашивает:
— Кто ты такой?
Он видит только одного Уленшпигеля; остальные спрятались за keet’ом, то-есть прачечной.
Уленшпигель отвечает:
— Господин де Буссю приказал, чтобы ты сейчас явился к нему в Амстердам.
— Где твой пропуск? — спросил тот, спускаясь и отворяя дверь.
— Здесь, — ответил Уленшпигель, указывая ему на двадцать гёзов, которые бросились за ним в дверь.
И Уленшпигель сказал:
— Ты, судовщик Слоссе, предатель, заманивший в засаду господ Дандло, Батенбурга и других. Где деньги, полученные тобой за чужую кровь?
— Вы гёзы, — ответил тот дрожа, — помилуйте меня; я не знал, что делаю. Теперь у меня нет денег; я все отдам.
— Темно, — сказал Ламме, — дай нам свечей, сальных или восковых.
— Вон там висят сальные свечи, — сказал хозяин.
Зажгли свечу, и один из гёзов, стоявших у очага, сказал:
— Холодно, разведем огонь. Вот хорошее топливо.
И он указал на стоящие на полке цветочные горшки с высохшими растениями. Взяв одно из них за стебель, он тряхнул его; горшок упал, и на полу рассыпались дукаты, флорины и реалы.
— Вот где деньги, — сказал он, указывая на прочие цветочные горшки.
И действительно, раскопав, они нашли в них десять тысяч флоринов.
А хозяин кричал и плакал при виде всего этого.
На крики сбежались хуторские батраки и служанки в одних рубахах. Мужчин, вздумавших было вступиться за своего хозяина, связали. Женщины, особенно молодые, стыдливо прятались за мужчин.
Тут выступил Ламме.
— Предатель, — сказал он, — где ключи от кладовых, конюшни, хлева и овчарни?
— Подлые грабители, — отвечал хозяин, — вы издохнете на виселице.
— Пришел час божий, — сказал Уленшпигель, — давай ключи.
— Господь отомстит за меня, — сказал хозяин, отдавая ключи.
Очистив хутор, гёзы двинулись в обратный путь, летя на коньках к кораблям, легким убежищам свободы.
— Я корабельный кок, — говорил Ламме, направляя их, — я корабельный кок. Толкайте ваши добрые салазки, нагруженные пивом и вином; гоните, тащите быков, лошадей, свиней, баранов, — все стадо, поющее природную песнь. Голуби воркуют в корзинах; каплуны, раскормленные мякишем, не могут повернуться в своих деревянных клетках. Я корабельный кок. Лед скрипит под сталью коньков. Мы на судах. Завтра взыграет кухонная музыка. Подавайте блоки, подвяжите лошадей, коров, быков под брюхом. Прекрасное зрелище — когда они висят на подпругах; завтра мы повиснем языками на сочном жарком. На лебедках они подымаются на суда. Вот так мясцо! Бросайте в трюм как попало кур, гусей, уток, каплунов. Кто свернет им шею? Господин корабельный кок. Дверь заперта, ключ в моем кармане. Хвала господу на кухне! Да здравствует гёз!
Тут же Уленшпигель отправился на адмиральский корабль, уведя с собой Дирика Слоссе и прочих пленников, стонавших и рыдавших из страха пред веревкой.
На шум вышел адмирал Ворст; увидев Уленшпигеля и его спутников, озаренных красным пламенем факелов, он спросил:
— Чего тебе от нас надо?
— Этой ночью, — ответил Уленшпигель, — мы захватили Дирика Слоссе, заманившего в засаду восемнадцать наших. Вот он. Прочие — его батраки и невинные служанки.
Затем, передавая адмиралу сумку с деньгами, он прибавил:
— Эти червонцы цвели в цветочных горшках в доме предателя, всего десять тысяч.
— Вы поступили неправильно, отлучившись с корабля, — сказал адмирал Ворст, — но ввиду успеха прощаю вас. И пленники и мешок с червонцами нам очень кстати, а вы, молодцы, согласно законам и обычаям морским, получите треть добычи. Другая треть пойдет флоту, а третья — его высочеству принцу Оранскому. Немедленно повесьте предателя.
Исполнив это, гёзы прорубили во льду прорубь и бросили туда тело Дирика Слоссе.
— Трава, что ли, выросла вокруг кораблей, — спросил адмирал, — что я слышу кудахтанье кур, блеянье овец, мычанье быков и коров?
— Это пленники кухни, для глотки, — ответил Уленшпигель. — Они заплатят выкуп в виде жарких. Самое вкусное получите вы, господин адмирал. Что касается прочих пленников — слуг и служанок, среди которых есть девчонки бойкие и смазливые, я их заберу на свой корабль.
Так он и сделал и обратился к ним со следующей речью:
— Вот, парни и девушки, теперь вы на лучшем корабле, какой есть на свете. Мы проводим здесь время в непрестанных кутежах, попойках, пирушках. Если вам угодно уйти отсюда, уплатите выкуп; если хотите остаться, вы будете жить, как мы — работать и хорошо есть. Что касается этих разлюбезных красоток, я предоставляю им моей капитанской властью всю телесную свободу; да будет им ведомо, что мне совершенно все равно, сохранят ли они своих возлюбленных, пришедших с ними на корабль, или выберут кого-нибудь из здесь присутствующих доблестных гёзов, чтобы вступить с ним в брачный союз.
Но все разлюбезные красотки оказались верными своим возлюбленным, кроме, впрочем, одной, которая, улыбаясь Ламме, спросила его, не подходит ли она ему.
— Глубоко тронут, красавица, — сказал он, — но я занят в другом месте.
— Толстячок женат, — говорили гёзы, видя огорчение девушки.
Но она, повернув спину, уже выбрала другого с таким же добрым брюшком и добродушной рожей, как у Ламме.
В этот день и в следующие шли на кораблях пиры и попойки с истреблением вина, птицы и мяса. И Уленшпигель говорил:
— Да здравствует гёз! Дуйте, злые ветры, мы согреем воздух нашим дыханием. Наше сердце пламенеет страстью к свободе совести; наш желудок пламенеет страстью к мясу из вражеских запасов. Будем пить вино, молоко мужей. Да здравствует гёз!
Неле тоже пила из золотого бокала и, раскрасневшись от ветра, наигрывала на свирели. И, несмотря на холод, гёзы весело ели и пили, сидя на палубе.
XVIII
Вдруг весь флот увидел на берегу черную толпу, среди которой блестели факелы и сверкало оружие; потом факелы погасли, и воцарился совершенный мрак.
По приказу адмирала на суда был передан сигнал быть настороже; были погашены все огни; матросы и солдаты легли ничком на палубе, держа наготове топоры. Отважные пушкари с фитилями в руках стояли подле пушек, заряженных гранатами и двойными ядрами. Как только адмирал и капитаны крикнут: «Сто шагов!» — что означает расположение неприятеля, — они должны палить с кормы, борта или носа.
И слышен был голос адмирала Ворста:
— Смерть тому, кто громко скажет слово.
И капитаны повторили за ним:
— Смерть тому, кто громко скажет слово.
Ночь была звездная, без луны.
— Слышишь, — тихо, точно дуновение призрака, говорил Уленшпигель Ламме, — слышишь голоса амстердамцев и свист льда под их коньками? Бегут быстро, слышен их разговор. Они говорят: «Бездельники гёзы спят. Наши теперь лиссабонские сокровища». Зажигают факелы. Видишь их осадные лестницы, к гнусные рожи, и длинную полосу наступающего отряда? Человек с тысячу, а то и больше.
— Сто шагов! — крикнул адмирал Ворст.
— Сто шагов! — крикнули капитаны.
Раздался грохот, точно гром с небес, и жалобные крики на льду.
— Залп из восьмидесяти орудий сразу, — сказал Уленшпигель, — они бегут. Видишь, факелы удаляются.
— В погоню! — приказал адмирал.
— В погоню! — приказали капитаны.
Но погоня длилась недолго, так как беглецы имели сто шагов в запасе и ноги перепуганных зайцев.
И на людях, кричащих и умирающих на льду, были найдены драгоценности, золото и веревки, приготовленные для того, чтобы вязать гёзов.
И после этой победы гёзы говорили:
— Als Got met ons in, wie tegen ons zal zijn? — Если бог с нами, то кто против нас? Да здравствует гёз!
Между тем через день наутро адмирал Ворст беспокойно ждал нового нападения. Ламме выскочил на палубу и сказал Уленшпигелю:
— Отведи меня к этому адмиралу, который не хотел тебя слушать, когда ты предсказывал мороз.
— Иди без проводника, — сказал Уленшпигель.
Ламме отправился, заперев кухню на ключ. Адмирал стоял на палубе, высматривая, не заметит ли он какого движения со стороны города. Ламме приблизился к нему.
— Господин адмирал, — сказал он, — смеет ли скромный корабельный кок высказать свое мнение?
— Говори, сын мой, — сказал адмирал.
— Ваша милость, — сказал Ламме, — вода тает в кувшинах, птица стала нежнее, с колбас сошел иней, коровье масло размякло, деревянное стало жидко, соль слезится. Дело к дождю, и мы будем спасены, ваша милость.
— Кто ты такой? — спросил адмирал Ворст.
— Я Ламме Гудзак, повар на «Брили», — ответил он, — и если великие ученые, объявляющие себя астрономами, читают в звездах так же хорошо, как я в моих соусах, то они могли бы сказать, что в эту ночь будет оттепель с бурей и градом. Но оттепель продлится недолго.
И Ламме вернулся к Уленшпигелю, которому он сказал около полудня:
— Я опять пророк: небо чернеет, ветер бушует, льет теплый дождь; уже на четверть воды надо льдом.
Вечером он радостно кричал:
— Северное море поднялось: час прилива настал, высокие волны, войдя в Зюйдерзее, ломают лед, который трескается и большими кусками падает на корабль; искры брызжут от него; вот и град. Адмирал приказывает нам отойти от Амстердама, а воды столько, что самый большой из наших кораблей уже поплыл. Вот мы у входа в Энкгейзен. Снова замерзает море. Я — пророк, и это чудо господне.
И Уленшпигель сказал:
— Выпьем в честь господа, благословляющего нас. Прошла зима, и наступило лето.
XIX
В половине августа, когда куры, пресыщенные кормом, глухи к призывам петуха, трубящего им о своей любви, Уленшпигель сказал солдатам и морякам:
— Кровавый герцог, будучи в Утрехте, осмелился издать там благодетельный указ, милостиво обещающий, среди прочих даров, голод, смерть, разорение тем жителям Нидерландов, которые не хотят покориться. «Все, что еще держится, будет уничтожено, — говорит он, — и его королевское величество населит страну иностранцами». Кусай, герцог, кусай! О напильник ломаются зубы ехидны: мы — это напильник. Да здравствует гёз!
Альба, ты пьян от крови. Неужто ты думаешь, что мы боимся твоих угроз или верим в твое милосердие? Твои знаменитые полки, которые ты прославлял во всем мире, твои «Непобедимые», твои «Бессмертные» вот уже семь месяцев бомбардируют Гаарлем, слабый город, защищаемый горожанами. Пришлось и им, как всем простым смертным, плясать в воздухе при взрывах подкопов. Горожане облили их смолой; эти полки, в конце концов, перешли к победоносным убийствам безоружных людей. Слышишь, палач, час божий пробил!
Гаарлем потерял своих лучших защитников, камни его слезятся кровью. Он потерял и истратил за время осады миллион двести восемьдесят тысяч флоринов. Власть епископа восстановлена. Радостной рукой и с веселым лицом он благословляет церкви; дон Фадрике присутствует при этих благословениях. Епископ моет ему руки, которые красны от крови в глазах господних. И колокола звонят, и перезвон бросает в воздух свои напевы, нежные и спокойные, точно пение ангелов на кладбище. Око за око. Зуб за зуб. Да здравствует гёз!
XX
Гёзы были во Флессингене, где Неле вдруг заболела горячкой. Вынужденная покинуть корабль, она лежала у реформата Питерса на Турвен-Кэ.
Уленшпигель, очень удрученный, все-таки был доволен, думая о том, что в постели, где она, конечно, выздоровеет, испанские пули не тронут ее. И он постоянно сидел подле нее вместе с Ламме, ухаживая за ней хорошо и любя ее еще больше. И они болтали.

— Друг и товарищ, — сказал однажды Уленшпигель, — знаешь новость?
— Нет, сын мой, — ответил Ламме.
— Видел ты корабль, который недавно присоединился к нашему флоту, и знаешь, кто там каждый день играет на лютне?
— Вследствие недавних холодов я точно оглох на оба уха, — ответил Ламме. — Почему ты смеешься, сын мой?
Но Уленшпигель продолжал:
— Однажды я слышал оттуда фламандскую песенку, и голосок показался мне таким нежным.
— Увы! — сказал Ламме. — Она тоже пела и играла на лютне.
— А знаешь другую новость? — продолжал Уленшпигель.
— Ничего не знаю, сын мой, — отвечал Ламме.
— Мы получили приказ подняться с нашими кораблями по Шельде до Антверпена и там захватить или сжечь неприятельские суда, а людям не давать пощады. Что ты думаешь об этом, толстячок?
— Увы, — сказал Ламме, — неужто никогда в этой злосчастной стране мы не услышим ничего, кроме разговоров о сожжениях, повешениях, утоплениях и прочих искоренениях рода человеческого? Когда, наконец, придет вожделенный мир, чтобы можно было без помехи жарить куропаток, тушить цыплят и слушать пение колбасы среди яиц в печи? По мне, кровяная лучше: белая слишком жирна.
— Это сладостное время вернется, — ответил Уленшпигель, — когда на яблонях, сливах и вишнях Фландрии будет вместо яблок, слив и вишен на каждой ветке висеть по испанцу.
— Ах, — говорил Ламме, — найти бы уж мне мою жену, мою такую дорогую, милую, любимую, прелестную, кроткую, верную жену. Ибо знай, сын мой, рогат я не был и вовеки не буду; для этого она была слишком неприступна и спокойна в повадке; она избегала общества других мужчин; если она любила наряды, то это ведь женское естество. Я был ее поваром, стряпкой, судомойкой, говорю это прямо, с радостью был бы и дальше тем же. Но я был также ее супругом и повелителем.
— Оставим эти разговоры, — сказал Уленшпигель, — слышишь, адмирал кричит: «Поднять якоря!» — и капитаны кричат за ним то же. Надо сниматься.
— Почему ты уходишь так скоро? — сказала Неле Уленшпигелю.
— Идем на корабль, — ответил он.
— Без меня? — сказала она.
— Да, — ответил Уленшпигель.
— А ты не думаешь, что теперь я буду очень беспокоиться о тебе?
— Милая, — оказал Уленшпигель, — у меня шкура железная.
— Ты смеешься надо мной, — ответила она. — Я вижу на тебе твой камзол, он суконный, а не железный; под ним твое тело, состоящее из костей, мяса, как и мое. Если тебя ранят, кто будет ходить за тобой? Нет, ты умрешь один среди бойцов! Я иду с тобой.
— О, — сказал он, — если копья, пули, мечи, топоры, молотки, пощадив меня, обрушатся на твое нежное тело, что буду делать я, негодный, в этом мире без тебя?
— Я хочу быть с тобой, ничего нет опасного, — говорила Неле. — Я спрячусь за деревянным прикрытием, где сидят стрелки.
— Если ты идешь, я остаюсь, и твоего любезного Уленшпигеля назовут трусом и предателем; лучше послушай мою песенку:
Природа и жизнь боевая, друзья,
Мне латы надежные дали.
Из кожи сперва была шкура моя,
Теперь же она — из стали.
Смерть даром точила когтей острия,
Они до меня не достали.
Из кожи сперва была шкура моя,
Теперь же она — из стали.
«Жить» — в о т что поставил на знамени я,
И с солнцем расстанусь едва ли.
Из кожи сперва была шкура моя,
Теперь же она — из стали.
И, напевая, он убежал, не забыв, однако, поцеловать трепещущие губы и милые глазки Неле, которая дрожала от лихорадки, смеялась, плакала — все вместе.
Гёзы в Антверпене; они захватили все суда Альбы вплоть до стоявших в порту. Войдя в город среди бела дня, они освобождают пленных и берут других, чтобы получить за них выкуп. Они хватают горожан и без разговоров, под страхом смертной казни, принуждают некоторых следовать за ними.
— Сын адмирала задержан у каноника, — сказал Уленшпигель Ламме, — надо освободить его.
Войдя в дом каноника, они нашли здесь этого сына, разыскиваемого ими, в обществе толстопузого монаха, который яростно увещевал его, стараясь возвратить в лоно матери нашей, святой римско-католической церкви. Но молодой человек никак не хотел и ушел вместе с Уленшпигелем. Тем временем Ламме, схватив монаха за капюшон, гнал его перед собой по улицам Антверпена, приговаривая:
— Сто флоринов — вот цена за твой выкуп. Подбирай ноги и марш вперед. Живей, живей! Что у тебя, свинец, что ли, в сандалиях. Вперед, кусок сала, мешок жратвы, суповое брюхо, пошевеливайся.
— Я ведь иду, господин гёз, я иду, но, с разрешения вашего почтенного аркебуза, позвольте сказать: вы такой же толстый, грузный, пузатый человек, как и я.
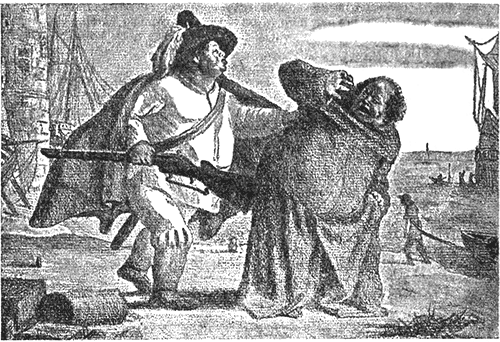
— Что? — закричал Ламме, толкая его. — Как ты смеешь, гнусная монашеская образина, сравнивать твой тунеядский, лентяйский, бесполезный монастырский жир с жиром фламандца, честно накопленным в трудах, испытаниях и сражениях. Беги, или я тебя пришпорю носком, как собаку.
Но монах не мог бежать и задыхался, да и Ламме тоже. И так они добрались до корабля.
XXI
Взяв Раммекенс, Гертруйденбург, Алькмаар, гёзы возвратились во Флессинген. Выздоровевшая Неле ожидала Уленшпигеля в порту.
— Тиль, — говорила она, увидев его, — Тиль, дорогой мой, ты не ранен?
В ответ Уленшпигель запел:
«Жить» — в о т что поставил на знамени я,
И с солнцем расстанусь едва ли.
Из кожи сперва была шкура моя,
Теперь же она — из стали.
— Ох, — стонал Ламме, волоча ногу, — пули, гранаты, пушечные ядра дождем сыплются вокруг него, а он чувствует только ветер. Ты, видно, дух, Уленшпигель; и ты, Неле, тоже, ибо, как на вас посмотришь, вы всегда такие юные и легкие.
— Почему ты волочишь ногу? — спросила Неле.
— А потому, что я не дух и никогда не буду духом, — вот и получил топором в бедро… Ах, какие белые и полные бедра были у моей жены! Смотри, кровь льется. Ох, горе! Почему некому здесь ухаживать за мной?
— На что тебе жена, изменившая обету? — сказала, рассердившись, Неле.
— Не говори дурно о ней, — сказал Ламме.
— На, вот тебе бальзам, — сказала Неле. — Я берегла его для Уленшпигеля. Приложи к ране.
Перевязав свою рану, Ламме повеселел, так как от бальзама исчезла мучительная боль; и они поднялись втроем на корабль.
— Кто это такой? — спросила Неле, увидев монаха, ходившего по палубе со связанными руками. — Я его где-то видела и как будто узнаю.
— Его цена — сто флоринов выкупа, — ответил Ламме.
XXII
В этот день флот пировал. Несмотря на резкий декабрьский ветер, несмотря на снег и дождь, все гёзы флота были на палубе. Серебряные полумесяцы тускло светились на зеландских шляпах.
И Уленшпигель пел:
Лейден освобожден, и кровавый герцог
Из Нидерландов бежит.
Гремите, притихшие колокола,
Перезвоном наполните воздух!
Бутылки и кружки, звените!
Вспоминая удары, собака
С поджатым хвостом
И глазом, залитым кровью,
Все оглядывается на палку,
И отвислая челюсть ее дрожит.
Он уехал, герцог кровавый!
Бутылки и кружки, звените!
Да здравствует гёз!
Собака могла б укусить хоть себя,
Да палкой выбиты зубы.
И с опущенной мордой она вспоминает о днях,
Когда ей разрешалось всласть убивать.
Он уехал, герцог кровавый!
Так бей в барабан славы,
Так бей в барабан войны!
Да здравствует гёз!
Альба дьяволу крикнул: «Продам я тебе
Мою душу собачью за час только силы».
«Так дорого? — дьявол сказал. — Для меня
Все равно что душа твоя, что селедка».
Да, зубов теперь не вернешь,
Распрощайся с кусками потверже.
Он уехал, герцог кровавый!
Да здравствует гёз!
Кривые чесоточные дворняги,
Что у мусорных ям не живут — прозябают,
Подымают лапу одна за другой
Из презренья к тому, кто любил мертвечину.
Да здравствует гёз!
Да, любил не друзей он, не женщин,
Не веселье, не солнце и не короля своего,
А свою лишь невесту — Смерть.
И она-то, готовясь к помолвке,
Перебила лапы ему:
Непокалеченных Смерть не терпит…
Бей в барабан торжества!
Да здравствует гёз!
И кривые чесоточные дворняги
Снова лапу свою подымают,
Обдавая чем-то горячим его.
А за ними — борзые, овчарки,
Собаки из Венгрии и Брабанта,
Из Намюра и Люксембурга…
Да здравствует гёз!
И угрюмо, с пеной на морде,
Он домой — чтоб издохнуть — ползет.
Бьет ногами его хозяин:
Слишком мало кусал и грыз.
Он в аду свою свадьбу справляет.
«Герцог мой» его Смерть зовет.
Он ее «Инквизицией» кличет.
Да здравствует гёз!
Гремите, притихшие колокола,
Перезвоном наполните воздух!
Бутылки и кружки, звените!
Да здравствует гёз!
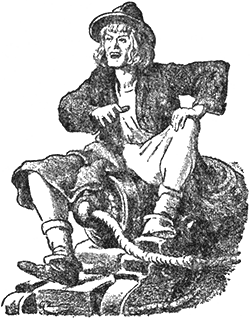
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления