Онлайн чтение книги
Том 23. Её величество Любовь
Глава 1
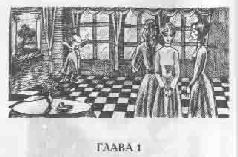
Волнующе и остро, как запах экзотического цветка, уносятся под своды белого зала звуки танго.
Толя, в новом, с иголочки, военном кителе, узких рейтузах и высоких ботфортах, бережно держит в своих объятьях стройную Зину Ланскую и каждый раз, когда прелестная вдовушка наклоняется вместе с ним к блестящим квадратикам паркета, шепчет ей что-то.
А в большие старинные окна белого зала смотрит ясный июньский вечер. Брызжет уходящее солнце на оконные стекла, на китель Толи, на рыжие пушистые волосы Зины, кажущиеся сейчас огненными. Дразнящая мелодия танго, приобретая какую-то особенную выразительность под искусными пальцами корнета Луговского, извлекающего ее из чуть разбитых струн старинного рояля, и рыжие волосы Зины, пронизанные умирающими лучами солнца, и раздражающе красивые движения на диво подобранной красивой пары танцоров — все это создает впечатление чего-то старинного и утонченно-заманчивого.
Треть зала отгорожена высоким помостом сцены, устроенным для предстоящего любительского спектакля. Сейчас с высоты его Вера, Муся с Варей, корнет Луговской следят за каждым изломом своеобразно-чарующего танца, твердо обосновавшегося минувшей зимой во всех «укромных» уголках Петрограда.
Проносясь мимо сестер, Толя поворачивает голову в их сторону и кричит дурашливо: "Девочки, прячьтесь!.. Разве не видите? Это становится неприличным", — и, тотчас же ловким движением притянув свою даму, бросает ей на ушко:
— Я люблю вас, Зина, и так готов кружиться с вами всю жизнь.
Вдовушка смеется. Она всегда смеется в ответ на такие "эксцессы".
А потом она начинает возражать ему.
Какой вздор!.. Он любит, маленький Толя, которому она годится в прабабушки! Да и умеет ли он еще любить? Да, любить он умеет, но не ее, Зину, свою старую кузину (она умышленно подчеркивает «старую», прекрасно сознавая все обаяние своей двадцативосьмилетней красоты), а свой полк, товарищей, семью, сестер, «Аквариум», "Виллу Родэ", «Палас-театр» и некую крошку Жильберту, которая и научила его так бесподобно танцевать танго.
И Зина опять смеется так, как могут смеяться только русалки на озере в воздушную лунную ночь.
Ее кавалер закипает негодованием. Он говорит взволнованно и тихо, так тихо, что Зина одна только может услышать его:
— Зина!.. Злая, жестокая! И вам не стыдно? Мало того, что измучила, еще дразнит.
— Довольно!., довольно! Я — не любительница сильных ощущений и боюсь пробуждения ревности больше всего! — притворно-испуганно восклицает она.
И опять пьянящий смех русалки.
На красивом лице Анатолия появляется злое выражение.
"Подожди! Посмеешься ты у меня когда-нибудь!" — проносится жестокая мысль в его мозгу, и он до боли сильно сжимает тонкую кисть Ланской.
— Ай! — вскрикивает Зина. — Вы с ума сошли, маленький Толя! Я — не поклонница подчинения грубой силе. Пожалуйста, запомните это раз и навсегда.
Она говорит это и в то же время вся отдается ритму танца, увлекая за собой и кавалера.
Корнет Луговской не в силах сдержать свой восторг. Он обрывает танго на полуфразе, выскакивает из-за рояля и кричит, бешено аплодируя:
— Браво! Браво! То есть уди-ви-тельно как хорошо! Неподражаемо! Настоящие профессиональные танцоры! И знаменитая Жильберта в "Вилле Родэ"…
Тут блестящий лакированный сапог со шпорой незаметно наступает ему на ногу.
— Т-с-с-с! При сестрах-то! — шепчет Толя с растерянно-комическим лицом.
— Пожалуйста, не стесняйтесь! Мы — не дети и отлично понимаем, как вы проводите свободное время в столице. Не правда ли, Варюша? — звенит мелодичный голосок младшей из сестер Анатолия, его любимицы, шестнадцатилетней Муси.
Это удивительно миловидная девчурка, с такими же живыми, сверкающими задором и радостью жизни глазами, как и у брата.
Та, к кому она обращается, — бесцветная, тихая, застенчивая девушка, ее подруга по институту, — молча, с испуганным смущением глядит в ее карие, задорно поблескивающие глаза.
— Ха-ха-ха! Очаровательно, детка! Молодчинище! Вы прогрессируете, сударыня, — весело смеется Анатолий, хватая за руки младшую сестру и кружась с нею по сцене.
— Ну, да, конечно, молодец, если на то пошло, — продолжает Муся. — Ну, да, я говорю исключительно только правду и притворяться не желаю. Мы — не дети. И танго многие из нас в дортуаре по вечерам танцуют, и открытки с Жильбертой, популярнейшей его исполнительницей, не стыдятся иметь у себя. Ведь это — красота, а красота и мелкий стыд несовместимы.
— Браво! Дальше, детка, дальше!
— Муся! Муся! Перестань! Что ты? — с искренним ужасом говорит старшая сестра, Вера, от прямой, худощавой фигуры которой, от строгих черт и темных спокойных глаз веет чем-то суровым, как от древней византийского письма иконы.
— Полно, Верочка, ничего нет дурного в том, что я говорю — еще задорнее подхватывает Муся. — Не хочу притворяться наивной деточкой, не хочу лицемерить и ханжить, не замечать величия красоты там, где это не принято. И врать не хочу тоже. Ну, да, мне нравится танго — мотив его, нежащий и как будто убаюкивающе-усталый, и ритм его, и движения, как нравится всякое другое смелое начинание, как нравятся рыжие, обесцвеченные нашатырем и перекисью, волосы Зины и…
— Муся! Муся! — повторяет Вера.
— Оставь ее, кузиночка!.. Продолжай, Муська! Это прелесть что за девчонка, право! — не совсем искренне шумно восторгается вдовушка, у которой при упоминании о нашатыре и перекиси водорода горячий румянец выступает на слегка тронутом косметикой лице.
— Ах, нет, не буду говорить больше, не хочу! Пожалуй, с Верой удар еще сделается. Ведь все, что я говорю сейчас, не принято, неприлично в обществе, и за это маленьких детей секут розгами и ставят в угол! — и пухлые губы Муси надуваются, и все лицо становится капризным и совсем ребяческим в эту минуту.
"Любимец публики" признает этот момент очень удобным, чтобы подойти к ней.
— Вы прелестны, — говорит он неестественным тоном, наклоняясь к поэтично растрепанной темно-русой головке.
Его лицо, гладко выбритое, рыхлое лицо стареющего актера, с плотоядной улыбкой и выпуклыми глазами дышит на Мусю запахом дорогой сигары и цветочным одеколоном, которым он ежедневно обтирает себе щеки после бритья. Сладкий и пряный аромат каких-то дурманных и крепких духов исходит целой струей от его безупречно сшитого светлого костюма и ударяет в голову.
Муся чувствует инстинктивное отвращение к "любимцу публики" — или, вернее, к артисту частных петербургских театров, Думцеву-Сокольскому, привезенному братом Толей из столицы для постановки их любительского спектакля.
Виталий Петрович Думцев-Сокольский чувствует себя здесь, в этом чудесном уголке Западного края, в старинной усадьбе Бонч-Старнаковских, как в раю. Он воображает себя ценителем всего сильного, и не без основания прозван "любимцем публики" шалуньей Мусей за его полные самохвальства рассказы о бывалых и небывалых театральных успехах.
Нынче он, как и все находящиеся здесь в зале мужчины, по уши влюблен в очаровательную вдовушку, только что так умело продемонстрировавшую перед ними модное танго. Но за вдовушкой ухаживать опасно. Ее безумно и безнадежно любит молодой хозяин дома, товарищеским отношением с которым, хотя бы случайным, завязавшимся за бутылкой шампанского, он, Думцев-Сокольский, очень дорожит. Все-таки Анатолий Бонч-Старнаковский, продолжатель древнего аристократического, когда-то польского, теперь вполне обрусевшего, рода — богатый, блестящий офицер одного из лучших кавалерийских полков России, и выступать его конкурентом на поприще достижения благосклонности очаровательной Ланской и не умно, и опасно. Да и незачем это, когда под рукою находится такая прелесть, как Муся!
— Прелесть моя! Детка! — шепчет он.
Девочка поднимает на него карие искрящиеся глаза, и сейчас они мечут пламя.
— Во-первых, не смейте называть меня деткой! Вам уже сто раз говорилось это, — сердито роняет Муся. — А во-вторых, отодвиньтесь. Терпеть не могу, когда мне дышат в лицо табаком.
Она, демонстративно выскользнув из-под руки опешившего Сокольского, отбегает в дальний конец сцены, увлекая за собою и свою молчаливую подругу. Отсюда девушки соскакивают на пол и прячутся в глубокой нише окна, за шелковой занавеской. Оно раскрыто настежь, и ветерок слабо колышет занавеску. Невидимые никому из присутствующих в зале подруги могут здесь перемолвиться словом.
— Терпеть его не могу. Противно мне его ухаживание, — все еще сердито говорит Муся. — Когда он целует руку, чувствуешь, точно жаба тебя коснулась, а вот когда Луговской — ничего, ни чуточки не гадко. А ведь он и некрасивый, и неинтересный, только что играет на рояле хорошо. Вот поди ж ты! Почему это, Варюша?
— Не знаю, Мусик, право, не знаю. Вероятно, потому, что с Луговским ты давно знакома — ведь он бывает у вас в доме еще со времени своего пребывания в корпусе, а Думцев всем вам чужой, — отвечает Варя.
— Ах, не то, не то! — пылко возражает Муся. — Или ты не знаешь, что я ранена насмерть, что о нем только моя мечта? Его я буду любить вечно. Целые пять лет люблю его, с одиннадцатилетнего возраста. Смешно сказать даже, а это — святая правда. Еще девчонкой я втюрилась в него с первого взгляда и с тех пор мечтаю о нем. Ты знаешь, пройдет еще два-три года — и я стану шипеть, как старая дева, или ханжить, как Верочка. Этого нельзя, того нельзя; это неприлично, то не принято. И все оттого, что он не для меня, что он — не мой. Я и теперь часто бываю зла, как кошка. Зина ведь хорошенькая? Правда? Но вот послушай, Варюша, совесть ты моя. Ведь ты — моя совесть, Варечка: только тебе одной я всю свою душу изливаю. Да, так вот нынче я нарочно про обесцвеченные волосы Зины брякнула… Не веришь? Думала, если он меня не любит — мечта моя, сказка моя, греза моя далекая — так пускай же и всех других меньше любят все их поклонники — и Китти, и Зину, и всех…С Зины я и начала. Собственно говоря, что в ней хорошего? Нос туфлей, крашеная, рыжая, рот до ушей, однако все вместе и тонко, и пикантно, и…

Муся хмурится, сжимает крошечные кулачки, и скорбный огонек появляется в ее глазах.
— Медам и мсье, прошу на сцену. Пора начинать второй акт. Так мы никогда не дотащимся до конца пьесы, — разносится по залу красивый, немного носовой голос "любимца публики", привыкшего к тому, чтобы все им восхищались.
Но его на этот раз никто не слушает. Вдовушка стоит перед креслом Веры и, блестя зеленоватыми глазами и сверкая белыми хищными зубками, говорит, обращаясь к последней, не то искренне, не то шутя:
— Боже мой, Верочка, вот ты опять недовольна мною. Ну, да, да, я знаю… Ты — сама корректность, воплощенная добродетель и, понятно, опять осуждаешь безумную Зину за то, что она, насмотревшись на всяких Бланш, Жильберток и Маргошек, рискнула перенести их искусство сюда, под сень старинного аристократического дома, и продемонстрировать здесь отчаянное танго, которому место только в злачных, укромных столичных уголках. Непростительное легкомыслие, не правда ли, Верочка?
— Ну, знаете, кузиночка, я думаю, что тени предков, витающие под этой кровлей, весьма и весьма не прочь полюбоваться на такую шикарную исполнительницу-дилетантку, и прабабушки — я уверен в этом — уже устраивают сцену ревности прадедам за их чересчур пылкое увлечение вами нынче, — смеется Толя.
— Вы противный и потому молчите. Я говорю с Верочкой, а не с вами. Слышите, Анатоль, молчать! — Вдовушка пухлою ручкой шутливо ударяет офицера по плечу.
— Я умер, — паясничает Толя.
— Ну, Верочка, правду я говорю? — и ласково, по-кошачьи, Зина жмется к своей строгой кузине.
— Пустяки, Зина!.. Ты же знаешь. Я не люблю только, когда ты выкидываешь свои эксцентричные шутки при девочках. Муся и так преждевременно развита. Мама и Китти, уезжая, оставили ее на моем попечении.
— И останутся, конечно, вполне довольны результатами такого покровительства, — снова вмешивается в их беседу Анатолий. — У нашей Веры с пеленок развиты педагогические способности. Она была бы незаменимой воспитательницей в каком-нибудь couvent (закрытое учебное заведение) за границей. Вторая сестрица у меня — образец строжайшей дисциплины и соблюдения нравов.
— А ты все шутишь, Анатолий! — и Вера смотрит на брата своими строгими глазами, но они уже полны выражения нескрываемой нежности.
Мгновенно хорошеет ее холодное, замкнутое лицо и молодеет сразу под наплывом теплого чувства.
Все они — Вера, Муся и старшая сестра Китти — горячо привязаны к своему единственному брату, весельчаку, кутиле и милому ветренику Толе. Красавица Китти прозвала брата Фру-Фру, и это прозвище как нельзя больше подходит юноше. Веселый, всегда ровный, общительный, рубаха-парень, что называется, и доброты необычайной, Анатолий Владимирович Бонч-Старнаковский слывет не только любимцем своей семьи, но и своего полка, и того кружка, в котором он вращается.
— Господа! Еще раз призываю вас всех к порядку, — надрывается "любимец публики". — Я начинаю репетицию и прошу вас молчать, — и он отчаянно звонит в колокольчик.
— А где же остальные исполнители? Где Маргарита Федоровна? Где Попугайчики? Где Рудольф? — пулей вылетая из-за шелковой занавески, кричит Муся.
— Они подойдут к своей сцене. Попугайчики дали слово быть непременно.
— А Рудольф?
— Я здесь.
Все взоры обращаются к двери.
В зал входит высокий, плечистый, с военной выправкой, молодой человек. На нем прекрасно сшитый штатский костюм, подчеркивающий безукоризненную фигуру. Крупная, тщательно причесанная на пробор белокурая голова, подстриженные рыжевато-белокурые усы, холодные, немного выпуклые, цвета стали, глаза, смотрящие как-то уж слишком прямо и напряженно.
— Я здесь… аккуратен, как видите, — говорит вновь прибывший, как-то странно, точно не по-русски, выговаривая слова и улыбаясь одними губами, тогда как глаза продолжают оставаться серьезными.
— Ага! Мсье Штейнберг! Отлично! Прыгайте сюда к нам, и начинаем репетицию. Живо! — командует "любимец публики", издали театральным жестом приветствуя его.
Рудольф-Карл-Август фон Штейнберг — сын Августа Карловича Штейнберга, старого управляющего Отрадным, имением Бонч-Старнаковских, — красивой и легкой походкой пересекает зал и, минуя лесенку, ведущую на подмостки, поднимается туда, ухватившись руками за доски пола.
— Ловко! Браво, Рудольф, браво! — кричит в восторге Муся и хлопает в ладоши.
— Что и говорить! — улыбается Толя.
— Мсье Рудольф, сколько пудов вы выжимаете одной рукой? — кокетливо стрельнув в его сторону глазками, осведомляется Зина.
— Рудольф, берегись! Еще одно слово кузины в твою пользу — и готовь маузеры. Двадцать шагов расстояния, завтра, на восходе солнца, за садом. Луговской — мой секундант; твой — "любимец публики", — и Анатолий делает трагическое лицо.
— Ай, как страшно! Молчите, молчите! Я не выношу крови! — хохочет Зина.
За нею смеются остальные. Уж очень забавен Анатолий со своими вращающимися глазами и рыкающим голосом.
Одна Вера остается серьезной. С минуты появления Рудольфа Штейнберга здесь, на пороге белого зала, что-то странное происходит с девушкой. Ее черные глаза ярко загораются, тонкое лицо вспыхивает, и Вера Бонч-Старнаковская в этот миг становится настоящей красавицей.
* * *
Вот уже вторую неделю репетируется здесь, в большом белом зале Отрадного, чудесная, полная скрытого трагизма, популярнейшая пьеса Чехова "Вишневый сад". Предстоящий спектакль является подарком младших членов семьи ее старшему представителю и главе, Владимиру Павловичу Бонч-Старнаковскому, крупному чиновнику, дипломату и помещику, владельцу одного из прекраснейших имений Западного края, расположенного неподалеку от прусской границы.
Семья Бонч-Старнаковских, благодаря службе и положению Владимира Павловича, принуждена вести светскую жизнь в Петербурге. Дом тайного советника Бонч-Старнаковского поставлен на широкую ногу. Высшее петербургское общество считает необходимым бывать у Старнаковских на их четвергах. Их ложу знают все посетители первого абонемента Императорской оперы. На concours hyppiques (состязания в верховой езде) отличаются в обществе брата и его товарищей по оружию обе старшие барышни: Китти и Вера. Младшая, Муся, еще учится в одном из фешенебельных институтов столицы. На аристократических балах появляются старшие барышни Бонч-Старнаковские; их знает весь высший свет Петербурга.
Семья Бонч-Старнаковских является последней представительницей старинного польского аристократического, теперь давно уже обрусевшего, рода. Когда-то предки Бонч-Старнаковских гремели на весь Западный край и во времена свободной Польши были маленькими царьками-магнатами.
Увы! От всего прежнего магнатства предков потомкам остались теперь лишь славное имя да большое имение в сердце Польши.
Это имение, сданное на полное попечение честнейшего в мире немца, Августа Карловича Штейнберга, ежегодно и очень охотно в летнее время посещалось, несмотря на далекое расстояние от столицы.
Сам Владимир Павлович Бонч-Старнаковский приезжал сюда погостить на две-три недели, чтобы отдохнуть на лоне природы; но это случалось, если ему не представлялась хотя бы малейшая возможность ехать за границу, где он лечил расшатанную нервную систему. Его супруга, Марья Дмитриевна ("генеральша", в устах прислуг, поскольку и сам он, тайный советник, был для них "генералом"), ежегодно лечила в Карлсбаде свои больные почки. Муж обыкновенно провожал ее туда и ехал дальше. Но в это лето совместная поездка не удалась; дела удержали «генерала» в Петербурге, и Марья Дмитриевна принуждена была ехать в Карлсбад со старшей дочерью, Китти, и ее женихом, Борисом Мансуровым, молодым, подающим надежды, чиновником.
Несмотря на отсутствие трех членов семьи, в Отрадном было исключительно весело в это лето. Главе семейства удалось нынче вырваться на несколько дней из душной столицы в старое родовое гнездо. Ждалось и его сыну Анатолию вырваться на короткое время из лагеря со своим другом Никсом Луговским и прилететь в милое Отрадное, где с самого начала лета жили его сестры, Вера и Муся, гостили очаровательная вдовушка, их кузина Ланская, и подруга Муси, Варя Карташова. Старый прадедовский палаццо дрожал от взрывов молодого, часто беспричинного смеха, от громких, радостных голосов, звуков музыки и хорового пения.
Весь этот дом с двухсветным, перерезанным большими колоннами, залом, со своими хорами и старинными диванами эффектно дисгармонировал с молодым, резвым и веселым обществом, собравшимся в нем. А оно чувствовало себя прекрасно и в белом зале с колоннами, и в портретной галерее, и в бильярдной, словом, во всем этом прадедовском гнезде, где, казалось, в темные загадочные ночи еще витали тени умерших предков. Густые, тенистые аллеи сада, с его бесчисленными затеями, с классическими статуями, гротами и воздушными кружевными беседками, повисшими над старым прудом, — все здесь дышало таинственной прелестью старой родовой саги. Она рассказывала о милом былом, ткала чудесные узоры вымысла, переплетенные с былью, о гордых панах и панночках со жгучими очами и о блестящих рыцарях Польши, носившихся в лихой мазурке и удалом краковяке и умевших не одними только боевыми подвигами завоевывать благосклонность кокетливых красавиц.
Увы! Времена прекрасных рыцарей и гордых панночек давно миновали, и наглядным воспоминанием о минувшем являлись только старые портреты в полуоблупившихся золоченых рамах на стенах современной портретной галереи.
Впрочем, и все Отрадное уже не представляло собою прежнего маленького царства польских магнатов, вельмож старого времени. Оно значительно сократилось в размерах, не имело тысяч даровых работников, руки которых являлись бесконечным источником золота для беспечных панов-хозяев. Однако оно все же было очень доходно. Немец-управляющий сумел на свой лад устроить поместье, и — надо отдать ему полную справедливость — ввел здесь образцовый порядок. В сравнительно недолгий срок под его ловкими руками возродилось запущенное было хозяйство. Теплицы и оранжереи наполнились плодами, овощами, цветами; из-за границы были выписаны редкие породы роз, любимых цветов «генеральши»; сильные, сытые рабочие лошади и породистые грациозные кони под-верх и запряжку красовались в тщательно отремонтированных конюшнях; рогатый скот не оставлял желать ничего лучшего. Не менее успешно шли и огородничество, плодоводство, и — главное — полевое хозяйство. Пять тысяч десятин, оставшихся потомкам былых магнатов, давали довольно крупный доход нынешним владельцам.
* * *
Ночь — трепетная, ароматная. Кажется, будто темная душистая влага, пролитая из незримого фиала-колосса, опрокинувшегося над землей, так и застыла в воздухе, полном таинственных, опьяняющих чар, нежащей, знойной мглы, заставляющей мечтать о серебряной сказке месяца, о золотых огнях высокого неба — гордых и ласковых звездах.
Но сегодня черная бархатная мгла ревнива. Она грозно стережет непроницаемость своего мягкого покрывала — ни месяца, ни звезд, ни серебряной, ни золотой сказки.
Нашумевшись, накричавшись и наспорившись вдоволь, молодежь разошлась после ужина по своим комнатам. Чернота ночи и знойная духота помешали прогулке. Назавтра решено было подняться пораньше, чтобы репетировать. Спектакль, приноровленный ко дню рождения главы семейства, был не за горами. После него должна была разъехаться вся мужская половина общества: сам старый хозяин дома, Толя, Никс Луговской и "любимец публики".
Последний весь отдался сейчас постановке спектакля. Он мастерски распределил роли: сам взял роль стареющего кутилы-барина, разорившегося помещика Гаева, ту, которую так неподражаемо вел на образцовой сцене покойный Далматов; его сестру, кокетливую, обаятельную, чуждую предрассудков, легкомысленную барыньку, играла Зина Ланская; ее дочь, прелестного, поэтичного ребенка Аню, — Муся; Варя должна была изображать горничную Дуняшу, типичную вскормленницу господ. Роль Вари, приемной дочери Раевской, поручили Вере, великолепно подходившей к ее типу, роль же гувернантки Ани — Шарлотты Ивановны — репетировала экономка Маргарита Федоровна, старая дева, ненавистница мужчин. Бесподобен был уже и теперь, на репетициях, лакей Яша в исполнении Толи; Трофимова играл сын священника Вознесенский, студент духовной академии, а Лопахина — жесткого, молодого, но "из ранних", купца-кулака, купившего вишневый сад у бывших господ своего отца-крепостного, — Рудольф Штейнберг. Комическую роль управляющего взял на себя Никс Луговской; роль лакея Фирса поручили другому студенту, товарищу Ванички Вознесенского, Петру Петровичу, носившему крайне комическую фамилию Кружка. Оба юноши, за неимением других исполнителей приглашенные в аристократический кружок богатых помещиков, чувствовали себя здесь не в своей тарелке, ужасно стеснялись, краснели, потели, держались безотлучно один подле другого, и оба с самого начала репетиций в одинаковой мере влюбились в Мусю. Она от души смеялась над ними и за глаза постоянно называла их Попугайчиками.
Весь старый палаццо погружен в глубокий сон, и только в одном окне его виден приветливый огонек свечи. Вера Бонч-Старнаковская еще не ложилась; она сидит пред зеркалом и заплетает в толстую косу на ночь свои длинные черные волосы. Эти волосы — единственное украшение Веры; они примиряют их обладательницу с остальными недочетами ее: с безжизненным, никогда не отличающимся свежестью, старообразым лицом, с сухою, костлявою, слишком прямою фигурой, с мрачными, суровыми глазами и строго сжатыми губами.
Вера доплетает косу, но ее чуткое ухо ловит малейший звук в саду.
Даже глаза как будто прислушиваются; они, обычно спокойные, — теперь тревожны, напряжены.
"Неужели не придет? Неужели что-нибудь помешает, как и в прошлую ночь?" — проносится в ее голове.
Обычное спокойствие изменяет девушке; она то и дело отводит глаза от зеркала и бросает взгляд в бархатную мглу ночи.
Что это? Кажется, огонек? Ну, да, это — он, его огонек, его сигара. Или нет… она ошиблась снова — не он…
"Ты — сама воплощенная добродетель!" — слышится Вере откуда-то издали голос Зины Ланской. Это она-то — добродетель, Вера Бонч-Старнаковская, как преступница, выжидающая каждую ночь позднего часа, чтобы урывкой, мельком перекинуться словом с тем, кого она любит пламенно и бурно. Недаром она худеет, недаром темные круги замыкают кольцами ее глаза. Которую уже ночь она не спит, ожидая, когда все утихнет и успокоится в доме, а там бесконечные беседы с любимым до первых предрассветных сумерек.
О, какая мука и какое блаженство — эти их ночи, о которых никто и никогда не узнает, не должен знать! Это — их тайна, их счастье. Она, Вера, не крадет этого счастья ни у кого. Она свободна. Неужели она не имеет права хотя бы на крупицу такого счастья, каким пользуется ее сестра Китти, уже ставшая невестой любимого человека? Или оттого только не имеет, что она некрасива? Вздор какой! При чем тут красота? Он любит ее такою, какая она есть, а она, она…
Вера, едва не задохнувшись, спешит к окну, смотрит с минуту и чуть не вскрикивает от радости: огонек светится теперь совсем близко от ее окна.
— Вы? — шепчет она.
На мгновение ярче вспыхивает огонек и, описав искрящуюся дугу, совсем исчезает из вида. Из темноты ночи на площадку пред домом, чуть освещенную огнем свечи, горящей в комнате Веры, выступает рослая, сильная фигура.
— Вы? — еще раз почему-то спрашивает Вера, хотя отлично видит, что это — он, тот, к кому стремится ее сердце, кого зовет неустанным зовом душа.
— Фрейлейн Вера, как вы неосторожны! Эта свеча… Могут увидеть, и тогда… — чуть слышно звучит его голос.
— О, я ничего не боюсь! Я вас люблю, вы же видите. Я люблю вас безумно, Рудольф, и пойду для вас на все, — со страстью и силой вырывается из груди девушки.
— Дорогая фрейлейн Вера! — странно закругляя своей особенной манерой фразы, отвечает Штейнберг. — Вы же знаете, что я сам люблю вас больше жизни. Вы же знаете это. Я каждое мгновение готов пожертвовать собою для вас, ради вашего спокойствия и счастья. Но пока, вы же знаете, я должен молчать о своей любви. Кто вы и кто я? — подумайте сами, фрейлейн Вера! Вы — Бонч-Старнаковская, красавица, богачка, представительница старинного рода, я же — маленький офицер прусского гарнизона, армейский офицер, живущий на пару жалких сотен марок в месяц. Что я могу предложить вам взамен того, что вы потеряете, став моей женой? Да и господин советник не позволит вам этого. Он не допустит такой ничтожной партии для своей дочери. Сын его управляющего, почти слуги, и вы, фрейлейн Вера!
— О, молчите, молчите, Рудольф! Вы рвете мне сердце… я не могу слышать это. Папа — не зверь. Он всех нас горячо любит, и наше счастье для него дороже всего.
— Mein susses Kind!.. (мое милое дитя) моя бесценная фрейлейн Вера! Вы — ангел мой, отрада и счастье всей моей жизни, и, когда вы так говорите, все мои страхи и колебания испаряются, исчезают, и я, видя нашу любовь, готов идти на все. Да, ждать трудно. Я выберу удачный момент и буду просить вашей руки, моя бесценная, моя золотая красавица. В то же время я буду добиваться карьеры. Я окончил курс академии и теперь уже служу в штабе, а там открытый путь дальше. Вы же, моя добрая волшебница, надеюсь, поддержите меня, вы…
* * *
С высоко поднятой головой, с горделивым сознанием одержанной победы возвращается черными, непроницаемыми под бархатной мглой ночи аллеями Рудольф фон Штейнберг. Ему есть отчего торжествовать: то, к чему он стремился, то, о чем он только мечтал, — наконец случилось, и случилось гораздо скорее, чем он этого ожидал.
Кому он обязан всем происшедшим? Бурному ли темпераменту фрейлейн Веры, унаследованному ею от бабушки (он кое-что слышал о покойной старухе), или своим личным достоинствам неотразимого Рудольфа-Августа Штейнберга?
Сейчас он улыбается и осторожно поглаживает кончики коротко подстриженных, выхоленных усов. Он, всегда сдержанный и спокойный, сейчас готов прыгать и скакать, как мальчишка. Первое дело прошло отлично; теперь бы провести второе, а там…
"О, Рудольф Штейнберг, если вы будете продолжать в том же роде, то пойдете далеко вперед!"
Только месяц тому назад он приехал в это тихое, уютное Отрадное, и сколько счастливых перемен принес ему этот месяц! Сначала он даже не замечал пробужденного им в душе Веры чувства к нему, и такого бурного. Веру он стал замечать только с первых репетиций их любительского спектакля, когда ее черные глаза останавливались на его лице с каким-то странным и острым упорством. Она по пьесе должна была играть влюбленную в него девушку, и он думал сначала, что Вера умышленно настроила себя в этом направлении, слишком вошла в свою роль. Но мало-помалу он проник в истинный смысл ее отношения к нему и при всей своей сдержанности и характерном тевтонском хладнокровии чуть не сошел с ума от восторга.
Правда, судьба сыграла с ним злую шутку: вместо красавицы Китти, о которой он пламенно мечтал еще с отроческих лет, или свеженького бутона Муси, он заполучит эту сухую, некрасивую, черную, как цыганка, и неженственную Веру.
Но ведь выбирать не приходится, когда само счастье лезет в руки. Все же он будет зятем старого дипломата, так или иначе проникнет в интимную жизнь чиновного, министерского человека, и при этой близости будет много легче и удобнее привести в исполнение задуманный им план. А тогда его карьера обеспечена.
Он уже видит отсюда, как впереди ярко загорается его счастливая звезда. Он — пруссак до кончика ногтей, и все славянство для него — племя "париев, стадо свиней, проклятых собак", ставших поперек горла его славному народу. Но родина родиной, а услугу он станет оказывать ей не только из-за своих патриотических чувств. Конечно, не мешало бы в двадцать шесть лет получить подполковничьи эполеты. А если ему удастся довести до конца то, что он приводит медленно к осуществлению весь этот месяц, отправляясь прямо с любовных свиданий, не отдохнув ни капли, на свои экскурсии, — о! — тогда обеспечены и полковничьи эполеты, и прекрасное положение при штабе.
И тогда посмотрим еще, чем молодой полковник фон Штейнберг уступит какому-нибудь мальчишке-молокососу Анатолию Бонч-Старнаковскому и всем его присным. И тогда, прекрасная Китти, вам уже не придется выказывать такое презрение сыну вашего управляющего, которым вы заклеймили его шесть лет тому назад.
Опять, как утопленник на поверхность пруда, всплыло это воспоминание, давно прошедший, канувший в Лету случай. С поразительной ясностью, до мельчайших деталей вспоминает сейчас Рудольф все, что произошло тогда.
Жаркое июльское утро. Знойное солнце и лениво дремлющий пруд в тени помещичьего сада. Ни души в саду. В эту чащу никто не заглядывает по утрам. Только он, Рудольф, готовившийся тогда к последним испытаниям военной коллегии, перед производством в офицеры, с учебником фортификации в руках. Плеск воды внезапно привлек его внимание. Он раздвинул ближайшие ветки, вытянул шею и, выглянув из своей зеленой засады, едва не вскрикнул от восторга и неожиданности, смешанной с каким-то ужасом. В пруд осторожно входила красавица Китти, старшая из барышень Бонч-Старнаковских. Юноша выпрыгнул из кустов и рванулся к Китти. Прежде чем она успела крикнуть и оттолкнуть его, он обвил ее трясущимися руками.
Только звонкая пощечина привела тогда его в чувство.
Китти стояла пред ним негодующая, и еще более чем когда-либо соблазнительная и прекрасная. Кутаясь в длинную простыню, она бросила ему:
— Негодяй! Ничтожный мальчишка! И ты осмелился! Ты осмелился, ничтожная тварь! Или забыл, кто — ты и кто — я?
Затем произошло нечто кошмарное. Он, Рудольф, ползал в ногах и вымаливал прощение. Он униженно молил Китти не жаловаться "его превосходительству господину советнику", не сообщать о его безумном поступке и его отцу, а предать этот поступок забвению. Он оправдывал его своей молодостью, необузданным темпераментом, пылом и, наконец, тем, что она, фрейлейн Китти, так прекрасна, так непостижимо, божественно прекрасна, что он не мог устоять при виде ее красоты.
Но Китти, сгорая от стыда, плохо слушала то, что он лепетал. Она повторяла взволнованным, звенящим, как натянутая струна, голосом:
— Я — Бонч-Старнаковская, а ты, ты кто? Сын слуги моего отца! На что же ты рассчитывал, однако, на что, несчастный?
О, он не решался тогда сказать ей, что ровно ни на что не рассчитывал, что просто влюблен в нее без памяти, что ее несравненная красота, как шампанское, ударила ему в голову! И, когда она прогнала его, он ушел, опозоренный, уничтоженный, но с сердцем, закаменевшим в сознании своего права любви, с распаленной от обиды душою и жаждою мести.
Китти почему-то так и не пожаловалась ни своему отцу, ни Августу Карловичу на его необузданного сына, и никто так и не узнал об этой сцене, разыгравшейся на берегу пруда. Потом она презрительно отворачивалась от Рудольфа при встречах и продолжала демонстративно говорить ему «ты», хотя до этого злосчастного утра называла его на «вы» и Рудей.
Не забыл Рудольф оскорбления, полученного им от разгневанной девушки. Обида вытеснила у него из сердца прежнее увлечение Китти, и оно перешло в не менее острую ненависть к ней. Но этот инцидент, происшедший между ними, привел к тому, что он поставил себе заветом так или иначе добиться положения, карьеры, богатства, чтобы встать на одну ступень с этими надменными барами, с этой зазнавшейся девчонкой, а там…
О том, что могло быть дальше, Рудольф не думал. Он знал лишь ближайшие цели своей борьбы. И, когда неожиданно и бурно в его жизнь ворвалась любовь Веры, той самой Веры, с которой он еще в детстве бегал, играя в лошадки, Рудольф Штейнберг обрадовался безмерно. Его задача теперь значительно упрощалась: будучи мужем дочери крупного чиновника, он скорее достигнет тех высот, к которым тянется его тщеславная душа.
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления