Онлайн чтение книги
Том 23. Её величество Любовь
Глава 7
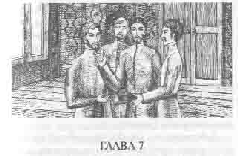
Давно отпили чай, съели все, что можно было съесть на бивуаке, и кто как мог и где мог стали устраиваться на ночь. Во дворе фольварка окопались солдаты. В глубоких рвах прятались они от неприятельских снарядов вместе с лошадьми. Это было много безопаснее, нежели оставаться в доме, куда главным образом и метили австрийцы. Короткие осенние сумерки быстро переходили в ночь. Но и ночью здесь было светло, как днем, от пылающего гигантским костром селения.
— Господа, немыслимо больше оставаться в доме, — сурово произнес фон Дюн, когда новый снаряд с грохотом и воем разорвался позади окопов, обдавая людей его эскадрона осколками и землей.
Кого-то задело таким осколком, и он со стоном опустился на траву; другой как лежал, так и остался лежать, приникнув лицом к земле.
— Готов… еще один… И Бог знает, скольких они перебьют еще, пока не скомандуют нам в атаку! — чуть слышно прошептал, незаметно крестясь, юный Громов.
— Командир, господа, сам командир идет. Авось что-нибудь новенькое услышим, — произнес князь Гудимов.
Действительно, своей кавалерийской походкой с развальцем приближался командир части. За ним следовал адъютант-кавказец с горячими и печальными глазами. Высокий генерал с моложавым лицом быстро шагал вдоль линии окопов, негромко здороваясь с солдатами и не обращая внимания на ложившиеся кругом снаряды. Солдаты также негромко, но радостно отвечали на приветствие. Командира любили за «человечность» и беззаветную храбрость. Офицеры окружили начальника и двигались за ним.
— Что, господа, неважная позиция? Гм… гм… приходится переносить неприятности. Получены инструкции, господа. Завтра поздравляю с наступлением. Но прежде необходимо вызвать охотников, чтобы взорвать мост, дабы пресечь им путь.
— Наконец-то! — вскрикнул фон Дюн.
— Осмеливаюсь спросить ваше превосходительство, кого вы командируете? — спросил Гудимов.
Генерал сказал.
— Господа, не хочу скрывать от вас, поручение крайне опасно, почетно и ответственно в одно и то же время. Блестящее выполнение плана повлечет за собой несомненную награду, неудача же, малейший промах могут стоить смельчакам жизни. Поэтому, господа, прошу бросить жребий между собою; ни отличать, ни обижать никого не хочу. Необходимо нарядить одного офицера и пять нижних чинов. Кого именно, выберите сами. Вы что-то желаете сказать мне, господин корнет? — генерал обратился в сторону Анатолия, вытянувшегося в струнку.
— Так точно… то есть… никак нет, ваше превосходительство. Теперь не время… После жребия, если разрешите.
— Ну, конечно, конечно, — произнес генерал, окидывая ласковым взглядом офицера, которого ценил за безукоризненную службу в мирное время и за лихую отвагу на войне.
Бонч-Старнаковский обрадовался. Ласковый тон начальства многое обещал ему. Там, за окопами, ждала его уже оседланная Коринна, темно-гнедая красавица-кобыла, а он знал быстроту своей любимой лошади, знал, что в какой-нибудь час она домчит его в расположение штаба, где его ждет Зина.
— Тольчик, ты что это задумался, братец, да еще под снарядами? Невыгодная как будто позиция для раздумья и грез! Не годится, братец ты мой, мечтать под пулями, — и Никс Луговской, красный от зарева пожара, улыбнулся Бонч-Старнаковскому.
— Господа, я написал билетики и бросаю в фуражку, — крикнул князь Гудимов, вырывая из своей записной книжки одну страничку за другой. — Кому идти — написано кратко: "С Богом", остальные билетики пустые. Малютка, встряхните хорошенько фуражку и подходите! Прошу, господа!
Все окружили юного корнета и протянули руки к бумажкам.
Анатолий спокойно развернул свой билетик, и легкий возглас изумления вырвался у него из груди.
— Мне, — произнес он не то радостно, не то смущенно.
— Счастливец! — с завистью, чуть не плача, выкрикнул юный Громов.
— Это называется везет! — хлопнув себя по колену, проворчал князь Гудимов.
Луговской отвел в сторону все еще продолжавшего стоять в нерешительности, с развернутой бумажкой в руке, Анатолия.
— Послушай, если Зинаида Викторовна, действительно, ты понимаешь… я всегда смогу заменить тебя, — произнес он так тихо, что другие офицеры не могли его услышать.
— Благодарю тебя, Никс, — ответил Анатолий, — от души бдагодарю, но я перестал бы уважать себя, если бы свое личное дело поставил выше того бесценного, святого, на которое позвала меня судьба. Я — прежде всего солдат, Николай, и, где дело идет об успехе, хотя бы и частичном, нашей армии, там ни любви, ни женщине нет места. Ну а теперь иду, благо Коринна оседлана, а люди уже, по всей вероятности, готовы в путь. Готовы, Вавилов? — обратился он с вопросом к вахмистру, почтительно ожидавшему приказаний невдалеке.
— Так точно, готовы, ваше высокоблагородие.
— Ну, а кого ты выбрал, братец? Нашего эскадрона, небось?
— Так точно, нашего. Сам я да Сережкин взводный, Пиленко, Никитин и доброволец напросился, ваше благородие, заодно с нами.
— Какой доброволец?
— А к командиру барин приехамши. Во второй эскадрон назначили. Дюже просился и его захватить в дело.
— Вольноопределяющийся?
— Никак нет, доброволец. Видать, что из господ, не иначе.
— Да как же ты его так сразу? И не испытал, каков он в деле может быть?
— Так что евонный эскадронный, ротмистр Орлов, приказали просить ваше высокоблагородие, чтобы…
— Ну, коли так, то ладно; давай нам и твоего добровольца. А сам ротмистр Орлов где сейчас?
— Они у командира, сейчас только пришли.
— Ладно! Зови людей и подавай Коринну!
— Слушаю-с, ваше высокоблагородие.
Новое, радостное волнение охватило сейчас Анатолия. Такое же чувство ожидания скорой и близкой радости наполнило все его существо, как и то, что он испытывал, отправляясь еще мальчиком со своими родителями к пасхальной заутрене. Тогда, в те далекие годы, он, маленький Толя, знал: вот подъедут в экипаже к церкви, войдут в храм он, родители, сестры, нарядные, возбужденные по-праздничному, и услышит он, как запоют "Христос Воскресе" на клиросе, и мгновенно ликующая, почти блаженная радость затопит его умиленную душу. А дома ждут уже пасхальный стол, розговенье, поздравление, подарки. А сейчас что ждет его там, в этом близком, но неведомом будущем? Что он может ожидать от опасного предприятия, которое так же легко несет с собою гибель, как и награду храбрецам? Так почему же в груди у него такая сладкая, острая радость?
Теперь он уже не думает о Зине, о грядущей возможности повидаться с нею. Как он далек от нее сейчас.
— Николай, голубчик, — отзывает он в сторону Луговского, — на два слова.
— Что, братец?
— Николай, послушай! Мы с тобой — давнишние друзья, и если я не вернусь оттуда, если, ну, понимаешь, все может случиться… Так вот передай ей, Никс, что я любил ее одну и любил беззаветно.
— Ну, братец, — пробует отшутиться Луговской. — Я думаю, Зинаиде Викторовне будет во сто раз приятнее услышать от тебя самого столь нежные слова.
— А если убьют?
— Ну что за ерунда! Почему непременно убьют, а не явишься за наградой, за "Георгием"? — возражает Николай.
— Возьмите меня, Старнаковский, умоляю, возьмите! — просит Громов.
— Нельзя, Малютка! Вы слыхали: командир назначил офицера и пять нижних чинов, и только.
— О, почему я не нижний чин в таком случае!
Повернувшись к сгруппировавшимся в стороне пяти кавалеристам, Анатолий командует негромко: "Рысью, марш, марш!"
* * *
Они едут гуськом по лесной тропинке, обмотав тряпками с сеном копыта лошадей. Фольварк остался далеко позади. Впереди рысью скачет офицер, начальник крошечного отряда, за ним — вахмистр и четыре нижних, чина. Последним едет доброволец. Он погружен как будто в глубокую думу и не видит никого и ничего. А канонада не умолкает, не прерывается ни на одну минуту.
— Ваше высокородие, к самой переправе никак невозможно подобраться лесом, — шепчет Вавилов, весь вытягиваясь вперед. — Я лучше другою дорогою проведу вас к мосту. Мы уж тут были на разведках, а ежели крюка дать малость в сторону, так и вовсе в ихние позиции упремся.
— Есть, говоришь, другая дорога? Ближняя? — спрашивает Анатолий.
— Никак нет. А ежели ближняя, так придется ползти картофельным полем.
— Ну и поползем, эка невидаль! А коней в лесу оставим.
Теперь горящее селение осталось далеко сзади. Впереди уже редеет лес и переходит постепенно в мелкий кустарник. А там дальше поле, за ним река, по высокому берегу которой рассыпаны траншеи неприятеля. А у подножия этого берега, несколько в стороне, темнеет громада моста.
Проехали еще с добрых полверсты шагом. Теперь адский грохот орудий кажется оглушительными, непрерывными раскатами грома. Но снаряды летят в противоположную сторону, метя на фольварк и прилегающую к нему изрытую русскими окопами местность.
— Стоп! — командует Анатолий и первый соскакивает с коня.
За ним спешиваются и остальные.
— Братцы, одному из вас придется остаться при лошадях и провести их другою, дальнею, дорогой, а в случае тревоги броситься на мой свист навстречу к нам.
Анатолий оглядывает небольшую группу солдат. В полутьме не видно их лиц, но Анатолий чутьем угадывает, что каждому из этих лихих кавалеристов было бы приятнее идти за ним, нежели оставаться и ждать. Его взгляд, стараясь разглядеть пятую, оставшуюся как бы в стороне, фигуру, напрягается, но не может ничего разглядеть.
— Я думаю, что тебе, как новичку, лучше всего будет подежурить при лошадях, братец, — обращается Бонч-Старнаковский к добровольцу, лицо которого тщетно силится рассмотреть во мраке.
— Ради Бога разрешите мне следовать за вами, господин корнет! И если только моя жизнь может пригодиться вам, то я с восторгом пожертвую ее для успеха предприятия, — слышит он слегка взволнованный, донельзя знакомый голос.
Что такое? Или он ошибся? Не может быть! Анатолий выхватывает из кармана небольшой потайной фонарик, наводит свет в лицо говорящему и бросается к нему.
— Мансуров! Борис, голубчик! Какими судьбами?
— Такими же, как и все. Не мог устоять, как и многие. Вспомнил былое время, когда в дни молодости совершенствовался в верховой езде, рубке и стрельбе. Теперь это искусство пригодилось, как видишь. Был у командующего в Варшаве, просил, как особой милости, назначить в ваш полк, хотел служить с тобою вместе. Или ты не рад этому? — заканчивает Мансуров по-французски, чтобы не быть понятым окружающими солдатами.
— Рад, конечно, рад, дружище… так рад, что растерялся, как видишь, — тоже по-французски отвечает Анатолий. — Я всегда любил тебя, Борис, как родного брата, и, признаться, возмущался, когда узнал, что Китти…
— Оставим это. Твоя сестра была вольна поступать по своему усмотрению, — перебивает его Мансуров. — А вот лучше, будь добр, окажи мне услугу: захвати меня с собою к мосту. Может быть, я и смогу быть тебе полезен.
* * *
Пять человек бесшумно и быстро пробираются густым низким кустарником. Иногда сноп прожектора с неприятельских позиций быстрой и яркой стрелою прорезает тьму, но кустарник не дает возможности нащупать скрывающийся под его сенью отряд. А они все ближе и ближе продвигаются к цели.
Временное затишье, наступившее на неприятельских позициях, дает возможность слышать гул голосов австрийского лагеря, сигналы и перекличку караула. Махина моста, кажущаяся темным чудовищем, находится в стороне от позиций.
— Вавилов и ты, Борис, — говорит Бонч-Старнаковский, — вы обойдете кругом и снимете часовых. Старайтесь сделать это бесшумно. Когда будет готово, дадите нам знать, ну, хотя бы криком совы. По карте, в шестистах шагах от моста покинутый поселок. Задворками его вы подберетесь к караулу по берегу. Мы поползем полем; я сам заложу под мост взрывные шашки. Когда я свистну, всем бежать к поселку. Я приказал Никитину доставить туда лошадей. Ну, а теперь помогай Бог, братцы! Вперед!
— Все будет исполнено, — твердо произносит Мансуров и вместе с Вавиловым исчезает.
Малорослый, едва доходящий до пояса взрослому человеку, кустарник уже кончился. За ним лежит темное и влажное от ночной сырости картофельное поле. Приходится лечь плашмя на землю и ползти змеею, не отделяясь от мокрой травы. Холод и сырость дают себя заметно чувствовать Анатолию.
— Ваше высокоблагородие, никак, мы уже близко, — шепчет Анатолию Сережкин, — так что его дюже хорошо слыхать. Близехонько он, значит.
Действительно, неприятельская позиция находится всего в каких-нибудь пятидесяти шагах, и огромная махина моста неожиданно вырастает пред ними. Там дальше, на холмах, на левом фланге линии, там артиллерия и окопы. Здесь же как будто вымерло все вместе с покинутым маленьким поселком.
Анатолий приподнимается и смотрит внимательно, силясь разглядеть что-либо в полутьме. Низкорослый кустарник тянется до самого берега. Здесь река дает выгиб, и до моста теперь рукой подать.
— Не робей, братцы, за мною! — шепчет он.
Спина ноет от неестественного положения, руки закоченели от холода. Но это — вздор, пустое, в сравнении с тем, что им предстоит. Они уже не ползут дальше, а идут, скорчившись в три погибели. Вот уже совсем близко желанный мост. Чуть слышно поблизости плещет река. И опять гул голосов, долетающий слева, с неприятельских позиций, то и дело нарушает тишину ночи.
Они идут уже вдоль берега. Вот вошли в заросли камыша. Зашуршало что-то.
Остановились, замерли. Ничего как будто…
Снова тишина. Все трое с минуту прислушиваются. Все опять тихо.
Вдруг желанный крик совы нарушает тишину. Это значит, что часовые сняты…
"Экие молодцы!" — Анатолий первый быстро проползает под мост.
У него фитили, патроны, динамит и спички тоже. Лишь бы не отсырели. Он прятал, как сокровище, эти смертоносные орудия взрыва. Теперь можно и приступить.
Двигаясь в темноте между сваями по колено в воде, Бонч-Старнаковский нащупывает первый столб. Он осторожно закладывает динамит. То же самое проделывает, по его указанию, Сережкин у другой сваи. Еще минута, и фитили подожжены.
— А теперь марш обратно! Живо! — командует Анатолий.
— Скорее, скорее! — откуда-то с берега слышится приглушенный голос Бориса.
Опять резко — уже двоекратный — крик филина прорезает тишину. Это оставшийся при лошадях Никитин дает знать, что успел проскакать объездом и ждет их со стороны поселка.
Теперь, уже не соблюдая прежней осторожности, Анатолий и Сережкин несутся от обреченной на гибель громады моста.
К ним присоединяются вынырнувшие из мрака Вавилов и Борис.
— Справились с обоими: накинули веревки на шею — и не всрикнули даже, — докладывает на бегу первый.
— Молодцы! — начинает Анатолий…
Он не договаривает. Оглушительный гул раздается за их спиною, и мост взлетает, как щепка, вместе с огнем, дымом и осколками к небу.
Словно внезапно проснувшись, грохочут ему в ответ неприятельские пушки. И тотчас же вслед за этим сноп австрийского прожектора освещает поле, лес, русские позиции и фольварк, и крошечную группу людей, несущуюся стрелой от места взрыва.
Полуэскадрон мадьяр вылетает с австрийских позиций и несется вдогонку за этой горстью смельчаков.
— Ну, Коринна, не выдавай, милая! — шепчет Анатолий лошади.
Шпоры вонзаются в крутые бока красавицы кобылы, и она с налившимися кровью глазами, вся натянувшаяся, как стрела, летит вперед.
Целый град пуль послан вдогонку беглецам. Мадьяры стреляют на скаку, не целясь, и орут что-то (что именно — не разобрать: не то «виват», не то "сдавайтесь").
— Недолет, — выкрикивает Анатолий и все поддает шпорами Коринну. — Перелет, — торжествующе вскрикивает он, когда разрывается далеко впереди граната.
Но вдруг Бонч-Старнаковский смолкает.
Коринна, дрогнув задними ногами, подскакивает вверх и тяжело валится набок. В тот же миг страшный толчок заставляет Анатолия податься вперед, перелететь через голову окровавленной лошади и распластаться навзничь в пяти шагах от нее. Точно темная, непроницаемая завеса задергивается в ту же минуту над его головою.
— Стой, братцы, корнета убили! — И Мансуров удерживает своего коня.
Группа всадников останавливается.
Пренебрегая падающими вокруг снарядами, Борис Александрович быстро подбегает к упавшему.
— Жив, кажется, жив, — говорит он, наклоняясь над беспомощно распростертым телом.
Легкий стон подтверждает его слова.
— Братцы, не выдавай своего начальника! — говорит Мансуров. — Давайте мне раненого, я доставлю его на наши позиции.
Солдаты осторожно поднимают окровавленное тело и молча передают его на руки Бориса. Мансуров обвивает одной рукой плечо раненого, другою натягивает поводья.
— Вперед! — командует Вавилов, заменивший сраженного начальника. — Они уже совсем близко, спасайся, братцы!
— А мост все-таки взорван! Слава Тебе, Господи! — слышен голос Анатолия. — И теперь им уже некуда будет отступать.
И Борис Александрович видит, как слабо трепещет рука раненого, делая усилие перекреститься.
* * *
Снова вечер, мокрый, дождливый, осенний. Снова в большой столовой Отрадного ярко светит электрическая лампа и четыре женщины сидят за столом. Впрочем, сидят только трое над остывшими чашками чая, четвертая же ходит из угла в угол по комнате. Муся и Варюша тесно прижались друг к другу, и в глазах у обеих явное смятение. Маргарита Федоровна трясущимися руками перетирает чашки. Вера шагает крупными шагами от окна к печке и обратно.
А за окном мрак. Дождливая октябрьская ночь, жуткая своей чернотою; однообразно и гулко шлепают капли дождя по крыше дома; глухо, угрожающе воет ветер.
В этот хаос звуков неожиданно врываются новые — тихие и певучие звуки флейты. Они несутся из флигеля, почти примыкающего к господскому дому. Это новый управляющий, заменивший отрешенного от должности Августа Карловича, каждый вечер услаждает себя игрою на флейте.
Девушки молчат. Муся машинально постукивает ложечкой по блюдцу и думает о Борисе. Зина написала им с дороги, что встретила его, что он думает поступить в действующую армию. Куда, в какой полк — не спросила. Ну, что же, пускай! Теперь ничто уже не испугает и не удивит Мусю. Убьют, не убьют — все равно: ее любовь останется одинаковой как к мертвому, так и к живому. А что касается его самого, то, раз душу его убила Китти, разве смерть — не лучшее, чего он может желать? А где-то теперь сама Китти? По-прежнему во Львове сестрой или пробралась дальше? Где Тольчик, всеобщий любимец? Как давно нет известий о них! И Зина не возвращается. Неужели нельзя получать известий потому только, что «они» идут «сюда»? И неужели правда, идут к Ивангороду и к Варшаве? Как близко! А уехать нельзя: маме опять хуже. Теперь у нее ежедневно повторяются припадки, болезнь прогрессирует. Начался отек ног. Если ее тронуть с места, она умрет в дороге. А без нее ни Муся, ни Вера не решатся ехать. Впрочем, Вера говорит, что и незачем ехать, что немцы — не варвары, что с женщинами они не воюют, а держат себя рыцарями, и что если и явятся сюда, то не причинят им ни малейшего беспокойства. Хороши рыцари! А что они сделали с Льежем, Брюсселем, Лувеном?
Муся при одном этом воспоминании роняет ложечку на пол.
— Ах, Господи, вот напугала-то! — вскрикивает Маргарита Федоровна.
— А вы думали, немцы? — пытается пошутить девочка.
— Типун вам на язык, Мария Владимировна! Эдакий ужас, подумать надо, сказали! Да я о них, зверях этаких, и думать-то боюсь, а вы еще пугаете! — восклицает хохлушка.
— И очень глупо делаете, что боитесь, Маргоша, — неожиданно говорит Вера. — Бояться, в сотый раз повторяю, вам нечего. Немцы — культурные люди, а не дикари, и никого не съедят.
— А как же в газетах-то… Ведь сами об ужасах читали…
— Врут ваши газеты, вздор пишут, раздувают все! — резко восклицает Вера. — А вот доведись немцам прийти сюда…
— Чур вас! Что еще выдумаете! — замахала на нее руками Маргарита.
— Так сами увидите, — не слушая ее, продолжает Вера. — Смешно и глупо бояться европейскую, просвещенную нацию, как каких-то краснокожих дикарей.
— Они хуже дикарей, Верочка, хуже! — звенит натянутый, как струна, голосок Муси.
— Не говори глупостей! — строго обрывает ее сестра. — Разве Рудольф — дикарь? Самый обыкновенный молодой человек, каким дай Бог быть каждому русскому из тех же представителей нашей jeunesse doree (золотой молодежи.) А Август Карлович что за милейший старик!
— То-то и видно, что милейший, — капризно надувая губки, продолжает Муся, — то-то и видно, если этих милейших людей папа за порог дома выгнал!
Смуглое лицо Веры заливается густой краской.
— Молчи и не рассуждай о том, чего не понимаешь! — строго говорит она младшей сестре. — А сейчас советую тебе идти спать. Это будет по крайней мере самое лучшее — поменьше глупостей говорить будешь.
— Остроумное решение, нечего сказать! — ворчит себе под нос девочка.
— Пойдем, Мусик, право! — ласково уговаривает подругу Варюша.
— Чтобы валяться без сна в постели и вздрагивать при каждом стуке? Но, если тебе так этого хочется, Верочка, я пойду, — тотчас же смиряясь, соглашается Муся и, поцеловав старшую сестру, покорно выходит об руку со своей «совестью» из столовой.
Вера смотрит ей вслед смягчившимися глазами.
Затем она говорит:
— Бедная девочка, как она изнервничалась! Да и все мы волнуемся, все выбиты из колеи. Болезнь мамы, война, все эти ужасы хоть кого с ума свести могут.
Она присаживается к столу и смотрит на Маргариту Федоровну, как та перебирает дорогой севрский фарфор, потом безмолвно встает и направляется к двери. В смежной со спальней больной матери комнате Вера стоит несколько минут, чутко прислушиваясь к тяжелому дыханию спящей за дверью, а потом проходит к себе.
Она спит в бывшей комнате Китти, перебравшись сюда с момента отъезда старшей сестры, чтобы быть каждую минуту готовой помочь больной среди ночи.
В этой комнате жила когда-то, очень давно, их бабка, мать отца, словно передавшая ей, Вере, свой темперамент, свою способность любить насмерть, страстность натуры. Недаром она так полюбила Веру и оставила ей все, что имела, после себя. Она точно предчувствовала повторение себя, своей типа, в этой тогда еще крошке-девочке. Уже будучи матерью женатого сына, покойная Марина Бонч-Старнаковская бежала с красивым поляком, австрийским гусаром, к нему на родину. Когда же красавец-австриец разлюбил ее, Марина Дмитриевна вернулась в Отрадное с тем, чтобы поцеловать маленьких тогда внучат, особенно свою любимицу Веру, испросить прощения у мужа и покончить самоубийством. Ее вытащили мертвую из пруда, отнесли к обезумевшему от горя мужу, простившему ей все и обожавшему эту странную и мятежную до седых волос женщину.
Неужели и ее ждет такая же печальная участь?
Нынче она думает об этом снова.
Дождь идет не переставая, и звуки флейты еще поют там, среди ночной темноты. Когда замолчит этот Размахин? Душу надрывает его игра! С нею острее чувствуются муки воспоминаний.
"Что-то он делает теперь? Где он сейчас?"
— Где ты, солнышко мое? Где ты, моя радость? — страстно шепчет девушка, протягивая вперед смуглые тонкие руки.
Она не охладела к Рудольфу; наоборот, ее чувство как будто выросло и окрепло, и нет ни одного часа на дню, чтобы она не думала о нем.
* * *
Муся просыпается среди ночи и садится встревоженная на постели.
Прислушавшись, она говорит спящей тут же подруге:
— Варюша, проснись… Что это такое? Как будто пожар? Ты слышишь? Что это за шум, Варюша?
Темная головка "мусиной совести" с трудом отрывается от подушки, она бормочет спросонок:
— Спи, спи! Чего тебе не спится? Еще рано!
Но шум многих голосов, какие-то крики, пыхтенье автомобиля, лошадиный топот и ржанье, ворвавшееся как будто во все углы и закоулки усадьбы, сразу протрезвляют заспавшуюся Карташову.
— Мусик! Неужели же это — немцы?
Муся вся съеживается от ужаса.
— Так скоро, не может быть!
— Ах, все может быть в это ужасное время! Одевайся скорее! Или нет, постой, я раньше посмотрю.
Варюша вскакивает с постели и бежит к окну босая, похолодевшей рукой отдергивает штору и с криком отступает назад, в глубь комнаты.
На дворе светло, как днем. Несколько ручных фонарей движутся во всех направлениях. Огромный костер пылает на площадке пред домом. Вокруг него стоят какие-то люди в касках и шинелях внакидку. В стороне пыхтит автомобиль. Кто-то отдает приказания твердым, громким голосом.
Муся спрашивает подругу:
— На каком языке он говорит, Варюша?
— Немцы! Немцы пришли! Все пропало! — шепчет та.
Где-то за стеною слышится негромкий, жалобный плач.
— Ануся! Это плачет Ануся. Или Верочка? Верочка, сюда, к нам! — лепечет растерянная Муся и бесцельно бегает по комнате, хватая попадающиеся под руку предметы, торопливо одеваясь и наскоро закалывая косы.
Стук в дверь, сильный и резкий, заставляет девушек рвануться друг к другу и замереть так, обнявшись, глядя на дверь.
— Успокойтесь, девочки, ради Бога! Это я, Вера.
— Боже мой! — восклицает Варя. — А мы думали…
— Нечего бояться. Вот дурочки! И чего вы боитесь? Ну, да, немцы здесь. Неприятельский отряд зашел сюда, по дороге к крепости… Кажется, драгуны. Офицеры были очень корректны и просили разрешить им через управляющего пробыть на постое в усадьбе с эскадроном одну эту ночь. Я велела сказать, что мама больна. Они обещали быть тихими. Солдаты расположились во дворе, офицеры в доме. Я распорядилась подать им ужин.
— Ужин нашим врагам? — почти с ужасом восклицает Муся, отскакивая от сестры.
— Что ты хочешь, девочка? — останавливает ее та. — Лучше мы сами предложим им, нежели они…
— Но ведь ты говорила, что они — рыцари. Так по какому же праву они требуют?
— По праву воюющих. Что вы? Что вам надо, Маргоша? — неожиданно обращается Вера к хохлушке, влетевшей в комнату.
Та, задыхаясь от волнения, молчит несколько секунд и лишь затем отвечает:
— Вера Владимировна, голубочка моя! Да что же это такое? Да есть ли силы терпеть эти гадости, мерзости эти! Вы им ужин приказали подать, а они шампанского и коньяка требуют. Я по-ихнему бормотать не умею, а Ануська научилась… она у Августа Карловича долго жила. Ей немчуры таких пакостей наболтали, что девчонка сама не своя, сейчас ревет, ручьем разливается.
Вера прерывает ее:
— Постойте, постойте, Маргоша! Толком объясните, кто наговорил и кто шампанское требовал. Ничего не понимаю.
— Все требовали, все галдели… и старший их. Гостя они сюда, видите ли, еще из своих какого-то ждут, так угостить хотят чужим добром на славу. И еще, голубочка Вера Владимировна, хотела я севрский сервиз да серебро спрятать, так куда тебе: присосались к ним они, прости Господи, как клещи.
В глазах Веры недоумение, но она все же говорит:
— Дайте им все, что надо, лишь бы не напугали мамы.
— Да, вот еще: вас они требуют…
— Как это требуют? Кто смеет требовать? — возмущается Вера.
— Ануся говорит. Ей приказали. "Веди, — говорит, — сюда твоих молодых хозяек; нам скучно ужинать без дамского общества. Да и сама, — говорит, — приходи; и на тебя, — говорит, — охотники найдутся".
— Что? — Губы Веры дергаются. — Я выйду к ним. Мне кажется, здесь какое-то недоразумение, — взволнованно говорит она и твердыми шагами направляется к двери.
Вдруг Муся вскидывается, как птичка, со своего места и поспешно бросается за нею.
— Не пущу тебя одну, не пущу, ни за что! Вместе пойдем, Верочка, пойдем вместе!
— И я, и я тоже! — присоединяется Варюша.
— Ой, напрасно, барышни, ой, куда лучше было бы задними ходами да прочь отсюда! — останавливает их Маргарита. — Сердце мое чует беду. Уж куда лучше было бы бежать!
— Бежать без мамы? А как мы с мамой убежим? — тихо роняет Муся.
— Вздор один! Никуда мы не убежим, никуда нам бежать не надо, да и никаких ужасов в том, что немцы пришли сюда, еще нет. Конечно, лучше всего обратиться к их командиру или начальнику и попросить его покровительства, — и Вера хмурит свои черные брови.
Муся чувствует себя при этих словах, как под ударом бича.
— Просить покровительства у наших врагов! — восклицает она. — У людей, которые убивают мирных жителей.
В соседней комнате слышатся звон шпор и громкие голоса.
Проходит еще мгновение — и у дверей появляются четверо в офицерских мундирах прусского кавалерийского полка.
— Guten Abend, meine Fraulein (Добрый вечер, барышни), — говорит высокий белокурый офицер, беглым взглядом окидывая четырех сбившихся в тесную группу девушек, и делает общий поклон.
Трое остальных, с любопытством разглядывают испуганных обитательниц дома.
— Не волнуйтесь, барышни, — говорит первый офицер по-немецки, — и успокойтесь, пожалуйста! Никто не причинит вам ни малейшего вреда. Напротив, мы все — я и мои товарищи — просили бы вас оказать нам честь и отужинать вместе с нами.
Новый поклон и продолжительная пауза. Вдруг Муся с горящими ненавистью глазами выступает вперед.
— Милостивый государь, — отвечает она по-немецки звонким, рвущимся на высоких нотах голоском, — я и моя сестра настоятельно просили бы вас вот именно избавить нас от этой чести.
— Муся, Муся, безумная! — испуганно шепчет Вера, изо всех сил дергая девочку за руку. — Что ты говоришь, Муся?
Пруссаки опешили в первый момент.
Однако белокурый говорит:
— Но почему же? Я не вижу причины пренебрегать нашим обществом.
— Муся! Ради Бога, Муся! Ты погубишь нас! — лепечет Карташова.
Но девочка только встряхивает в ответ кудрями и говорит:
— Хорошо! Скажи им, Верочка, что мы окажем им эту честь, но я надеюсь, что и они не заставят нас раскаяться в нашей любезности.
Вслед за тем Муся первая с гордо поднятой головой проходит мимо озадаченных пруссаков.
* * *
Комнаты старого дома нынче освещены, как в дни празднеств. В столовой сегодня особенно ярко и светло. Горят все свечи в люстре, все лампочки и бра на стенах. За столом сидят прусские офицеры с ротмистром во главе. Сам он уже немолод, но, по-видимому, не прочь провести время в обществе женщин. Его глаза то и дело обращаются в сторону Веры, которая, по настоянию непрошеных гостей, заняла за столом место хозяйки дома. Муся и Варюша сидят молча, с поджатыми губами. В лице первой запечатлелось выражение ненависти и гадливости, а черты Варюши искажены страхом. Обе они молчат, несмотря на все старания немцев втянуть их в разговор. Маргарита Федоровна не садится; она хлопочет с закуской и ужином, помогая Анусе, ошалевшей от страха. Вся остальная прислуга разбежалась.
Немцы едят так, как будто не имели во рту ни кусочка всю неделю, но пьют еще больше. Поминутно сменяются бутылки на столе и хлопают пробки от шампанского. Их лица раскраснелись, языки развязались. Шутки стали нахальнее, смелее.
Маленькие глазки ротмистра уже все чаще и чаще останавливаются со странным выражением на строгом лице Веры; ему положительно импонирует оригинальная внешность русской. Он любит таких смуглых цыганок с черными глазищами.
Четыре молодых лейтенанта увиваются вокруг девушек. Один из них, с рыжими распущенными, как у кота, усами, особенно липнет к Мусе. И белокурый — тот, что пришел к ним во главе депутации приглашать их к ужину, не отстает. За Варюшей увиваются двое пруссаков: один — совсем еще молодой, другой — толстый, круглый, с осовевшим от вина взглядом. Три других офицера мало обращают внимания на девушек, они занялись ужином и вином.
Вдруг осовелый от шампанского белокурый офицер наклоняется к Мусе, и, прежде чем она успевает крикнуть и отстраниться, горячие, пропитанные запахом сигары и вина, губы касаются ее похолодевшего маленького ушка.
— Что? Как вы смели? Как вы смели? — топая ногами, кричит девушка с исказившимся от отвращения и гнева лицом.
Ротмистр, только что доказывавший Вере всю несправедливость создавшегося о немцах в России мнения, выставляющего их с самой отрицательной стороны, бросает в сторону молодежи быстрый, тревожный взгляд и тотчас же останавливает им офицеров.
— О, ничего особенного! — говорит он. — Не беспокойтесь, барышня, это — только маленькая шутка. Молодежи так свойственно увлекаться. И что в сущности убудет от вас, милая барышня, если вас поцелует один из героев прославленной прусской армии?
Но его блестящая речь пропадает даром; Вера поднимается возмущенная со своего места.
— Послушайте, — начинает она, — мы надеялись, что имеем дело с джентльменами, а вы… а вы позволяете себе оскорблять беззащитных девушек. Стыдитесь, господа!
— Оскорбляем беззащитных девушек? Ха-ха-ха!.. Но вы преувеличиваете, барышня! — смеется ротмистр. — И какое может быть оскорбление в том, что господин лейтенант позволил себе наградить поцелуем понравившуюся ему хорошенькую девушку?
— Но вы забываете, что эта девушка — не какая-нибудь Эмма или Лизхен, маленькая мещанка из предместья Берлина, а русская дворянка. Мы — Бонч-Старнаковские, сударь, — вызывающе говорит Вера, глядя в заплывшие жиром глазки начальника отряда.
— Это подло! Это низко! — бросает в свою очередь Муся. — И если вы осмелитесь еще раз прикоснуться ко мне, то я…
Но слова ее сильнее шампанского ударяют в голову белокурого пруссака. В его мозгу тяжело бродят два хмеля: один — от близости юной девушки, другой — от выпитого через меру вина.
— Бутончик! Белый розанчик! — шепчет он, сопровождая свои слова плотоядным взглядом, и протягивает к Мусе руки.
— Подлый немец! Посмей только, посмей только! Я ненавижу тебя… ненавижу всех вас с вашим ужасным войском, с вашим безумным кайзером… — звенит теперь на весь дом отчаянный крик Муси и, перебежав комнату, она бросается как бы под защиту к Вере.
— Что такое? Что вы сказали? — слышатся со стороны немцев угрожающие голоса.
Теперь офицеры повскакали со своих мест и, шагая неверными, подгибающимися от хмеля ногами, окружили девушек.
— Да знаете ли вы, что за такие слова… — говорит ротмистр, хватаясь за стол и всячески стараясь соблюдать равновесие.
Рев автомобиля, раздавшийся во дворе, прервал угрозу.
— Это — он!.. Наконец-то! — обрадовались кому-то немцы.
В соседней комнате раздались твердые шаги. Зазвенели шпоры, и вновь приехавший молодой прусский офицер стремительно вошел в комнату.
Все взгляды немедленно обратились к нему.
— Наконец-то и вы! Признаюсь, вы умеете заставлять себя ждать. — И ротмистр первый шагнул навстречу вошедшему.
Вера взглянула на него и опешила:
— Рудольф!
Да, это был он. В блестящем мундире штабного офицера, это был тем не менее он, любимый ею Рудольф Штейнберг. Так вот какого гостя ждали прусские драгуны еще сюда!
"О, если так… Великий Боже, не шлет ли его сама судьба к нам на помощь… его, Рудольфа?" — обожгла Веру радостная мысль.
Вера протянуда руки к нему навстречу.
— Рудольф! Рудя! Я знала, что вы вернетесь, что вы вспомните о нас, — шептала, как во сне, девушка, с восторгом и нежностью глядя на офицера.
Но он не двинулся с места, а насмешливо оглядывал ее с головы до ног.
— Что такое? Вы ждали меня? — язвительно переспросил он после бесконечной паузы. — Ждали после того, как ваш драгоценный папахен выгнал меня, как собаку, из своего дома, и не только меня, но и моего ни в чем не повинного отца? Вы очень самонадеянны, если думали, что все это не повлечет за собою наказания, отмщения с моей стороны.
"Что? Что он говорит?… Рудольф? Какого отмщения?"
И после короткого молчания Вера еще раз попыталась обратиться к нему.
— Нас оскорбляют, Рудольф. Заступитесь за нас, — прошептала она тихо.
Штейнберг смотрел на нее по-прежнему насмешливо.
Что? Да разве победители могут оскорблять? Ха-ха-ха! Что такое? Мои товарищи, насколько мне известно, поцеловали вашу сестру? Подумаешь, беда какая! — сказал он уже по-немецки.
— Конечно, этой полоумной девчонке следовало влепить пулю, а не поцелуй за ее оскорбительные выражения о славной германской нации и о главе ее — нашем кайзере, — сказал ротмистр.
— Именно так… пулю, а не поциуиуй… — послышались пьяные голоса.
— Постойте, мы придумаем нечто иное, и это будет во сто раз остроумнее, чем всякое другое наказание, — произнес Штейнберг со своей прежней ужасной улыбкой.
— Ру-до-льф… вы?… И вы тоже заодно с ними? — потрясенно произносит Вера.
— Что значит это "и вы тоже"? Я прежде всего — пруссак и враг славянства, а во-вторых… Но не стоит говорить об этом! Позовите-ка лучше сюда вашу красавицу, старшую сестру. Куда она спряталась? Чего испугалась? — внезапно переходя на русский язык, продолжает Штейнберг. — Я хочу показать моим друзьям, которые по моей рекомендации заехали сюда, хочу показать им жемчужину вашей семьи. Да и сам я не прочь взглянуть на прелестную Китти, после того как мне удалось снискать ее расположение у себя, за границей, — поспешил он докончить, дерзко поглядывая на испуганных барышень.
— Что? — вырвалось у тех четырех сразу.
Дыхание, казалось, остановилось в этот миг в груди Веры.
— Он лжет! Он лжет, этот подлец! Нельзя ему верить ни слова, — неожиданно вырвалось у Маргариты Федоровны, и она, как дикая кошка, рванувшись к Штейнбергу, вцепилась пальцами в его рукав. — Ты лжешь, мерзавец, собака! Чтобы наша барышня, наша красавица, умница… могла…
Но Рудольф даже не взглянул на нее: он так сильно тряхнул рукою, что Марго, как слабая былинка, отлетела в сторону.
Затем, обращаясь к одной Вере, он заговорил снова с циничной усмешкой на лице:
— Вы-то, надеюсь, поверили мне, милейшая фрейлейн, поверили тому, что ваша гордая, прекрасная сестра — Бонч-Старнаковская — а не кто-нибудь другой, заметьте! — променяла на меня господина Мансурова, что она…
— Это — ложь, ложь! Не смейте клеветать на Китти! Низкий, грязный человек! — вне себя закричала Муся и разразилась плачем.
— Вы можете не верить, и я не стану настаивать на этом! — пожав плечами, продолжал Штейнберг. — Мне важно только, чтобы в это поверили вы, фрейлейн Вера. И по вашим глазам я вижу, что вы поверили мне. Правда, о таких случаях честные люди не говорят громко. Но со мною здесь, в этом доме, поступили бесчестно, и это дает мне право в свою очередь не считаться с условностями. Итак, я утверждаю, что девушка из прекрасной русской дворянской семьи, кичившейся своим именем, своими связами, аристократическим происхождением и своим положением в свете, была моей любовницей. Ваш отец не пожелал отдать вас мне в жены и оскорбил меня, как последнего вора и преступника. Ну так вот я и взял у него за это большее: взял в наложницы его гордость, его старшую дочь, вашу сестрицу Китти!
— Да замолчите ли вы, проклятый? — сорвалось с губ Маргариты, тогда как Вера угрюмо молчала с застывшим, как мрамор, лицом.
— Еще одно оскорбление, и я прикажу вас расстрелять, сударыня! В моем лице вы оскорбляете мундир всей нашей прусской армии, — произнес Рудольф спокойно, причем его выпуклые глаза обдали Маргариту уничтожающим взглядом, а рука стиснула эфес сабли.
— Молчите, Марго, молчите, ради Бога!.. Верочка! Верочка!.. Что ты? Что с тобою? — испуганно спрашивала Муся, бросаясь от сестры к Маргарите.
Вера смотрела в самые зрачки Штейнберга и вдруг неожиданно и тихо-тихо как подкошенная упала на пол.
— Это ничего. Маленький обморок. Поваляется и встанет. Во всяком случае, такое ничтожное обстоятельство не должно мешать, господа, уже намеченной программе вечера, — небрежно бросил Штейнберг, обращаясь к своим коллегам. — Насколько я понял вас, эти девчурки позволили оскорбить честь немецкого мундира? — после минутной паузы спросил он у них.
— Хуже, коллега, хуже! Они непочтительно выражались о его величестве, самом всемилостивейшем кайзере, — послышался чей-то нетвердый голос.
— Ага, так-то! Ну, в таком случае я заставлю их искупить эту вину, — продолжал Штейнберг, сдвигая брови. — Пусть кричат «ура» его величеству императору Германии и королю Пруссии.
— Или?
Рудольф, презрительно усмехнувшись, ответил:
— Да разве нет у нас солдат? Пускай расправляются с ними, как хотят!
* * *
В полутемной кухне горела одна только свечка. Рожок на стене был разбит кем-то из пруссаков под пьяную руку вдребезги. Несколько драгун, только что покончив с обильным возлиянием и ужином, были совершенно пьяны и собирались разместиться на покой.
Из комнат к ним сюда доносились крики, шум и женские отчаянные слезы под аккомпанемент пьяного хохота.
Солдаты прислушивались к ним несколько минут.
— Уж эти господа офицеры, — смеясь сказал сивоусый унтер, — умеют, нечего сказать, провести времечко! Давеча обходили все комнаты и забирали все, что можно забрать; оправдывались все реквизицией. Недурное дело — эта реквизиция, право! Управляющего приказали расстрелять за то, что он отказался открыть конюшню, прислугу выгнали из дома, а теперь потешаются вволю — пугают здешних хозяек дома.
— Умора! — воскликнул другой солдат. — Штабный офицер тут приехал, так тот все здесь знает, каждую нитку. Он, говорят, и отряд на постой пригласил сюда, и указывал нашим, где и что спрятано, а теперь никак допрашивает хозяек, не осталось ли у них еще что-нибудь.
— Какое допрашивает, — вмешался в разговор третий, — просто душу отводит. Подходил я послушать у дверей. Штабный велит девчонкам «ура» кричать нашему кайзеру и армии. Ну а те упрямятся. Смех, да и только!
— Стойте, стойте, кажется, идут сюда… Соддаты вскочили и вытянулись в струнку. Уже под самыми дверьми были слышны слезы, мольбы и вопли женщин, а громкий мужской голос, взбешенный и грубый, кричал на весь дом, на всю усадьбу:
— Эй, вы, кто тут есть! Сюда, драгуны! Живо сюда!
* * *
Эти крики, дикий хохот и угрозы достигли слуха больной Софьи Ивановны. Пламя костра, разложенного на дворе, освещало, как зарево, ее комнату.
В спящем сознании больной медленно и лениво проползла мысль-догадка:
"Где-то горит!.. Где-то пожар! Надо сейчас же, скорее поднять, разбудить дочерей".
Больная сделала усилие встать. Как тяжело двигаться. Она встала с постели, кое-как нашла и надела капот… туфли.
— Китти… — жалобно прошептала она, — где ты, голубка?
Вдруг остро и назойливо толкнулась в спящее сознание мысль: "Это Китти кричит… Зовет на помощь… Надо идти, скорее идти… надо… помочь!"
Медленно и тяжело шагая, Бонч-Старнаковская пошла, хватаясь за встречные предметы, ища в них поддержку.
Она тихо вышла из спальни, миновала коридор, затем комнату Китти, приоткрыла дверь и заглянула туда. Там не было никого, комната была пуста. А крики по соседству все усиливались.
"Теперь Мусичка как будто кричит, — с трудом соображала больная, — ее голосок… Зовет на помощь".
— Не пущу! Не дам в обиду, не дам! — пролепетала она и живо распахнула дверь, за которой звенел раздирающий душу крик.
Пятеро пьяных, едва имеющих силы стоять на ногах, немецких солдат метались по буфетной, распластав руки, стараясь схватить две тонкие, маленькие фигуры, то и дело быстро ускользавшие у них из-под пальцев.
Муся и Варюша, несколько минут тому назад втолкнутые к пьяным драгунам, с отчаянием кружились по комнате, стараясь миновать руки солдат.
"Нет, нет! Лучше смерть, нежели этот ужас, — вихрем пронеслось в голове юной хозяйки Отрадного. — Ведь не побоялись же мы с Варей ослушаться их, не кричали же мы по их требованию «ура» Вильгельму. Так неужели же теперь мы задумаемся пред тем, что выбрать, неужели не сумеем предпочесть смерть позору?"
Муся, сделав последнее усилие, бросилась в угол, чтобы миновать сидящего на табурете немца.
Вдруг потные, противные руки схватили ее.
— А-а-а! — вырвалось воплем ужаса из горла Муси. — А-а-а… спасите, спасите!
Но огромная ладонь в ту же минуту зажала ей рот, а лоснящееся от пота лицо, дыша винным перегаром, низко-низко склонилось над ее лицом.
— Ну-ну. Зачем так кричать? Зачем так биться? Лучше обними меня, сердечко мое! — прозвучал над нею пьяный голос.
— Верочка! Верочка! Спаси! Марго! Варя! — иступленно крикнула Муся, отчаянно отбиваясь.
В следующий миг такой же крик, но более жуткий, пронесся по всем закоулкам большого дома.
Дверь буфетной распахнулась наотмашь, и все находившиеся здесь солдаты замерли с испуганно вытаращенными глазами.
— Кто это? Дьявол? Привидение? Ведьма? Исчадие ада, наконец? — послышались возгласы.
Она была действительно страшна, эта женщина: худая, высохшая, как скелет, в белом, сидящем на ней, как на вешалке, халате, с седыми волосами, разбросанными по плечам, с жуткой, блуждающей улыбкой и с совершенно пустым взглядом безумных глаз. У нее было желтое, как воск, лицо и огромные, распухшие ноги. И, улыбаясь своей страшной улыбкой, она лепетала одно и то же:
— Не пущу, не пущу, не пущу!
Всю жизнь будут помнить девушки тот ужас, ту панику их мучителей в минуту появления Софьи Ивановны. Они заметались по буфетной, отыскивая оружие, бормоча что-то бессвязное.
Варя и Муся воспользовались этой сумятицей и выскочили через буфетную на террасу, а оттуда — в сад.
Там они притаились в отдаленном углу в стенах старой беседки, неподалеку у пруда.
* * *
Вера очнулась и открыла глаза, когда октябрьское утро уже светило в комнату. Она с трудом подняла голову.
Всюду вокруг валялись пустые и битые бутылки, коробки от консервов, куски хлеба, следы ночного пиршества отпечатались на всем. Но в комнате никого не было; только на одном из стульев лежала второпях забытая кем-то из немцев каска.
Девушка с трудом приподнялась на ноги и, едва находя в себе силы двигаться от слабости, вышла в гостиную. Здесь все носило следы разрушения и погрома: разбитое зеркало, сорванные портьеры, исчезнувшие ковры.
И в ее комнате, и у Китти, и у девочек все было также разграблено и опустошено. Были выдвинуты ящики комодов, где теперь и следа не оставалось от белья, опустошены платяные шкафы и буфеты; все они наглядно говорили о происшедшем здесь.
Двигаясь, как автомат, Вера пошла дальше, в спальню матери, и, к своему ужасу, не нашла в ней больной.
Она позвонила. Никто не явился на зов. Позвонила еще раз — то же молчание царило в доме, точно все вымерло в нем.
С ледяным холодом в сердце девушка прошла дальше, через парадные комнаты в людскую и осмотрела ее.
Там тоже не было ни души.
На пороге буфетной что-то резко белело на паркете.
Вера приблизилась к огромному, распластанному на полу предмету и с тихим стоном отступила назад. На нее смотрели незрячие, мертвые, уже успевшие остекленеть, глаза Софьи Ивановны.
Вера ничего не могла сообразить; мозг словно застыл у нее, и она почти без сознания опустилась на стул.
Прошло полчаса.
Постепенно Вера стала приходить в себя и сознавать все, что произошло.
— Все кончено, — проговорила она вслух самой себе, и странно прозвучал ее голос среди мертвой тишины дома. — Все кончено… Мама скончалась, Мусю они забрали с собою, конечно, Варю тоже. О, они не пощадили бедных детей! И все это наделал Рудольф, он — главная причина всех бедствий!
Губы девушки произносили это имя, и леденящий душу ужас волною захлестнул все ее существо. Рудольф, тот, кого она любила и кого ценила, как лучшее сокровище в мире, оказался величайшим негодяем, преступником, гадиной, о которой страшно подумать даже. Он никогда не любил ее; она теперь только поняла это.
И что он сделал с бедняжкой Китти? Да, сейчас она, Вера, знает, что из-за него случилось непоправимое за границей с ее сестрой. Недаром же Китти всю передергивало при одном имени Рудольфа в последнее время. А ее отказ Мансурову, беспричинный, ничем не вызванный отказ? А эта резкая перемена в ее внешности, ее внезапное поступление в отряд Красного Креста. Да, несомненно, злодей не солгал.
А если все обстоит именно так, то стоит ли жить после этого? Их мать умерла — может быть, умерла ужасной смертью, видя бесчестие младшей дочери. И Муси нет? Что они сделали с обеими девочками? Куда подевали их? И Марго нет тоже. Проклятый! Это он погубил их всех, он, когда-то любимый так мучительно, так нежно!
"Неужели же и теперь я люблю его?" — И Вера задрожала от одной этой мысли.
Любовь… Неужели еще не умерло в ней это чувство к заведомому негодяю и злодею? А если нет, так пусть же она погибнет, нежели жить дальше с этим полным ужасов адом в душе!
Она вышла из сада и побрела по знакомой аллее. Обрывки мыслей плыли вместе с нею в ее усталой, измученной голове.
Вот и пруд, холодный и молчаливый, с суровой ласковостью играющий на солнце. Голые ветлы отражаются в нем. И серое небо тоже.
Вера остановилась на берегу пруда, посмотрела с минуту в воду, и оттуда опять взглянуло на нее смуглое лицо с трагической складкой около рта, черные глаза, полные мрака, и сурово сдвинутые брови.
— Бабушка, это — ты? Иду! Иду к тебе, родная! — прошелестело над прудом.
Или то играл ветлами осенний ветер?
* * *
— Верочка! Вера! — послышался отчаянный вопль со стороны сада, и Муся, а за нею Варюша и Маргарита Федоровна побежали со всех ног к пруду.
Но Вера не слышала этого вопля, этого призыва живых. Ее душа уже заглянула за грани иного мира. Короткий всплеск, широкие круги на воде — и все было кончено.
Муся долго рассказывала потом, исходя в слезах, как увидели они Веру, как поняли, зачем она явилась сюда, как мчались предупредить несчастье и не успели спасти сестру.
Немцы ушли из Отрадного внезапно. Кто-то пустил слух, что идут казаки. Разграбив и забрав с собою все, что было возможно забрать и разграбить, они бежали.
После их ухода понемногу стала стекаться бежавшая в панике прислуга.
Тело Веры скоро отыскали в пруду и схоронили вместе с телом Софьи Ивановны — пока что, до поры, до времени — в саду усадьбы. Погребли рядом и жертву немецкого варварства, никому не сделавшую зла, управляющего усадьбой. Его флейта теперь замолкла навсегда.
С первою же представившеюся возможностью Муся с Варей Карташовой и Маргарита Федоровна, чудом спасшиеся от несчастья, поспешили уехать из этих жутких мест в Петербург, к убитому горем, вдвойне осиротевшему Владимиру Павловичу. Только там они узнали о поражении наглых тевтонов под Варшавой и беспорядочном отступлении немецкой армии.
Когда этот момент наступил, Владимир Павлович Бонч-Старнаковский с младшей дочерью вернулся в Отрадное за телами дорогих усопших и перевез их в столицу, в фамильный склеп.
* * *
Снова пестрый город, снова суета, движение, звонки и глухое завыванье трамваев, патрули, транспорты раненых, партии пленных — и огромное белое здание под флагом Красного Креста.
К этому белому зданию подъезжает простая сельская галицийская тележка без рессор, неистово грохочущая по мостовой.
— Сюда! Сюда! Остановитесь, пожалуйста! — взволнованно говорит молодая женщина, которую галичанин-возница подвозит к крыльцу.
Зина, прокружив с добрую сотню верст, прежде чем попасть снова в этот старый чудесный город, подъехала к крыльцу главного лазарета, где работает Китти. Когда она хотела пробраться на передовые позиции, ее не пустили. Анатолий ничего не ответил на ее письмо. Ей посоветовали уезжать обратно и переждать. Но, прежде чем попасть сюда, частью по железной дороге, частью в этой ужасной одноколке, пришлось долго кружить, избирая путь, не занятый войсками и обозами, отважно и безостановочно продвигающимися вперед. Наконец Зина попала снова в эти шумные улицы, но с какою ужасною тревогою на душе! Ни весточки, ни единого слова от любимого человека. Где он? Что с ним? Она ничего не знала о нем. Теперь оставалась последняя надежда на Китти. Хоть что-нибудь, да должна она была знать про брата!
Сердце Зины трепетало, когда она вошла в уже знакомый подъезд с развевающимся над ним флагом с Красным Крестом.
— Боже мой, Зиночка, на тебе лица нет, родная! — и Китти нежно обнимает кузину.
Ланская смотрит на нее и не узнает двоюродную сестру. Это — не Китти, а лишь ее тень. Как исхудала и изменилась она!
— Пустяки, работы много, — отвечает она на тревожный вопрос Зины. — Вот кончится война, отдохну, отосплюсь, растолстею. А ты-то… ты на себя взгляни, Зинушка! Милушка, или случилось что?
— Ужасно, Китти! Просто не знаю, что и подумать. Я ничего не знаю о нем. Я так и не видела маленького Толи.
— Зиночка!.. Так разве ты не знаешь? А я думала, что тебя уже известили, — смущенно роняет Бонч-Старнаковская.
— Чего не знаю? О чем известили? Что такое стряслось? Говори скорей, говори все!.. Ради Бога не мучь, Китти!
Китти отвечает:
— Зиночка, милая, успокойся! Толя жив. Успокойся, Зина, голубчик!.. Он только ранен. И он — здесь.
Китти, взяв двоюродную сестру за руку, ведет ее куда-то.
Но Ланская решительно не может дать себе отчет, куда ее ведут, не видит ни кроватей, ни раненых, ни санитаров, ни сестер, ни врачей. Только одно лицо, одни глаза она видит.
— Зи-и-на-а! — долетает до нее слабый, надорванный голос.
Лицо поражает своим измученным видом, своей худобой. Огромными кажутся глаза. Черная отросшая бородка, заострившийся нос, впалая грудь и крестик Георгия, приколотый поверх сорочки на этой исхудалой груди.
— Зи-и-на!
Ланская останавливается в двух шагах от постели, с минуту молча смотрит на это дорогое лицо, на впалую грудь, на крестик — отличие героя. И вдруг горячая волна безграничной нежности и муки ударяет ей в сердце, толкает ее к больному, бросает возле него на колени. Вслед затем, обхватив его руками, она, не будучи в силах сдержаться, плачет навзрыд.
Зина плачет долго-долго, со сладким отчаянием, с безнадежной радостью.
А раненый нежно повторяет на разные лады одно только единственное слово:
— Зи-и-на!
Наконец Ланская приходит в себя от легкого прикосновения его пальцев.
— Любимый мой, герой мой, счастье мое! Зачем ты тогда не приехал, не ответил, не позвал меня? Я страдала, потому что любила. Ведь я любила и люблю тебя, ненаглядный!
— Милая! Я не мог… Война… поручение… А потом… потом меня ранили, Зина, — тихо говорит Анатолий.
* * *
Теперь Зина сидит долгими часами у постели раненого. Скоро она повезет его в столицу. Безногий, обездоленный, он ей дороже во сто крат того здорового и жизнерадостного Анатолия, каким он был прежде. Теперь у нее в жизни новая, прекрасная цель: дать счастье несчастному, своей нежностью, заботами и любовью заставить его забыть о горе, отнявшем так много у него, такого еще молодого, полного жизни.
Китти не может смотреть без слез на эту трогательную пару. Она не ожидала от Зины, легкомысленной кокетки и эгоистки, какою у них считали в семье Ланскую, такого удивительного самоотвержения, такой жертвы.
И Китти припоминается другой подвиг самоотречения, другая жертва. Весь трагический ее роман с Мансуровым теперь постоянно проходит у нее в голове, особенно с тех пор, как Анатолий рассказал ей, кому он обязан своим спасением, кто подобрал его под пулями неприятеля, презирая опасность. О, этот великодушный Борис! Толя нескольво раз звал в бреду Мансурова и теперь все чаще и чаще говорит о нем. Из этих разговоров Китти вынесла вполне твердое убеждение, что ее встреча с Борисом теперь неизбежна.
И, действительно, вот они стоят один против другого. Китти не смеет поднять на него взор, и сердце ее полно отчаянья и любви.
Пользуясь краткой передышкой в работе, она тут, подле Бориса, приехавшего навестить Анатолия, пока их часть, меняя расположение позиций, идет мимо города.
Мансуров смотрит на опущенную золотую головку, на смущенные глаза и истаявшее личико, видит волнение и радость, охватившие Китти.
— Екатерина Владимировна, скажите! Ведь то был сон, мучительный и страшный кошмар?
Китти смущенно взглядывает на него.
— Да, кошмар, Борис, да!
— И вы не забыли меня?
— Никогда, Борис, никогда! — твердо отвечает Китти.
— А тогда, когда говорили те жестокие, те жуткие слова, тогда…
— Я говорила их против своей воли, Борис.
— И…
— И любила вас, Борис, не переставая, все время, все время.
Мансуров весь загорается радостью; от волнения он почти задыхается и лишь с трудом находит силы спросить:
— Дитя мое, так почему же?
Китти на минуту задумывается, видимо, борясь с собой. Наконец она тихо говорит:
— После, после, Борис. Я вам скажу об этом лишь тогда, когда окончательно исчезнет мой кошмар, когда дальнейшие труд, искупление, великая любовь и страданье за других окончательно сотрут мои собственные муки.
— О каком искуплении вы говорите, дорогая? Что бы ни было, какая бы страшная вина ни лежала на вас, я не смею даже говорить, заикаться о возможности прощения. Вы выше всего этого, Китти. И верьте мне, радость моя! Когда бы вы ни позвали меня, я приду к вам и почту за счастье, за особую честь назвать вас тем же, кем вы были раньше для меня.
— Благодарю вас, Борис. Я принимаю от вас это счастье, но пока, милый, дай мне довести мое скромное, маленькое дело, дай мне исполнить свою задачу до конца! Я должна на время забыть наше личное счастье и послужить тем, кто беззаветно идет на великий подвиг самоотречения, а там я — твоя, и уже навсегда, до могилы.
— Я буду ждать, Китти. Я запасусь терпением, дорогая, — говорит Борис, целуя бледные руки любимой женщины.
Они расстаются снова, но каждый уносит с собою радость облегченного страдания и пламя новой надежды.
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления