Онлайн чтение книги
Товарищи
На Юге
Роман
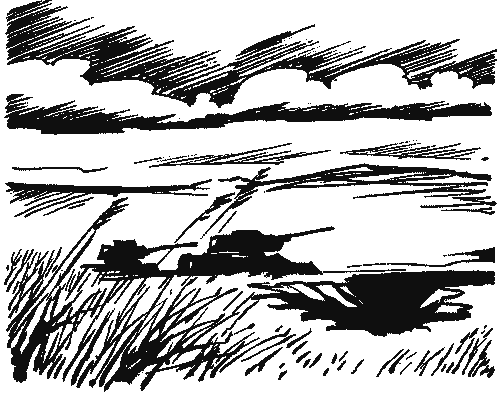
1
Генерал-майора Милованова шифровкой вызвали в штаб фронта. Шифровку принесли на офицерский ужин, устроенный в станице Слепцовской но случаю гизельского успеха в ноябре[10]Поражение кавказской группировки немцев под Владикавказом в районе Гизель — Новая Саниба в ноябре 1942 года.. Окна школы, в которой собрались офицеры, изнутри были заставлены листами картона, но полосы света, вырываясь из щелей, распарывали темноту. За окнами шумели голоса, раскатывался смех. Поодаль от школьного крыльца вперемешку стояли отечественные «эмки», трофейные немецкие «мерседесы», американские «виллисы». Посыльный с шифровкой, открыв дверь в большой зал, нерешительно остановился на пороге. Волны света хлынули ему в лицо.
В просторном зале стояли длинные столы под белыми скатертями, заставленные тарелками и бутылками. На дальнем краю вокруг командующего Северной группой войск Масленникова сбилась офицерская молодежь. Ближе к дверям теснились полковники и генералы. Сверкали в свете ламп ордена. Молодым, многие из которых только нашили себе полковничьи и генеральские знаки, недоставало осанки, присущей старшим по возрасту и по стажу. Густой, привыкший командовать бас покрывал шум:
— Горбом чины добывались. Семь шкур с тебя сдерут, пока новую лычку пришьют. Чтобы в старшие унтеры выслужиться, три года надо было лямку тянуть, если не все пять. И в Красной Армии я до командира дивизии двадцать лет по лестнице лез! Влезешь на ступеньку и оглядываешься. Теперь же можно лечь спать майором, а проснуться генералом. Достаточно выиграть бой под каким-нибудь хутором Пупыркиным.
— Как вы сказали, Александр Степанович?
— Под Пупыркиным, — повторил обладатель баса, тучный седенький генерал. Бравируя, он поглядел по сторонам.
Вокруг засмеялись.
На другом конце стола молодой полковник, изогнув короткую кирпично-красную шею, жаловался командующему Северной группой войск Масленникову:
— Я посоветовал ему все орудия стянуть к роще и ударить по шоссе, но он наотрез отказался. Почему? Я тоже спрашивал у него: почему? Он ответил, что… — полковник расстегнул воротник кителя, — достаточно уже послужил, чтобы выслушивать советы свежеиспеченных стратегов. Я попытался доказать ему, что атаковать село в лоб, по меньшей мере, бессмысленно, решало именно шоссе, но он повернулся ко мне спиной…
Масленников слушал, наклонив коротко остриженную голову. На губах его блуждала улыбка, говорившая, что ему давно известны и эти соперничество и ревность, вечный спор старого с молодым, привычного и устоявшегося с беспокойным, пугающим новизной.
В табачном дыму маячили разгоряченные лица, Милованов сидел по правую руку от Масленникова и беспрерывно доставал из портсигара папиросы, но не курил, а ломал их в пальцах, как стебли сухой травы. От двух выпитых стаканов кизлярского вина в голове слегка кружилось.
— Это же квасок, виноградное, сухое, — сидевший рядом член военного совета Фоминых еще подливал в его стакан из бутылки.
Глаза Милованова пробегали по освещенному задымленному залу, и настроение сидевших за столами людей теплыми токами передавалось ему, охватывая сердце. Хмель первого успеха под Владикавказом, незримо витавший над головами сидевших в зале и ходивших от стола к столу людей, пьянил их больше, чем вино, а сознание причастности к нему придавало их чувствам особый оттенок праздничности. Но еще больший блеск настроению сообщало сознание того, что, наконец, он наступил, этот долго ожидаемый момент, и теперь пришло время облегчить груз нравственной тяжести, лежавшей на плечах и пригибавшей к земле так, что нельзя было прямо взглянуть в глаза людям. «Пора», — передавалось в улыбках и взглядах, в словах и в движениях сидевших за столами офицеров и генералов и сновавших взад и вперед связных и оперативных дежурных.
— Теперь пойдем вперед, — перегнувшись за спиной Милованова, сказал молодой полковник, обнажая в улыбке белые крупные зубы.
— Главные известия надо ждать с Волги, — вполголоса бросил Масленникову член военного совета Фоминых. Масленников значительно взглянул на него. Тот, не мигая, открыто выдержал его взгляд.
Бесшумно входили и выходили адъютанты с тем обычным выражением на лицах, которое говорило, что это они, а не их начальники, имеют больше всего отношение к выигранному сражению.
— Под Пупыркиным, — повторил в дальнем углу стола седой генерал, тяжело откидывал на спинку стула свое тело и расстегнув китель, из под которого выглядывал угол белой сорочки.
— Гизель тоже не ахти какая столица, десятка два мазанок, а без него бы нам Владикавказа не уберечь, — подавшись через стол и сощуривая серые, казавшиеся в этот момент черными глаза, бросил сквозь шум Милованов.
Он сказал это негромко, но его услышали. Все оглянулись на него, сидевшего в самом углу зала в облаке дыма, — темнолицего и совсем молодого для генерала, с прищуренными глазами, затаившими черт знает какой блеск.
— Ну, Гизель, Гизель — совсем другое дело, — присмотревшись к этим глазам, сказал тучный генерал примирительным тоном.
— Туда немцы армию стянули, — подсказал молодой полковник.
Оробевший посыльный стоял на пороге с шифровкой в руке. Ближайший от двери генерал в расстегнутом кителе поманил его к себе пальцем.
— Кого тебе?
— Милованова, — перегибаясь и потрогав висевшую на боку кожаную сумку, сказал посыльный.
— А-а… — генерал небрежно указал рукой в угол.
Милованов вопросительно взглянул на остановившегося возле него посыльного и, взяв у него телеграмму, раз и другой пробежал ее глазами. В лице у него что-то дрогнуло.
— Не секрет? — заглядывая в телеграмму, поинтересовался Масленников.
Передавая ему голубоватый листок, Милованов наблюдал за выражением его лица. «Знает?» Он хотел спросить, но удержался по старой привычке ничего не спрашивать у начальства до того, пока оно само не сочтет нужным сказать. Масленников читал со скучающим видом. «Знает», — уверился Милованов.
Шифровка перешла к Фоминых и от него вернулась к Милованову.
— Разрешите ехать? — поднимаясь из-за стола, спросил Милованов.
— Да, поторопись, — Масленников протянул ему руку.
— Не по пословице, с бала на корабль получается, — сострил Фоминых.
В школьных сенях дежурный помог надеть шинель, распахнул дверь на крыльцо. Ослепила темнота. Застегивая шинель, Милованов постоял на крыльце, всматриваясь. На южной окраине неба, за полукругом обступивших станицу черных тополей, мягко светился горный хребет. Правее в небе смутно трепетали розовые зарева. Оттуда натекал плотный артиллерийский гул.
«Под Эльхотово», — определил Милованов.
Слева, снизу, приходил шум Терека, стесненного ущельем.
«Где воюем!» — уколола мысль.
— Зоя! — крикнул Милованов.
Черная «эмка», разбрызгивая грязь, отделилась от стоявших в отдалении машин и, очертив полукружье, круто развернулась у крыльца. Лязгнула дверца.
Садясь в машину и заворачивая внутрь полу брошенной на спинку сиденья черной лохматой бурки, Милованов спросил:
— Откуда ты себе такое странное имя добыл? Всем человек как человек, а зовут тебя, как барышню.
— Крестили Зиновием, а и семье звали Зоей, — охрипшим от сна голосом ответил шофер.
Дорога круто поднималась в горы, то прижимаясь к скалистой стене, то соскальзывая к самому обрыву и как будто все время заматываясь вокруг одной и той же вершины, которая ближе других выступала из ночи на светло-синем небе. Покачивало на рессорах. Милованов дремал, закутавшись в бурку. Проснулся оттого, что застыли ноги. Сквозь стекла внутрь кабины струился чистый, голубовато-белый свет вечных снегов, лежавших справа и слева от дороги. Зубчатый главный хребет был совсем рядом. Протяни руку — и достанешь..
— Крестовый перевал, — затормозив, сказал шофер. Милованов вышел из машины, разминая затекшие ноги.
Ночь опахнула сухим морозным воздухом. С тихим шорохом падал снег, вспыхивая и потоках света фар.
Внизу непроглядно простиралась ночь, и там где-то во мгле осталась черта фронта. Уже не слышно стало шума Терека, вдоль которого бежала она.
«Как живут за этой чертой люди? Не разуверились ли еще? Ждут?»
Тупо заныло сердце. «Здесь же реже воздух», — вспомнив, заключил Милованов. Быстрыми шагами пошел назад к машине.
Весь остаток дороги не сомкнул глаз. Справа над дорогой все время нависала громада Казбека, слева угадывался отвесный обрыв. Них ни снега кружились впереди машины.
2
В штаб фронта приехали утром. Адъютант с припухшим, покрытым тенью серой усталости лицом пошел доложить командующему фронтом. Мягкий темно-малиновый ковер скрадывал шаги. В приемной устойчиво держался запах табака и еще чего-то тонкого и пряного, чем пахнет только на Кавказе. Было еще рано, лишь один полковник в черной кубанке с белым верхом и в синем, откинутом на спину башлыке, должно быть, дожидаясь приема, дремал, уронив голову на подоконник.
За окном по светло-голубому небу пробегали табунки облаков, надвигаясь на вершины гор и как будто надламывая их. Казалось, вот-вот они рухнут.
Дверь в кабинет командующего фронтом была приоткрыта. Милованов слышал, как знакомый, хрипловатый голос сказал:
— Зови.
— Входите, — открывая дверь и сторонясь, сказал адъютант.
— Разрешите? — останавливаясь на пороге, спросил Милованов.
— Да, да, — нетерпеливо повторил командующий.
Он стоял спиной к двери и, зажав в руке большой, толстый карандаш, приподнимаясь на цыпочки всем своим большим, тяжелым туловищем, тянулся к карте, которой была завешена стена кабинета. По карте справа налево и сверху вниз бежала красная черта, изгибаясь, завязываясь в узлы и опять расправляясь, делая порой резкие скачки и повороты. Ее пересекали красные и синие стрелки; вся карта была испещрена этими стрелками, кружочками и флажками, которые горели на ней в лучах заливавшего стену утреннего солнца. На столе лежала другая карта, поменьше. Командующий отвернулся от стены и наклонился над ней. Кивком головы поманил к себе Милованова.
Милованов остановился сбоку, заглядывая через его плечо. Командующий был выше его, и Милованову надо было вытягивать шею, чтобы увидеть через его плечо карту. Приподнимаясь на носках, он скашивал глаза на спутанные седеющие волосы и бессонное отечное лицо с рыхлой кожей. На секунду вдруг представил себе этого человека совсем другим — с черными пушистыми усами, каким знал его в молодости в Первой конной.
Карандаш командующего бежал по карте, и Милованов неотступно следил за ним, ожидая, что он пробежит вдоль Терека до низовых станиц и здесь остановится. Но он отвесно поднялся вверх и, минуя желтые прикаспийские степи, обогнув Астрахань, круто скользнул по Волге влево до самой излучины, где она почти сходилась с дугой Дона. Здесь бег карандаша оборвался, но ненадолго.
Командующий, впервые отрывая от карты глаза, вкось поднял их к Милованову и резко отчеркнул междуречье с двух сторон стрелами. В самой глубине донских степей он вдруг сомкнул их.
— Началось? — почему-то шепотом спросил его Милованов.
— Идет уже второй день. Окружение группировки Паулюса…
— Завершено? — быстро спросил Милованов.
— Горяч, — командующий усмехнулся и, разогнувшись, обошел вокруг стола, опустился на подушку черного кожаного кресла. — Садись, он указал на другое, точно такое же кресло, стоившее напротив. Впрочем, скоро мешок будет завязан. И даже не мешок, а, как говорят на Дону, целый чувал.
— Значит, и мы… — осторожно начал Милованов.
— Догадлив, — командующий рассердился. Немцы теперь начнут удирать отсюда. Между Сталинградом и Ростовом совсем узкий проход и он может захлопнуться. Есть уже первые симптомы. Двадцать третья дивизия ушла в район Котельниково. Туда же уехал и сам Манштейн[11]Манштейн — командующий гитлеровскими войсками на Северном Кавказе. После окружения сталинградской группировки Паулюса был поставлен Гитлером во главе бронированного кулака, который, наступая в направлении Котельниково, должен был извне прорвать кольцо окружения.. По всей видимости, здесь они попытаются нанести удар с фланга. И мы должны их…
— Упредить?
— Именно ото я и хотел сказать. Могу сообщить: в Ставке не только надеются, но твердо считают, что нажим здесь должен сковать их маневр и облегчить задачу нашей армии там. Главное — не дать оторваться. — Встав с кресла, командующий обошел стол и, вынув из ящика лист бумаги, протянул Милованову — Читай.
Вернувшись в кресло и положив руки на кожаные подлокотники, склонив голову набок, он стал молча смотреть, как Милованов, держа лист в руке на отлете и чуть откинув назад смуглую, будто отлитую из темного чугуна голову, прищуренными глазами пробегает строчки:
«Сформировать Донской казачий кавалерийский корпус в составе 1-й и 2-й гвардейских Донских казачьих дивизий, 6-й кавалерийской… и частей усиления. Командиром корпуса назначить генерал-майора Милованова…»
За окном все так же бежали облака, наступая на белые вершины хребта, величаво сиявшего в лучах утреннего солнца. Ярче разгорались огоньки флажков, усеявших карту. В дверь заглянул адъютант, удивленный тишиной в кабинете.
— Ну как, доволен? — пошевелив свое грузное тело на пружинах, спросил командующий, которому уже надоело сидеть молча. И сердито попенял: — Что же ты? Или, может быть, нет?
Черные строчки прыгали перед глазами Милованова: «…корпус… в составе… и частей усиления…»
И его мысль уже заработала в этом одном направлении. Нет, он никогда не задавал себе вопроса: доволен или недоволен? О чем спрашивает этот опытный и хитрый человек, который хорошо знает, что здесь не может быть двух ответов? Приказ есть приказ. Что за корпус ему дают и что скрывается за словами «частей усиления»? Кто командует дивизиями и полками, как одеты, обуты люди? Конец ноября, нужно подвезти фураж, поставить лошадей на зимнюю подкову. Милованов вспомнил, что рассказывали ему о гололедице в этих местах. Разумеется, все упирается в людей. По какому образцу формировался корпус, или он только называется казачьим? Ясно, что его сразу введут в бой, и все придется утрясать в движении, на марше. На кого из командиров дивизий можно рассчитывать больше, а на кого меньше?
— Чаю! — громко крикнул командующий в раскрытую дверь кабинета. Разгадывая сомнения Милованова, пояснил: — Первой дивизией командует Сергей Ильич Рожков, урюпинский казак. Летом под Кущевкой его казаки тринадцатую танковую дивизию немцев хорошо потрепали. Второй — Шаробурко. Его на коротком поводу держи. Шестой — Мирошниченко Кузьма Романович. Он у меня перевалы прикрывал, с тирольскими стрелками лицом к лицу. Выстоял. У них с Рожковым, похоже, ревность. Комиссара пришлю тебе, начштаба. Есть у меня здесь один полковник на примете. Я его тоже вызвал.
Ординарец, неслышно ступая по ковру, принес на подносе два стакана чаю. Командующий придвинул один стакан Милованову и, отхлебнув из своего стакана, спросил:
— Ты командира четвертого кубанского корпуса генерал-лейтенанта Гусаченко знаешь?
— Слыхать слыхал, — придерживая стакан на блюдце на весу, покачал головой Милованов.
— Со временем узнаешь, — загадочно сказал командующий. — Вы теперь с ним соседи. Узнаешь, — повторил он и встал, отодвигая кресло. — Засиделся я с тобой. А тебе надо уже на месте быть. На аэродроме тебя ждет самолет, полетишь в Кизляр. Погоди! — крикнул он пошедшему к двери Милованову. — Первоконникам из своего корпуса от меня привет передай.
Милованов вышел в приемную. Со стула, стоявшего возле окна, поднялся полковник в черной кубанке и вдруг шагнул ему навстречу. Милованов, мельком скользнув взглядом по его крупной, плечистой фигуре, остановился.
— Гордеич? — нерешительно спросил полковник.
— Ванин! — Милованов протянул к нему руки.
Обнимаясь, они похлопывали друг друга ладонями по плечам. Полковник огромными руками сжимал плечи Милованова, радостно глядя на него сверху вниз.
— Какими судьбами? Откуда? Худой, еще больше почернел.
— Зови, кто там еще! — гулко крикнул адъютанту голос командующего из кабинета.
— Прошу, — сказал адъютант полковнику.
— Сейчас, — полковник беспомощно оглянулся на дверь. — Ты посиди здесь минут пять, — сказал он Милованову.
— Некогда. Спешу на самолет. Расскажи в двух словах о себе. Ты тридцатой командуешь?
— Теперь уже откомандовался… — ответил Ванин. Лицо его омрачилось. — Прислали командиром одного старичка, а меня оставили у него заместителем. Он до этого в своей республике наркомом был, к коллегиальности привык. Боевой приказ отдавать, а он соберет коллегию и совещается. Я взвыл, и меня отпустили оттуда.
— Куда теперь? Свободен?
— Как тебе сказать… — неопределенно начал Ванин.
— Идите, — настойчиво сказал за его спиной адъютант.
— Пока нигде, — Ванин с ненавистью оглянулся на него. — Сватают начальником штаба в какой-то новый кавкорпус, кажется, в пятый. Еще попадешь опять под начальство к какому-нибудь конторщику, не приведи господь. Ты, Алексей Гордеевич, случайно не знаешь, кто в пятый назначен?
Милованов смотрел на него снизу вверх, улыбаясь.
— Постой, постой! — в озарении загремел полковник.
— Не шуми, — спокойно сказал Милованов. — Сейчас же иди к командующему и принимай назначение. Я полечу вперед, а ты оставайся здесь, кое-что утряси. Едем на голое место. Надо отгрузить снаряды, заказать чекмени, шаровары с лампасами. Мы теперь с тобой — казаки. — По его лицу нельзя было понять, шутит он или говорит серьезно.
— Есть, товарищ генерал, — вытягиваясь перед ним, ответил Ванин.
— Ухналей запаси, уздечки закажи, седла. Протолкни цистерны с горючим, — продолжал Милованов.
— Есть, — повторил полковник. Он стоял перед ним навытяжку, с официальным лицом.
— Зови! — нетерпеливо крикнул голос командующего из кабинета.
— Я тебя буду ждать, Ванин. — Милованов взял его за плечи, и, повернув, подтолкнул в спину. Улыбаясь, смотрел, как тот на цыпочках бросился по мягкому ковру к кабинету, развевая крылья башлыка, придерживая шашку.
3
Он ощупью пробирался в темноте по железнодорожному полотну, среди стоявших на рельсах длинных составов и грудившихся сбоку них на земле штабелей ящиков и тюков, натыкаясь на стрелки, обходя угольные ямы и подлезая под большие четырехосные платформы, слепо разыскивая во мраке тупичок, в котором должен был стоять вагон командующего войсками Северной группы.
На платформах стояли высоченные армейские грузовики, укрытые брезентом танки, пушки с нахлобученными на них чехлами. В вагонах переступали ногами лошади, били копытами в дощатые стены.
Запахи сена, бензина, конского навоза, машинного масла, угля смешивались в один густой запах прифронтовой магистрали. Плотным облаком висел он над стрелками и тупиками, над эшелонами и пристанционными постройками. Машинисты уходивших отсюда эшелонов уже далеко в степи включали закрашенные синей краской фары.
Потянувшись рукой к платформе, Милованов выдернул из тюка сена стебелек. Ноздри обжег горький и свежий аромат. Сено было еще не старое, степное.
Выходя к тупику, стал огибать стоявший на пути без паровоза длинный состав. У самого хвоста состава услышал ругань, возню. В темноте копошились фигуры, постукивал автомобильный мотор. Милованов разглядел контуры стоявшей у вагонов грузовой машины.
— Ты не намеряйся, а вдарь! Спробуй разок! — кричал хриплый голос.
— И ударю. Ты фрица пугай, если тебе автомат даден.
— Я есть кто такой? Часовой на посту, и но уставу мне все должны подчиняться. Отступи, ну?!
— Хоть ты и часовой, а толком скажи — ото сено чье?
— Первой казачьей дивизии сено. Нам его не нюхать.
— А первая казачьи, позволь спросить, к кому принадлежит? Не к четвертому Кубанскому?
— Вспомнил. Сейчас у нас свой корпус есть, Донской. Выкусил? Не лапай, говорю.
— Нет, погоди. Вы от нас уходите, а сено зачем берете?
— Вашего мы не берем. А ты как же хотел, отдай жену дяде…
— Значит, ты на приказ начальства начхал?
— У нас свое начальство.
— Кто, позволь узнать?
Пауза. Затем первый голос совсем тихо:
— Дурья башка! Теперь тут, может, какой шпион под вагоном сидит. Гвардии генерал-майор…
— А у нас гвардии генерал-лейтенант… Кто же старше?
— Для меня свое начальство старше. Не дам сена. Отойди на десять шагов.
Третий голос с борта грузовика бросил:
— Брось ты его, Евстигней, уговаривать! Бери и все!
Милованов выступил из темноты:
— По чьему приказу берете?
Испуганное движение у платформы. Тишина. Недобрый вкрадчивый голос:
— А вам какая до этого печаль?
Из темноты надвинулась на него громадная фигура. Милованов ждал, положив руку на отворот шинели. Приблизившийся вплотную человек, наклонясь, увидел блеснувший луч золоченой звезды и отшатнулся.
— Ни одного тюка сена брать не разрешаю, — сказал Милованов.
Сидевший на борту грузовика третий человек, как мышь, юркнул в кузов, лег на дно.
— Нельзя так нельзя, — заискивающе сказал тот, кого звали Евстигнеем. — У нас своего сена до Берлина хватит. Трогай, Иван…
Хлопнула дверца, заскрежетала включаемая скорость. Грузовик тронулся с места и, переваливаясь с боку на бок, стал переезжать через рельсы. Удаляясь, замирал шум мотора.
«Этак могут и совсем оголодить корпус», — обходя эшелон и направляясь к тупику, думал Милованов. С трудом отыскав в тупике среди других вагонов пассажирский вагон командующего войсками группы, стал подниматься по ступенькам. Но, взявшись рукой за гладко отполированный поручень, на секунду остановился, оглядываясь на забитую эшелонами, наполненную гомоном людей, конским ржаньем и стальным лязгом, озаряемую искрами, вылетавшими из труб паровозов, затерянную в прикаспийской степи станцию Кизляр.
«Где воюем!»
С силой толкнул внутрь тяжелую дворцу вагона. Вместе с Масленниковым в вагоне был Фоминых. Он первый протянул руку Милованову, дружелюбно улыбаясь.
— Ну здравствуй, походный атаман.
Масленников сидел в глубине вагона у столика, склонив над расстеленной на столике картой коротко остриженную голову. Сунув шершавую ладонь, попенял:
— Запоздал.
— Только с аэродрома.
— Ну садись. — Масленников зашуршал картой. — Ты, Милованов, может быть, думаешь, что мы дадим твоему корпусу время на формирование, укомплектование и так далее…
— Этого я не думал, — прямо взглянув на него, сказал Милованов.
— Вот и правильно. Время не ждет. Все придется утрясать на марше. Твой корпус вслед за танками немедленно вводится в прорыв. Ему поставлена задача… — Масленников говорил отрывисто, взгляд его колючих глаз то впивался в карту, то, поднимаясь к окну, буравил завесу ночи, — скрытно от противника пересечь бурунную степь и сосредоточиться правее Моздока. Расстояние… — он взял спичку, отмерил по карте масштаб. — В два дня уложишься?
— Я еще совсем не знаю корпуса. Как с лошадьми, с транспортом?
— Слушай дальше. На правом фланге у тебя будет…
— Кажется, идет, — повернув голову к двери, сказал Фоминых. В коридоре послышались шаги. — Как это, Милованов, на Востоке говорят: «По шагам идушего узнаю намеренья его».
У самого купе шаги затихли, дверь, завизжав, отодвинулась. На пороге стоял высокий генерал в белой бурке. Из-под широких бровей зорко оглядели собравшихся в купе живые, навыкате глаза.
— Здравствуй, Гусаченко, — снопа первый протягивая вошедшему руку, сказал Фоминых. — Знакомься с Миловановым.
— Очень рад, — низким голосом сказал вошедший и сел рядом, расстегивая на груди крючок бурки и слегка откидывая ее. Темно-зеленый китель туго охватывал его начинающую полнеть фигуру. Усы опушила изморозь.
Масленников смотрел в окно. Не оборачиваясь, спросил у него:
— Ну как твой Ачикулак[12]Ачикулак — районный центр в прикаспийской степи.?
— Твердый оказался орешек, товарищ командующий, — вставая, ответил Гусаченко. Бурка, скользнув с его плеч, мягко упала на пол вагона.
— Сиди, — движением руки остановил его Масленников.
— Противник стянул сюда до восьмидесяти танков и двух пехотных дивизий. Вдобавок доты, колючая проволока в три ряда, сплошь минированные подступы. — Гусаченко говорил с уверенностью человека, хорошо знающего, о чем говорит.
— Я твои донесения читал, — перебил его Масленников. — Что же ты предлагаешь?
— Я уже излагал свою мысль. — Гусаченко тронул пальцем оттаявший ус. — Мы клюем по зернышку, а здесь нужен массированный удар с выходом на просторы Ставрополья. Одного корпуса мало. Я предлагаю свести два кавалерийских корпуса, придать им мотомехчасти и…
— Нечто вроде конармии? — снова перебил Масленников.
— А гвардии генерал-лейтенанта Гусаченко командующим? — улыбаясь, вставил Фоминых.
— Это вопрос уже второстепенный, — не смутившись, ответил Гусаченко. — В эту конномеханизированную… группу могли бы войти Кубанский, затем… — он повернулся к Милованову. — Я ведь, можно сказать, крестный отец Донского корпуса. Вы у меня два лучших хозяйства забрали.
— Я бы вас попросил, чтобы этим хозяйствам сено оставили, — встречаясь с его взглядом, сказал Милованов. — Приехали на машинах, разгружают эшелоны…
— Я такого приказа не отдавал. Это ошибка. Сегодня же выясню, — округлил глаза Гусаченко.
Фоминых переводил взгляд с одного на другого, пряча в уголках рта усмешку. Масленников легонько побарабанил подушечками пальцев по столу.
— Да, да, придется вернуть. Ты, Гусаченко, эту свою повадочку брось…
— Да я, товарищ командующий… — яростно взмолился Гусаченко.
— Хорошо, об этом потом. Итак, направление удара…
Четыре головы склонились над картой.
Час спустя Милованов вышел из вагона. Сеяла изморозь. Напротив с четырехосной платформы светились из темноты угольки двух папирос, то и дело перебиваемый кашлем голос говорил:
— Догнали нас, Дмитрий, уже до самого Терека. Уперлись задом в гору, а дальше куда? К персам?
— Там нам делать нечего, — отвечал молодой, ломающийся голос. — Вот подождите, папаша, скоро они отсюда начнут еще быстрее удирать, чем сюда шли.
4
Лезвием света, разрывающего мглу, выхватывало солончаковое затвердевшее озеро, гряду придорожных бурунов, темную бахрому верблюжьей колючки. Шумел под колесами песок. То впереди взмоет сова, то замечется и скатится на обочину ослепленный заяц.
— Из ружьишка бы, Луговой, а? — Подушки заднего сиденья заскрипели, тяжелое тело заворочалось на пружинах.
Дорогу перепахали следы машинных скатов, колеса подвод, изрыли копыта.
— Выйди, Луговой, взгляни, еще не хватало на немцев напороться.
Тот, кто сидел впереди рядом с водителем, вышел из машины, опустился на корточки. Сноп фары осветил фуражку с красным околышем. В тишине, наступившей за последними всхлипами мотора, слышно стало, как неистовствует в ночной степи ветер. Песок с шорохом осыпал машину. Там, где только что бежала колея, — уже непроторенное бездорожье, затянутое; серой шевелящейся пеленой.
— Верблюжий помет, гусеница… — ползая на коленях, Луговой разрывал руками песок.
— Что ты там бормочешь? — тоже вылезая из машины, сердито спросил его спутник. — Мне точно известно, наши танки здесь не ходили. Возьми мою карту, компас, свизируй.
Теперь они уже вдвоем нагнулись над дорогой, развернув в полосе света карту. Спутник Лугового был на голову ниже его, но и шире в плечах.
— Держать на северо-запад, — сказал он, разгибаясь и отдуваясь.
— Строго на север, — сворачивая карту, сказал Луговой.
— Нет. — В голосе его спутника привычка командовать и безоговорочная власть.
Ночная степь прогоркло пахла песками.
— Проклятый бурунный край, — снова усаживаясь на заднем сиденье машины сказал спутник Лугового.
Луговой дотронулся до плеча уютно придремавшего на баранке руля шофера.
— Приказано на северо-запад.
Вскинув голову, тот взглянул на него хмельными от сна глазами и сразу до отказа выжал газ. Машина сорвалась с места, опять поток света зашарил среди бурунов.
— Какая ни есть, а степь, — поскрипев мягкими пружинами сиденья, сказал спутник Лугового. — Есть где разгуляться глазу. Отсюда прямая дорога на Дон. Через Куму, Ставрополье, Сальск.
Луговой открыл боковое стекло. В машину ворвался рев ветра, песок захлестал но лицу.
— Водитель, еще газу!
— Некуда больше, товарищ майор. Не тянет.
— Что-то мы долго едем? — спросил за спиной Лугового озабоченный голос.
— На северо-запад, товарищ генерал-майор…
Преодолевая песчаные перекаты, мотор задыхался и опять начинал со всхлипами набирать обороты.
— Не окажись я в этот момент в отделе кадров фронта, заслали бы тебя теперь в пехоту.
— Все могло быть, товарищ гвардии генерал-майор… Газу!
— Песок, — сказал шофер.
Кочующая по небу луна прорвалась сквозь туман, и сияние разлилось по степи. Запылали солончаки, заискрилась полынь. Единственная колея уходила вперед по голубовато-белым пескам, как по снегу.
— Твои остались в Ростове? — тихо спросил генерал.
— Там, — не сразу ответил Луговой.
— Мать?
— И сестра.
— У меня тоже мать в станице, — глухо сказал за его спиной его спутник. — Наш дом в Урюпинской на самом берегу. — И уловив движение Лугового, оживленно продолжал. — Донщину называли казачьей Вандеей, а из нашей станицы вся молодежь к Миронову и к Буденному ушла. Говорят, традиции к старине тянут, но смотря какие традиции.
Темнота скрыла улыбку Лугового. Теперь его комдив, генерал-майор Рожков, попал ногой в стремя.
— А походная закалка? Любовь к коню? Что же, и от этого отказаться?.. — говорил генерал, разгораясь от своих слов и повышая голос.
Вдруг он осекся. Откидываясь назад, вцепился руками в боковые стенки машины.
— Луговой!
Впереди взмыла к небу и склонилась на тонком стебле, как колос над степью, ракета.
— Водитель, право руля!
Машина, круто разворачиваясь, уходит прочь из освещенного дрожащим светом круга. На бурунах ее бросает, как на волнах.
— Гаси фары! Газу!
В рев застонавшего мотора врывается треск выстрелов. Короткие удары зачокали по металлу кузова.
— У вас все в порядке, товарищ генерал-майор? — оборачиваясь, с беспокойством спросил Луговой.
— Я бы их поучил, как стрелять, — в голосе генерала Рожкова презрение.
Выстрелы позади заглохли. Осыпались и погасли зерна ракеты. Дорога взбирается на гребень. Поперек дороги лежит что-то большое и темное.
— Лошадь. По масти донская. Опоили, должно быть, стервецы. Едем, Луговой, правильно.
Был еще один в машине человек, но он всю дорогу так и проспал в углу заднего сиденья. Убаюканный покачиванием рессор, не слышал ни выстрелов, ни того, о чем разговаривали Рожков и Луговой. Счастливым свойством обладал старший лейтенант Жук — мгновенно засыпать в машине. Бормочет мотор, за окнами отлетающая назад мгла, бегут впереди фары но дороге. На рессорах покачивает, как на волнах.
Внезапно сразу за волнистым гребнем открылись огни. В бурунной степи горели сотни, а может быть, тысячи костров. Снопы искр летели в небо, задернутое пеленой густого тумана и дыма. Ветер приносил оттуда запах горелого курая.
Луговому был уже знаком этот запах. Сквозь стекло машины он всматривался в степь, с тревогой думая, что туман к утру должен будет развеяться, а вот по дыму костров, если их к тому времени не догадаются затушить, легко будет с воздуха обнаружить скопление людей среди бурунов. Он уже видел такие же черные искры, улетающие в небо. Они ворошат в его сердце воспоминания, возвращая назад к тем дням и ночам, когда в дыму и в пыли тащился он со своим эскадроном по дорогам отступления.
5
Его эскадрон отступал тогда по шляху, тесно зажатому с двух сторон крутыми берегами пшеницы. Она уже достигла той поры зрелости, когда колос ломится, гнется к земле, осыпая тяжелые зерна.
Катились пушки, скаты машин впечатывали в черную пыль чешуйчатый след, лошади роняли хлопья мыла. Луговой приказал казакам вести их и поводу. Скрипело кожаное снаряжение, погромыхивали котелки, звякали подковки на подошвах сапог.
Когда на северной окраине неба появлялись черные точки, люди с лошадьми уходили с дороги и, смяв пшеницу, ложились на землю. Земля отдавала лязгом, грохотом, звоном. Заслоняя небо, проносились над степью черные тени, резкие и частые звуки секли воздух. Как скошенная невидимой косой, рушилась на землю пшеница. Там, где она рушилась, люди не вставали уже.
Когда самолеты улетали и в небе таял сверлящий звук, те, кто остался в живых, выходили на дорогу, строились, двигались дальше. Опять звенели над ними жаворонки, пахло пшеницей и полынью. Стоял пронизанный знойной синью июль 1942 года.
Вдруг всплескивался где-нибудь крик:
— Танки!
И будто подхваченные ветром, люди, смешав ряды, опять бежали от дороги в стороны, ныряли в пшеницу, расползались ящерицами по ямкам. Луговой с пистолетом в руке выскакивал им наперерез, поворачивая лицом на север и на запад.
— Ты куда бежишь? — яростно тряс он за воротник гимнастерки бледного широкогрудого бойца. — Ты же тракторист, а это машина. Разве не понимаешь: ма-шина!
Две маленькие, приставшие к эскадрону пушчонки вертелись, как на стержнях. Повернутые к фронту, они через минуту обращались в тыл. Связные докладывали Луговому:
— Бронемашина на фланге!
— Просочились мотоциклисты!
— Десант на танке!
Командиры взводов жались к командиру эскадрона, у всех в глазах застыл один и тот же вопрос, но Луговой отводил глаза.
— По местам! — кричал он незнакомым самому себе голосом. — Пулеметы зарядить бронебойными!
Щелкали арапники, гудели постромки, блестели конские крупы. Ехали на арбах, на бричках, шли пешком отягощенные сумками и мешками женщины. Задрав хвосты, шныряли в пшенице телята. Кобылица рыдающим голосом звала отбившегося от нее жеребенка.
— По хлебу?! Я тебе! — грозил арапником женщине, съехавшей с дороги верхом на буренке, чабан, прикрывший от солнца голову гигантским листом лопуха.
Колыхались брезентовые крыши над арбами. Выгибая шеи, двигалась элита конезаводов, за нею везли в мажарах овес, тракторы тянули на прицепах тюки сена.
«Весь Дон тронулся, — охватывая взглядом степь, думал Луговой. — Нет, надо пропускать беженцев вперед. Нельзя воевать, когда женщины и детишки рядом».
Пшеница, струясь, волнами спешила вслед. Только начали убирать ее и тут же бросили, в желтом половодье сиротами стояли одинокие копны.
— Жечь! — приказывал Луговой.
С седел соскакивали кавалеристы, рассыпавшись по черноуске, ставили зажигательные шашки. Над пшеницей занимались дымки, синими вспышками озарялась степь.
Молоденький, рябоватый казак поставил шашку и уже стал возвращаться на дорогу к своему коню, но потом, как что-то вспомнив, побежал обратно, упав на колени и ползая, стал тушить ручейки огня.
— Ты что делаешь? — спросил у него за спиной Луговой.
Казак поднял на него полные слез глаза.
— Так пшеница же… — рвущимся голосом сказал он.
— Жечь! — отворачиваясь, повторил Луговой.
Начинались сумерки. Гудела охваченная огнем пшеница. Медленно оседала гарь.
6
Она и сейчас еще коркой лежит на сердце. Дым костров в бурунной степи только растравил ее, оживляя память. Сквозь стекло машины наплывает россыпь огней. Когда это было — давно или вчера? На войне день может обернуться годом. Сколько встречал Луговой глаз, сразу же потерявших на дорогах войны свой молодой блеск! Он и сам безвозвратно оставил свою молодость где-то под Кущевкой или под Маратуками. Двадцатичетырехлетним капитаном прямо из военной академии попал на фронт. Дали ему наспех собранный разномастный кавэскадрон и с ходу бросили в бой против танков. Ему еще во сне и наяву мерещились Аустерлиц и Бородино, а пришлось зарываться в землю со своим эскадроном на Кундрючьей балке. То, что еще вчера представлялось единственным и непреложным, сегодня уже оказывалось наивным, устаревшим. Все академические представления о войне не выдерживали проверку в бою. Все было и проще, и неизмеримо сложнее. Легко было с указкой у карты рассуждать о Каннах, совсем другое — гадать над десятиверсткой, как вывести эскадрон из мешка. Через год — в двадцать пять лет — он уже был совсем другим человеком. Порой сам с насмешливым изумлением оглядывался на себя, и ему становилось жаль того простодушного парня, который сразу из аудитории попал на фронт. С тех пор за спиной уже была оставлена треть страны. В ноябре 1941 года эскадрон Лугового в кавкорпусе Харуна бросили на помощь Ростову, осажденному гренадерами Клейста. В августе 1942 года уже в Кубанском кавкорпусе он вступил в бой с немецкими танками под Кущевкой. Осенью того же года поднимал эскадрон в контратаки в горах под Маратуками. Когда в этом бою был убит командир полка, приняв командование, сбросил атакующие цепи немцев в ущелье, но и сам был ранен в грудь осколком мины. Очнулся уже в полевом госпитале, куда приволок его на спине ординарец Остапчук. Там и получил известие о производстве в майоры.
Теперь всю дорогу его томило неясное предчувствие, что может он не успеть к какому-то важному событию. Что его ждет впереди? Правда, первой дивизией по-прежнему командует Рожков, теперь уже генерал, который сейчас шумно вздыхает и скрипит пружинами у него за спиной. О командире же только что сформированного Донского кавкорпуса еще в госпитале просочились слухи, что он оригинал, долгое время служил на Востоке и там усвоил азиатские замашки, но толком никто ничего не знал. Как примут его в полку? Одно дело командовать эскадроном, где каждый человек на виду, а другое попробовать узнать каждого, когда их тысяча. С кем из сослуживцев доведется ему встретиться? Жив ли его ординарец Остапчук?
Машину покачивало. Мчалась навстречу степь. Ветер бросал в стекло песок.
Уже за полночь генерал-майор Рожков по пути завез Лугового на овечью кошару. Не выходя из машины, протянул из дверцы руку.
— Ну, сразу же бери в руки полк и действуй. Это тебе не эскадрон — целое хозяйство. Артиллерию придадим. Лошадей стягивай, лошадей!
7
Укрывший с вечера землю туман взмыл кверху, обнажив степь. Ущербная луна уходила за перекаты бурунов. До позднего декабрьского рассвета оставалось еще много, но на кошаре уже не спали. Привычным взглядом Луговой быстро схватил знакомое движение, суету, предшествующие выступлению. Коноводы провели мимо него лошадей. В морозном воздухе раздавались командные окрики. Все же, подумал он, полк немало теряет времени, выступая не с вечера, а перед зарей. По приказу надо всего за два дня скрытно пересечь бурунную степь, а с наступлением утра неизбежно опять придется прекратить всякое движение, рассовать по балкам лошадей, притрусить пушки и повозки бурьяном.
Возле однорукого колодца, в балочке стоял гомон, бренчали ведра, хлюпала вода. Подходя, Луговой различил в разноголосице негромкий, спокойный голос:
— Подождите, напувайте по очереди.
Это был он, его ординарец Остапчук. В последний раз они виделись уже больше двух месяцев, когда вынесший Лугового из боя Остапчук сдавал его на руки сестре. И, услышав украинскую речь своего ординарца, Луговой вдруг сразу почувствовал себя совсем по-иному, чем до этого и в госпитале, и в дороге. Его окружали знакомые лица, звуки и даже запахи. Лошади, отфыркиваясь, пили воду. Люди перебрасывались словами, непонятный для чужого слуха смысл которых был ему понятен и близок.
— Твоя засекает?
— Есть трошки.
— Дай на скрутку.
Душок парующих конских спин, кожаного снаряжения, навоза витал возле колодца.
— Не толчитесь, воды богато, — увещевал Остапчук.
Он стоял у колодца, расставив короткие сильные ноги, и, доставая ведром воду, сливал ее в дощатое корыто. На сгибавшейся и разгибавшейся спине вспухали бугры мускулов.
Когда Луговой протиснулся сквозь толпу и Остапчук краем глаза увидел его, дужка ведра задрожала у него в руке. Передавая ведро рядом другому кавалеристу, он тихо сказал:
— Зараз ты становись.
Никто из окружающих не заметил в его поведении перемены. Один Луговой увидел свет, только на мгновение блеснувший в его глазах. Молча они выбирались из толпы — Луговой впереди, Остапчук — за ним. Лишь когда уже далеко отошли от колодца, Луговой круто обернулся к ординарцу.
— Ну здравствуй, здравствуй, Остапчук! Ты что же молчишь?
— Здравствуйте, товарищ гвардии… — шумно вздохнув, Остапчук старался разглядеть петлицы Лугового и, разглядев, добавил — майор.
Когда он выносил Лугового из боя, тот был еще капитаном. И это было все, что услышал при встрече от него Луговой. Но Луговой знал, что его ординарец не любил открыто выражать свои чувства.
— Зараз я вас до штаба полка проводю, — Остапчук снова шумно вздохнул.
— Веди. — Луговой улыбнулся. — Это далеко?
— Тутечко за бугром. На кошаре.
— Зорька здорова? — спрашивал его Луговой по дороге в штаб.
— А чего ж ей? — с обиженным удивлением ответил Остапчук.
— Не скучала?
— Два дня тилько з руки хлиб брала, а потом ничего. Синцов намерявся ее себе взять, да я не дав.
— Какой Синцов? — Луговой придержал шаг. — Комэск-два?
— Его оттуда за водку знялы, а теперь прислали в полк начальником штаба.
Перевалив через бурун, они стали спускаться по склону. К подножью большого буруна, укрываясь от ветров, лепились глиняные домики, окруженные саманной изгородью овчарни. На отшибе от других стоял серый, ошелеванный досками дом под железной крышей, с высоким крыльцом.
— Здесь? — занося ногу на высокую ступеньку, спросил Луговой.
— Тут. Мабуть, он ще спит.
— Вряд ли. Ведь полк выступает, — уверенно возразил Луговой.
Переступив через порог и стукнувшись в сенцах обо что-то острое, он ощупью нашел дверь в комнаты, потянул за ручку к себе. Постоял на пороге, всматриваясь. В правом углу поблескивало зеркало. Под ним стоял длинный стол. Занимая почти полкомнаты, громоздилась широкая кровать. Между кроватью и стеной оставался проход в соседнюю комнату, задернутый голубой ситцевой занавеской.
После долгой дороги и морозной ночи на уставшего Лугового повеяло домашним теплом. Но, услышав за окном далекую, рвущуюся на высоких нотах команду: «По ко-ня-ам!», он с досадой отогнал от себя это настроение.
— Кто-нибудь есть?
Заскрипели пружины кровати, сердитый голос спросил:
— Кого там принесло? — По стулу, стоявшему у кровати, зашарила рука. — Ч-черт, где же фонарик? — Сноп света, наискось перебежав комнату, ослепил Лугового. — Ты? — без удивления сказал все тот же голос. — Сейчас лампу зажгу.
Босые ноги прошлепали от кровати к столу, чиркнула спичка, и Луговой увидел у стола начштаба полка Синцова, в белой нижней рубашке, без сапог.
— А я тебя еще вчера ждал, — зевая, он почесывал пальцами грудь. — Садись. Впрочем, ты же теперь здесь сам хозяин. Если замерз, погрейся стаканчиком. Правда, сырец, но с дороги пойдет.
На столе рядом с бутылками лежал пистолет в кобуре. «Все такой же», — глядя на его измятое лицо, подумал Луговой.
— А может, отдохнешь с дороги? Я скажу, чтобы хозяйка постелила тебе.
— Нет, Синцов, время выступать.
За окном ржали лошади, скрипели колеса бричек, тяжело катились орудия. «Эскадро-он!..»— кричал звучный молодой голос.
На мгновение стало тихо, и потом будто крупный град зашуршал. Эскадроны, снимаясь с ночлега, уходили в темную степь.
— Пора, — прислушиваясь, повторил Луговой.
Синцов опять прикрыл ладонью рот.
— Догоним на машине. Еще надоест, Луговой. Маршрут и график движения доведены мной командирам эскадронов с вечера.
— Где маршрут? — чуть резче, чем хотел бы, спросил Луговой.
— Сейчас найду карту… — Синцов зашарил руками по столу, зазвенел бутылками. Одна, упав на бок, забулькала. Запах спирта распространился по комнате. — Ах, черт! — Синцов бросился поднимать бутылку. Экая жалость. Ага, нашел. Здесь маршрут. Только с краю намокла… — Он подал Луговому карту.
Придвинув к себе лампу, Луговой склонился над столом. Душившее его раздражение вырвалось наружу:
— Стыдитесь. Какой это маршрут? Вы же начальник штаба.
— А что? — испуганно спросил Синцов. — Может, не та карта?
— Здесь проведена прямая линия, колодцы оставили в стороне.
— Я лично проинструктировал командиров… — Синцов, бледнея и краснея, поглядывая на зыбкую занавеску, закрывавшую ход на хозяйскую половину.
— Эскадроны ушли, а начштаба полка остался где-то сзади. А если завяжется бой? И потом этот… — Луговой обвел рукой стол. — Пейзаж. — Уже мягче закончил: — Приведите себя в порядок и подстегните обозы. Я поеду вперед.
Когда он вышел на крыльцо, звезды уже гасли. Для перехода оставалось совсем мало времени. «Выступать только с вечера», — утвердился в своем решении Луговой. Остался неприятный осадок после разговора с Синцовым… Не успел приехать и уже устроил разнос! В сущности, Синцов — знающий командир, правда распустился за последнее время. И потом — этот панибратский тон.
Остапчук вырос из темноты, держа в поводу лошадь.
— Зорька! — окликнул Луговой.
Кобыла ткнулась теплой мордой в его руку, всхрапнула. Луговой вздрогнул и рассмеялся.
— Узнала, — сказал Остапчук.
Вдруг почувствовал, как начал таять и совсем исчез осадок от разговора с Синцовым. Еще не трогая с места, но встряхнувшись корпусом в седле, почувствовал, как застоялась лошадь.
— Раскормил ты ее.
Но Зорька взяла с места охотно. Остапчук ехал рядом на своем лохмоногом жеребце, на полкорпуса приотставая от Лугового. Взглядывая на них, Луговой не впервые уже подумал, как ординарец и его конь пришлись один к другому. Сутуловатая спина Остапчука была редкостно широка, а круп его лошади массивен, будто сточенный ветрами дикий валун.
Там, где ступали копыта лошадей, оставались зыбкие ямки. Их тут же заравнивал ветер песком, и снова позади лежала гладкая, как скатерть, степь.
— Кажется, подпруга туговата?
— Ни, в самый раз.
— Давно перековал?
— З недилю.
Между ними сразу установился тот язык, который им обоим был понятен. И чем больше Луговой втягивался в этот неторопливый разговор с ординарцем, тем больше охватывало его успокоительное чувство возвращения в свою семью.
8
Однообразная днем, с наступлением темноты преображалась моздокская степь. Голубоватые при лунном свете буруны уходили во все стороны волнами застывшего моря. Вспыхивала вкрапленная в песок слюда. Прикаспийский ветер дул в спины.
Догоняя свой полк, Луговой поравнялся с первым эскадроном. В голове его ехал лейтенант в синем чекмене. Лошадь Лугового, став поперек дороги, преградила ему путь, и лейтенант уже поднял в руке плеть, чтобы наказать ее, но Луговой опередил его.
— Я командир полка. Будем знакомы.
Лейтенант ответно козырнул. С молодого, почти юношеского лица глянули неулыбчивые глаза.
Луговой сдерживал нетерпеливую Зорьку.
— Сколько уже прошел эскадрон? Успеем до рассвета выйти к Куме?
Лейтенант внимательно вглядывался в лицо Лугового.
— Вряд ли. Успеем только до развилки.
— На развилке свернете влево, — сказал Луговой.
— Почему? У меня по маршруту направо поворот.
В тон ему Луговой спросил:
— Когда вы отдаете в эскадроне приказание, у вас тоже спрашивают — почему?
Сзади, в рядах эскадрона, кто-то звучно хмыкнул. Командир эскадрона безвольно уронил руку с зажатой в ней плетью. Луговой спокойно продолжал:
— Утром тщательно замаскироваться между бурунов и ждать темноты. Но предварительно выслать к колодцам разведку.
Лейтенант кашлянул.
— Мне самому поехать с ней?
— Или вашему заместителю. Но столкновений с разъездами противника избегайте. Если же не удастся, чтобы ни один не ушел. Запомните — мы здесь для немцев не существуем. — И, уже тронув лошадь, обернулся: — Если будут пленные, доставить в штаб полка живыми.
Вслед отъехавшему Луговому в шеренгах эскадрона обменивались замечаниями:
— Выходка казачья, а по разговору городской.
— Сейчас все молодые говорить гладко выучились.
— Лошадь под ним донская.
— Еще молоко на губах, а уже комполка. Как баба вареники, так и командиров теперь: шлеп, шлеп.
— Слыхал, как он твоему Дмитрию впечатал?
— Как?
— Мое дело отдать приказ, а ваше — исполнять.
— А за пленных что?
— Если хоть один волос с головы упадет — расстрел.
— Ну, в бою видно будет.
— Мягкие у наших командиров сердца.
Остановив эскадрон, Дмитрий Чакан стал вызывать добровольцев в разведку. Сломав ряды, казаки тесно окружили его. Привставая на стременах, он крикнул так, что лошади шарахнулись:
— По местам! — Покашливая, казаки опять построились в шеренги. — Кто же в разведку свадьбой ездит? Ты, Ступаков, поедешь, Манацков, Барбаянов, Пятницын, Зеленков. Я шестой. А вы, папаша, хоть не толчитесь.
Чакан обиделся:
— Почему?
— Когда командир приказывает, не положено обсуждать.
Но когда, отъехав от эскадрона, разведка углубилась в степь, Дмитрий обнаружил, что с ним не шесть, а семь человек. Подъехав к отцу, который пристроился в хвосте разведки, Дмитрий наклонился с седла.
— Чем в эскадроне дисциплину нарушать, лучше бы вы, папаня, остались дома.
Чакан возмутился:
— Так мне и надо, старому дураку. А мне твоя мать на дорогу все уши прогудела: «Если Митьку найдешь, глаз не спускай. А не убережешь, можешь и сам не вертаться». Отблагодарил за милую душу! — Сняв шапку, Чакан низко поклонился сыну.
Дмитрий молча отъехал от него и с этой минуты больше в разговоры с ним не вступал.
Доехали до первого колодца. Был он вырыт в черном песке на совсем голом месте и даже не огорожен камнем. Все вокруг изрезано было колесами машин и повозок, истолчено копытцами баранты. Лишь кое-где увлажненный песок пророс жесткой травой.
Куприян Зеленков, спешиваясь, лег грудью на песок, вглядываясь в темную дыру, вдыхая солонцеватую сырость.
— Блестит? — не выдержав, спросил Дмитрий.
— Нет воды, — обронил в колодец Куприян.
— …нет воды, — отчетливо ответил колодец.
Куприян отшатнулся.
— Будто там кто живой сидит.
— …си-дит, — раздельно повторил колодец.
— Засыпали сволочи, — отряхивал с колеи песок, сказал Куприян. Наклоняясь, он вдруг внимательно вгляделся себе под ноги. — Конский навоз. Не больше как минут десять здесь были.
— Много их? — спросил Дмитрий. Куприян снова нагнулся.
— С десяток. Две лошади раскованы, на других шины новые.
Чакан заерзал в седле.
— Догнать.
Дмитрий шевелил губами, что-то соображая.
— Ступаков, Манацков и Пятницын, езжайте по следам. Если догоните, себя не показывайте, но и их из виду не выпускайте. Мы вчетвером спрямим наперерез на курган. — Дмитрий показал зажатой в руке плетью. — Им его не миновать. Как только завяжемся с ними, так и ударяйте с тылу. Двигаться молчком. — И, сворачивая от колодца влево, он повел по бездорожью свою четверку напрямик к темному кургану, смутно маячившему из лунной полумглы.
Вскоре копыта лошадей зачокали но чему-то твердому.
— Озеро, — первый догадался Чакан. — Соль.
Высушенное солнцем озеро светилось. Мелкая соль запорошила его, как молодым снежком, но у самой середины ветер оголил синий, как лед, пласт. Лунное небо отразилось в нем.
— Как в церкви, — сказал Куприян.
Чакан спешился, нагреб в оба кармана соли и опять влез на коня.
— А у нас, как война началась, днем с огнем ее не разживешься. После войны буду сюда на быках ездить.
У подошвы большого кургана остановились. Журча, стекала с его склона песчаная сыпь.
— Ты, Куприян, полезай наверх посмотри, — приказал Дмитрий.
Куприян, цепляясь за бурьян, влез на вершину кургана и сразу же скатился назад.
— Едут.
— К бою! — шепотом скомандовал Дмитрий.
— В шашки?
— На случай чего, я из ручного пулемета прикрою.
Кроме сухого, звенящего шелеста бурьяна на склонах кургана еще долго ничего не было слышно, но потом стали различимы шорох копыт, разгребающих песок, сдержанная нерусская речь.
— Вы, папаша, хвалились, что в плену вас какая-то Эльза своему языку выучила. О чем они брешут? — наклоняясь с седла к отцу, шепотом спросил Дмитрий.
— Давно это было, я уже почти забыл.
Говорили сразу несколько голосов. Ветром доносило обрывки фраз. Тишину ночной степи оскорбляла чужеземная речь. Вытянув голову, Чакан отвернул ушанку.
— Все вместе, как горохом по печке. Не сопи, Дмитрий, над ухом. Одному, видишь ли, наша местность не нравится. Холодно ему, пустыня. — Чакан незаметно для себя повысил голос — А чего же он сюда?..
— Не шумите, папаша, — перебил Дмитрий.
Голоса приближались. Немецкий разъезд огибал курган. Ветер, разрывая ткань разговора, путал слова. Казаки застыли в седлах, слушая. Отрывистая нерусская речь коробила слух.
— Отслонись! — оглянувшись, яростным шепотом прикрикнул на сына Чакан. — Русский солдат, говорят, воюет не по правилам и, если он попал в плен, надо его не откармливать, как швайн, а уничтожать.
— Так и сказал? — переспросил у отца Дмитрий.
— Истинный Христос.
— Ну спасибо, папаша. Не зря я все-таки вас в разведку взял, — Дмитрий положил руку на эфес шашки.
— За мной!
Гуськом стали выезжать из-за кургана. Вплотную приближался немецкий говор. Впереди заколебались в темноте фигуры. Казаки молча двигались им навстречу.
— Пароль? — вдруг испуганно спросил передний немецкий всадник.
— В ша-ашки! — посылая лошадей в намет, скомандовал Дмитрий.
— Фойер! — падая с лошади, вскрикнул первый всадник. Дмитрий вышиб его из седла толчком своего коня.
Лошади месили копытами песок. Сталь, скрещиваясь, высекала искры. Выбитые из седел люди падали на землю, как тугие мешки с зерном. Число нападавших скрадывала темнота, пока выстрелы немецких ракетниц не осветили ее. После внезапной атаки немцы понесли урон, но и теперь их оставалось вдвое больше, чем казаков. Дело могло бы принять совсем другой оборот, если бы наконец не подскакали за спиной немцев Манацков, Пятницын и Ступаков. Немцы смешали строй. Казаки прижали остатки их конного разъезда к склону кургана.
— Не выпускать! — кричал Дмитрий.
Теперь уже казаки разряжали свои ракетницы, освещая ими ночь.
Дмитрий никак не мог достать шашкой офицера. Высок был баварский короткохвостый конь под седлом у него. В схватке с немецкого офицера сбили шлем, оторвали погон. Но с искаженным яростью лицом он умело парировал удары Дмитрия. Выпрямив в седле корпус, разворачивал палаш, как в фехтовальном классе. На помощь к Дмитрию поспешил Куприян Зеленков, занося над офицером шашку для удара.
— Живьем! — испуганно напомнил ему Дмитрий.
Дорогой находкой мог оказаться офицер. Но никак не хотел он живым отдаваться в плен. Вдруг, круто повернув своего коня, сшиб загородившего ему путь Зеленкова и вырвался из круга. За ним успел выскочить из круга другой всадник. Они стали быстро уходить в степь.
— В погонь! — скомандовал Дмитрий.
Офицера догнала пуля Зелонкова. Не останавливая коня, он с седла послал очередь из автомата. Лошадь пронесла немецкого офицера еще несколько десятков саженей, и потом он, заламываясь на правый бок, конвульсивно шаря пальцами воздух, вывалился из седла. Конь остановился перед ним как вкопанный.
За вторым немцем погнался Чакан, заскакивая с другой стороны кургана и отрезая ему путь.
— Манацков и Зеленков, скачите вслед! — крикнул Дмитрий.
Светало. Над местом недавней схватки держалось песчаное облако. В песок с шорохом уходила кровь.
— Присыпать трупы, — приказал Дмитрий.
За ноги переворачивали мертвых на спину, с беззлобным любопытством разглядывая искаженные смертью лица.
— Тяжелая у тебя рука, Игнат… Черепок — пополам.
— Я его только краешком зацепил.
— Обувь на них совсем новая…
— Карманы обыскать, документы взять, а всю одежду оставить на них, — предупредил Дмитрий.
Песок над телами убитых нагребали шашками. К подошве большого кургана присоединился приземистый бугорок.
— Чем не могила, — сказал Ступаков, утрамбовывая его сапогами.
— Хватит толочь, — сурово оборвал его Дмитрий.
Чакан шел за немцем в десятке саженей. Далеко слева скакали Манацков и Зеленков, отжимая его к востоку. Немец уходил от погони почти выстлав коня над землей, вобрав в плечи голову и ссутулив обтянутую серой курткой спину.
Всплывающее из-за горизонта солнце все больше освещало горбатую степь.
Посланный Чаканом в бросок конь резко прибавил в скорости. Чакан уже прямо перед собой видел сутулую спину немца. Расстояние между ними быстро сокращалось. Заезжая немцу с левой стороны, Чакан выдернул из ножен шашку.
Он и не заметил, когда немец, круто обернувшись в седле, вскинул в руке пистолет. Выстрел щелкнул ударом кнута. Конь под Чаканом тяжело стал валиться на правый бок.
Когда Дмитрий подскакал к отцу, он уже вылез из-под коня и, припадая на правую ногу, дергал его за чамбур.
Конь лежал на боку, положив на песок сухую голову. Пуля вошла ему в белую звездочку, прикрытую подстриженной хозяином челкой. Из совсем маленькой ранки фонтанчиком била кровь.
Подъехали Манацков с Зеленковым, гоня впереди себя пленного немца. Был это тщедушный, почти подросток, солдат. Он зябко прятал длинные красные руки в рукава серой куртки.
— Он! — увидев солдата, закричал Чакан. С шашкой он бросился к немцу. Тот закрыл лицо руками. Дмитрий заслонил пленного собой.
— Нельзя, отец. Сказали живыми доставлять.
Зеленков заискивающе вмешался:
— Если бы не ты, Василий Иванович, ушел бы он.
— Я! — Чакан поднял на него мокрые глаза. — Нет, это мой Орел и к его достал. — Чакан снова бросился к мертвому мерину. — От самого хутора я на нем…
Подъехал Ступаков, держа в поводу темно-гнедого немецкого коня. Обронивший своего хозяина конь хотел ускакать в глубь степи, но Ступаков, служивший до войны табунщиком на Сальском конезаводе, вовремя захлестнул ему шею веревкой, которую взял с собой в разведку. Теперь, увидев хозяина, конь тихо заржал. Пленный вскинул на него задрожавшие веки.
— Вот тебе, отец, взамен… — сказал Дмитрий.
Чакан дернул плечом.
— Нету Орелику замены. — Но все же к трофейному коню подошел. Казаки завистливо ощупывали взглядами трофейного коня. Был он, конечно, неизмеримо лучше только что потерянного Чаканом в коротком бою. В промере холки, в подобранном к заду туловище, в длинных бабках немецкого коня угадывался высокий экстерьер. Но Чакан никак не хотел признать его превосходства над своим Ореликом.
— Карповат трошки. Сыроват, — перечислял он, обходя вокруг коня.
— Может, на моего сменяем? — предложил Ступаков.
— У цыгана меняй! — окрысился на него Чакан и поспешил взять из его рук повод немецкого коня.
— Ты сядь на вето, Спробуй, посоветовал Зеленков. Наступив на стремя, Чакан перекинул ногу через седло трофейного коня. Тот шарахнулся под ним, но тут же почувствовал твердую руку и, послушный ей, пошел, нервно вздрагивая связками мускулов под тонкой шкурой. Лишь еще раз он коротко и жалобно заржал, поравнявшись со своим прежним хозяином, который, заложив руки за спину и с трудом вытягивая ноги из песка, понуро побрел по степи под конвоем.
9
Вторые сутки впереди расстилалась степь.
— Будет ли ей край? — спрашивали кавалеристы.
В пахах коней клубилась пена.
— Что за земля? Один песок.
— А у нас едешь займищем — и с конем не видно. Па-ахнет. Вечером вернешься домой с сенокоса, как пьяный.
— Сухота. Как тут люди живут?
— Давай, Чакан, заводи!
Чакан, распрямляясь в седле, неожиданно басом оглушал:
Ехали казаки
Со службы домой,
На плечах погоны,
На груди кресты…
— Эй, станичник, твой сынок едет. Сейчас опять за песню будет срамить.
Подъезжал командир эскадрона.
— Опять вы, папаша, баламутите! Крестами царь за контрреволюцию награждал…
— Я там не знаю за что, а только когда Георгия получал, не об царе думал.
— Мало на Дону других песен?
— В нашем взводе эту лучше всех знают.
Сквозь взвихренную копытами желтую мглу светило ноябрьское солнце.
— Милованов! — прошелестело по рядам.
Мимо на рыжем жеребце ехал всадник в черной бурке. Когда ветром отворачивало полу бурки, на шароварах всадника вспыхивал двойной генеральский лампас.
— Милованов…
Жеребец быстро нес его мимо эскадронов, но глаза из-под серой шапки успевали замечать: «Лошади давно не поены. Люди спят в седлах».
Полковник в черной кубанке, с откинутым за плечи синим башлыком, отделяясь на каурой кобыле от головного эскадрона, поскакал навстречу. Правая рука полковника коснулась края заиндевелой кубанки. Жеребец, ощеривая желтые зубы, хотел куснуть кобылу, но Милованов вовремя увернул его. Лошади, всхрапнув, пошли бок о бок.
— Разведка?
— Вернулась, товарищ генерал.
— Уходят?
— И всё жгут. Хутор Чернышев — остались одни стены. Кречетов — дотла. Жителей угоняют с собой.
— Колодцы?
— Засыпаны. Обозы отстали. Передохнуть бы один день.
Не отвечая, Милованов сощуренными глазами смотрел мимо него. Из поравнявшегося с ними эскадрона выехал казак на короткохвостом коне. Потоптался на месте, оглянулся и потом решительно тронул коня вперед. Не доезжая, козырнул и пошевелил пушистыми усами.
— Разрешите обратиться, товарищ генерал?
Милованов, наклонив голову, рассматривал его. Как-то особенно подобранно сидел он в седле. Все у него было небольшим: и он сам, и кургузый, круглобокий конь, и карабин, притороченный к седлу.
— Я за кресты…
Бровь генерала полезла вверх. Всадник, заторопившись, сунул руку в карман.
— Вот! — на ладони у него серебряным блеском вспыхнули три креста.
— Все три Георгиевские? — с любопытством разглядывая их, спросил Милованов.
— Они. — Казак обрадовался. — Я ему доказываю, что Георгий был Победоносец, а он…
— Кто? — сдвигая брони, спросил генерал.
— Тут один командир из ранних, — всадник оглянулся. — Про кресты, говорит, и думать забудь.
Генерал улыбнулся.
— Все три твои?
Казак выпятил грудь.
— Я в германскую…
Генерал не дал ему договорить:
— Носи, раз заслужил.
Казак опешил.
— Стало быть, можно? А ежели он опять… — И оглянулся в третий раз.
— Скажешь, командир корпуса разрешил.
10
Ночь… Горек ветер с Каспия, пронизывающий степь. Меркло горят костры. Люди тянут руки к огню.
— Это пусть он в бою надо мной командует, а как был я ему отцом, так и останусь.
— И каждый раз он будет спрашивать у тебя, можно ему к медсестре на свидание сходить или нет?
Чакан молча встает и идет к темнеющим в отдалении бричкам обоза. Крепко спят на бричках ездовые. Но от самой крайней, отбившейся от других, тесно слившись, удаляются в степь две фигуры.
— Дмитрий! — окликает Чакан.
Одна фигура, отрываясь от другой, метнулась в сторону, канула в темноте. Другая ждет с засветившимся угольком папиросы у лица.
— Ты чего не спишь? — приближаясь, спрашивает Чакан.
— На лошадей пошел глянуть, — пыхнув папиросой, отвечает Дмитрий.
— Кому, говорят, война, а твоему сыну — мать родная. Гляди, Луговому скажу. — Чакан повышает голос.
— Вы, папаша, соску для меня из дому не забыли взять? — спрашивает Дмитрий.
Ночь… На овечьей кошаре, в тесной комнатушке горит печь. Чугунная плита раскалилась добела. Бледно-синее пламя лампы — гильзы противотанкового снаряда — едва пробивается сквозь табачный дым.
Раньше в комнате жили чабаны. Варили себе в трехведерном чугуне пшенную кашу, укрывались за саманными стенами от песчаных ветров, от зимней стужи.
Зыбится за окном под луной моздокская степь.
— Вернемся к вашему варианту, Рожков, — говорит Милованов. Придвинув табурет к печке, он сидит в наброшенном на плечи кителе, смотрит на огонь. — Прошу извинить, но он… отдает архаизмом. Долговременный рубеж и… атака в конном строю?! Как это совместить?
— Я полагаюсь на внезапность…
— Не прежде, чем будет прорублено окно. Вы как думаете, полковник Привалов?
У полковника Привалова брови разметнулись к вискам над выпуклыми, наивными глазами.
— Согласен с вами, товарищ генерал. У них здесь пристрелян каждый клочок.
— Шарабурко?
В углу поднялся со стола рыжеволосый гигант, почти касаясь затылком потолка.
— Какие мы кавалеристы?! Уже полтора года только и знаем землю роем, — он с тоской взглянул на свои большие, изъеденные угольной пылью ладони.
— Уже скоро, — Милованов улыбнулся и снова повернулся к Рожкову. — Конечно, ваш вариант заманчив, но только при условии, если корпус войдет в прорыв вслед за танками.
— После гражданской войны тоже предсказывали похороны конницы! — устало сказал Рожков. Он сидел за столом, грузно ссутулившись. — А с ними и закат всего казачества. Теперь же мы с вами присутствуем при рождении Донского кавкорпуса… — голос у Рожкова тщеславно дрогнул.
С молоком матери, урюпинской казачки, впитал в себя Рожков любовь ко всему казачьему. Еще годовалого Сережу сажал отец на коня и с гордостью смотрел, как бесстрашно цепляется он за жесткую гриву. Может быть, с этой поры въелась в сердце и верность донской старине. Закрыв глаза, часами мог слушать походные песни и приукрашенные домыслами рассказы служивых казаков. Свою дивизию собирал по одному человеку только из донцов. Съезжались к урюпинскому казаку Сергею Ильичу Рожкову бывшие первоконники и безусые ополченцы из Усть-Медведицкой, Ново-Анненской, Зотовской, Кумылженской и других верхнедонских станиц. Когда штаб Северо-Кавказского военного округа решил было растворить казачью дивизию среди пехотных частей, ночь напролет просидел Рожков, наливаясь чугунной тоской, а утром пошел на военный телеграф, три дня, как затравленный зверь, метался по штабу дивизии в ожидании ответа из Москвы, а когда на четвертый день пришла телеграмма, что дивизия будет жить, опять до утра просидел над ней, перечитывая, не смыкая глаз.
Но и теперь, когда вынянчанная им дивизия становилась ядром Донского кавкорпуса, командиром его все же назначили не того, кто, может быть, больше всего ждал этого дня.
— Я вашу заслугу, Сергей Ильич, высоко ценю, — нарушая молчание, сказал Милованов. — Но согласитесь, что лошадь теперь, скорее, стала транспортной единицей. Никто не опровергнет традиций Первой конной, но и время не стояло на месте. Традиция и инерция не одно и то же.
— Я же, Алексей Гордеевич, не совсем наивный человек.
Холодный ветер насквозь пронизывает бурунную степь. В тумане чадят костры. Подкладывающие в них курай руки не спешат отдергиваться от огня.
— Теперь бы к любушке притулиться.
— К ней, может, фриц притулился…
— Н но! Я таких шуток не терплю.
— А фрицы и не шутят.
— Я сам с собой так надумал. Если узнаю, что они мою семейству испоганили, первого же пленного живьем запалю.
— Начальство велит с ними вежливо поступать.
— И я вежливо. Пожалуйте, скажу, жариться.
— Пока он с оружием, мы с ним воюем, а руки поднял — это уже не враг.
— Кабы они тоже так. У них в лагерях наши тысячами мрут.
— А что, Степан, когда мы в Германию взойдем, сможешь ты тоже их детишков шашкой порубать или штыком поколоть?
— У меня своих — девочка шести годков и сынку третий. Дети безвинные.
Отблесками костров выхватывает из темноты лица.
— Ну а за Георгии что он тебе сказал?
— Раз ты, говорит, их не дома за печкой заслужил, то и держи на виду. Но не мешало бы вскорости к ним новый орден прибавить. Для комплекта.
— На сына ты ему намекал?
— Пришли, говорит, его ко мне. Я ему напомню, как всегда казаки уважали своих отцов.
— А как же они, папаша, уважали? — спрашивает у самого уха Чакана вкрадчивый голос.
Из-за плеча Чакана в светлый круг костра выдвигается молодое, безусое лицо с таким же, как у отца, коротким, круто вырезанным носом. Все поднимаются с земли, но Дмитрий жестом усаживает их. Один Чакан не оглядывается и не встает с места, продолжая ворошить палкой в костре.
— А так, чтобы из-за сына никто отцу по глазам не бил за то, что время уже зимнее, а кони до сей поры на летней подкове. И попон нету, хоть сам ложись на лошадь сверху, грей. Махорку вчера опять не подвезли. Не мешало бы уже и по стопочке отпущать. В старой армии…
— Опять при царе! — резко перебивает Чакана сын, — Ты бы еще с собой старые погоны из сундука взял.
— Что ж, раз воскресили генеральский чин. Мне сам Милованов…
— А внеочередной наряд до лошадей ты сейчас от меня получишь, — тихим голосом говорит Дмитрий.
— За что? — вставая, спрашивает Чакан. Ноздри вздрагивают у него, нос становится еще короче. В эту минуту отец и сын, как никогда, похожи друг на друга.
— За агитацию, Дмитрий повышает голос. — Коней за временным неимением попон укрыть плащ-палатками и мешками. От огня далеко не отгонять.
Голос у него уже гремит. Лошади у коновязей стригут ушами.
11
Рано утром подошли к раскинувшемуся на солончаковом бугре селению. Далеко левее его, над голубой чертой горизонта виднелись белые кварталы и трубы, купол колокольни.
— Что за город?
— Моздок. Не слыхал?
— Туда пойдем?
— Нет мимо. До самого Дона, говорят, степью.
— И все в седлах?
— На этот бугор, должно, на карачках полезем.
— Что-то не возьму в толк, немец отступает, а нам приказано опять окопы рыть.
Легко поддавалась под лопатами супесная земля. Черное кружево траншей быстро опоясало подошву бугра.
— Чуете, наша артиллерия загудела?
— Сейчас и немцы начнут кидать.
Густоголосый гул потряс степь. С травы облаком вспорхнул иней. С дальнего буруна взлетел беркут. Струей горячего воздуха зацепило его крыло, он покачнулся, но тут же и выравнялся, набирая высоту.
Вдруг стало тихо. Поднявшийся уже высоко над степью и замерший на раскинутых крыльях беркут вздрогнул, словно испугавшись этой тишины. У подошвы бугра из окопов встали люди и полезли наверх.
Когда поднялась первая волна атакующих, из-за бугра, огибая селение с двух сторон, показались немецкие танки. Спешенные кавалеристы, не успев добежать до селения, повернулись и, ссутулившись, потрусили к окопам. Ударившие им в спины пулеметы, взбили рыжеватые столбики пыли.
Отхлынувшая волна атакующих успела, добежав до окопов, скатиться за брустверы. Но убитые и тяжело раненные остались лежать на бурьянистом поле. Только некоторые поползли к окопам, слыша за собой лязг гусениц. Молоденький кавалерист с непокрытой белокурой головой спешил, подтягивая на руках тело, волоча перебитые пулеметной очередью ноги. Обессиливая, ронял в бурьян голову и опять полз. За ним тянулся кровавый след. Он затравленно оглядывался через плечо и, вбирая голову в плечи, полз, окрашивая кровью бурьян.
Танки перекатывались через бруствер и, вздымая пыль, спускались вниз. Со своего КП на склоне кургана Луговой насчитал восемнадцать машин. Но из-за бугра лезли новые, сначала показывая верх башни, потом жерло орудия и, наконец, траки гусениц, несущих серый громыхающий корпус.
Рев моторов заполнял степь. Беркут, раскинув крылья, крестом стоял в небе над стадом идущих танков.
На полдороге к окопам танки открыли огонь из пушек. Большинство снарядов легло перед окопами. Загорелся бурьян. Ветер тянул на юго-восток, бурый дым заползал в окопы, удушая гарью.
— Термитными стреляют! Сидеть в окопах! — приказал командир эскадрона Дмитрий Чакан.
— Раненые горят! Раненые!! — закричали в окопах.
Ветер гнал огонь по полю, вокруг раненых взлетали клочья пламени. Молоденький кавалерист с перебитыми ногами, оглядываясь, спешил уползти от пожара, но за ним неотступные потоки огня дочерна вылизывали землю.
Медсестра с сумкой вылезла из-за бруствера и на четвереньках быстро поползла вверх по склону на бугор. Из-под ее ног осыпался песок.
— Кто это, Куприян? За дымом не видно.
— Кто же еще? Фроська.
Медсестра Фрося карабкалась на бугор. Тягуче ревел ей навстречу ветер, дыша жаром. Сумка с красным крестом сползла со спины на живот, путаясь в ногах. Вскидывая глаза, Фрося видела подступающую к ней бушующую лаву.
Сгорая, трещал старый бурьян. Трещало и хрустело все поле по склону бугра, вздымаясь красными и синими языками.
Танки, разворачиваясь, полукружьем охватывали окопы. Луговой уже насчитал тридцать четыре машины. Центр полукружья отстал, фланги выдались вперед. В центре шли желтые, как песок, машины.
— Позвонить в ИПТАП? — спрашивал начштаба полка Синцов.
— Еще рано, — отвечал Луговой.
Над танками, как рыжий клок пламени, трепетал в задымленном небе беркут.
— Скажи, Чакан, что это за зверь у них впереди? То ли медведь, каких раньше цыгане на ярмарках водили, то ли еще какой?
— Это, Куприян, чтобы больше страху нагонять.
Потоки огня догоняли молодого кавалериста. Выбиваясь из сил, он все чаще ронял в бурьян голову. Теперь уже, поднявшись с земли во весь рост, Фрося бежала к нему, придерживая рукой сумку.
Из-за брустверов окопов, не таись, повысовывали головы.
— Обое сгорят!
— Сидеть! Я кому сказал! — яростно закричал командир эскадрона Дмитрий Чакан. Он заметался по тесному окопчику. — Почему молчат наши пушки?
Пушки молчали.
— Не понимаю вашего спокойствия. Они уже подходят вплотную, — дрожащими пальцами доставая из портсигара папиросу, говорил Луговому на КП полка Синцов.
— Добежала, добежала! — загомонили в окопах.
Медсестра Фрося склонилась над кавалеристом с перебитыми ногами. Стоя на коленях, разматывала белый бинт.
Танки шли за огнем по черной искрящейся земле.
— Пропадет девка, — сказал Чакан.
— Ветер повернул, — потянув ноздрями воздух, определил Куприян.
Изменив направление, ветер дул уже сбоку. Желтовато-бурый дымок, сбиваясь в сторону, тек вдоль изломанной линии окопов. Пожирая траву, огонь повернул и вскоре исчез за бурунами. Перед окопами простиралась дотла вылизанная, страшная в наготе земля. Дотлевал бурьян. Но танки двигались по полю в клубах искрящейся пыли.
— За мою шею держись, — сказала раненому Фрося и быстро поползла на коленях обратно. Обескровленное тело раненого налилось тяжестью, руки петлей захлестнулись вокруг ее шеи.
Раненый дышал ей прямо в ухо.
— Пить.
Фрося чувствовала уже, как с нарастающим сзади грохотом под ее коленями содрогается земля.
— Не успеет! — Чакан высовывался из окопа и опять прятал голову.
— Где наши батареи?! — в тоске стонал Дмитрий. Он вылез из окопа, стоя на бруствере во весь рост.
— Это разгром, — хватаясь за трубку полевого телефонного аппарата, сказал Синцов.
— Только без истерик, — отбирая у него трубку, холодно посоветовал Луговой.
Над окопами вспорхнули желто-белые барашки. Открыли огонь противотанковые ружья. На левом фланге, выскочив из окопов, побежали назад группки людей. Спустившись с кургана, Луговой по ходу сообщения направился наперерез.
Тяжело перевалив через бруствер, Фрося бессильно сползла в окоп. Сразу протянулось много рук, снимая у нее со спины раненого.
На секунду Фрося закрыла, но тут же открыла глаза.
— Пить! — И, задрожав ресницами повторила: — Он просит пить.
Когда Луговой спустился вниз, пушки ИПТАПа уже открыли по танкам огонь, а дрогнувшие на левом фланге люди вернулись в окопы. Первые залпы пришлись по центру наступающих немецких танков. Над двумя машинами заколыхался темный дымок. Запахло гарью. Поворачиваясь бортами к окопам, танки стали уходить.
— Бронебойщики! — скомандовал Дмитрий Чакан.
Теперь уже противотанковые ружья ударили по боковой броне танков. Из пробоин хлынул дым. Смешиваясь с пылью, поднятой разрывами снарядов, он черным облаком заколыхался над степью.
— Тикают, товарищ майор! — боком протискиваясь по узкому ходу сообщения вслед за Луговым, сказал Остапчук.
Перед окопами остались догорать подожженные снарядами машины. Высокое зарево осветило угрюмую степь.
Но один из танков, не развернувшись, продолжал упрямо лезть вперед. Его остановил снаряд, в упор угодивший в башню. У самой линии окопов танк приподнялся, словно готовясь к прыжку, и тяжело рухнул, медленно сползая по брустверу. Из развороченной прямым попаданием башни вырвалось пламя. Столб дыма вертикально поднялся к небу. И долго еще там слышался сухой и частый треск. Рвались внутри танка нерасстрелянные патроны и снаряды. Долго над тем местом витал смешанный душок плавленного металла, бензина, масла. Золотистое пламя шелушило краску на танке, карежило стальные плиты, лизало нарисованного на лицевой броне танцующего медведя.
Из окопов встали темные фигурки людей. Они побежали на бугор вразброд, пригибаясь и часто падая. Казалось, их притягивает к себе неласковая песчаная земля. Впереди двигалась завеса артогня.
У окраины селения она разомкнулась, спешенные эскадроны хлынули в пролом. Вздыбленная артиллерийским валом бурая мгла поглотила их.
12
Занятое селение курилось дымом. Обугленные стены глинобитных домиков дышали жаром. Копошились на дороге саперы, вынимая из земли белые, красные и зеленые ящички и складывая их в штабеля на обочину.
— Мины! — разгибаясь, крикнул Луговому один из саперов, старший сержант.
Пошел снег, смешиваясь с копотью и чернея на глазах. Вдруг лошадь Лугового, захрапев, шарахнулась. Поперек дороги, распахнув полы серо-зеленой шинели, лежал убитый немецкий солдат. Выражение изумления застыло на совсем молодом, почти юношеском лице. Снаряд вырыл рядом с убитым совсем маленькую лунку. Отброшенная взрывом, валялась на другой стороне улицы каска. Падающий снежок таял на еще не остывшем лице убитого. Кровь, растекаясь из-под шинели большой лужей, дымилась. Края лужи уже начали застывать.
Светило солнце, но морозный ветер сквозил из степи. На площади селения шоферы выцеживали из белых немецких бочек бензин. Возле колодца уже пристроился с двухколесной кухней эскадронный повар. Бренчащая котелками толпа окружила его.
У лафета брошенной немецкой пушки два казака, присев рядом на тюк сена, скоблили ложками котелки, переговариваясь.
— Подскочил я к амбразуре с гранатой, а их душ десять. Кровищи натекло по колено…
— А баранина жирная.
— Молодая.
Узкие улочки загородили машины, запрудили повозки. Подтягивались полковые тылы. Коноводы вели из степи лошадей.
На своем кауром, лохмоногом коне догнал Лугового ординарец.
— Всех раненых погрузили, — коротко доложил он.
Конь тяжело раздувал под ним боками.
Подъехал и Синцов, весело сказал:
— Еле нашел вас.
Лицо у него покраснело, глаза — как подернулись маслом.
— Нельзя было отказаться, — в ответ на вопрос в глазах Лугового оправдывался он. — Первый трофейный шнапс. Казаки первого эскадрона целых две бочки захватили. Думаю, по случаю первого дня наступления…
И его виновато-радостная улыбка обезоружила Лугового. День и в самом деле из всех предшествующих дней был первый. Проезжавший через площадь эскадрон нес с собой песню:
Соловушка прилетал, прилетал,
Соловьюшку выкликал, выкликал:
«Соловьюшка, вылетай, вылетай.
Соловушку принимай, принимай».
Блестели крупы лошадей. Вспыхивали подковы. На башлыках всадников таяли снежинки. Эскадрон, вытягиваясь из селения, уносил песню с собой:
Иванушка, отдари, отдари,
Два колечка положи, положи,
Два колечка золотых, золотых.
— С утра здесь «рама» появилась, — взглядывая на небо, сказал Синцов, — но потом ее отогнал наш «ястребок».
— Все равно прикажите немедленно очистить село. Всех людей, машины и повозки в степь. Чтобы ни души. — Луговой повторил — Ни души!
Синцов отъехал, и на площади селения тут же загремела его команда:
— Почему здесь кухня? Сейчас же убрать! Все обозы вывести в степь! Кто разрешил размещать здесь госпиталь? В буруны, в буруны! В степь!
Улицы селения быстро пустели. Последние машины и повозки вырывались в степь и замирали, втискиваясь между бурунами, под крутыми песчаными навесами. Ездовые стегали кнутами лошадей. Громыхая, промчалась кухня. Стало так тихо, что слышно было, как журчит, стекая с крыш мазанок, талан снеговая вода.
Первый заметил на восточной окраине неба крохотные черные крестики Остапчук.
— Товарищ майор, летят!
Луговому уже знаком был этот излюбленный прием немецких летчиков — заходить на цель со стороны солнца. Крестики быстро увеличивались в размерах, и надсадный гул, приближаясь, уже заполнял небо.
— Зараз начнут кидать, — сказал Остапчук.
Поочередно отделяясь от строя звена, «юнкерсы» почти отвесно соскальзывали вниз. Разрывы фугасок слились в один продолжительный грохот. Лугового толкнуло в грудь. Выходивших из пике «юнкерсов» сопровождала разрозненная стрельба из автоматов и пулеметов.
— Задымывся, задымывся! — закричал Остапчук.
Луговой перешел на другую сторону улицы. Два самолета, отбомбившись, набирали высоту, а третий, тяжело переваливаясь с крыла на крыло, кособоко пошел на снижение, оставляя за собой шлейф бурого дыма. Летчик, должно быть, попытался выровнять его. «Юнкере» задрал фюзеляж, круто проваливаясь, рухнул вниз. Из степи пришел раскатистый гул.
Но два «юнкерса» разворачивались для второго захода. Взяв у Остапчука автомат, Луговой ждал, когда они начнут снижаться.
— Еще лучше из пистолета, товарищ майор, — услышал он сзади себя женский голос.
Женщина в шинели прислонилась спиной к глинобитной стене дома. Руки она держала в карманах. Под серым мехом ушанки насмешливо поблескивали глаза.
— Сейчас же в щель, — холодно приказал Луговой.
— Ховайтесь, товарищ майор! — закричал Остапчук.
Опустив автомат, Луговой побежал за ним через улицу к большой, глубокой щели, вырытой между двумя домами еще немцами. Пробегая мимо женщины в шинели, он, схватив ее за рукав, потащил за собой.
— Пустите. Мне больно! — вырываясь, протестовала она.
Прыгая в щель, он толкнул ее вперед. Тут же вслед за грохотом посыпались на них комья земли. Бомба взорвалась рядом.
Запахло взрывчаткой. Луговой пошарил возле себя в кромешной мгле.
— Вы целы?
— Если не считать того, что вы вывернули мне руку, — враждебно ответила женщина.
Мгла постепенно рассеивалась. Луговой увидел, что женщина, сморщив лицо, держится за плечо.
— Могло быть хуже, — сказал Луговой.
— Благодарю вас, — она церемонно поклонилась, снимая ушанку и стряхивая с нее землю. Русые волосы упали ей на плечи. Она испуганно вгляделась себе под ноги: — Здесь полно мышей, — и подбирая полы шинели, по вырубленным в земле ступенькам быстро стала выбираться из щели наверх.
— Не исключен еще один заход, — предупредил ее Луговой.
— Вряд ли, — с уверенностью сказала она. — У них уже не осталось бомб.
— Откуда вы это можете знать? — уже наверху спросил у нее Луговой.
— Привычка. Обозы с красными крестами они бомбят охотней всего.
Теперь она почему-то показалась Луговому ниже ростом. Сшитая не по росту, шинель горбилась у нее на спине.
Она дотронулась до руки Лугового:
— Откуда у вас кровь?
— Зацепился за что-нибудь, — сказал он, натягивая на руку обшлаг шинели.
— Подождите, у меня с собой спирт. — Она достала из кармана шинели флакон и, сдвинув темно-русые брови, вытерла у него кровь на руке носовым платком.
Луговой заключил:
— Вы из корпусного госпиталя?
Туго затягивая под подбородком, она завязала на ушанке шнурки.
— А вы догадливы.
Он рассмотрел у нее на петлицах знаки.
— Но раньше вас там среди врачей не было.
Из-под цигейкового козырька ушанки она, прищуриваясь, взглянула на него.
— Сразу же всю анкету будем заполнять или оставим до следующей встречи?
Луговой молча дотронулся пальцами до края шапки и, ссутулив плечи, пошел к Остапчуку, который уже ждал его на другой стороне улицы с лошадью в поводу. Уже на середине улицы услышал вдогонку насмешливо-виноватое:
— Марина Дмитриевна Агибалова. Двадцать три года. Замужем.
Возвратился с правого фланга Синцов, которого Луговой посылал установить связь с соседом.
— Там уже много раненых, а машин нет.
— А повозки? — спросил Луговой.
— Все, что было в наличии, я на месте мобилизовал, но тяжело раненных до госпиталя долго везти. Здесь в лощине автоколонна стоит.
— Чья?
— Возят боеприпасы в ИПТАП. Обратно идут порожняком. Вполне могли бы на обратном пути заворачивать в госпиталь. Но командир автобата отказался.
— Почему?
— Говорит, большой крюк.
— Хорошо, я сам разберусь. — Луговой поискал вокруг глазами, и Остапчук тотчас же подвел ему лошадь. Уже с седла Луговой пристально взглянул на Синцова.
— Вы что-то еще хотите сказать?
— Я хотел сказать… — Синцов комкал в руках конец повода. — Вы оказались правы.
— Стоит ли об этом, Синцов? Ваше нетерпение тоже можно было понять.
Спустившись за бурунами в лощину и увидев автоколонну, Луговой подъехал к головной машине. Шофер в замасленном комбинезоне накачивал скат.
— Сколько вы сможете взять раненых? — спросил Луговой.
Поднимая голову, шофер с недоумением взглянул на него. Лязгнула дверца машины, из кабины выглянул капитан с петличками интенданта.
— Можно подумать, товарищ майор, что в автобате нет командира, — улыбаясь в глянцевито-черные усы, насмешливо сказал он.
— К вам обращался мой начальник штаба?
— И я ему сказал то же самое, что теперь скажу вам: не могу я делать крюк.
— Это по дороге.
— Да, но каждый раз надо будет терять целых полчаса. — Губы под черными усами капитана казались яркими, как у женщины.
— Они теряют кровь, — тихо сказал Луговой.
— Можно подумать, что я детские игрушки вожу. — И, считая разговор исчерпанным, капитан захлопнул дверцу кабины.
Луговой оглянулся на Остапчука, тот протянул ему свой автомат.
— А вы поезжайте за отделением казаков, — приказал ему Луговой.
Дверца кабины опять приоткрылась.
— За самоуправство вы можете попасть под трибунал.
Луговой смотрел мимо командира автобата в степь.
— Я буду жаловаться. — Капитан набросился на шофера, который, перестав завинчивать ключом гайки на диске ската и подняв лицо, слушал их разговор. — Ты еще долго будешь возиться? Езжай.
— Я буду стрелять по скатам, — предупредил Луговой. Капитан вылез из кабины, дотронулся рукой до стремени Лугового.
— Можно было и без этого утрясти.
Луговой по-прежнему смотрел мимо него в степь.
— Немедленно уберите руку.
13
Противник отходил на северо-запад. Бой перекинулся за высоты, выступающие справа от Моздока из синевы вечера. Туда все плотнее стягивался гул артбатарей, там взмывавшие над передним краем ракеты разливали по небу молоко матового света.
Бежала вдоль линии фронта черная «эмка». В стеклах трепетали отсветы орудийных залпов. Навстречу из открывшейся за перекатом балки вывернулась группа верховых.
— Рожков? — присматриваясь к ехавшему впереди на светло-рыжей кобыле всаднику, спросил Милованов у шофера.
— Он.
— Тормози…
На всех всадниках были синие чекмени, фуражки с красными околышами, лампасы. Лишь на переднем был короткий белый полушубок с серой оторочкой. Ехали верховые не спеша, сытые лошади, прядая ушами, прислушивались к их разговору.
— Не понимаю командования фронта. В Донском корпусе командиром должен быть казак.
— Вы ведь из Урюпинской, Сергей Ильич? — спрашивал Рожкова начальник штаба дивизии, в таком же, как у генерала, но только черном полушубке.
— Машина командира корпуса, — предупредил за спиной у них голос адъютанта Рожкова.
Заторопившись, Рожков остановил лошадь и, легко сбросив с седла свое грузное тело, быстрыми шагами пошел к остановившейся под буруном «эмке», поднимая руку к краю серой папахи.
— Докладывает командир первой гвардейской Донской…
— Почему отстали фланги? — перебил его Милованов.
— Я пошлю проверить. — Рука Рожкова, упав вниз, затеребила обшитые кожей пуговицы дубленого полушубка.
— Где ваш ка-пе?
— Мы как раз сейчас меняем место.
— И не ставите в известность штаб корпуса. Третий час вас ищу.
— Но, товарищ генерал… — сняв шапку, Рожков провел ладонью по вспотевшему затылку.
Взгляд Милованова упал на лошадь, которую держал в поводу ординарец Рожкова.
— Буденновская?
— Чистая донская, — тщеславно сказал Рожков.
— Хорошая лошадь. Фланги, — повторил Милованов и дотронулся до плеча шофера.
— Что мы могли сделать без артиллерии? — становясь на подножку его машины, обиженно заговорил Рожков. — Почти все пушки отдали Мирошниченко.
— Его дивизия прорывает.
— Но танки атакуют меня. Я к нему посылал офицера связи, просил помочь моему левому флангу.
— И он?
— Не поддержал.
Милованов повернулся к шоферу:
— К Мирошниченко!
Вспышки обозначали передний край боя. По извилисто прорытому в земле ходу, взбиравшемуся на курган, Милованов поднимался на командный пункт шестой дивизии. Шагавший впереди водитель освещал путь светом ручного фонарика.
— Вы, Кузьма Романович, еще бы повыше облюбовали курган, — протягивая Мирошниченко руку, сказал Милованов.
— С высокого, товарищ генерал, легче взлетать, — комдив шестой пошевелил углами прикрытых буркой плеч. Чем-то смахивал он на беркута — еще не старый, с сухим рыжеусым лицом, с крючковатым носом. В зеленовато-светлых глазах сквозила желтизна.
— Рожков жалуется на вас.
— За что? — Мирошниченко искренне изумился.
— Он помощи у вас просил?
— А… — открывая под усами зубы, Мирошниченко заулыбался. — Зачем же ему, товарищ генерал, против танков пушки, если он грозился войну в конном строю выиграть? Дай, говорит, только приодеть людей в чекмени и в лампасы, немцы одного вида казаков забоятся. Теперь у него уже вся дивизия с лампасами.
— Вот что, Кузьма Романович, — Милованов дружелюбно тронул Мирошниченко за руку. — С Рожковым вы можете вести теоретические споры на казачьи темы сколько угодно…
— Разве я против, товарищ генерал. Пусть умножает дедовскую славу.
Милованов движением руки предупредил его слова.
— Что же касается славы, то ее еще рано делить. Ни у вас, ни у Рожкова отдельной славы не будет. И умножать ее будем все вместе. Если же кто из вас отвернется от другого в трудную минуту, несмотря ни на что, под трибунал отдам.
— Я всегда готов, товарищ генерал…
— Вот и правильно, — Милованов спрятал улыбку.
— Я и теперь не отказывал ему, а только сказал, что снарядов у меня нет. Не подвезли, — провожая Милованова с кургана по узкому ходу сообщения, оправдывался Мирошниченко. Сквозивший ветер развевал борта его бурки. И опять он смахивал на большого взъерошенного беркута.
Уже поздно ночью Милованов вернулся из объезда дивизий и полков в штаб корпуса. В глинобитной мазанке, склонив голову на телефон, дремал дежурный. Услышав шаги, вскочил, одергивая сбившуюся под ремнем гимнастерку.
— Вернулся офицер связи, — доложил он Милованову, моргая сонными глазами.
— Пусть войдет, — Милованов, не снимая шинели, опустился на стул.
В печке потрескивали дрова, отраженный квадрат поддувала лежал на стене.
Вошел весь осыпанный снежной крупой капитан и, увидев низко склонившегося к столу генерала, остановился на пороге.
— Что же вы молчите? — Милованов поднял голову.
— Товарищ генерал, сосед справа отошел, — доложил офицер связи.
— Опять без предупреждения!
— Опять, товарищ генерал.
— Хорошо, идите в штаб. — Милованов снова уронил на стол голову.
Навалившийся сон смешивал обрывки мыслей: «…Отошел сосед? Какой сосед? Ах да, Гусаченко. На правом фланге полк Лугового, на него, кажется, можно положиться… Рожкова с Мирошниченко надо мирить… За правым соседом присматривать… присматривать… присматривать…»
Скрипнула дверь.
— Спит, — вполголоса предупредил вошедшего начальника штаба корпуса Ванина дежурный.
— Нет, не сплю, — возразил Милованов. Вставая со стула, он с ожиданием впился глазами в начальника штаба. — Докладывай.
— Оборона противника прорвана на фронте двадцать километров. Командиры дивизий ждут вашего приказа… — голос у начальника штаба вдруг сразу осел, прервался.
— Успокойся, Ванин, — Милованов взял его за руку и подвел к столу. — Садись и пиши… — Скользнув взглядом по раскаленной плите, Милованов продиктовал — Ввести корпус в прорыв.
14
Донские и кубанские казаки прорвали фронт справа от главной железнодорожной магистрали Баку — Ростов, и противник, закрываясь арьергардами в центре, стал откатываться на север, озираясь на свой левый фланг. На станции Минеральные Воды сорок немецких эшелонов образовали гигантскую пробку. На темно-серых стенках вагонов черными буквами аккуратно были выведены маршруты дальнейшего следования эшелонов: «Нах Армавир», «Нах Ростов».
Рядом с эшелонами стояли так и не дошедший до Грозного поезд с немецкими инженерами, назначенными на нефтепромыслы, и зеленый берлинский экспресс с офицерскими женами, ехавшими в Кисловодск на нарзанные ванны. Одноколейная магистраль, перешитая по немецкому образцу, не успевала пропускать эшелоны обратно. Тогда их стали жечь. Запылало облитое бензином дерево, запахло на станционных путях масляной краской. В товарных вагонах горела пшеница, свертывались в огне каракулевые шкурки, трескался вывезенный из пятигорских музеев фарфор. Густым жирным дымом окутывались на платформах подбитые в боях на Тереке и не доехавшие до тыловых ремонтных баз танки.
13-я танковая дивизия после понесенных потерь в начале января была временно выведена из боя. Но командир 50-й германской пехотной дивизии генерал-лейтенант Шмидт и командир 111-й пехотной дивизии генерал-майор Рекнагель надеялись задержать казачью конницу на Куме. За рекой сконцентрировались на хорошо подготовленных рубежах пять пехотных полков и два артполка. Орудия били с левобережья, из рощи. Немецкие саперы, подорвав единственный мост через Куму, затопили все паромы и лодки.
Корпус вышел на Куму в сумерки. Милованов вызвал к себе начальника инженерной службы.
— Сколько в корпусе понтонов?
— Ни одного, — смущенно ответил начальник инженерной службы.
— Лодки? Плоты? — спрашивал Милованов.
— Лодок и плотов тоже нет, товарищ генерал, — начальник инженерной службы в замешательстве теребил белую подстриженную бородку.
— Что же у нас есть?
Тот смущенно пожал плечами.
— Пока что только один начальник инженерной службы.
— А-а, ну идите, — с любопытством посмотрев на него, сказал Милованов. Он вдруг подумал, что смешно было бы предъявлять к нему требования. У него в самом деле пока еще ничего не было. И разве только у него? Всего месяц как сформирован был корпус и сразу же брошен в бой. Дивизии задыхались без машин, в полках ощущался недокомплект лошадей, артиллеристам часто приходилось катить пушки на руках. Не говоря уже о том, что сплошь и рядом, за исключением первой дивизии, личный состав корпуса по-прежнему щеголял в разноформенном обмундировании, которое придавало кавалеристам какой-то экзотический вид.
С невеселой усмешкой вспомнил он слова командующего войсками Северной группы Масленникова: «Была бы кость, а мясом обрастете. На марше все придет в норму».
Конечно, по-своему он был прав. Разве можно было бы теперь отводить какое-нибудь дополнительное время на доукомплектование корпуса и прочие внутренние его дела, если под Сталинградом уже началось. И нельзя было потерять ни дня, отбрасывая врага от Терека и Волги, куда он успел дойти за какие нибудь полтора года войны.
Но все же и за этот месяц удалось кое-чего добиться для корпуса. Милованову доложили, что на станцию Терек пришел первый эшелон с казачьим обмундированием. Но и станция Терек уже осталась почти в двухстах километрах за спиною корпуса, тылы не успевали за наступавшими полками. А как бы хорошо было именно теперь подвезти полученное обмундирование, приодеть казаков! Единая форма не только придает части совсем другой вид, но уже сама по себе способствует укреплению дисциплины. В этом вопросе Милованов целиком сходился с Рожковым, который всеми правдами и неправдами старался одеть своих казаков и успел в этом неизмеримо больше других комдивов.
— Не могу спокойно спать, когда люди без лампасов. Какие это казаки, — с возмущением говорил Рожков.
И повсюду рассылая своих интендантов, он заказывал в ближних и дальних тыловых городах чекмени, шаровары, раньше других ухитряясь получать по железной дороге грузы. Не раз Милованову приходилось выслушивать и жалобы на оборотливость командира первой дивизии. Но всякий раз, когда Милованов приезжал к Рожкову, его обезоруживал в первой дивизии порядок. Он видел одетых по всей форме и подтянутых казаков, сытых лошадей, налаженное хозяйство. В этом Мирошниченко, бесспорно, Рожкову уступал. Правда, и в дивизии Мирошниченко строго соблюдалась дисциплина, но люди у него псе еще ходили в стареньком, заштопанном обмундировании.
К тому же Рожков, рассылая своих порученцев по госпиталям, все больше укоплектовывал дивизию казаками, главным образом, уроженцами верхнедонских станиц, урюпинского и других юртов. Первая дивизия, скорее, похожа была на большое семейство, где людей связывали не только служебные узы. Отцы и сыновья служили в одних и тех же эскадронах. В каждом полку у Рожкова были земляки, которые видели и уважали в нем не только комдива, но и одностаничника, видного на Дону казака.
Теперь в наступлении первая и шестая дивизии все время шли рядом, соприкасаясь флангами, и на этой почве между ними нередко возникали осложнения. Милованову порой приходилось прибегать и к крутым мерам для того, чтобы взаимная ревность Рожкова и Мирошниченко не переросла во вражду. Думая об этом соперничестве, Милованов мысленно улыбался. Как часто взрослые, умные и уважаемые люди до самого конца несут в себе черты детства. Неприязнь между Рожковым и Мирошниченко, пожалуй, и сродни была тому наивному соперничеству, которое бывает среди детей. Но в конце концов, его можно незаметно направлять в нужное русло. Поручая Рожкову и Мирошниченко параллельные задачи, Милованов уже имел возможность убедиться, как их стремление опередить друг друга способствовало успеху всего корпуса.
Перед Кумой он пригласил их, обоих, к себе, передал разговор с начальником инженерной службы.
— По данным разведотдела, — сказал он, — Кума еще не замерзла, а лишь подернулась у берегов корочкой льда.
— Вот видите! — покраснев от удовольствия, сказал Рожков. — Рано сбрасывать коня со счета. Для танков понтоны нужны, а он и так переплывет.
Что ж, подумал Милованов, почему бы и не обрадоваться ему. И почему всегда обязательно надо усматривать слабость в том, что он так ревниво относится к лошади. Танки танками, но даже и там, где они, как это уже показало начало наступления, застревают из-за бездорожья, конь не только проходит сам, но и всадника несет на себе. Правда, за время наступления корпусу только один раз и пришлось атаковать противника в конном строю, но по сведениям того же разведотдела, добытым у пленных, слух об этой атаке уже распространился по всему фронту отступающих немецких войск, и это уже сеет панику у них в тылах.
— А как же, Сергей Ильич, если казаки новые шаровары с лампасами намочат? — улыбаясь в подстриженные рыжеватые усы, не удержался Мирошниченко.
— Я сам поплыву! С первым эскадроном! — отрубил Рожков.
Милованов поспешил вмешаться.
— Ну, самому незачем, Сергей Ильич. Я давно уже хотел вам сказать: под огонь лезете. Говорят, вас силой приходится удерживать в штабе.
— Это явное преувеличение, Алексей Гордеевич, конечно, если требует обстановка… — Самолюбию Рожкова льстила репутация храброго командира, которая сопутствовала ему в корпусе.
В полночь казаки, раздевшись, спустились к Куме, держа лошадей в поводу. Сухой морозный ветер обжигал, как огонь. Лошади упрямились вступать в студеную воду.
— Вот тебе, Куприян, и крещение! — сказал Чакан, оглядывая и потирая жесткими ладонями свои покрывшиеся гусиными пупырышками бедра.
— А что это у тебя за ладанка на шнурке? — поинтересовался Зеленков.
— Это мне Татьяна земли из нашего сада в тряпочку зашила, — смущенно ответил Чакан. — Ну, господи благослови. — Он первый вошел в воду.
Холодная вода сводила судорогой, проникая до костей. Казаки плыли рядом с лошадьми. К лукам седел приторочили оружие и одежду.
Немецкий часовой на крутом берегу Кумы внезапно увидел: из воды выходят белые голые фигуры, фантастические при свете луны и молча, на четвереньках карабкаются на обрыв.
Немецкий часовой вскинул автомат, но цыган из полковой разведки, прыгнув на него сзади, опрокинул на землю. Автомат, описав в воздухе дугу, булькнул с обрыва в воду.
15
Все время — степью, балочками и толоками. Ночами пылающие скирды озаряли путь. Ветер кружил поземку вместе с золой. На обочинах — кучки сгоревшего металла, гладкие, как голыши, немецкие каски, зияющие жерла воронок. Порывом ветра сдует поземку, и оголится зеленая пола мундира, конвульсивно сжатая рука, белое, выжатое морозом лицо трупа. В синем, вьюжном дыму колеблются дорожные вехи.
Рыхлый траковый след перепахал поле озимки. Поникли придавленные гусеницами изумрудные ростки. Вдоль лесных полос пулеметный огонь посек молодые деревца. Обугленные пеньки глядят из-под снега. Горько дымится земля. Едва орудийное эхо уходило на запад, как на пепелищах своих домов уже появлялись хозяева. Из обломков камней, из кусков кровельной жести они начинали строить себе жилища, а там, где уцелели стены, закладывали бутылочным стеклом пустые окна, и вот уже за окном слышался крик ребенка, из трубы поднимался дым. Женщины везли откуда-то на ручных тачках столы и табуретки, кастрюли, цветочные горшки. Черные пустыри кишели, как муравейники. На голом месте, на золе, на глазах вырастали улочки и переулки.
За две ночи Луговой не сомкнул глаз. Все время в седле, из эскадрона в эскадрон, с батареи на батарею. Тяжелую голову клонило к холке лошади. На третий день Остапчук нашел ему квартиру в чудом уцелевшем доме на окраине занятого полком хутора. Молодая черноглазая хозяйка проворно вымыла пол в горнице, затопила печь, собрала на стол. Луговой поманил к себе трехлетнего сына хозяйки. Он слышал, как мать называла его Сережей. Посадив мальчика к себе на колено, спросил:
— Где твой папка, Сережа?
— На войне, — неохотно ответил мальчик, засунув в рот грязный кулачок. Из-под крутых бровей на Лугового недружелюбно смотрели черные, как у матери, глаза.
— А что же он там делает, твой папка, на войне?
Мальчик тревожно взглянул на мать быстрыми глазами.
Осторожно спросил:
— А ты, дядя, кто такой, немец или русский?
— Русский, русский я. — Луговой рассмеялся, достал из кармана кусок сахару. — Возьми, Сережа.
Хозяйка метнула на Лугового благодарный взгляд.
Мальчик снова взглянул на мать черными, как сливы, глазами. Он явно находился в затруднении. Выручая сына, хозяйка сказала:
— У наших соседей офицер остановился, танкист. Вот так же девочке немецкую шоколадку дал и про отца спросил. А она возьми и ответь ему: на фронте немцев убивает. Тогда он вынул пистолет и прямо в нее…
После обеда Луговой вышел во двор, грустным взглядом окинул его. И здесь война оставила свой след. Артиллерийский снаряд вырыл перед самым крыльцом воронку, разбросав по всему двору комья земли. Угол крыши дома был начисто сметен воздушной волной. Лежали на земле сорванные с петель ворота. Подпирающие с тыловой стороны дом столбы подгнили, грозили рухнуть. Отсутствие хозяина пагубно отразилось на хозяйстве. Из всех углов глядело запустение, ко всему время было приложить мужскую руку.
Луговой взял молоток, подправил ворота, надел их на петли. Остапчук подставил лестницу к стене дома, перекрыл угол крыши, потом приволок с улицы на плече поваленный телеграфный столб и, распилив его на два, подпер ими сзади дом. Вздохнув, Луговой отметил про себя, как не хочется его руке расставаться с молотком.
Как видно, и Остапчук в этот момент думал о том же. Но, по обыкновению, мысли свои он выразил немногословно:
— Ох, и лютую же я зараз, товарищ майор, на него, — сказал он, яростно обстругивая топором стойку для забора.
— На кого, Остапчук? — спросил Луговой.
— На Гитлера. У меня в Гарбузинке жинка тоже осталась с дитем одна. — И Остапчук одним ударом топора вогнал стойку в землю.
Ему, судя по всему, эта работа была знакома. Пока Луговой ремонтировал ворота, он успел и угол крыши перекрыть, и навоз, раскиданный по двору, сгреб в одну кучу в углу двора, и заканчивал ставить на место опрокинутый и разметанный взрывной волной забор. У хозяйки, вышедшей из дверей но воду, попадали порожние ведра из рук.
— Люди добрые!.. — сказала она, заплакав.
Вечером в горнице пили чай. Остапчук спал на передней половине дома, рассыпая густой храп. Хозяйка сидела против Лугового, откусывая сахар острыми, мелкими зубами, сдувая губами с блюдца пар. Она раскраснелась, на лбу у нее выступили капельки пота. Днем ее внешность не особенно обратила на себя внимание Лугового, теперь же, разгоряченная, с заискрившимся взглядом, она явно похорошела. К тому же на вечер она принарядилась, надела синее платье, накинула на плечи белый пуховый, козий платок. Со смешанным чувством жалости и восхищения Луговой смотрел на нее, подумав, что война внесла в жизнь женщины, может быть, даже больше изменений, чем в жизнь мужчины. Ему, по крайней мере, на роду было написано держать в руках винтовку или автомат, а вот на ее плечи, кроме обычных женских забот, теперь упало еще и непосильное бремя выполнять всю мужскую работу. Сколько раз уже Луговому приходилось слышать в тех местах, где проходил полк, как женщины пели горько-веселые частушки: «Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик». Сколько видел он их еще в дни отступления, бредущих с ручными тележками по дорогам на восток, а теперь видит с этими же самыми тележками возвращающихся в родные места.
Но что ожидало их там: груда камней на пожарище? Кучка пепла? Торчащая в небо обугленная труба? Как птахе, нужно будет теперь опять по прутику свивать домашнее гнездо, собирать топливо, добывать для детей пищу. И все сама, одна, без чьей-либо помощи! Где уж тут подумать о себе? Может быть, иногда мельком и взглянет в осколочек зеркальца, увидит потемневшее от усталости лицо, преждевременную паутинку морщин возле глаз. И вечером не у кого выплакаться на плече. Муж далеко, а проезжему военному квартиранту разве откроешь душу?
Под взглядом Лугового хозяйка смутилась, поставила блюдце на стол. Может быть, она по-своему истолковала его взгляд, маленькие уши у нее запылали. Вдруг она засмеялась и низким голосом спросила у Лугового:
— А у вас есть жена?
— Как вам сказать… — неопределенно ответил Луговой.
Не мог же он ответить сейчас этой совсем не знакомой ему женщине на тот вопрос, на который еще и сам себе пока не смог ответить. Он и сам еще не знал, как в дальнейшем может сложиться его семейная жизнь после того, как перед самой войной его жена уходила от него на неделю к своему бывшему, освобожденному из тюрьмы мужу, а через неделю вернулась, сказав, что у нее будет от Лугового ребенок. И теперь она с трехлетним сыном ждет окончания войны в эвакуации в Средней Азии.
Но хозяйка вправе была по-своему истолковать замешательство Лугового и засмеялась еще более откровенно:
— Да так прямо и говорите, что вы, военные, все теперь холостые. Давайте, я вам лучше постель разберу, а то вы давно уже клоните голову к столу, как мореный конь. Устали?
— Устал, — признался Луговой.
Ему и в самом деле давно уже страшно хотелось спать. Углы комнаты, как в тумане, плыли перед глазами, он вздрагивал, открывал глаза и старался не мигая смотреть на огонь лампы, но голова опять падала вниз.
Хозяйка взбила перину, разостлала свежую простыню, надела на подушки чистые наволочки. Прикрутив фитиль лампы, легла на русской печке рядом с сынишкой, сладко почмокивающим во сне. Долго прислушивалась к дыханию гостя в темноте. Вечером за столом он смотрел на нее таким взглядом, что даже в краску вогнал, а как только она постелила постель, упал, как сноп, и сразу затих. Хороший, видно, человек — сына посадил на колени, ворота подправил, а по разговору — городской и какой-то большой командир.
Забормотал во сне мальчик. На передней половине дома храпел Остапчук.
Утром она вышла проводить Лугового на крыльцо. За ее юбку держался сын, исподлобья поглядывая на Лугового.
— Спасибо вам, — садясь на лошадь, сказал Луговой.
— Не за что, — ответила она. — Вам спасибо…
Он удивленно поднял лицо.
— За что?
Вдруг заплакав, она круто повернулась и ушла в дом.
Покачиваясь в седле, Луговой первое время еще думал о ней и возможной причине ее слез, но потом его мысли стали разбредаться, и он уже не мог собрать их воедино. Лошадь шла иноходью, равномерное покачивание в седле погружало в дрему. Сбоку проплывали морозные, сияющие кусты татарника, тонкие вешки в белых от снега соломенных шапках, обледеневшие курганы — неизменные сторожа этих степей. Все это уходило назад, беспрестанно сменяясь, возникая перед глазами и исчезая. И так же сменялись, появляясь, и куда-то уходили обрывки мыслей, чьих-то услышанных слов, картин минувшего боя… Раненые на горящем поле… танки… желтый беркут в небе… попеременно то веселое и красное, то виноватое и бледное лицо Синцова… Бомбежка. Женщина со знаками военврача, и ее блестящие глаза из-под серой цигейки. И, как это часто бывает с людьми, когда самая важная мысль вдруг сама собой задерживается в сознании, отстраняя все другие мысли, возникшее перед глазами Лугового насмешливое лицо сразу же заслонило все то, о чем он до сих пор думал.
16
Он снова встретился с ней, объезжая растянувшиеся колонны полка. Мост через узкую, но глубокую и пока еще не замерзшую Куму был подорван немцами, и ездовые правили лошадей вброд, по каменистому дну. Зеленый фургон с красными крестами по бокам и наверху провалился передними колесами в скрытую водой яму. Объезжающая повозка осью зацепилась за его ось, и они перегородили речку. Ездовые соскочили с бричек в воду, схватились за грудки, ругань повисла над рекой. На берегу, ломаясь зигзагами, вытянулся хвост машин и повозок.
— Сейчас же прекратить! Где начальник госпиталя? — осаживая лошадь, сказал Луговой.
Ездовые отскочили друг от друга, как испуганные петухи. Худощавый казак в залатанном чекмене, с усилием опуская по швам вздрагивающие мелкой дрожью руки, ответил:
— На последней бричке. В хвосте нужно искать.
Подъезжая к хвосту колонны, Луговой встретился взглядом с блестевшими из-под серого меха ушанки глазами. Он почему-то сразу решил, что она и есть начальник госпиталя. И она, тоже узнавая его, дружелюбно улыбнулась.
— Здравствуйте, товарищ майор.
— Вы в хвосте колонны, а впереди — пробка, — придерживая лошадь, сухо сказал Луговой.
— Я думала здесь уместней, чтобы не отставали. Хорошо, я проеду вперед, — согласилась она, с испугом, как ему показалось, вскидывая на него ресницы. Луговой тотчас же раскаялся в своем враждебном тоне, но все же, не меняя его, продолжал:
— Госпиталь все время отстает.
— Но разве мы виноваты? Командир автобата капитан Агибалов вечно отказывает в машинах, — запальчиво сказала она, вспыхнув. В темных зрачках ее засветились злые огоньки.
— Вы сказали — Агибалов? — спросил Луговой.
— Да. Нет, он мне не однофамилец, а муж, — вдруг сказала она. — Но это еще хуже. Ему кажется, что так легче настаивать на своих супружеских правах. — Она зябко поджала под себя ноги.
Внезапно Луговой с оскорбительной отчетливостью представил себе рядом с ее лицом черноусое самоуверенное лицо командира автобата.
Ему уже надо было возвращаться на КП полка, но он медлил. Его лошадь шла рядом с ее бричкой. Она сидела сгорбившись, натянув рукава шинели на озябшие руки. Под колесами подвод, под копытами лошадей хрустел мерзлый снежок.
— Вы тогда вправе были рассердиться на меня, — после молчания заговорила она, глядя на него со своей брички снизу вверх. — Нет, нет, — остановила его движение, — за мной это водится. И уже после я вспомнила, что почти такое же лицо было у вашей сестры Анны, с которой я училась вместе до девятого класса. Я в Ростове у вас часто бывала дома.
— Но я почему-то вас совсем не запомнил, — виновато сказал Луговой.
— Еще бы. Вы уже тогда готовились в военную академию, а мы были для вас мелкотой с косичками.
— Вы в своей шинели скоро совсем замерзнете. Разрешите, я пришлю вам полушубок и валенки, — вдруг предложил Луговой.
Она внимательно посмотрела на него. Он внутренне ожесточился, боясь, что она снова истолкует его слова иначе, чем он думал. Но она сказала:
— Спасибо. Вам что-нибудь известно об Анне?
— Только то, что она осталась с больной матерью. — Он неуверенно спросил — А, может быть, вам?..
Она покачала головой.
— Откуда мне знать. Но будем надеяться, что скоро мы уже все узнаем.
— Да, да, скоро. — Он заторопил свою лошадь.
Объезжая растянувшийся полк, он поехал обочиной дороги. Над рядами всадников колечками вился махорочный дымок, плескался ленивый говорок.
— Дома у него, значит, законная осталась, а здесь пе-пе-же.
— А что это такое, Степан? — спрашивал другой голос.
— Как тебе расшифровать…
Над рядами взметнулся хохот.
Дав шпоры лошади, Луговой поскакал вперед, вдоль длинной, далеко растянувшейся колонны полка.
17
На усадьбе ставропольского овцесовхоза ночью застигли и дотла вырубили 82-й эскадрон из дивизии, навербованной бывшими царскими полковниками Елкиным и Однораловым в ростовской и в краснодарской тюрьмах частично из «мокрушников» и «медвежатников», а частично из находившихся с 1930 года в бегах от коллективизации вплоть до прихода немцев добровольцев. Предварительно пропускали их через строгий фильтр в гестапо, а чтобы окончательно отрезать им все пути назад, заставили участвовать в Ростове, Краснодаре и Ставрополе в расстрелах партизан, коммунистов, евреев и цыган. Когда навербованных таким образом впервые одели в казачью форму, они с любопытством рассматривали на своих синих шароварах красные лампасы.
Сперва дивизии поручили вести полицейскую и карательную службу, а когда германское командование на Северном Кавказе, затыкая бреши в своем прорванном фронте, бросило ее в бой, она в первом же столкновении с Кубанским и Донским казачьими корпусами рассеялась. Из остатков ее по приказу фельдмаршала Листа и сформировали 82-й отдельный кавэскадрон.
Казаки Донского кавкорпуса застали его на усадьбе овцесовхоза спящим. Выскакивающие из окон в одном белье никли, как лозы, под ударами шашек. Но сам командир эскадрона Харченко, бежавший перед войной с Соловецких островов, и на этот раз все же успел скрыться. Прыгнув с крыльца на лошадь и перемахнув через забор, ушел от погони. Белое пятно нательной рубахи кануло в ночной мгле.
Однако в дальнем углу усадьбы, между флигелем чабанов и овчарней, с храпом лошадей долго еще смешивался посвист стали. Единственный из 82-го кавэскадрона, еще не зарубленный казаками, всадник с кудлатой непокрытой головой никак не хотел сдаваться в плен. Высок и силен был под ним вороной жеребец. Когда надо было, всадник поднимал его на дыбы, кругообразно отражая сабельные удары. Зеленков пробовал достать его концом своей шашки, но всадник мгновенным поворотом отпарировал его удар и вышиб из руки Куприяна шашку. На помощь Зеленкову поспешили Титов и Ступаков. Опытный и упорный противник попался им.
— Стойте, стойте! — вдруг крикнул им Манацков. — Обождите чудок! — Держа шашку наизготове, он притерся поближе к кудлатому всаднику.
— Ты, Иван Фомич?
— Я, — растерянно ответил тот.
Шашка, вдруг выскользнув у него из руки, но самый эфес воткнулась в сугроб снега.
— Давно же мы не виделись. — И, подъезжая к нему вплотную, Манацков быстро перехватил запястье его правой руки своей рукой. — Станичники мы, — радостно объяснил он окружившим их казакам. — Иван Фомич Попов у нас мельницей владел, а в тридцатом году в Раздорской амбары поджег. До самого Новочеркасска зарево видно было. Помнишь, Иван Фомич?
Всадник не ответил ему. За одну руку его крепко держал Манацков, другая безвольно повисла вдоль туловища.
Манацков засмеялся.
— На всю степь светило. А с тридцатого, Иван Фомич, когда сослали тебя в Нарымский край, ничего не слышно было о тебе. Ты что же из Парыма перед самой войной убег?
На этот раз всадник кивнул головой. Все его поведение, весь облик выражали полное безразличие к окружающему.
— А когда пришли немцы, сразу же пришел к ним, да? Как ты сам думаешь, Иван Фомич, что тебе за это может быть? С пленными немцами у нас один разговор, а с такими, как ты…
При этих словах Манацков вдруг, отпуская руку всадника, вскинул на уровень его груди свой автомат. Казаки расступились.
Здесь только всадник, видно, понял наконец, что ожидает его. Замычав, он взметнул своего жеребца на дыбы и бросил его в образовавшийся проход, расшвыривая на две стороны Ступакова и Титова. И ему, пожалуй, тоже удалось бы, как до этого командиру 82-го отдельного кавэскадрона Харченко, раствориться в ночной мгле, если бы его земляк Манацков не был в станице Раздорской до войны таким охотником, что ему редко когда приходилось ошибаться. Уток и гусей он бил в лёт, а когда устраивались облавы на волков, станичные охотники всегда только на него выгоняли зверя.
Не ошибся он и на этот раз, запрокинув и надвое переломив назад своего одностаничника всего одной-единственной очередью из своего автомата.
18
Командир 13-й танковой дивизии генерал Шевелери пригласил к себе командиров полков. Генерал занимал большой, красного кирпича особняк в центре хутора Лепилина. Из особняка выселили амбулаторию, но в чистых, высоких комнатах держался лекарственный запах. Окна выходили на площадь. В просвете единственной, надвое разрезавшей хутор улицы искрилась снегом степь.
Командиры полков собрались к десяти часам утра. Генерал еще не выходил. За белой с голубыми прожилками дверью, ведущей в его спальню, слышались позевывания, кашель, шорох одежды.
Боком протискиваясь из двери, денщик пронес из спальни к выходу завернутую в бумажный футляр ночную вазу. Командиры полков дружно отвернулись и стали смотреть в окно. Только тучный, лысеющий командир 4-го танкового полка продолжал смотреть прямо перед собой с ледяным безразличием к окружающему.
— Подполковник фон Хаке явно не в духе, — наклонился к соседу командир 93-го полка гренадеров Польстер.
Сосед его, с погонами артиллерийского подполковника, улыбнулся.
— В последнем бою с донской конницей он восемнадцать машин потерял…
— А-а… — откачнулся Польстер от соседа и с сочувствием стал смотреть на выбритое, с застывшей гримасой брезгливости лицо подполковника Хаке.
Распространяя запах одеколона, вошел со двора адъютант. Оставляя мокрые следы на полу, положил на стол пачку газет. Хаке, потянувшись, ровным движением достал со стола газету. Серые холодные глаза пробегали лист.
— Прочти, Кюн, что «Ангрифф» пишет, — сказал он с судорожным смехом, протянув газету подполковнику с погонами артиллериста.
Тот взял газету двумя пальцами, оглянулся на дверь и, минуту поколебавшись, стал читать приглушенным голосом:
— «Берлин. Вот уже несколько недель, как на всем протяжении Восточного фронта, простирающегося от Черного моря и снеговых вершин Кавказа, через жизненные центры России, области Дона и Волги, до заключенного в мертвом кольце Ленинграда, идут жестокие бои. Как по сообщениям самих большевиков, так и по оценке германских военных кругов, характер отдельных и взятых в целом боев напоминает зимнее наступление большевиков в прошлом году, когда сталинские генералы, бросая в бой небывалое количество бойцов и боевых средств, пытались добиться поворота в ходе нынешней войны. Бели принять во внимание, что на огромном протяжении (более 2000 километров) немыслимо создание непрерывного фронта, классическим типом которого был, например, французский фронт во время прошлой мировой войны, то понятно, что союзные войска оси сплошь и рядом должны ограничиваться защитой важных стратегических пунктов. Только этим и можно объяснить, почему большевики порой могут сообщать об успехах местного характера. Решающее значение имеет то обстоятельство, что большевикам не удалось даже приблизиться к главной линии фронта германских и союзных армий. О прорыве этой линии, конечно, говорить не приходится… Местами бои доходят не только до рукопашной схватки, но и до единоборства. От стойкости и решимости часто зависит судьба целого боевого участка. Маневренная оборона, которую ведут германские войска, ставит повышенные требования к среднему и высшему командному составу».
— Однако, что они называют главной линией? — сворачивая газету, вполголоса спросил артиллерийский подполковник, ни к кому не обращаясь. Фон Хаке пожал плечами. Грузный, стареющий командир 66-го полка гренадеров подполковник Рачек с горькой иронией сказал:
— В последних боях я потерял две трети полка. Что они еще могут от меня потребовать?
Ему никто не ответил. За окнами клубилась белая, вьюжная муть.
В углу кабинета на стуле; сидел человек в казачьей порыжевшей папахе, но в сером мундире германского офицера. За космами низко надвинутой папахи под крутым лбом прятались глаза. Большие красные руки лежали на коленях. Между колен свесился на ремне кавалерийский маузер, почти касаясь пола желтым деревянным чехлом.
— Какое дегенеративное лицо. Кто это, Кюн? — тихо спросил Польстер.
— Это Харченко. Он в Краснодаре у большевиков сидел в тюрьме, — отчетливо выговаривая русскую фамилию, сказал артиллерийский офицер.
— А-а, этот эскадрон…
— Вот-вот, всякий сброд…
— Он, кажется, бежал с каторги?
— У русских это называется Соловками. Можешь говорить громко, он по-немецки — ни слова.
Вошел адъютант и замер около белой двери.
— Генерал-майор фон де Шевелери, — строго сказал он, открывая дверь.
Вошел генерал. Командиры полков дружно повставали, вскинув правые руки и наклонив четыре коротко остриженные головы.
— Да, да, — рассеянно сказал генерал, проходя к столу. — Садитесь, господа.
Командиры полков сели, согнув ноги под прямым углом. Генерал зашуршал на столе газетами. На выутюженном рукаве блеснула дивизионная эмблема — оранжевый круг с двумя перекрестами. Глаза пробежали газетный лист. По тонким губам скользила усмешка.
— Вы читали, что пишут на родине, господа? — спросил генерал.
Командиры полков наклонили в знак согласия свои коротко остриженные головы. «Четверо — и все подполковники», — подумал генерал. Человек в косматой казачьей папахе стоял в углу, придерживая рукой маузер. Генерал остановил на нем взгляд, но сказал адъютанту:
— Господин Харченко пусть подождет.
Человек в папахе вышел, гремя тяжелыми сапогами. Генерал проводил его глазами. Опускаясь в кресло, положил на стол белые, с длинными пальцами руки, повернул к командирам полков худое лицо:
— Должен вас познакомить с новым приказом, господа…
19
Генерал Шевелери принадлежал к старинной юнкерской фамилии, носил два дворянских титула. Вторым титулом деда Шевелери наградил Наполеон. Когда-то это составляло предмет родовой гордости семейства Шевелери. Но с недавних пор времена переменились. За грехи деда пришлось расплачиваться генералу. В 1933 году раздались первые голоса об отклонениях в генеалогическом дереве Шевелери. За генерала вступился рейхсвер. Впоследствии ему приходилось неоднократно давать объяснения в ведомстве, которое возглавлял Альфред Розенберг. Частица «де» причиняла немало хлопот. Однако все нападки прекратились, когда дивизия генерала Шевелери вступила в пределы Франции. Все сомнения в преданности генерала новому режиму окончательно рассеялись после того, как он на Сомме приказал сжечь французскую деревушку за убийство германского солдата. Тем не менее в офицерском корпусе за генералом укрепилась репутация франкомана. И на Восточный фронт адъютант выписывал к столу генерала французские вина: шабли, бордо, барзак, вувре-шамбертон, но чаще всего шатонеф дю пап. Говорили, что вместе с частицей «де» генерал унаследовал от своих предков и чуждую вестфальскому немцу сентиментальность. Из главной квартиры сделали запрос по поводу последней выходки генерала на Восточном фронте во время расстрелов в Моздоке. Когда оберштурмбанфюрер СС представил ему на утверждение порядок экзекуции, Шевелери потребовал: «Но только чтобы были соблюдены все необходимые правила гуманности». — «Как?» — озадаченно спросил оберштурмбанфюрер. «Вы практикуете в эти… тягостные минуты отделять детей от матерей. Настаиваю, чтобы это было прекращено», — твердо сказал генерал.
Однако этот эпизод уже не мог поколебать положения Шевелери. Гудериан причислял его к своим ученикам. За восточный поход фюрер пожаловал генералу Шевелери дубовые ветви к железному кресту. Командуя 13-й танковой дивизией, Шевелери дошел до Терека. Фон Манштейн в особых случаях всегда прибегал к его помощи. 13-ю дивизию бросали то под Владикавказ, то под Моздок, а в средних числах декабря фон Манштейн, пригласив генерала перед своим отъездом под Сталинград, поставил перед ним новую задачу: «Вы будете, граф, прикрывать левый фланг всей нашей кавказской группировки, — и, глубоко затянувшись сигарой, пояснил: — Какая-то кучка казаков угрожает нашим коммуникациям. Я уверен, граф, что ваши танки и ваши гренадеры сумеют их образумить».
С этой задачей Шевелери и приехал в буруны. Он не сомневался, что при первом же столкновении его танков с конницей противника преимущество останется за танками. В памяти генерала еще жив был случай, когда французы бросили на Сомме две кавалерийских бригады с обнаженными палашами против его панцирной дивизии. Танки расстреляли и передавили большую часть лошадей и всадников.
Не собиралась ли и русская конница повторить маневр французов? Но в первом же бою под Ага-Батыром 13-я дивизия была жестоко потрепана казачьей конницей. У генерала были сведения, что казаки скапливаются под Кизляром. Дивизию отделяли от них по меньшей мере пять конных переходов. За это время можно было с успехом подготовиться к встрече. Но казаки внезапно атаковали дивизию на третий день. Дивизия Шевелери откатилась сразу на восемьдесят километров. И наступали казаки не в конном строю, а в пешем. За три года войны генерал привык диктовать свою волю противнику, теперь у него отнимали это преимущество. После прорыва под Ага-Батыром не только для 13-й дивизии, но и для всей кавказской группировки создалась тревожная обстановка. За ударом русских на левом фланге последовали удары справа и в центре. Пал Моздок. Начинался общий отход от Терека. Конечно, кроме местных причин, имелись для этого и причины другого порядка. Надо было оглядываться назад, на узкое горло между Доном и Волгой. Последние вести оттуда были малоутешительны. Горло сузилось, и русские, кажется, действительно держали Сталинград крепкой хваткой. И трудно было сказать, сумеет ли Манштейн пробиться из района Котельниково на помощь к Паулюсу. От Манштейна можно многого ожидать, но Шевелери все больше проникался убеждением, что времена переменились. Новые факторы стали влиять на военную обстановку. Из главной квартиры только что получен приказ: отступая в общем направлении на северо-запад, выводить главные силы из-под удара. Очевидно, в ставке фюрера тоже с беспокойством взирали на горло между Сталинградом и Ростовом. Но как можно выйти из-под удара, если противник дышит прямо в спину, все время навязывая бой и не давая дивизии оторваться? Минувшей ночью у генерала созрел план. Если продумать все детали, можно получить некоторый реванш за Ага-Батыр. Во всяком случае, дивизия сможет оторваться от казаков по меньшей мере на одни сутки. Но предварительно нужно было посоветоваться с командирами полков. С некоторых пор, принимая решения, приходилось быть вдвойне осторожным. Генерал не мог брать всю ответственность только на свои плечи. В случае неуспеха всегда найдутся скептики, вроде этого самоуверенного фон Хаке. Генерал пригласил командиров полков для того, чтобы уточнить с ними обстановку и познакомить их со своим планом.
— Это в случае удачи, а в случае неудачи? — осторожно спросил Польстер.
— Мы остаемся в прежнем положении, — холодно сказал Шевелери. Он ревниво относился к своему плану.
— Будем надеяться, что на этот раз противник не окажется дальновиднее нас, — вставил фон Хаке. Это был явный намек на ага-батырское поражение. Генерал молча пожал плечами. В конце концов, он ничего другого от этого Хаке не ожидал.
— У меня осталась третья часть полка. Тридцать машин и двести людей, — сказал Рачек.
— Но, как я понимаю, для выполнения этого плана мы должны пожертвовать жизнью одного из наших офицеров? — спросил командир 13-го артполка подполковник Кюн.
— Щекотливую часть мы поручим этому… — генерал пощелкал пальцами.
— Харченко? — подсказал Кюн.
— Да. — Генерал Шевелери помолчал и добавил: — Предупреждаю, господа: мобилизовать все, до последней машины. К утру дивизия должна быть за сто километров отсюда.
Вошел адъютант. Изогнувшись, шепотом что-то сказал в мясистое ухо генерала.
— Да, да! — генерал сделал рукой жест. — Прошу со мной пообедать, господа.
— Мой полк ведет бой, — вставая, сказал фон Хаке. Повставали и остальные командиры полков.
— Ну что ж, в другое время я бы вместе с вами, господа, раскупорил бутылочку шатонеф дю пап… — И уже потянувшихся к двери командиров полков он остановил жестом — Еще раз напоминаю: перед отходом все жечь. Жечь, жечь! — повторил он.
После обеда генерал склонился над газетами. Французское вино действовало успокаивающе. Надо было посмотреть, что пишет фюрер в своем новогоднем послании солдатам. Генерал читал, оттопырив мизинец руки и подушечкой ладони отстукивая по столу.
«… Солдаты! Когда я в прошлый раз обратился к вам с новогодним приказом на Востоке, над нашим фронтом простиралась зима, подобная природному бедствию. Вы сами, солдаты, знаете, что вам пришлось тогда пережить и перенести на Восточном фронте. Бессонными ночами, в непрестанных заботах о вас, неслись к вам мои мысли. Вам удалось отклонить от себя уготованный нам разгром Наполеона».
— …Уготованный… уготованный, — повторил Шевелери, отстукивая ладонью слова. Он расстегнул воротник. Строчки рябили в глазах.
«…1943 год будет, возможно, тяжелым годом, но, наверное, не тяжелее прошедших годов. Раз господь бог дал нам силу перенести зиму 1941/42 г., то мы, несомненно, перенесем и эту зиму, и весь наступающий год… Мы верим, что смеем молить господа бога в наступающем году послать нам свое благословение, как и в предыдущие годы».
«Фюрер становится набожным», — откладывая газету, подумал Шевелери. Из степи ползли в окна сумерки. За селением лежал беспредельный белый простор. Толкался в окна гул орудийных залпов.
20
Чакан с Зеленковым в сторожевом охранении объезжали ночью эскадрон. Казаки спали на машинах, на бричках, на земле, прижавшись друг к другу спинами. У коновязей пофыркивали лошади. Свет луны разливом затопил степь, но западнее в голубом небе трепетали ракеты.
— Если бы весь этот свет собрать, можно было Дон осветить, — сказал Зеленков.
— Чуешь, Куприян, едет кто-то, — прислушиваясь, спросил Чакан.
Издалека принесло осторожный звук. Приглушенно заржала лошадь.
— Свой или?..
— Немец по ночам не станет шляться, — уверенно ответил Зеленков.
Уже совсем явственно стал слышен стук копыт.
— Подождем.
Чакан на всякий случай снял с плеча карабин.
В десяти саженях от них, из-за скирды, вынырнул верховой. Ехал он нерешительно, то останавливая, то снова пуская вперед лошадь.
— Должно быть, загулял с прачками и обозе, а теперь дорогу ищет, — предположил Зеленков.
— Стой! — клацнув затвором карабина, крикнул Чакан.
Верховой остановился, но потом снова тронул коня вперед. Лунный свет упал ему на плечо. Вспыхнул серебряный погон.
— Хенде хох! — по-немецки крикнул Чакан.
Но верховой вдруг круто бросил коня в сторону от дороги.
— Хальт! — по-немецки приказал Чакан.
Тишину ночи расколол выстрел. Чакану показалось, что всадник покачнулся в седле, но тут же мгла поглотила его силуэт. В отдалении замирал конский топот.
— Промашку ты дал, — с укоризной заметил Зеленков.
— Не-ет! Сдается, как что-то упало на землю, — ответил Чакан.
Еще немного проехав, он слез с лошади, стал обшаривать руками землю.
— Кровь. Или упал с седла, или его конь унес!
— Здесь! — отъехав в сторону, крикнул Зеленков. Его конь, всхрапнув, остановился перед распростертым на земле темным телом.
Чакан наклонился над ним:
— А ты говорил — ушел.
— Дышит?
— Какой там! С первого выстрела его. — Чакан перевернул труп вверх лицом. — Одежда на нем немецкая, а борода и усы подлиннейше моих будут. — Чакан тронул себя за ус.
— Обыщи его.
Обыскивая убитого, Чакан подумал, как он завтра будет рассказывать в эскадроне, что с первого же выстрела уложил немецкого полковника. «Нет, в конце концов, — заключил Чакан, — могут не поверить. Должно быть, это подполковник. Тоже не мелкая птица».
— Нашел. Вот его офицерская книжка, а в сумке, кажется, тоже что-то есть.
Луговой, с вечера ездивший в штаб дивизии, вернулся на КП полка уже за полночь. Его ждал взволнованный Синцов.
— Захвачен немецкий приказ.
— Какой приказ?
— Они переходят в наступление, — по лицу Синцова пятнами пошел румянец. Он протянул Луговому листок. — Найден в сумке убитого офицера.
Но Луговой уже не слышал его. Лист бумаги трепетал у него в руке. Синцов, неотступно наблюдая за ним, говорил:
— Придется переходить к обороне.
— Кто его убил? — поднимая глаза, спросил Луговой.
— Казак из первого эскадрона…
— Я здесь, — выступая из угла, сказал Чакан. — Я сперва ему по-русски крикнул: «Стой!», а потом уже по-немецки: «Хальт!» и «Хенде хох», но он сиганул своим конем в бок, и тогда я вдогон из карабина. Пуля под левую лопатку вошла. Погоны на нем немецкие, а папаха и вся одежда казачья.
— Да, да, — подтвердил Синцов. — Но в конце концов не это важно.
Луговой не ответил ему. Кто знает, может быть, это как раз и важнее всего. Какое-то предположение вертелось у него в голове. «Почему он продолжал ехать после того, как его окликнули по-русски?»
— Передать, чтобы заняли оборону? — волнуясь, повторил Синцов.
— Да… на всякий случай, — ответил Луговой, досадуя на себя за нерешительность и вставая: — Я сам поеду на ка-пе дивизии.
В штабе дивизии Рожков, прочитав приказ, немедленно позвонил начальнику штаба.
— Полкам занять круговую оборону, выдвинуть противотанковую артиллерию.
Положив трубку, весело посмотрел на Лугового:
— Встретим. Люблю, когда танки горят. Красиво. — Он открутил фитиль лампы, внимательнее вглядываясь в лицо Лугового. — Твои комэски знают?
— Синцов должен был сообщить, — уклончиво ответил Луговой. Он почему-то испытывал чувство раздвоенности. Вот и Рожков думает так же, как Синцов. А ему кажется, что здесь нужно принимать другое решение. Но какое? На этот вопрос Луговой не находил ответа.
— Поезжай-ка с этой бумагой на ка-пе корпуса, — сказал Рожков. — Расскажи Милованову в подробностях, как захвачен был приказ. Тут всего полчаса езды.
На КП корпуса Милованов, прочитав найденный в сумке убитого офицера приказ, потребовал повторить подробности:
— Ехал верхом?
— Да, — ответил Луговой.
— А после того, как его окликнули?
— Когда его окликнули по-русски, продолжал ехать, а когда окликнули по немецки…
— Этот Чакан? — Милованов почему-то улыбнулся.
— Чакан. — Луговой жадно вбирал в себя его вопросы. Ему казалось, что сейчас он найдет ответ.
Милованов отошел к окну, поскреб пальцами по стеклу:
— Лампас казачий, погон немецкий… Почти как в песенке о Колчаке. — Он взглянул на Лугового. — И по документам русский?
— Да, — сказал Луговой. У него медленно созревала догадка.
— Ну, конечно, — снова вполголоса пробормотал Милованов. — Зачем же им было жертвовать своим человеком… — он повернулся к адъютанту. — Начальника штаба!
Когда, запыхавшись, вошел начальник штаба, Милованов молча протянул ему приказ и, пока тот читал, не отрываясь смотрел на него.
— Так он же не зашифрован? — разочарованно сказал Ванин.
Милованов удовлетворенно рассмеялся:
— Что и требовалось доказать. Приказываю, продолжать наступление и атаковать… — он остановился и чуть улыбнулся, невидимо для других, — в конном строю, — докончил он, вспомнив обиженное лицо Рожкова: «Вот кто будет рад».
Генерал-майор фон де Шевелери внезапно проснулся. Сквозь сон ему послышалась стрельба. Минуту лежал, прислушиваясь. Разрозненные пулеметные очереди с трех сторон вспыхивали на окраинах хутора. Генерал коснулся босыми ступнями холодного крашеного пола.
— Адъютант!
Никто не появлялся. Стрельба окрепла и зазвучала уже совсем близко. Конский топот рассыпался по хутору. Под окнами завели автомобильный мотор. Стекло в раме окна задребезжало.
«Черт возьми, еще не хватало…» — генерал недодумал свою мысль, лихорадочно всовывая ноги в теплые бурки. Он наконец нащупал на стуле рукой фонарик. Желтый круг света упал на дверь. Адъютант, распахнув дверь наотмашь, ослепленно заморгал от яркого света:
— Господин генерал, к-казаки!
Дмитрий Чакан с первой цепью атакующих ворвался на окраину хутора Лепилина. В то время как все другие эскадроны в конном строю атаковали хутор с запада, первый эскадрон по-пластунски подполз к немецким окопам на его восточной окраине и, подрезав проволочные заграждения, вдруг скатился через брустверы в окопы. Дмитрий бежал по открытому немцами ходу сообщения, взмахивая прикладом автомата и слыша, как под его ударами хрустит кость, оседают и валятся на землю немецкие солдаты.
Ход сообщения вдруг уперся в тупик. Нащупав в темноте бревенчатую дверь, Дмитрий ударом ноги распахнул ее.
В блиндаже ярко горела электрическая лампочка. В лицо Дмитрию дохнуло теплом и смесью каких-то незнакомых пряных запахов. Вдруг кто-то в длинной, как у женщины, ночной рубашке бросился в другой угол блиндажа. Кинувшись вслед за ним, Дмитрий опрокинул стол и упал. Вскочив, сообразил, что из блиндажа вел еще один выход. Под опрокинутым столом поднял книжечку в коричневом кожаном переплете. «Надо будет передать ее Луговому», — подумал Дмитрий, сунув ее в карман…
21
«15 июля.
Прошло пять месяцев с тех пор, как я лишился своего дневника. Санитары, которые подобрали меня под Ржевом, похитили вместе с моими деньгами и его. Успокаиваю себя надеждой, что их интересовали только деньги, а дневник они выбросят, не полюбопытствовав его перелистать. Я так всегда оберегал его от чужих глаз.
Моя рана затянулась, свищ исчез, но всякий раз, когда я, забывшись, наступаю на ногу слишком твердо, в коленной чашечке появляется острая боль. Однако президент медицинской комиссии, осмотрев мое колено, заявил, что находит мое дальнейшее пребывание в госпитале бесполезным. Когда я сказал ему о болях в коленной чашечке, он с улыбкой ответил, что понимает мое желание съездить на родину в отпуск, но приказ фюрера неумолим. И он сослался на параграф, который не разрешает ни на час задерживать раненых в госпиталях дольше положенного срока. Вероятно, этот тыловой гусь счел меня симулянтом.
Вилли выписался двумя днями раньше. Сегодня он зашел ко мне и сообщил, что нас, очевидно, снова направят в 13-ю дивизию. Наш 4-й танковый полк доукомплектовывается теперь в Варшаве.
25 июля.
Стучат колеса, Вилли спит как убитый. Поразительна его способность спать в любых условиях. Он просыпается лишь для того, чтобы откупорить новую бутылку. Третий день мы в пути. За окном — однообразные поля Польши. После Варшавы ночь простояли в степи, потому что путь впереди был разобран партизанами. Наш командир подполковник фон Хаке сказал, что из Львова пойдем своим ходом по маршруту Днепропетровск — Юзовка.
27 июля.
Миновали Львов. Меня изумляет предприимчивость Вилли. Через полчаса после того, как мы останавливаемся в какой-нибудь деревне на ночлег, он приносит котелок яиц и если не индейку, так пару кур. Сегодня вечером пропадал целых два часа. Я уже забеспокоился, услышав на окраине села выстрелы. Однако вскоре Вилли вернулся с молочным поросенком под мышкой. Он объяснил, что ему пришлось немного повозиться с одной строптивой старухой. Кобура пистолета была у него расстегнута.
29 июля.
Идем быстрым маршем, но события нас опережают. Наши повсюду формировали Дон и приближаются к Волге. Вилли говорит, что песенка русских спета. Он рассказал мне о планах, в которые посвятил его школьный товарищ, теперь офицер связи в генеральном штабе: „Первого августа мы будем в Сталинграде, пятого — в Саратове, двадцатого сентября — в Баку. Москва будет взята с востока“, — заключил Вилли.
30 июля.
Прибыли в Ростов. Фон Хаке сказал, что здесь полк сделает остановку. Дальнейшее направление не известно. Возможно, на Волгу, возможно, на Кавказ. Город еще окутан дымом пожаров, под ногами хрустит стекло, всюду черные коробки сгоревших зданий. Не город, а скелет города. Вот цена фанатичного упрямства русских!
Квартирьер нашел мне квартиру у самого берега Дона. Из окна открывается роскошный вид: широкая, пожалуй, шире, чем Шпрее, река, заросший лесом остров с зеленым лугом.
Приятная неожиданность: Вилли в присутствии моей молодой хозяйки назвал ее лакомым кусочком, но она вдруг на чистом немецком языке указала ему на неуместность подобных шуток. Анна — так ее зовут, — оказывается, окончила педагогический институт.
1 августа.
Она говорит по-немецки почти без всякого акцента, но я никак не могу установить с ней контакт. Если она и отвечает на мои вопросы, то только „да“ и „нет“, избегая оставаться со мной наедине. Мать ее давно уже не встает с постели. Вилли советует мне поменьше церемониться с ними.
3 августа.
Варвары! Сегодня на Гроссерштрассе пала от истощения лошадь. Пока приехала машина, женщины и дети разрезали труп животного на куски и утащили с собой.
5 августа.
Из ставки фюрера сообщают, что вчера нашими войсками в упорных уличных боях взят Ставрополь. Я поделился этой новостью с Анной. Она молча ушла в свою комнату и через час вышла оттуда с покрасневшими глазами. Ее можно понять. Возможно, где-нибудь под Ставрополем ее брат.
7 августа.
Сегодня к ней пришла ее подруга по институту Софья. Черные вьющиеся волосы, характерный нос, подернутые влажным блеском глаза — настоящий семитский тип. Мне кажется, что для женщин их расы можно было бы сделать исключение, конечно, запретив им иметь детей. Это внесло бы некоторое разнообразие и в круг тех женщин, которые нас окружают на войне.
Пока была Софья, я все время испытывал волнение, опасаясь прихода Вилли и зная его нетерпимость в этом вопросе. Предчувствие меня не обмануло. Он зашел за мной по дороге в казино. „Что вы делаете в квартире немецкого офицера?“— спросил он, увидев Софью. У нее выступили на глазах слезы. Но в этот момент между Вилли и Софьей встала Анна: „Пока я здесь хозяина, никто не вправе спрашивать, кто ко мне приходит“.
8 августа.
Вилли говорит, что я напрасно жантильничаю с Анной. По его словам, достаточно ее припугнуть братом, и она сразу станет уступчивей.
9 августа.
Сегодня я увидел, как они с матерью едят хлеб с луком. Я уже предлагал Анне свою помощь, по она отказалась.
11 августа.
Ее трудно понять. Третьего дня она категорически отклонила мое предложение поддержать их продуктами, а сегодня сама обратилась ко мне за помощью. Правда, на этот раз речь шла о другом. Она умоляла спасти ее подругу Софью. Но что я мог ответить? Я сослался на существующий в Германии закон о защите чистоты немецкой расы. „Разве он предполагает организованные убийства женщин и детей?“ — спросила меня Анна. Я пытался разъяснить ей, что термин „убийство“ здесь, пожалуй, неприемлем. Речь, скорее, идет о национальной гигиене.
12 августа.
Оказывается, она обращалась по тому же вопросу и к Вилли. Он ответил ей, что это возможно только при одном условии. Я сказал Вилли, что это не по-товарищески.
13 августа.
С недавних пор я обратил внимание, что Вилли во всем старается быть похожим на фюрера. Завел себе такую же прическу, подстриг усы и даже говорить стал преувеличенно экзальтированно, опуская окончания слов.
22 августа.
Томми предприняли попытку пересечь Ла-Манш. Вчера на рассвете они сделали вылазку у Дьеппа. Из ставки фюрера передают, что неприятельские войска передовой волны в 6 часов 05 минут высадились на берег и попытались создать предмостное укрепление вокруг гавани. Однако в ближнем бою они были разбиты и сброшены в море. Вилли со свойственным ему остроумием говорит, что томми блестяще завершили купальный сезон.
27 августа.
Матери уже совсем не слышно в ее комнате. Анна продает свои платья на рынке. Но она все так же непреклонна. Гордость плебеев.
3 сентября.
Сестренка Луиза пишет, что над Берлином зачастили дожди. Перед моим отъездом на фронт мы с ней условились о шифре. Опять проклятые томми! Когда только у нас развяжутся руки в России?
4 сентября.
Умерла мать Анны. Теперь по ночам меня не будет беспокоить ее кашель.
19 сентября.
Я был уверен, что падение Сталинграда вопрос дней, но сегодня в „Ангрифф“ прочел статью военного обозревателя, которая меня настолько удивила, что я решил переписать ее в дневник.
„Берлин, 15 сентября. Говоря о борьбе за Сталинград, в Берлине подчеркивают, что с самого начала это сражение носит ожесточенный характер. Упорная оборона города и превращение его и окрестностей в гигантский укрепленный район и крепость — для Берлина не являются неожиданными. Уже во время германских операций в большой излучине Дона советскому высшему командованию стало ясно, что целью немцев является Сталинград.
Поэтому времени на укрепление города и близлежащих районов у большевиков было достаточно. Лихорадочно, днем и ночью, с помощью десятков тысяч людей из ближайших селений и городов Советам действительно в короткий срок удалось создать солидные укрепления и занять их своевременно подтянутыми огромными резервами. Неоднократно установлено, что в оборонительных боях принимает участие и гражданское население. Советские орудия поставлены прямо на улицах города, в балках и на том берегу Волги. Противотанковые пушки лают из каждой складки местности, танки ведут огонь с флангов, вражеские самолеты высыпают свой бомбовый груз, Катюши забрасывают гренадеров своими гостинцами, и среди залпов сухо бьют разрывы многочисленных гранатометов. Через этот шабаш наши пехотинцы должны пробираться вперед. Борьба приняла затяжной характер, и трудно предвидеть ее конечный результат. Остается уповать на провидение, и на доблесть наших храбрых солдат“.
23 сентября.
Луиза пишет, что над Берлином снова прошел ливень. Томми обнаглели. Статья в „Ангрифф“ не идет из головы. Неужели нам предстоит пережить вторую русскую зиму.
24 сентября.
Теперь Анна осталась одна. И чувствую, как у меня сильнее бьется сердце.
2 октября.
Сегодня она вдруг заявила мне, что ее отправляют в Германию. Она получила повестку с биржи. Я сказал ей, что еще не все потеряно. В офицерском казино я слышал разговор, что в лагерь военнопленных требуется переводчик. Но Анна со странной улыбкой ответила мне: „Пусть я лучше поеду в Германию“.
Оригинальное суждение! Я помню, как Луиза заплатила небольшой услугой оберштурмбанфюрору за то, что он избавил ее от трудовой повинности, — и от этого она не стала сколько-нибудь хуже? Теперь многие наши женщины так делают, оставаясь любящими женами и матерями.
4 октября.
Вилли говорит, что нашу дивизию перебрасывают на Терек. Что-то ждет меня впереди?»
Когда Дмитрий Чакан отдавал Луговому поднятую им в блиндаже книжечку в коричневом кожаном переплете, тот занят был допросом захваченного ночью в плен денщика командира 13-й германской танковой дивизии генерал-майора фон де Шевелери. Сам генерал в последнюю минуту успел ускользнуть из Лепилина на машине, но денщика никто не догадался разбудить. Луговой рассчитывал кое-что узнать от него, но этот здоровенный немец оказался просто-напросто болваном. Он даже не знал по фамилиям командиров полков 13-й дивизии.
— Кто командир четвертого? — по-немецки спрашивал его Луговой.
— Фон… фон… — Денщик испуганно косился на Дмитрия Чакана, которому вздумалось затеять с ним недвусмысленную игру из-за плеча Лугового.
— Хаке? — подсказывал Луговой.
— Ja, Ja![13]Да, да! — обрадованно кивал денщик.
Ничего не подозревающий Луговой с брезгливостью смотрел на его нервически вздрагивающие ляжки. У этого откормленного животного не оказалось ни капли мужества. Попав в плен к казакам, он окончательно пал духом. Еще в детстве он много слышал о них от своего отца, солдата армии кайзера, и теперь не сомневался в том, какая ждет его участь.
Но и Дмитрию Чакану в свою очередь все меньше нравилось, как командир полка разговаривает с этим откормленным немцем. Дмитрий уже давно бы заставил его развязать свой язык. Если еще можно было с уважением относиться к тем немцам, которые, попадая в плен, держали себя с достоинством, то у этого генеральского прихвостня страх отшиб последний разум. И все больше поддаваясь чувству презрения, Дмитрий из-за плеча Лугового стал делать денщику выразительные знаки. Лицо денщика волна за волной омывала бледность. Он отчетливо видел, как этот молодой казак с недобрым лицом, судя по всему офицер, складывает из пальцев петлю.
— Сможете ли вы хотя бы примерно сказать, сколько в дивизии осталось танков? — спрашивал у денщика Луговой.
Его уже начинал утомлять этот бесцельный допрос. Если в начале его пленный еще кое-как ворочал языком, то теперь он решительно стал невменяем. Когда Дмитрий за спиной Лугового проводил ребром ладони по горлу, по лицу денщика начинал струиться пот.
— Вы дерьмо, а не солдат, — не выдержав, наконец, сказал Луговой.
Денщик затрепетал. Дмитрий Чакан оскалил за спиной Лугового белые зубы.
— Прекратите, — вдруг полуоборачиваясь к нему, бросил через плечо Луговой.
Смутившись, Дмитрий на цыпочках отошел от двери.
— Уведите, — приказал конвоиру Луговой. — Покормите его, и потом продолжим.
Разговор с денщиком усилил его недовольство тем, что так и не получила своего достойного завершения внезапная ночная атака хутора Лепилина. И больше всего Луговой винил себя за то, что его полк так непростительно упустил ее командира, генерала Шевелери. Правда, присутствие его в Лепилине оказалось полной неожиданностью, а пленение генерала и не стояло в задаче, поставленной перед полком Лугового, но тем не менее оно было бы тем подарком не только полку, но и всей дивизии, которые на войне случаются не столь уж часто.
О книжке, переданной ему Дмитрием Чаканом, он совсем забыл и только через несколько дней, нащупав ее у себя в кармане, с холодным любопытством раскрыл ее. Сколько подобных дневников уже успел прочесть он за полтора года войны! Немецкие офицеры и солдаты, оказывается, были одержимы сентиментальной манией пофилософствовать. С брезгливым равнодушием Луговой вначале перелистывал странички, исписанные мелким, аккуратным почерком, но потом вдруг почувствовал, как волнение и тревога все больше начинают закрадываться в его сердце. Сгорбившись, он просидел над дневником немецкого офицера далеко за полночь. В комнате поминутно хлопала дверь, кто-то разряжал под окном автомат, Синцов ругал кого-то по телефону, обращался к Луговому с вопросами, и тот, поднимая непонимающие глаза, что-то отвечал ему, Остапчук приносил чай, и он отхлебывал его из кружки крупными, лихорадочными глотками. Наконец Остапчук, потоптавшись и покашляв около него, почти прокричал ему в самое ухо.
— Тутечко, товарищ майор, с хуторов трех хвакельщиков привели. Обливали хаты мазутом та с живыми жинками и детьми… — Остапчук захлебнулся. — Що с ними робить?
Луговой тяжело поднял голову. Вдруг нечеловеческую муку увидел ординарец у него в глазах. Командир полка что-то мычал, делая неопределенные движения рукой.
— Що? — обрадованно переспросил Остапчук, догадываясь и отказываясь верить тому, что услышал. Луговой медленно кивнул, подтверждая невысказанное. Остапчук круто развернулся и бегом бросился к двери.
Он вернулся через полчаса, Луговой, все так же сгорбившись, сидел на своем месте. Не поднимая головы, исподлобья взглянул на ординарца темным тягучим взглядом.
22
На рассвете Луговой, спрямляя путь к новому командному пункту полка на левом берегу Кумы, ехал верхом через рощу. Среди белых заиндевелых стволов деревьев чернели стволы брошенных немецкими артиллеристами пушек. Бой отодвинулся на северо-запад, выстрелы звучали уже далеко впереди. Лишь одиночные снаряды, перелетая иногда через рощу, шлепались в Куму.
Среди зарозовевших стволов деревьев сквозили первые лучи солнца. Обледеневшие ветви сверкали. В кустарнике снегири что-то клевали. Вдруг прямо из-под копыт Зорьки выскочил заяц и, улепетывая, пошел вязать по снегу петли.
Хрустел на морозе молодой снег. И постепенно то чувство, которое уже не покидало Лугового с той ночи, когда он прочел дневник немецкого офицера, с новой силой обступило его. Всех его сослуживцев по полку впереди обязательно ждет кто-нибудь: мать, жена, сестра, до последнего времени и его не покидала уверенность в неизбежности предстоящих встреч со своими — и вдруг все сразу оборвалось. Как что-то обвалилось у него внутри. Теперь уже никто его не ждал, и отныне весь смысл последующей жизни для него будет состоять только в том, чтобы истреблять тех, кто поселил в нем это страшное чувство пустоты.
«А потом? Потом?» — настойчиво спрашивал он себя.
Проезжая мимо длинного, присыпанного молодым снегом стога сена, он невольно придержал лошадь. Из-за другого бока стога донеслись два голоса.
— Нехорошо, Митя, — прерывисто говорила женщина, — кругом кровь льется, а мы…
Молодой мужской голос увещевал ее:
— Глупая ты, Ефросинья. Война войной, а все остальное своим чередом. И мы с тобой не знаем, что с нами будет завтра.
— А если, Митя, ребеночек?
— Ты что же, не веришь мне?! Отправлю тебя в наш хутор.
— Там же сейчас немцы.
— Пока тебе подойдет рожать, их там и духу не будет.
Боясь хрустнуть веткой, Луговой проехал мимо стога.
Случайно услышанный разговор и смутил, и обрадовал его. Да, все идет своим чередом! Вот и тонкого звеньканья синиц, снующих на обледенелых ветках дерева, под которым проезжал он, даже злобная дробь пулемета не может заглушить. Красногрудый снегирь, вздымая под кустами облака снежной пыли, что-то ищет и находит там. Не успело солнце подняться выше, как с ветвей на дорогу, по которой ехал Луговой, и на его бурку стали падать талые капли. А по обочинам дороги из-под опавшей листвы выглядывает зеленая трава.
23
С вечера пошел мягкий густой снег, предвещая тепло, но к полночи вдруг поднялся ветер, завыл в спутанных проводах порушенных телеграфных столбов. К утру курганы в степи оделись в голубоватую кольчугу, тонкую, как стекло.
В двухдневном бою за Солдатско-Александровское корпус жестоко потрепал 3-ю пехотную дивизию генерал-майора Рекнагеля. Лишившись пятисот солдат и офицеров, она бежала, бросив пушки и склады. На улицах догорали высокие шкодовские грузовики и бронетранспортеры с выписанным на бортах масляной краской бубновым тузом. Из брошенных при бегстве пушек прислуга не успела вынуть замки. Штабелями громоздились ящики с нерастрелянными снарядами. Луговой приказал поискать в эскадронах бывших артиллеристов, укомплектовали две брошенные немцами при отступлении батареи прислугой и, развернув пушки, бросили в бой.
Командира 3-й немецкой дивизии генерал-майора Рекнагеля командование заменило полковником Бартом. В Саблинском Барт собирал остатки 50-го и 70-го полков.
Командир 117-го артполка полковник Ферфорт явился представляться ему без материальной части. Когда-то Барт и Ферфорт были соучениками, но теперь Барт не пожелал его узнать. Не приняв Ферфорта, приказал свести вместе уцелевшие орудийные расчеты 117-го артполка и бросить их в бой как пехоту.
Перед отступлением из Ставрополя команды факельщиков и подрывников зажгли город. В полночь пламя взмахнуло к небу, на лиловый снег посыпались стружки гари. Тишину городских кварталов потрясли взрывы, прошел каменный дождь. Побежавшая по канавам талая вода несла щепки, клочья окровавленных лоскутов. Минеры подвели мины под дома, в которых спали люди.
Когда на рассвете казаки ворвались в город, десятка два факельщиков они изрубили на месте, остальных отправили под конвоем в тыл. Когда их прогоняли через город, отовсюду сбегавшиеся женщины и ребятишки безошибочно узнавали в колонне пленных вчерашних квартирантов:
— Вилли, яйки!
— Капут, Генрих, капут!
Дмитрий Чакан приказал, чтобы факельщики несли с собой орудия своего ремесла. Впереди всех сутулый солдат с длинными руками профессионального громилы нес в одной руке факел, а в другой — ведро с горючей смесью. Пряча глаза, пленные жались друг к другу.
Полы их шинелей были забрызганы горючей смесью, которой они обливали окна и двери ставропольских жителей.
Вслед за Моздоком под ударами пехоты пали Пятигорск, Минеральные Воды и Черкесск. Вал наступления подкатывался к Армавиру. Главные силы танков и конницы обходили Ставрополь, продолжая быстрое движение на Ростов. Навстречу им из волго-донского междуречья тек гром орудий. Все уже стягивалось горло между Сталинградом и Ростовом.
Но германские военные сводки все еще жили отражением минувших успехов, тщетно вуалируя действительное положение розовым туманом официальной лжи.
«Из ставки фюрера, 30 декабря:
В районе Терека потерпели поражение сильные, поддержанные танковыми частями атаки противника. В Сталинграде и в большой излучине Дона советские войска, продолжая атаки, понесли большие потери в живой силе» («Фолькишер беобахтер», Берлин).
«Из ставки фюрера, 31 декабря:
На Тереке и в районе Дона в упорных боях были отбиты атаки противника. Во время контратаки германских войск занята новая территория. Взято штурмом несколько населенных пунктов» («Утро Кавказа», Ставрополь).
«Из ставки фюрера, 2 января:
На Восточном Кавказе сильные пехотные, кавалерийские и танковые соединении пытались прорвать германские линии. Все атаки отбиты» («Берлинер Берзенцайтунг»).
«Из ставки фюрера, 6 января:
В районе Дона вчера снова с неослабевающей силой велись тяжелые оборонительные бои. Атаки советских войск были отбиты с большими для них потерями. Одна германская танковая дивизия уничтожила при этом 31 танк противника» («Мариупольская газета»).
«Из ставки фюрера, 8 января:
В районе среднего Кавказа, на Дону и северо-западнее Сталинграда германские войска вчера снова вели упорные, но успешные оборонительные бои с сильными пехотными и танковыми советскими частями. На различных участках контратакой германских войск противник был отброшен и понос большие потери» («Нойес ворт», Таганрог).
«Сообщение германского командования:
В целях сокращения Кавказского фронта германскими войсками оставлены города: Георгиевск, Пятигорск и Минеральные Воды» («Утро Кавказа», Ставрополь).
«Из ставки фюрера, 14 января:
Между Кавказом и Доном и в Донской области продолжавшиеся атаки советских войск потерпели поражение» («Берлинер Берзенцайтунг»).
«Из ставки фюрера, 21 января:
На южном секторе Восточного фронта советские войска продолжали свои ожесточенные атаки. Они были повсеместно отброшены с тяжелыми потерями» («Донецер Нахрихтен», Сталино).
«Особый поезд для граждан города Ростова немецкого происхождения — фольксдойче:
В пятницу утром отходит с ростовского вокзала особый поезд для граждан Ростова немецкого происхождения на Мелитополь — Рейхенфельд через Таганрог — Мариуполь. Лицам немецкого происхождения — фольксдойче, находящимся в Ростове, предлагается при всех обстоятельствах воспользоваться этим поездом. Для организации этого поезда все лица германского происхождения должны зарегистрироваться в местах регистрации фольксдойче» («Голос Ростова», особый выпуск).
Вопреки официальным сводкам, обстановка для немцев на юге с каждым днем складывалась все более тревожная. На правом фланге советского наступления назревала реальная угроза рассечения германского фронта на две изолированные части. В то время, как советские пехотные дивизии продолжали быстрое продвижение в общем направлении Армавир — Ростов, танки и кавалерия, оставив Ставрополь слева от себя, приближались к железнодорожной магистрали Сталинград — Котельниково — Тихорецк — Темрюк. С перехватом ее пала бы последняя надежда германского командования пробиться с юга, извне, на помощь к 6-й армии Паулюса, заключенной в Сталинградском кольце.
Германское командование приняло решительные меры с целью обезопасить левый фланг. Помимо действующих здесь 50-й, 3-й пехотных дивизий и 3-й танковой дивизии, в район боев брошена была ударная эсэсовская дивизия «Викинг». Снова подтягивалась сюда потрепанная в предыдущих боях, но получившая к этому времени пополнение людьми и танками «хеншель» 13-я танковая дивизия генерал-майора фон де Шевелери. Наличные силы авиации наращивались эскадрильями, которые до этого летали над Ламаншским побережьем Франции, над норвежскими фиордами, над песчаными равнинами Египта.
24
На обледенелом склоне, перед большим полуобваленным и полузанесенным снегом окопом — россыпь патронных гильз, связка противотанковых гранат, следы стальных гусениц. Выгоревшая земля изорвана ими, как когтями. Вдавлен в землю ствол пулемета. В мелкую щепу размозжен приклад противотанкового ружья.
Еще припахивает земля взрывчаткой и машинной гарью, но лужицы крови уже затвердели, как толстое красное стекло.
Перед Белой Глиной один из выброшенных по приказанию Лугового впереди полка на автомашине подвижных отрядов напоролся на затаившуюся в густых тернах танковую засаду. Выскочив из тернов машине наперерез, танк первым же выстрелом зажег ее, но и сам тут же был наказан выстрелом из противотанкового ружья с борта уже окутанной дымом полуторки. Над башней танка заколыхалось густое черное облако, и он, поворачиваясь боком, замер. К тому времени, когда из тернов выскочили два других танка, противотанковый и пулеметный расчеты за дымной завесой успели попрыгать из кузова горящей полуторки на землю и залечь на другой стороне дороги в прошлогоднем окопе. Насмерть сраженный осколком командир противотанкового расчета старочеркасский казак Манацков так и остался возле горящей полуторки, но раненный в плечо второй номер грузин Начкебия успел унести с собой ружье в окон. Из него он успел подбить второй немецкий танк, когда его громыхающий корпус уже взбирался по склону, нависнув над окопом.
Похоронная команда доставала потом Начкебия из-под замерших прямо над ним траков танка. Склонив голову набок, Начкебия уютно припал щекой к прикладу противотанкового ружья.
Пулеметный расчет — казаки станицы Раздорской Каширин и Титов — расстрелял весь свой запас бронебойных лент, но третий немецкий танк «хеншель» остался неуязвим. Бронебойные пули только шелушили его защитную краску, отскакивая от панциря из толстой крупповской стали. Наехав на Каширина и Титова и раздавив их вместе с пулеметом, «хеншель» тщательно проутюжил окоп и, почти заровняв его, уже повернулся уходить, но еще свежая могила заколыхалась. Из перемешанной со снегом земли вымахнулась рука, бросила вслед ему связку гранат. Танк вспыхнул.
Похоронная команда полка, высланная на место боя подвижного отряда с немецкими танками, нашла засыпанными в старом окопе не четырех, а пятерых человек. Но когда уже и пятого, всего мокрого от крови, как хлющ, подтащили на плащ-палатке к только что вырытой могиле, одному из санитаров почудился стон.
25
Вторые эшелоны все больше отставали. Чтобы отыскать в полевом госпитале своего замполита Грекова, тяжело раненного в бою с танковой засадой, Луговому надо было вернуться в тылы корпуса почти на сто километров. Только что назначенный к нему замполитом капитан Греков в первый же день вызвался пойти с одним из подвижных отрядов в тыл к отступающим немцам, и похоронная команда нашла его почти без всяких признаков жизни среди других пулеметчиков и бронебойщиков, раздавленных танками.
Уже перед вечером отыскал Луговой корпусной госпиталь в той самой роще, где еще три дня назад располагался КП полка. На том же самом месте, где он был, стояли теперь зеленые палатки с красными крестами. Из щелей самой большой из них пробивался электрический свет. Рядом пыхтел движок.
Но на пороге палатки Луговому заступила дорогу строгая медсестра:
— Идет операция, товарищ майор, вам придется подождать.
— Хорошо, — покорно согласился Луговой и отошел в сторону.
Из-за брезентовых стен палатки долго не доносилось никаких звуков. Все, что совершалось там, происходило в полном безмолвии, пока наконец Луговой не услышал властный голос:
— Зажимы!
Он еще не успел окончательно догадаться, кому мог принадлежать этот женский голос, как тот еще более жестко повторил:
— Вы еще долго будете копаться?! — И вдруг сочно, по-мужски, выругался.
Уже почти совсем стемнело, но в роще, разбавляя сумерки, светились обледенелые деревья и сугробы снега между ними.
— Относите! — сказал в палатке все тот же, но уже смягчившийся голос.
Два санитара пронесли мимо Лугового из большой палатки в другую на носилках накрытого солдатским одеялом человека. Вслед за этим вышла из палатки женщина в белом халате.
— Боже мой! — жалобно сказала она и, прислонившись плечом к дереву, тихо заплакала.
Луговой не осмеливался приблизиться к ней, но она, отклоняясь от дерева, вдруг сама окликнула его прежним властным голосом:
— Что вам нужно?
— Я хочу узнать о капитане Грекове, — робко сказал Луговой.
С хриплым, враждебным смехом она прервала его:
— И я обязательно должна вам ответить, что он будет жить, да? После того как от вашего капитана уцелели одни очки?! Да, да, представьте, очки уцелели. А если я сама не знаю? Почему вы решили, что я все должна знать? — И, опять прислоняясь к вербе, она жалобно всхлипнула: — Боже мой!
Луговой уже пошел к своему трофейному «мерседесу», когда она снова окликнула его:
— Куда же вы? Бабе надо было выплакаться, а вы ей и поверили. Да подойдите же сюда, поближе! У меня сегодня это уже девятая операция, можно мне после этого пореветь или нет? Все, что можно было сделать с вашим капитаном, мы сделали, а дальше… — Она вдруг остановилась, увидев его вплотную от себя. — Вы? Я со света не узнала вас. Что же вы раньше не назвались? А я уже к вам сама собиралась ехать. — И, отворачивая брезентовую дверь палатки, она за рукав потянула его за собой: — Пойдемте.
В палатке, разделенной на две половины зыбкой перегородкой, горел электрический свет. В передней половине вокруг столика сидели четыре или пять медсестер и санитарок в белых халатах и что-то ели алюминиевыми ложками из алюминиевых чашек. На электропечке закипал чай. При виде Лугового медсестры и санитарки хотели вспорхнуть из-за стола, но она, остановив их жестом, повела его на другую половину палатки.
Здесь было намного просторнее, и свет не горел, так что Луговой ничего не смог увидеть, за исключением чего-то длинного, накрытого белым посредине ее, и чего-то мерцающего по углам металлическим и стеклянным светом. Но, оказывается, кроме этой большой комнаты была и еще одна, крохотная, куда и провела Лугового его провожатая. Щелкнул выключатель, и совсем близко от себя он увидел ее глаза.
Стояли в комнатенке, отгороженной от остальной части палатки пологом, топчан под серым солдатским одеялом, столик и два окрашенных в такой же голубовато-белый цвет табурета. И это была вся мебель. Еще заметил Луговой в дальнем углу на деревянной трехногой вешалке черный новый полушубок, а под ним серые валенки.
— Здесь я ночую, когда приходится задерживаться допоздна, — пояснила она, снимая с головы белый чепчик и рассыпая из-под него волосы. — Правда, бывает холодно, чугунку топят только в операционной, но теперь я могу укрываться еще и тулупом. — Она улыбнулась. — Ваш ординарец — чудо. Пока я не вернулась из санчасти, никому не хотел отдавать. — Сощуриваясь, как на огонь, она очень похоже передразнила Остапчука: — «Приказано тильки лично в руки передать…» Я еще не успела вас поблагодарить. Но, конечно, не только ради этого я собиралась к вам в полк. Среди ваших легко раненных, которые отказываются от госпиталя, есть случаи гангрены. Что же вы не садитесь? — Она подвинула ему табурет. — Я схожу за чайником.
Доставая откуда-то из-под столика алюминиевые кружки и наливая в них чай, она, должно быть, почувствовав его взгляд, оглянулась через плечо.
— У вас что-нибудь случилось? Я все время только одна говорю. Если это из-за Грекова, я уверена, что через неделю он придет в себя. Конечно, уже не в корпусном госпитале. Вам сколько положить сахара? Нет, у вас определенно что-то случилось, — отхлебывая свой чай, она внимательно взглянула на него из-за края кружки.
Вместо ответа он достал из своей полевой сумки и положил перед ней на стол книжечку в коричневом переплете.
— Это что?
Но в этот момент отвернулась брезентовая дверца, в комнату заглянула дежурная сестра.
— За вами, Марина Дмитриевна… — задержавшись взглядом на Луговом, она запнулась и потом все-таки нашла то слово, которое, по ее мнению, было теперь наиболее уместным: — Приехали.
— Хорошо, пусть подождет.
Все время, пока она перелистывала страницы коричневой книжечки, он, не отрываясь, следил за ее узкой белой рукой с тоненьким золотым колечком на безымянном пальце. Упавшие ей на лоб завитки волос скрывали от него ее глаза, но чуть вывернутые губы у нее старательно шевелились. И когда она, поднимая голову от раскрытой на столе книжки, откинула рукой со лба волосы, Луговой увидел, что глаза у нее мокрые.
— Какой ужас, — сказала она тем голосом, который он уже слышал у нее. — Я по-немецки училась неважно и, конечно, не все смогла понять, но… — Она как-то снизу вверх, заискивающе взглянула на него. — Но вы не должны так падать духом. Они могли и не успеть увезти ее в Германию. Бедная Анна! — Она закрыла лицо руками.
Не открыла она его и тогда, когда дежурная медсестра во второй раз заглянула в комнату из-за брезентового полога.
— Марина Дмитриевна! — настойчиво напомнила она.
— Скажите, что я остаюсь здесь.
— То есть как это, Марина, остаешься? — И из-за плеча медсестры выступило черноусое лицо командира автобата Агибалова. — Ты забыла, что сегодня пятая годовщина нашей свадьбы?!
— Ты можешь с успехом отпраздновать ее в банно-прачечном отряде, — насмешливо сказала она.
— Ты, Марина, ревнуешь? Извините, майор, за эту семейную сцену. — Агибалов небрежно козырнул Луговому. — Мы с вами стали чаще встречаться. — Он хотел еще что-то добавить, но она угрожающе предостерегла:
— Это брат моей подруги Анны Луговой.
— Которая, если мне мне изменяет память, решила остаться в оккупированном Ростове.
— Если ты, Вадим, не прекратишь…
— То я его вышвырну отсюда, как собаку, — вдруг, вставая со стула, договорил за нее Луговой.
Она немедленно поспешила встать между ними. Из-за брезентового полога выглянуло испуганное лицо медсестры и тут же скрылось.
— Ого, я вижу, вы здесь совсем не чужой, — отступая за брезентовый полог, сказал Агибалов.
— Не забудь у дежурной сестры бутыль со спиртом, — вдогонку напомнила ему Марина.
— Нет, нет, я хочу, чтобы вы знали, он лжет, — настаивала она, когда они уже шли рядом по просеке, удаляясь от палаток госпиталя.
— Это не имеет значения, — холодно сказал Луговой.
Но она, не слушая, ухватилась за рукав его шинели.
— В том-то и дело, что никакой свадьбы не было. Это дядиной молодой жене, когда я приехала после девятого класса к ним погостить в Киев, захотелось и меня выдать замуж за военного, а он служил кем-то у дяди в штабе округа, и она устроила, чтобы мы…
Луговой взял ее за плечи и, повернув к себе, постарался сделать так, чтобы она не смогла продолжать. Никакого, даже самого слабого, гула или каких-нибудь других звуков войны уже не доходило в рощу, фронт ушел далеко вперед, и только смутное подобие зарева пробегало по краю ночного неба там, куда он ушел. С деревьев, под которыми они остановились, сыпался на них снег. Из-за Кумы подул резкий ветер, и Луговой запахнул ее полой своей шинели. Она лишь слабо запротестовала:
— Я же в полушубке.
Смеясь, они старались попасть нога в ногу, но это им плохо удавалось. На них снова сыпался снег с деревьев. Внезапно ветер прекратился, и их обволокло теплым и прелым запахом. Они и не заметили, как очутились под защитой большого и длинного стога сена. Тишина здесь стояла такая, что никакой войны нигде не могло быть.
Вдруг Марина высвободила свои плечи из его рук:
— Только не сейчас и не здесь.
26
В надежде сбить темп советского наступления, командование немецкими войсками на Северном Кавказе бросило против казачьей конницы авиацию.
С самого раннего утра начинались налеты «юнкерсов». Белая искрящаяся пыль, не успев осесть, снова взмывала над землей. Казаки долгими часами лежали по шею в сугробах, оттаявший под ними снег, подмерзая, примораживал к земле полы шинелей и чекменей. На белой целине вспыхивала кровь. Сбросив бомбы, самолеты, облегченно завывая, уходили за черту горизонта, чтобы через полчаса — час опять вернуться со своим смертоносным грузом. По всей степи рыдающими голосами ржали раненые лошади. По приказу Милованова с наступлением дня полки рассеивались по балкам и лесополосам, маскируясь, и возобновляли движение, как только сумерки окутывали степь.
Чакан едва удерживал в балке беснующихся лошадей. «Юнкерсы» накатывались волна за водной. Обезумевшие лошади рвались с коновязей. Сначала то Чакан, то Зеленков попеременно бегали прятаться в старый припорошенный снегом окоп, но вскоре это надоело им.
— Шабаш, не побегу больше! — ожесточенно сказал Чакан. — Как положено погибнуть, так никуда я от смерти не уйду, а не положено — значит, мне еще придется внука на ноге покачать.
Редко перепадали минуты затишья. В один из таких промежутков Чакан увидел, как идет по дороге старик в белом овчинном полушубке с байдиком[14]Байдик — посох.. Дорога была изрыта фугасками, но старик правился по ней, никуда не сворачивая.
— Скорей скатывайся к нам в балку, летят! — крикнул ему Чакан.
Старик сперва отмахнулся:
— Старый я кататься. — Но, взглянув на небо, в котором появилось звено «юнкерсов», он тут же проворно скатился по склону в балку. Докатившись прямо до Чакана и приподнимая от земли голову, сразу же поинтересовался у него — Скажи, где мне вашего главного начальника найти?
Чакан тронул рукой усы:
— Над этой балкой, например, я главный.
Но старик осмотрел его насмешливым взглядом.
— Это я сразу догадался. Твое дело у лошадей под хвостами выскребать, а мое дело не хвоста требует.
Чакан обиделся.
— Проваливай, пока я тебя не познакомил с этой штукой, — он выставил вперед карабин.
— Убить ты меня, конечно, сможешь, — спокойно возразил старик. — Но от этого ничего хорошего не получится. Я помру, и со мной помрет один военный секрет, которого никто, кроме меня, не знает.
Чакан с недоверием посмотрел на него. Черт его разберет, этого деда! Глаза у него хитрые, бородка, как у попа.
— Проводи, Куприян, его по балке в эскадрон, — неохотно сказал Чакан.
— Вот это другое дело, — вставая с земли и отряхивая с тулупа снег, сказал старик.
По дороге в штаб эскадрона он вертел из стороны в сторону головой в черной капелюхе. Вскоре они с Зеленковым по балке дошли до хутора, забитого машинами, повозками и лошадьми. В садах и на огородах стояли пушки, к скирдам соломы притулились танки. Дымились кухни, распространяя запах мясного борща и гречневой каши.
— А это что за диковина? — Старик остановился перед машиной, обтянутой серым брезентом.
Зеленков покосился на него. Чрезмерное любопытство старика рождало подозрения.
— Никак катюша?! — Он попытался отвернуть край брезента.
— Не лапай! — суровой прикрикнул на него Куприян.
— Хоть бы глазком взглянуть. У наших немецких квартирантов только и разговоров было о ней. Как же так, пройти мимо и не посмотреть! — Вздыхая, старик топтался возле машины.
— Ты, дед, не шпион? — спросил Куприян.
— Шпион, — сразу же согласился старик. — Человек один раз живет, и глаза ему даны, чтобы он ими видел и запоминал. Если бы все вместе сложить, что я на своем веку повидал, то и в чувал не влезет. А мне все мало. Ноги уже старые, но я им покоя не даю. По-моему, неправильно господь распорядился, чтобы человек половину своей жизни спал. Сколько бы он за это время успел по земле постранствовать. Ты вот не дал мне на эту штуку посмотреть и покоя лишил.
Но на КП эскадрона, куда привел его Зеленков, старик с сомнением посмотрел на безусое лицо Дмитрия Чакана.
— А скажи, сынок, над тобой кто-нибудь поглавнейше есть? — осторожно спросил он у Дмитрия.
— Ты мне не папаша. Выкладывай, что тебе нужно? — ответил Дмитрий.
— Веди меня к своему начальнику, — решительно заявил старик.
— Не дури, я таких шуток не люблю!
Старик рассердился.
— Это ты меня не дури, не твоего ума это дело.
Присутствовавшие при этом разговоре казаки ждали, что сейчас их суровый командир эскадрона по меньшей мере вытолкает этого надоедливого и вредного деда. Но Дмитрий неожиданно улыбнулся. Чем-то старик напомнил ему отца. И уж если он так бесстрашно пробивается к начальству, значит, зачем-то это ему нужно. Может быть, и в самом деле по какому-нибудь серьезному делу. «Отправить бы его к Луговому, но нет его сейчас на КП полка, куда-то уехал, а Синцов, конечно, выслушать его не захочет. Нет, пускай Зеленков отконвоирует его прямо к Рожкову. Тот, говорят, любит с дедами беседы вести», — решил Дмитрий.
— Отведи его на ка-пе дивизии, приказал он Зеленкову.
— Ну и надоел же ты мне! — со злостью сказал Куприян на крыльце старику. — Из-за твоих капризов я должен еще пять верст по морозу до штаба дивизии топать. Какой у тебя может быть секрет, что ты не захотел его нашему командиру эскадрона рассказать. Чем он не понравился тебе?
— Может, он и хороший, — согласился старик. — Но я до войны в нашем хуторе письмоносцем был и от грубостей давно отвык. Занесешь человеку письмо, а он не знает, на какой стул тебя посадить: «Пожалуйте, Федот Гаврилович, медку! Скушайте, Федот Гаврилович, блинчик…» Может, за то, что я же сам людям и письма читал. У одного дочка в Ростове в институте учится, у другого сын — пограничник, у третьей — летчик или моряк… — Он, видно, еще что-то хотел сказать, но отмахнулся и умолк. Всю остальную дорогу до КП дивизии шел рядом с Зеленковым молча. Лишь один раз остановился перед изуродованным прямым попаданием снаряда немецким танком. Танк вылез на вершину большого кургана и неуклюже застыл там, настигнутый ударом бронебойного снаряда в лоб. Черный корпус его был разметан мощной волной взорвавшихся от детонации снарядов. Далеко по окружности лежали в снегу клочья металла. Лишь на бортовой броне случайно уцелел желтый крест.
— Ка-ак его! — сказал старик, дивясь разрушительной силе пушечного удара, уничтожившего грозную машину. — Должно быть, толстый снаряд нужен был.
Зеленков поднял с земли противотанковую болванку.
— Вот.
— Что?
— Ею и разбило его.
— Этой тоненькой? Старик с недоверием повертел в руке болванку. Но тут же, пожевав губами, заключил: — А чего хитрого? Человек в миллионы раз поболе пули, а кланяется ей в ножки. Господь сотворил его с разумом, но от смерти и от глупости защиты не дал.
На КП дивизии старик с первого же взгляда понравился Рожкову. Он усадил его за стол, приказал, чтобы ординарец принес чаю. Осведомившись у старика, как его зовут, поинтересовался, откуда он держит путь.
— От Белой Глины. Тут сорок верст, — отхлебывая чай из блюдца, ответил старик. Ординарец высыпал на тарелку на столе горсть сахару, но старик двумя пальцами взял из нее только один кирпичик и откусывал от него маленькими кусочками. Все зубы у него были белые, еще крепкие.
— Как же, Федот Гаврилович, ты через линию фронта перешел? — с удивлением спросил его Рожков.
— Очень просто. Взял байдик и иду. Когда вижу, мины близко от меня начинают падать, прилягу и пережду. А как ослабнет огонь, обратно встаю. Нельзя мне было долго лежать.
Допив чай, старик перевернул вверх донышком стакан и, аккуратно собрав с тарелки оставшийся сахар, ссыпал его себе в карман.
— Моя старуха спасибо вам скажет, — объяснил он под улыбчивым взглядом Рожкова. — А над вами, товарищ генерал, в этой окружности кто-нибудь поглавнейше еще есть?
— Есть, — перестав улыбаться, суше ответил Рожков, начиная догадываться, куда клонит старик.
— И над ним тоже старший есть?
Рожков опять развеселился.
— До него далеко. Самый главный у нас товарищ Сталин.
Старик непритворно вздохнул.
— Его я только в кино видел. К Льву Николаевичу Толстому в Ясную Поляну ходил, к Ленину с делегацией от съезда казаков ездил, а к товарищу Сталину пока еще не проник. Но, бог даст, еще дойду, несмотря что старый.
«Дойдет», — поверил Рожков.
— Прикажите, товарищ генерал, чтобы к вашему самому главному начальнику представили меня. У меня уже время не терпит.
Рожков, хоть и обиделся на него, но вида не подал.
— Дайте ему машину с провожатым до штаба корпуса, — приказал он адъютанту.
— Провожатый у него есть, — заметил адъютант.
— Кто?
— Куприян Зеленков.
— А-а, знаю. Надежный казак.
Но этот надежный казак, когда они уже отъехали на генеральском вездеходе от КП дивизии, с возмущением заявил старику:
— Если бы мне и дальше пришлось с тобой на своих идти, я бы ни за что не пошел. Через тебя я мозоли уже с кулак натер. Это пехота пешком ходить привычная, а мы больше верхом.
— Привыкай, — нравоучительно ответил старик. — На лошади каждый дурак умеет кататься.
— Ты, дед, должно быть, и в могиле будешь ногами дрыгать, — съязвил Зеленков.
— А тебя, что ли, верхом похоронют?
— Это было бы неплохо, серьезно сказал Зеленков. — Вместе с конем было бы веселее лежать.
Сломленный усталостью последних дней и ночей, Милованов, всего на минуту отрываясь от карты, присел на край кровати и уронил на подушку голову. Мгновенно заснув, не почувствовал даже, как водитель укрывал его буркой.
Так и не узнал потом, сколько времени проспал, когда сквозь сон пробились к нему из-за двери сердитые голоса.
— Понимаешь русский язык или нет? — говорил кому-то его шофер. — Подожди час.
— Не могу я больше ждать, — неуступчиво отвечал ему другой голос, тонкий и совсем незнакомый Милованову. — И ты меня русскому языку не учи. Если боишься его разбудить, я сам смогу.
— Ты в своем уме, дед? Ведь он генерал.
— Это его должен немец бояться, раз он генерал. Не торчи на пороге, ну?!
— А этого ты не пробовал? — Слышно было, как шофер пошлепал рукой по прикладу маузера.
Вставая с кровати, Милованов приоткрыл дверь на переднюю половину дома.
— Что за шум?
Небольшого роста старик, в белом овчинном полушубке, выступил из-за спины шофера.
— Я тоже его просил, чтобы он на меня не шумел, — заговорил он, тут же и протискиваясь в комнату между Миловановым и притолокой. — Мне с ним больше совсем некогда дебаты разводить.
Милованов с удивлением смотрел на него. Старик поставил свой байдик в угол, расстегнул полушубок и, снимая с головы черную капелюху, поднял к нему взгляд.
— Если вы здесь самый старший…
— Пока я, — ответил Милованов.
Старик с сомнением оглядел его с головы до ног. Были они почти одного роста. По внешнему виду Милованов решительно не был похож на того начальника, которого так долго искал старик. Однако, взглянув в глаза Милованова, он вдруг успокоился. За свою жизнь он научился узнавать людей по глазам. «Он», — убежденно решил старик.
— Насилу добился до вас. Еще чудок, и было бы поздно.
— Поздно? — переспросил Милованов.
Вместо ответа старик вынул из кармана красный кисет, распустив шнурок, стал вытряхивать на стол. Вместе с посыпавшейся из кисета махоркой упала на стол сложенная в несколько раз бумажка. Старик аккуратно расправил ее на клеенке стола пальцами.
— Вот, — сказал он, искоса бросив на Милованова острый взгляд.
Всматриваясь в расправленную им на столе бумажку, Милованов вдруг перевел взгляд на свою военную карту, разостланную на столе.
— Это что же, Белая Глина?
— Она, — старик рассмеялся довольным, рассыпчатым смехом. — Я ее срисовал и в кисет схоронил, когда через фронт переходил. Наш хутор от Белой Глины в пяти верстах. Это элеватор, это мельница, а здесь станция, — говорил он, тыча концом черного высохшего пальца в бумажку.
— А здесь? — наклоняясь над столом, спросил Милованов.
— На этом краю, как от Тихорецкой на Сальск ехать, в аккурат двенадцать орудий стоят. Три — возле школы и по три через каждую улицу, на огородах. А на другом краю, как от Сальска ехать, закопаны шесть танков. Там же и снаряды сложены. В батюшкином доме, возле церкви — штаб. Батюшку с матушкой и с четырьмя детишками они на мороз выбросили.
— А как, чтобы на их мины не напороться, можно подойти? — еще ниже наклоняясь над столом и касаясь своей щекой небритой щеки старика, спросил Милованов.
— Вот здесь, товарищ генерал, по балке. Она к самой станице выходит.
Их дыхание смешивалось. Милованов почувствовал, как волнение обручем сдавило ему горло… Не только бесстрашно линию фронта перешел, но все сосчитал, запомнил.
Старик вдруг заспешил, застегивая полушубок и беря из угла свой байдик.
— Мне знакомый мирошник сказал, что мельницу и элеватор немцы будут взрывать. А в тюрьме на рассвете двадцать шестого января должны всех людей казни предать. Если не поспеете, ни за что пропадут люди…
Весь день 25 января под Белой Глиной гремел бой. К вечеру вторая дивизия решительной атакой овладела станцией. План атаки новый командир дивизии Григорович, назначенный вместо отозванного штабом фронта Шаробурко, построил так, чтобы одновременно нанести противнику удары с трех сторон.
Ошеломленные атакой, солдаты 3-й германской танковой дивизии и 444-й охранной дивизии разрозненными группами бежали из Белой Глины по единственному узкому проходу, еще оставшемуся у них. Ворвавшись на двор элеватора, эскадрон казаков вырубил команду подрывников в то время, когда она уже закончила приготовления к взрыву. Под копытами лошадей хрустела рассыпанная пшеница. Из ворот тюрьмы волной выливались люди, уже с минуты на минуту ожидавшие смерти.
Начальник штаба корпуса Ванин в полночь вошел к Милованову.
— Только что Белая Глина очищена от последних групп немцев. Перерезана железнодорожная ветка Тихорецкая — Сталинград.
27
В Белой Глине Милованов собрал всех командиров дивизий и полков, чтобы прочитать им новый приказ. Поднимаясь на крыльцо дома, в котором разместился штаб корпуса, Луговой столкнулся с выходившим оттуда Агибаловым. Скользнув по лицу Лугового коротким взглядом, тот первый уступил ему место на ступеньке.
В большом зале дома стоял посредине длинный стол. Позвякивая шпорами и шашками, офицеры рассаживались вокруг него на стульях вдоль стен. Металлический звон едва пробивался сквозь шум голосов.
Оказавшийся рядом с Луговым замполит командира корпуса Привалов заглянул ему в лицо:
— Ты что так почернел? Болен?
— Нет, — кратко ответил Луговой.
— У Грекова в госпитале был?
На этот вопрос Луговой не успел ему ответить, потому что в самом конце стола встал с белым листком в руке Милованов.
Он быстро окинул собравшихся взглядом. «Приоделись, подтянулись и стали похожи на казачьих офицеров», — промелькнуло у него в голове.
Луговому показалось, что взгляд Милованова задержался на нем, но тут же комкор поднес к глазам лист с новым приказом.
— «Сыны казачества, — начал медленно и негромко читать он в наступившей тишине, — мы уже вступаем на Дон».
— На Дон… — как эхо, повторил сидевший по правую руку от него Рожков.
Милованов поверх листка взглянул на него и слегка повысил голос:
— «Настал день отомстить врагу за сожженные станицы и хутора, за жен и детей!»
Листок с приказом трепетал у него в руке. В отдалении, где-то на северо-западе, как топоры в зимнем лесу, постукивали пушки. В переплете рамы заснеженная степь горбилась верхушками курганов. На лицах слушавших приказ генералов и офицеров жаркий румянец смывался бледностью и опять выступал на скулах. У молоденького капитана из оперативного отделения штаба Рутковского вздрагивали на коленях большие руки.
— «До конца освободим землю наших предков!» — поднимая от листка с приказом глаза, закончил Милованов.
— …Предков! — опять обронил Рожнов.
Капитан из оперативного отделения корпуса Рутковский плакал, не стыдясь своих слез. У соседа Лугового, заместителя комкора по политчасти Привалова, кривились уголки мужественного рта, а выпуклые, по-детски наивные глаза будто подернулись лаком. Генерал Рожков, поставив локоть на стол, вдруг прикрыл козырьком ладони лицо, как от вспышки света.
Расходились, тихо ступая тяжелыми сапогами по дощатому полу. Но Луговой еще оставался на своем месте. «Какую же власть имеют над нами и надо мной эти курганы, эта степь! — думал он. — Я давно уже живу в городе, а могу сходить с ума от запаха сена или от казачьей песни. Когда это успело войти в меня?»
Увидев, что в комнате уже почти никого не было, он спохватился со стула, как вдруг Милованов негромко остановил его:
— Вас, майор Луговой, я попрошу остаться.
Под окном разъезжались машины. Застоявшиеся во дворе лошади с цокотом уносили офицеров в их полки. Кроме Милованова и Лугового, еще только полковник Привалов и какой-то другой полковник оставались в комнате. Привалов нашел на подоконнике шахматную доску, забытую, должно быть, прежними постояльцами этого дома при бегстве из Белой Глины, и теперь, раскрыв ее на другом конце стола, тихо переговариваясь, они расстанавливали на ней белые и черные фигуры.
— Дуз-Хотимирский всегда начинал с королевской пешки, — передвигая по шахматной доске первую фигуру, радостно провозгласил Привалов и, оглянувшись на Милованова, сконфуженно пришлепнул рот ладонью.
— Не мне вас судить, майор, — негромко заговорил Милованов, — но у меня только что был капитан Агибалов.
Луговой стоял перед ним, ссутулившись и нагнув голову, чувствуя во всем теле томительную пустоту.
— Прошу вас не думать, что я защищаю его, — продолжал Милованов, — но дело не в только в нем…
Под окном в голых ветвях акации снегири со щебетом расклевывали засохшие стручки. Луговой вдруг отчетливо вспомнил рощу и длинный стог сена, но не тогда ночью, когда они остановились около него с Мариной, а когда он услышал там голос: «Нехорошо, Митя, мы делаем».
— Не только в нем, — жестко повторил Милованов. — Вы офицер, и она жена офицера… — Он сердито обернулся на дверь. Молодая белокурая женщина в шароварах с лампасами и в кителе с погонами капитана внесла на блюде и поставила на стол четыре стакана чая. — Но я, конечно, вам не судья, — проводив ее глазами, заключил Милованов.
— Разрешите мне увидеться с ней еще раз? — глухо спросил Луговой.
— Да, да, — виновато сказал Милованов, и вдруг понизил голос: — У вас сестра в Ростове?
— В Ростове.
— Жаль, — сочувственно сказал Милованов.
Все время, пока они разговаривали, два полковника, тоже вполголоса переговариваясь на другом конце стола, были целиком поглощены теми событиями, которые разыгрывались у них на шахматной доске. Но вдруг при последних словах Милованова один из них, партнер Привалова, повернув голову, вмешался:
— По сведениям, проверенным смершем, сестра майора Лугового работает в Ростове у немцев переводчицей в лагере советских военнопленных.
Но тут же заместитель комкора по политчасти полковник Привалов, вставая и отодвигая ногой стул, смешал на шахматной доске фигуры.
— А по сведениям, проверенным политотделом, сестра майора Лугового не работает на немцев. — И неожиданно он заключил: — Ваш Агибалов подлец.
— Я ничего не утверждаю, товарищ генерал, а только ставлю вас в известность, — тоже вставая, сказал второй полковник. Он дотронулся рукой до плеча Лугового. — Вы не вздумайте на меня обидеться, товарищ майор, служба есть служба. — И, поворачиваясь опять к полковнику Привалову, укоризненно попенял: — Но зачем же было, Никифор Иванович, такую хорошую партию прерывать?
— Партию всегда можно по памяти восстановить, — миролюбиво согласился с ним полковник Привалов. И он первый стал расстанавливать на шахматной доске фигуры. — Дуз-Хотимирский умел и, отвернувшись от доски, по памяти играть.
28
Дивизия Рожкова оторвалась от главных сил и клином ушла вперед. Проходили хуторами, нескончаемо тянувшимися по длинной балке.
«Атакую в конном строю. Противник не успевает жечь хутора», — доносил в штаб соединения Рожков.
— Неужели не успевает? — задумчиво спрашивал Милованов у Ванина.
Все также ночами горящие скирды озаряли дороги и белое бездорожье. Луговой ловил себя на том, что иногда засыпает в машине или в седле. В сопровождении Остапчука он объезжал двигавшиеся по снежной целине эскадроны, переправлял застрявшие на разбитых мостах через мелководные степные речушки орудия, подстегивал обозы.
Еще не присыпало снегом оспин на склонах изрытых артиллерией степных высот, веяло гарью от подернувшихся окалиной сожженных машин, а законы войны на этой только что отвоеванной земле уже уступали место другим. По всем дорогам вслед за вторыми эшелонами наступающих частей, а иногда и вперемешку с ними, на машинах, на повозках и пешком двигались мужчины и женщины в гражданской одежде. Как в дни отступления, так и теперь они не отставали от армии.
Поравнявшись с одной из подвод, Луговой услышал обрывки разговора. Старик, с рыжими усами и бородой, ехал на возу. Другой, помоложе, о красным от мороза лицом, шел рядом, широко ступая обутыми в валенки ногами по хрусткому снегу.
— А второе поле под пшеницу отдадим, — выпуская изо рта клубы пара, говорил рыжий старик.
— Рожь там уродит, Степан Петрович, а пшеницу надо сеять за Черной балкой.
— Что же это за севооборот? Каждый год за Черной балкой, — загорячился старик. — Так на нее жужелица или еще какая пакость нападет. — Спрыгнув с подводы, он пошел рядом со своим спутником, размахивая руками.
Уже отъехав далеко, Луговой слышал, как они все еще продолжают пререкаться: «Какая же там супесь?» — «Это как собрание решит», — долетало до него. «Еще, может быть, и земля за той Черной балкой не отбита, а они уже готовы из-за нее подраться», — улыбаясь, подумал Луговой.
Казак-ездовой зазывал к себе молодую женщину, которая брела вдоль обоза в серой шали и в стеганой ватной кофте, с трудом вытаскивая из глубокого снега ноги.
— Погляди, как у меня. Печка! — Он отворачивал край прикрывающего бричку брезента.
Женщина отказывалась, оглядываясь на других женщин, тянувшихся гуськом рядом с колхозным обозом. Но в ее фигуре и во взглядах, которые она бросала на ездового из-под заиндевелой шали, выражалось колебание. А встречный ветер сек в лицо снегом.
— Скорее же! — ощеряя в улыбке белозубый рот, поощрял ездовой.
Женщина еще раз оглянулась на обоз и быстрыми шагами направилась к бричке.
— Давно бы так, — проговорил ездовой, подсаживая ее под локоть в бричку.
Некоторое время он шел рядом с бричкой и потом со словами «а вдвоем еще теплое» тоже скрылся под брезентом. В ответ из-под брезента послышался негромкий смех.
Ехали верховые, проносились на прицепах и в конских упряжках пушки, громыхая по мерзлой земле. Вдоль улиц темнели сады.
Проезжая через центр хутора, Луговой направил лошадь к колодцу. Женщина в съехавшем на плечи зеленом платке вытаскивала из колодца ведро с водой.
— Ведро у вас чистое? — спросил Луговой.
— Чистое.
— А из чего бы лошадь напоить?
— Поите из него, — быстро сказала женщина, поставив ведро на землю.
Пока лошадь пила, Луговой спрашивал:
— Давно они отсюда ушли?
— Часа два назад, — поправляя платок, отвечала женщина.
— На север?
— Нет, туда. — Женщина махнула рукой на восток. «Странно, — отъезжая от колодца, думал Луговой, — с какой стати на восток? Если отступать, то или на север, к Ростову, или на запад, к Тамани. А на восток — это непонятно».
Отыскав начальника штаба полка Синцова, он приказал:
— Усилить боевое охранение.
— Лишние предосторожности, — улыбнулся Синцов. — Они мечтают только о том, как бы ноги унести.
— Никогда не надо думать, что они глупее нас с вами, капитан Синцов, — сказал Луговой.
В полк приехал Рожков. Сняв с головы серую папаху, ладонью сбил с нее снег.
— Как идем! Но ты, Луговой, отстаешь…
— Смущает, что они уходят без боя на восток, — сказал Луговой.
— Пусть идут хоть к черту на рога! Вперед и вперед! — Рожков постучал каблуком по твердой, закованной стужей земле: — Слышишь, уже по донской идем. — И, закрывая за собой дверцу машины, повторил: — Только вперед! Смотри как бы другие не обогнали твой полк.
Тишина… Не вздохнет в отдалении гаубица, не расколет морозный воздух выстрел. Милованов напряженно прислушивался, вызвал начальника штаба:
— Что нового от Рожкова? Как идет?
— Без задержки. Противник не принимает боя.
— Это меня и беспокоит. Передать Мирошниченко, чтобы выдвинулся в район хуторов. Пусть будет готов поддержать Рожкова. От Рожкова требовать донесения каждые полчаса.
Над черными массивами нескончаемых садов вставал ослепительно яркий круг солнца. В розовых облаках испарений стояли сады.
— Начальника разведки! — бросил адъютанту Милованов.
Через минуту в приоткрывшуюся дверь просунулась черная курчавая шапка и потом уже вся фигура человека в накинутой на плечи бурке. На бурке искрились снежинки. Выпростав из-под нее руку, вошедший поднес ее к шапке.
— Старший лейтенант Жук по вашему приказанию, товарищ гвардии… — начал он звучным с мороза голосом.
— Карта с обстановкой? — перебил его Милованов.
— При мне. — Жук пошевелил рукой под буркой.
— Докладывайте.
Пока Жук раздевался, он, заложив за спину руки, следил за ним довольными глазами. Новый начальник разведки с каждым днем нравился ему все больше. В походе всегда подтянут, гимнастерка чистая, подшит свежий подворотничок, тщательно выбрит. И сапоги блестят так, словно шел он сюда по паркету.
Сняв бурку, Жук раскладывал на столе свою карту. Руки у него вздрагивали. Откровенно признаться, он все еще трусил. Никак не мог привыкнуть к своему новому положению начальника разведки. Одно дело сходить во главе разведчиков в поиск, самому взять языка, другое — докладывать об обстановке. Притом не в масштабе полка, а в масштабе целого корпуса.
— Говорите, — нетерпеливо сказал Милованов.
— Дивизия «Викинг» в составе полков «Нордланд», «Вестланд» и «Великая Германии» и одного артполка по-прежнему занимает Длинную балку. Третья танковая дивизия подтягивается в район хуторов. Тринадцатая танковая дивизия генерал-майора Шевелери и шестой полицейский полк уходят. Кроме этого… — Жук замялся.
— Говорите.
— По некоторым данным, на наш участок приехал фельдмаршал Лист.
— Больше ничего?
— Движения противника на запад не отмечено.
— Таким образом?
— Таким образом, перед фронтом первой дивизии образуется коридор, — поднимая от карты посмелевшие глаза, Жук прямо взглянул на Милованова.
— И мы входим в него?
— Я передал эти данные гвардии генерал-майору Рожкову. — Жук пожал плечами.
— Хорошо. Идите.
Уже с порога Жук услышал, как Милованов, снимая трубку телефона, говорил:
— Ванин? Немедленно передать Рожкову мой приказ отойти назад.
Полк Лугового шел на правом фланге. Луговой приказал командирам эскадронов замедлить движение, чтобы уплотнить боевые порядки полка. «Растянулись», — думал он, оглядывая с горки текущий через хутор ноток.
Возвращаясь с левого фланга, Рожков опять заехал к Луговому.
— Я тебя не узнаю, Луговой.
— Мне кажется, что мы входим в мешок, — сказал Луговой.
— Чепуха! Вы как сговорились.
— С кем? — удивленно спросил Луговой.
— Только что получил, — Рожков раздраженно сунул Луговому шифровку.
— Товарищ генерал, командир корпуса прав, — прочитав шифровку и бледнея, сказал Луговой. — Я считаю…
— Никаких «считаю»! — отрубил Рожков. — За дивизию отвечаю я. — Помолчал и, яростно захрустев пальцами, с тоской продолжал — Отойти? Снова оставить эти станицы и хутора? Никогда. Костьми ляжем. Слышишь, Луговой?
29
«Тигр» командира 13-й танковой дивизии генерала Шевелери стоял в котловане. Выглядывали из него только полукруглые очертания башни. Был окрашен танк голубовато-белой эмалевой краской, оттого издали мог показаться большим сугробом снега. Незакрашенным остался лишь желтый крест на левом боку.
Рядом с Шевелери стоял возле танка другой генерал, в гладкой, короткой шинели, в меховых унтах. На воротнике у него ярко пунцовели петлицы, а на груди черный орел нес в когтях свастику.
— Все-таки, господин фельдмаршал, снайперы могут нащупать, — с беспокойством заметил ему генерал Шевелери.
— Вы же сами сказали, что здесь их не может быть, — возразил ему фельдмаршал. Но в люк танка он вскоре все же полез первым, высоко подбирая полы своей шинели, чтобы не запачкать их машинным маслом.
Внутри танка вонь дизельного топлива смешивалась с вонью краски и горячей резины на электропроводке. Скорчившись, прилип к рации радист. К свету вольфрамовых ламп прибавлялся ручеек дневного света, сочившийся снаружи через смотровую щель.
В рамке ее видна была белая с редкими оттепельными проталинами степь. Отлого спускаясь в балку, она выходила к хуторам. Фельдмаршал поднес к глазам большой цейсовский бинокль, рассматривая игрушечные синие фигурки, смутно мелькавшие среди протянувшихся за балкой садов.
— Слепая и неуклюжая машина танк, — сказал он, с раздражением опуская бинокль. — Предвижу ее близкий конец.
— И нам придется уходить в отставку, — с учтивой веселостью подхватил Шевелери.
Но фельдмаршал его шутку отклонил.
— Прикажите вызвать по рации генерал-лейтенанта Штайнера.
Склоняясь над рацией, радист простуженным голосом стал повторять:
— «Бреслау», я — «Тироль», «Бреслау», я — «Тироль».
— Командир дивизии «Викинг» у аппарата, — доложил он, привставая и пригибая голову под низким стальным сводом.
— Докладывайте, Штайнер, — наклоняясь к микрофону, приказал фельдмаршал.
— Они уже проходят Иванов и Любимов, — раздался из динамика рации отрывистый, перемежаемый треском голос. Вместе с ним внутрь танка ворвался гул.
— Откуда артогонь? — нахмуриваясь, спросил в микрофон фельмаршал.
— Это у левого соседа.
— Ни единого выстрела. Лучше прикройте левый фланг.
— Я приказал выставить еще две батареи.
Фельдмаршал помедлил.
— Этого мало.
— Я полагал… — Отвечавший ему голос, вдруг сразу куда-то проваливаясь, совсем исчез.
— Мало, генерал-лейтенант Штайнер, — повторил фельдмаршал. Шевелери увидел, как у него дернулась матово выбритая щека. — Не следует полностью рассчитывать на их беспечность. — Шевелери показалось, что маленькие холодные молоточки стучат по его черепу, он поежился. От стенок танка в самом деле веяло арктическим холодом. «Как в склепе», — подумал Шевелери.
— Вы свободны, Штайнер, — сказал в микрофон фельдмаршал и, разворачивая на большом планшете карту, стал водить по ней узким ногтем.
— Время завязывать? — дыша возле его уха, спросил Шевелери.
— Да, — тщеславно подтвердил фельдмаршал, подумав о том, что выношенный им лично план контрудара по зарвавшейся казачьей коннице противника был утвержден в ставке без всяких изменений. Зная об этом, Шевелери рассчитывал, что его замечание не пропадет бесследно. И хоть немного оно должно будет рассеять тот холодок отчужденности, которым всегда окружал себя в своих отношениях с подчиненными фельдмаршал Лист. Он принадлежал к плеяде генералов, начавших с головокружительной быстротой всходить по лестнице военной карьеры в 1933 году. Офицеры старого рейхсвера относились к таким генералам с неприкрытой иронией, но молниеносный балканский поход не только упрочил военную репутацию Листа, но и принес ему славу. Он стал пользоваться неограниченным доверием фюрера, и после того, как фон Манштейн был брошен на помощь окруженной в Сталинграде 6-й армии Паулюса, назначен командующим всеми немецкими войсками на Северном Кавказе. Ему поручили кардинально выправить положение, фактически уже приведшее к распаду германского фронта на юге на два изолированных крыла. — И вам, генерал, предстоит завязать этот мешок, — значительно взглядывая на Шевелери, с меньшей сухостью добавил фельдмаршал Лист. — Разумеется, конечная задача этого контрудара шире. Нас интересует не частный успех. Уничтожив кавалерийскую группировку, мы возвратим себе контроль над дорогой Тихорецк — Сталинград. Но это также и вопрос престижа. Вам уже приходилось встречаться с казаками, генерал?
«Знает?» — встречно взглянув на бесстрастное лицо фельдмаршала Листа, спросил себя Шевелери. Ему почудился в словах Листа намек. Но лицо у фельдмаршала продолжало оставаться серьезным. «Нет», — с облегчением заключил Шевелери.
— Еще не приходилось, господин фельдмаршал, — ответил Шевелери, вдруг опять ощутив знакомую ноющую боль в ногах. Холод, исходивший от стальной брони танка, пронизывал их. Ревматические ноги опять стали напоминать ему о себе. С тех пор как под Лепилиным командир 13-й танковой дивизии генерал Шевелери лишился своего старого денщика, он забросил и ежевечерние процедуры перед сном. Никто другой, как Курт, с которым Шевелери начинал войну на Западном фронте, не смог бы так растереть простуженные ноги генерала сперва спиртом, а потом анестезирующей мазью и так укутать их на ночь верблюжьим одеялом.
— Казаки — не только упорный противник, — сказал фельдмаршал. — Основное их преимущество в том, что они столько же кавалерия, сколько и пехота. В седле они кентавры, а спешиваясь — превращаются в не менее грозных солдат. У них это называется: пластуны. Но на этот раз им, кажется, не должно будет помочь ни то, ни другое.
Правую щеку фельдмаршала все время подергивал тик. Одна сторона лица кривлялась и прыгала, в то время как другая оставалась совершенно неподвижной. Иногда у Шевелери появлялось ощущение, что фельдмаршал Лист подмигивает ему. С чувством неловкости Шевелери отводил глаза.
30
— А теперь, генерал, еще раз посмотрим, где будет лучше всего затянуть петлю.
Они вылезли из танка и по ходу сообщения стали спускаться в лощину. Справа и слева балки расстилалась степь. Солнце, поднимаясь над нею, продиралось сквозь синие ветви тернов, за которыми маячили хутора. По склону стояли в капонирах «хеншели», окрашенные под цвет снега. Танкисты в кожаных шлемах и в комбинезонах, согреваясь, переступали с ноги на ногу, похлопывали кожаными рукавицами, толкали плечами друг друга. Двое офицеров возле крайнего «хеншеля» цедили слова, не выпуская изо рта папирос:
— Чертовски крепкий табак, Вилли, у меня от него не только в горле дерет. — Танкист в откинутом на шею шлеме сплюнул на снег желтую слюну.
— Это называется ма-хор-ка, — пояснил ему товарищ. — Благодари наших интендантов, которые умудрились оставить в Белой Глине русским табачный паек всего фронта. — Высокий и широкоплечий, он стоял, привалившись к танку спиной.
Движение пробежало среди танкистов, когда отрывистый голос прокричал в морозном воздухе слова команды. Они колыхнулись и стали выстраиваться в шеренгу впереди своих машин.
— Что там такое, Бертольд?
— По-моему, к нам направляется начальство.
— Один из них наш генерал, а другой…
— Я слышал в штабе полка, что должен был прибыть фельдмаршал Лист.
Фон Хаке пошел к ним навстречу.
— Обрати внимание на его лицо.
— Оно не бывает веселым с того дня, как его понизили в чине.
— Говорят, на нем отыгрались за поражение в Лепилине.
— Вполне возможно. Из командиров полков он был единственный, кто поставил под сомнение блистательный замысел нашего генерала.
— И за это он теперь расплачивается как непосредственный виновник неудачи.
Майор фон Хаке быстрыми шагами шел по ходу сообщения навстречу фельдмаршалу Листу и генералу Шевелери, вскидывая правую руку.
— Командир четвертого танкового…
— Почему не рассредоточены машины? — перебил его фельдмаршал.
Лицо у фон Хаке, побледнев, стало почти таким же бесстрастным, как у фельдмаршала Листа. «Но у Хаке больше видна порода», — подумал Шевелери.
— Я строго придерживаюсь карты штаба дивизии, — холодно ответил фон Хаке.
— На которой указана только общая схема. — Вставил генерал Шевелери. — В остальном я полностью полагаюсь на опыт командиров полков.
«Старая лисица», — встречаясь с ним взглядом, подумал фон Хаке.
Пропуская фельдмаршала и генерала вперед, он пошел вслед за ними.
Фельдмаршал Лист шел расслабленной, старческой походкой, приподняв костлявые плечи. Короткая и широкая шинель висела на нем.
— Фюрер недоволен нашими последними потерями в танках, — шагая впереди, продолжал фельдмаршал. — К тому же мы не успеваем эвакуировать подбитые машины. В Минеральных Водах бросили сорок эшелонов с военными грузами, в Белой Глине — десять. Фюрер приказывает сжигать все, вплоть до последнего зерна и последней доски. На месте оставляемых сел и городов должна оставаться только зола.
Равнодушным взглядом он скользнул по шеренге танкистов, застывших возле машин, и, раздвинув ветви терновника, стал рассматривать балку. Генерал Шевелери тронул фон Хаке за плечо.
— Я на вас надеюсь, майор. Ваш полк выполняет едва ли не самую главную задачу по рассечению казачьей конницы. Во многом от вашей решительности будет зависеть…
— Вернуть себе звезду на погоны? — насмешливо подсказал фон Хаке.
— Может быть, и в паре с другой. Считайте, что они уже ваши. Разумеется, в случае если им не удастся уйти из мешка.
— Однажды, господин генерал, мы уже пытались взять реванш, — заметил фон Хаке.
— Повторяю, все зависит только от вас, — более сухо сказал Шевелери.
Фельдмаршал Лист опустил бинокль.
— Нужно не дать им успеть возвести круговую оборону. Атаку начать на два часа раньше намеченного.
— До этого, господин фельдмаршал, я предлагаю позавтракать, — напомнил Шевелери.
Фельдмаршал, взглянул на него, впервые за все утро скупо улыбнулся:
— Говорят, вы возите с собой коллекцию французских вин, генерал?
— На этот раз, господин фельдмаршал, я смогу предложить вам только бордо, — скромно поклонился Шевелери.
31
Стоявший в шеренге танкистов Бертольд повернул к своему товарищу бледное лицо:
— Ты слышал, Вилли? Нас опять бросают первыми под огонь.
Вилли флегматично пожал плечами.
— Кому-то ведь надо быть первыми, Бертольд.
— Мне непонятно твое спокойствие.
— А что же я, по-твоему, должен биться в эпилептическом припадке?
— Вообще ты стал неузнаваем.
— Ты забываешь, Бертольд, что мы теперь поменялись с русскими местами. Теперь у нас мерзнет хвост.
По белой равнине струилась поземка. Ветер звенел в обледенелых ветвях терновника.
— До атаки мы тоже успеем позавтракать, — заглянув под обшлаг комбинезона на часы, сказал Бертольд.
— Что ж, — равнодушно согласился Вилли.
Две головы в кожаных шлемах, колыхаясь, поплыли по узкому лабиринту, прорезавшему склон снизу доверху.
Ответвляясь вправо, ход сообщения вывел их на окраину села. Мелкая речушка, подернутая коркой льда, разрезала его из конца в конец надвое. Весной, как видно, речушка, переполняясь снеговой водой, сбегающей с кавказских предгорий, расхлестываясь, топила прибрежные сады. Желтые и коричневые нити подмытых ею корней свисали по обеим сторонам балки с крутых обрывов. Теперь немецкие саперы, наглухо закрывая все выходы из балки, в три ряда натянули в садах между деревьями колючую проволоку. Костыли, на которых держалась она, вбивали в стволы яблонь и вишен. На багровых и дымчато-сизых лоскутах содранной коры застыли капли древесного сока.
Перейдя речку по льду, Бертольд и Вилли поднялись сквозь оставленный в колючей изгороди проход в село. На огородах, возле дымящейся полевой кухни, солдаты резали большую свинью. Двое солдат держали ее за ноги, а третий заносил над ней отточенный до слепящего блеска тесак. Свинья с визгом вырывалась у них из рук. Четвертый, в поварском колпаке, рубил на дрова вишню. Когда она, медленно надламываясь, рухнула в сугроб, он стал счищать с нее топором ветви.
— Мне, Вилли, всегда бывает жаль смотреть, когда рубят деревья, — обходя упавшую в снег вишню сказал Бертольд.
— Тебе, Бертольд, не помешало занести это изречение в свой дневник.
— К сожалению, он теперь безвозвратно утерян.
— Ты, Бертольд, бываешь сентиментальным даже с русскими женщинами, — насмешливо заключил Вилли.
— Согласен с тобой только в том, что я недооценил фактора времени. Но в грубом насилии над женщиной, даже если она русская, по-моему, удовольствия мало.
Через какой-то большой унавоженный коровьим и птичьим пометом хозяйственный двор они вышли к дому под оцинкованной крышей. Бертольд толкнул калитку носком сапога.
— Курка! — вдруг с изумлением воскликнул он.
И он побежал за метнувшейся от него черной курицей. Два или три раза ему ужи удавалось схватить ее за хвост, но каждый раз она в последний момент вырывалась, оставляя у него в руках перья. На крик курицы из дверей дома выскочила высокая женщина в черной шали. Секунду постояв на крыльце, она сбежала со ступенек и тоже погналась за ней. Она и Бертольд схватились за курицу одновременно.
— Последняя, — хриплым голосом сказала женщина. Из-под ее шали выбивались седые космы.
Не отпуская из рук курицы, Бертольд покачал головой.
— По-русски не понимаю.
— Не дам, проклятый! — грубым голосом крикнула старуха.
Бертольд дернул курицу к себе.
— Прочь, ведьма!
Наблюдавший эту сцену Вилли махнул рукой.
— Оставь, Бертольд, вы ее разорвете. Все равно мы не успеем ее приготовить.
Бертольд разжал руки. Прижав курицу к груди, старуха, не оглядываясь, пошла к дому. Провожая ее взглядом, Бертольд поцарапал пальцами желтый ремень на своем комбинезоне и расстегнул кобуру. Вилли, не захотев наблюдать за дальнейшим, скучающе отвернулся и стал смотреть в степь.
Через час они сидели в доме за накрытым зеленой клеенкой столом и ели жареную курицу. В доме было тихо. Лишь на стене верещал, раскачиваясь из стороны в сторону, маятник дешевых часов.
— К этой курице да яблочный соус. В таких случаях я всегда вспоминаю мать, — сказал Бертольд.
Старуха лежала возле крыльца ничком. Шаль сползла у нее с головы, ветер шевелил белые пряди волос. Махры шали быстро вмерзали под морозным ветром в лужу крови.
32
Флигель, в котором расположился Дмитрий Чакан с отцом на ночлег, выходил окнами прямо в степь. Пожилая хозяйка с вечера растопила печь, поставила на стол кувшин с молоком.
— Может, не погребуете козьим, ничего другого не осталось. Все в доме, до последнего яичка, выгребли, только козу не тронули.
Подождав, пока Дмитрий ушел проверять сторожевое охранение, Чакан разговорился с хозяйкой. Разглядывая на стене фотографии, спросил:
— Муж тоже в кавалерии?
— В кавалерии, — ответила хозяйка.
— Не в Кубанском корпусе?
— С первого дня войны не слыхать. — Хозяйка краем фартука провела по глазам. — Можно я вам с сыном на большой кровати вместе постелю? На полу к утру будет совсем холодно, а топка теперь у нас — один бурьян. Сама я в боковушке лягу.
Попив молока, Чакан разулся, прислонил влажные валенки к теплой стене и сам протянул к ней ноги в белых шерстяных носках. Носки связала ему дома жена Татьяна из шерсти племенной овцы. «Теперь, должно быть, овечку тоже они сожрали, — подумал Чакан. — А может, и схоронила ее Татьяна где-нибудь под яром, если сама осталась в живых?» Вдруг почувствовал он такую тоску по дому, какой не было у него даже в черных терских песках. Захотелось поскорее увидеть свой с низами и с балясами дом, спуститься по отлогому берегу к Дону, и, постояв у воды, посмотреть, как она пенится, крутится воронками посредине и опять течет мимо хутора, гладкая и зеленая, как бутылочное стекло.
Ясно вспомнилось Чакану, как весной, когда схлынет паводок, а весь хутор на ранней заре еще спит, отчаливал он от берега на плоскодонке ставить вентеря в протоке у острова. Не больше как через два часа их уже распирало царским уловом: сулой, сазаном, стерлядью. Но особенно любил Чакан, когда Татьяна запекала для него в коробе вынутого только что из вентеря чабака, плавающего в густом пахучем жиру.
Нахлебавшись ухи, сваренной с помидорами и с луком, и объевшись чабаком с вареной картошкой, он вот так же протягивал ноги к теплу, чтобы посидеть наедине со своими мыслями, перебрать в памяти события минувшего дня.
…У Чакана опять защемило в груди так, что он стал растирать ладонью грудь. Нащупав на шнурке Татьянину ладанку, высыпал из нее в руку щепотку сухой земли. Стершаяся в мелкий порошок, она пахла чем-то горьким и знакомым, но совсем слабо. Ссыпав сухую землю с ладони обратно в ладанку, он завязал со и опять спрятал на груди на шнурке.
Когда вернулся Дмитрий и молча стал разуваться, Чакан спросил его:
— Ты слыхал, Митя, что в эскадроне брешут?
— Ну? — сердито отозвался Дмитрий.
— Подожди запрягать. Говорят, немецкие танки не совсем отсюдова ушли, а где-то схоронились. Как бы не заманули они нас, как сазана в вентерь.
— Еще лучше, папаша, глупый сазан на капли датского короля клюет. Ему намешают их в пышку, а он и рад губы распустить.
— А вы, без году неделя командиры, думаете прожить только своим умом.
Обидевшись на сына, Чакан вышел покурить на крыльце. Вечер был не по-зимнему теплым. В тумане таяли плетни, дома, колодцы с запрокинутыми в небо журавлями. Проезжая улицей, громыхала котлами кухня. В туманной мгле плавали светлячки папирос. Совсем как дома в хуторе, когда соседи по вечерам ходили погостевать друг к другу и не было еще никакой войны.
Скрипнув дверью, хозяйка остановилась за спиной Чакана, луская семечки. Наискось через улицу смеющийся молодой басок настойчиво увещевал:
— Правда, приеду и заберу с собой в Таганрог.
— Ты же меня и рассмотреть еще не успел, — со смехом возражал ему женский голос.
Хозяйка пошевелилась за спиной у Чакана.
— Молодым и война не причина.
Она еще постояла, дыша в затылок Чакану маслянистым запахом жареных семечек, и молча вернулась в дом.
На раннем рассвете она разбудила Чакана, спавшего на кровати рядом с отвернувшимся к стенке Дмитрием:
— Немцы!
— Где? — садясь на кровати и всовывая ноги в валенки, спросил Чакан.
— На зорьке я пошла в степь за бурьяном, печку затоплять, спускаюсь в балочку, вижу — они стоят. Я бежать. Они стрелять, а я шибче. — Хозяйка перевела дух.
— Может, вы ошиблись, мамаша? Может, это наши? — торопливо обуваясь, неуверенно сказал Дмитрий.
— С крестами. Я уж нагляделась на них.
— Стреляют — прислушиваясь, сказал Чакан.
По хутору застучали выстрелы. Сначала разрозненно, редко, но потом зачастив и сливаясь в залповый огонь. На огородах застрочил пулемет боевого охранения.
— Чуете, ревут? — сказала хозяйка.
Дмитрий вскинул к глазам бинокль, стал смотреть через окно в степь.
— Да они. Немецкие, — сказал он тревожно, направляясь к двери и пристегивая на ходу шашку.
Милованов посылал адъютанта за начальником штаба.
— Как у Рожкова дела?
— Отвечает, что не может отойти, когда немцы бегут, едва завидев красный лампас.
— Казачья лирика! — зло бросил Милованов. — Предупредите о последствиях.
— К вам оперативный дежурный, — заглянул в дверь адъютант.
— Впусти.
— Товарищ генерал, с дивизией Рожкова связь потеряна, — доложил оперативный дежурный.
— Потеряна? — переспросил Милованов. Вдруг он почувствовал облегчение. Определенность положения возвращала спокойствие. — Мирошниченко — ко мне!
33
Танки шли, не открывая огни. Наспех отрытые в хуторских садах окопы тоже молчали. Залегшие в них люди курили, положив противотанковые ружья на холмики брустверов.
— Опять у них, Василий Иванович, эти медведи.
— Значит, со старыми знакомыми будем дело иметь.
— Все пугают нас?
— Пугают.
— Как хотели сперва нас дуриком взять, так и сейчас. Раньше я, бывало, издали почую, что танки ревут, и сердцем мертвею. Теперь же свободно могу его до окопа допустить. Если глубокий окоп, танк по мне может сколько угодно ходить.
Полк Лугового прикрывал северную часть протянувшихся вдоль балки хуторов. Из пролома в стене каменного сарая Луговой наблюдал за атакой танков. Начштаба полка Синцов, нервничая, говорил:
— Это уже новые «хеншели».
Танки поднимались из-за склона балки и строились косяком. Луговой подумал, что, может быть, это и есть классическая тевтонская «свинья», знакомая ему еще по лекциям в военной академии.
— Уверяют, что лобовая брони у новых танков полуметровая, — продолжал Синцов.
От балки до первой линии окопов было не больше двух километров. Когда танки прошли половину этого пути, открыли огонь пушки артдивизиона, спрятанные в садах. Разрывы снарядов окутали танки облаком желтоватой мглы. Один из средних танков круто свернул в кустарник и помчался по косогору в сторону, пытаясь сбить со своего борта ветвями терновника золотистое пламя. Другой забуксовал на одной гусенице, нарывая сугроб земли и снега.
Остальные, обойдя его, продолжали идти к садам. Впереди шли большие машины.
— Ее не пробивают пушки. — Синцов дышал табачным запахом над ухом Лугового.
Захлопали противотанковые ружья.
— Они неуязвимы.
— Помолчите, капитан! — резко оборвал его Луговой. Он и сам видел, что противотанковые ружья не причиняли новым немецким танкам вреда. — Вам придется самому пойти в окопы, — помолчав, мягче сказал он Синцову. — Надо пропустить танки и попробовать открыть огонь по корме и по бортам. Возможно, на бортах у них обычная броня. Надо поторопиться, капитан.
— Иду, — поспешно ответил Синцов. — У вас есть спички? — примирительно спросил он. Луговой рассеянно протянул ему зажигалку. Синцов высек, дал прикурить Луговому и Остапчуку и потом, погасив фитилек, снова зажег его, чтобы теперь уже прикурить самому. На молчаливый вопрос в глазах Лугового смущенно ответил:
— Знаю, что глупость, но и никак не могу от этой привычки избавиться. Никогда не прикурю третьим.
Луговой впервые обратил внимание, что лицо у него круглое, расплывчатое. «Должно быть, и в баньке попариться любит».
Уже откозыряв Луговому и потоптавшись на месте, Синцов охрипшим, незнакомым голосом сказал:
— Вы не сердитесь, майор. Мне и отец всегда говорил: «Семь раз отмерь, а один отрежь». Но теперь вы можете положиться на меня…
— Смотрите не лезьте под огонь, — крикнул ему вдогонку Луговой.
Он никак не мог поверить, когда всего через полчаса прибежавший из первого эскадрона связной с порога доложил ему:
— Товарищ майор, убит капитан Синцов.
— Как? — с недоумением переспросил Луговой. «Но теперь вы можете положиться на меня», — пронеслось у него в голове.
— Когда он уже почти перешел через речку, снайпер… Так и остался в речке лежать.
Луговой бросился к телефону, но вспомнил, что проволочной связи с первым эскадроном уже нет.
— Возвращайся и передай комэску Чакану мое приказание вытащить тело капитана из речки.
— Есть, товарищ майор, передать…
Но Луговой уже не слышал его. Раз и другой прозвонил телефон.
— Как дела? — услышал он в трубке голос Рожкова.
Дела были неважные. Немцы наращивали атаку в самом узком месте балки. С командного пункта полка видно было, как с двух сторон танки сжимают горловину. В первом эскадроне, в окопы которого они врезались клином, оставалось не больше двух десятков бойцов, три расчета противотанковых ружей. Но Луговой только и смог ответить Рожкову:
— Синцов убит.
— А-а, — растерянно протянул Рожков. И, подышав в трубке, добавил: — У меня, кажется, есть на примете новый начштаба для тебя.
Колонна тяжелых немецких танков, дойдя до середины промежутка между балкой и хуторами, разделилась на две группы. Под прямым углом танки стали расходиться на правый и левый фланги полка. В клубах черного дыма и снежной пыли тонули и расплывались очертания их могучих корпусов, а белая эмалевая краска, которой были окрашены они, создавала впечатление, что сдвинулись с места наметенные ветром в степи сугробы.
Чакан плотнее прилег к бронебойному ружью. В той группе, которая двинулась на левый фланг, было больше машин. Впереди шли три больших танка, резко отличных от других. Казалось, вырублены они были из сплошного куска металла.
— Второй год воюем, а такие вижу первый раз, — вполголоса сказал Куприян.
— Это и есть «тигры», — небрежно ответил Чакан, хотя и сам был поражен внушительными размерами и видом машин. — Ты бей правого, а я левого. Как подойдут до тех кустов, так и стреляй.
Из пролома в стене сарая хорошо было видно, что танки уже взбирались по склону к окопам первого эскадрона. За спиной Лугового задышал Остапчук.
— До вас прийшлы, товарищ майор.
Оборачиваясь, Луговой увидел Агибалова. Отводя взгляд от его настороженно-бледного лица, он спросил:
— От Рожкова?
— Да. Назначен начальником штаба вашего полка.
— Вот и хорошо, — сказал Луговой. — Прошу вас отправиться в первый эскадрон и лично возглавить оборону горловины. Вас проводит мой ординарец. Но смотрите переходите речку не на повороте, а ниже, за кручей. — Он нашел глазами ординарца. — Понял, Остапчук?
— Поняв, товарищ майор, — неохотно сказал Остапчук.
Он вообще не любил отлучаться от командира полка в горячие моменты боя. Агибалова же, которого ему теперь приказано было сопровождать, он запомнил еще с того дня, как тот отказывался возить в госпиталь раненых на машинах автобата.
Через минуту Луговой уже увидел из пролома в стене сарая черную с белым верхом кубанку Агибалова в извилинах траншеи, опоясывающей сады. Быстрыми шагами, почти бегом, он направлялся по траншее в расположение первого эскадрона. Медвежеватый Остапчук едва успевал за ним.
Под станиной разбитого прямым попаданием артиллерийского снаряда бескрылого ветряка вырыта в земле узкая черная щель. Вырубленные саперными лопатами ступеньки уходят вниз. Автомобильная лампочка бросает на земляные стены желтоватый свет.
— С Рожковым связь восстановлена? — спрашивает Милованов у начальника штаба корпуса.
— Восстановлена.
— Он просит?..
— Нет, помощи он не просит, хотя противник уже третий раз переходит в атаку…
«Гордый! — с невольным уважением думает Милованов. — Из-за своей казачьей гордости попал в беду и теперь хочет обойтись своими же силами».
Заслышав пение зуммера, начальник штаба уходит за перегородку в блиндаже и через минуту возвращается.
— Звонит Мирошниченко.
— Опять?
— Говорит, что все готово.
— Пусть еще подождет.
Милованов щурит глаза на скупой огонек лампочки. Что за народ! Рожков наотрез отказывается от помощи. Мирошниченко, которого все считают непримиримым соперником Рожкова, рвется поддержать его. Милованов считал, что знает своих комдивов, но, оказывается, он знает о них далеко не все.
Он поднимается по ступенькам наверх, смотрит на протянувшиеся с обеих сторон вдоль Длинной балки села и хутора. Там, где балка, суживаясь, превращалась в совсем узкий проход между ними, теперь ревела танковая и противотанковая артиллерия. Но даже в бинокль сквозь сплошную черно-белую мглу трудно было что-нибудь рассмотреть.
Не доходя до кустов, танки открыли огонь. Из жерл, направленных на хутора, блеснули острые язычки. По линии окопов пробежал шорох.
— Стреляй, Куприян! — оглохнув от грохота, крикнул Чакан.
Среди тупых и гулких ударов пушек выстрелы противотанковых ружей зазвучали слабо и неуверенно. Но в развернутой шеренге идущих на хутора танков глаз Чакана уже заметил причиненный ими урон. Два танка остановились, над ними заколыхалось пламя.
— Горят, Куприян! — радостно закричал Чакан.
Однако три головных тяжелых танка продолжали невредимыми идти на окопы.
— Неужто наше пэтээр не берет? — усомнился Чакан.
— Стреляй, Куприян!
Смяв гусеницами кусты терновника, танки вломились в сады. На больших оборотах взвыли моторы.
— Что же ты молчишь, Куприян. Бей!
Но Куприян не ответил. Выпустив из рук приклад противотанкового ружья, он прислонился плечом к земляной стене, медленно сползая вниз. Ноги его подгибались, он тихо садился на дно окопа.
Горе и злоба стиснули сердце Чакана. Он налег плечом на бруствер, тщательно целясь. Передний танк, тяжело переваливаясь, на минуту приоткрыл бок. Чакан выстрелил и подбил его.
Другие машины, сокрушая деревья, прошли через сады. На их пути к хуторам оказалась неширокая, но крутобережная речка. Спустившись к ней, танки напоролись на замаскированные саперами в воде мины и попятились. Лишь один, переехав речку, вскарабкался на высокий берег, ринулся вперед. Повалив колодезный сруб и подмяв под себя плетень, ворвался на большой колхозный двор.
Навстречу ему из-за угла амбара артиллерийский противотанковый расчет на руках выкатил совсем небольшую пушчонку. Вздрогнув, она в упор ударила по башне танка.
Огромная машина круто остановилась, из ее щелей повалил дым. Люк танка отодвинулся, из него выпрыгнул небольшого роста танкист с непокрытой головой и, развевая полами серой шинели, побежал в степь. Его догнала пуля. Взмахнув руками, он уткнулся лицом в смешанный с конским навозом снег.
Другой — долговязый танкист, вылезая из люка подбитой машины, высоко поднял над головой руки в черных кожаных перчатках.
Как порубленные осколками хуторские сады, редел полк. В эскадронах оставалось по двадцать-тридцать сабель. Из-за гребня балки уже показались башни четвертой волны атакующих танков.
Луговой с удивлением оглянулся, не услышав, а скорее почувствовав у себя за спиной присутствие Остапчука.
— Уже вернулся? Капитана Агибалова до места довел?
Остапчук потоптался под его взглядом.
— Ни, товарищ майор, не довел.
— Я тебя под трибунал отдам, Остапчук.
— Отдавайте, товарищ майор. Там у них и за кручей снайпер сидит.
— Убит? — испуганно спросил Луговой.
— Ни, только ранение у голову. Он зараз без памяти, товарищ майор.
— Где же он?
— Тутечко рядом, у сарае лежит, — оглядываясь на стену сарая, сказал Остапчук. — Дюже он тяжелый, на себе тащить.
«А я еще не успел и с Мариной поговорить», — вдруг подумал Луговой и тут же сам устыдился своей мысли.
34
По единственной дороге, еще связывающей между собой хутора тонкой ниточкой, то и дело прерываемой минометным и пулеметным огнем, проскочил с КП дивизии в полк к Луговому «виллис». Только что отхлынула четвертая волна атакующих танков, попавших с обоих флангов под огонь противотанковых ружей, и Луговой с Остапчуком разложили на патронном ящике свой сухой паек, надеясь успеть позавтракать перед новой атакой, как «виллис» вдруг круто свернул к ним из-за лесополосы за стену каменного сарая, завизжав тормозами, остановился как вкопанный.
— А-а, прозевали снайперы генерала Шевелери! — спрыгивая с «виллиса», торжествующе сказал генерал Рожков, но тут же голос у него потускнел. — Надо прорываться, — сказал он Луговому.
— Да, пора, — подтвердил Дуговой.
— Будем пробиваться через сады. Но кто-то должен остаться здесь. — Рожков выжидательно посмотрел на него.
— Я останусь, — сказал Луговой.
— Я это знал, — голос Рожкова дрогнул. — Я тоже остаюсь с твоим полком.
— Нет, товарищ генерал, — быстро возразил Луговой. — Вы не имеете права рисковать. Вам выводить дивизию из кольца.
— Ты прав. — Рожков помедлил и устало продолжал: — Я перед тобой виноват, Луговой. Не перебивай! — Рожков нахмурился, заметив его протестующий жест. — И перед тобой, и перед всеми, и перед ним. — Луговой понял, о ком говорил Рожков. — Вы предупреждали меня, а я, — он замолчал. Черты его лица снова затвердели. — В контратаку переходим через час. Чтобы отвлечь их внимание, ты открываешь огонь из всех огневых средств.
— Товарищ генерал, я попрошу вас взять с собой в «виллис», — Луговой помедлил, — моего раненого начштаба Агибалова.
Рожков посмотрел на него.
— Уже и его?
— Да, товарищ генерал.
— Где он?
— В сарае на носилках лежит.
— Что ж, нового начальника штаба у меня для тебя нет. Придется пока обходиться самому. — Он еще внимательнее посмотрел на Лугового — Не беспокойся, прикажу, чтобы сразу же доставили в госпиталь. Военврач Агибалова не жена ему?
— Жена, — подтвердил Луговой.
— С тобой остаются два эскадрона и артдивизион.
Луговой знал, что в артдивизионе уцелела только одна батарея. Рожков прочитал его мысль.
— Конечно, этого мало. Но, кроме этого, я еще вынужден буду взять у тебя эскадрон Чакана. Он пойдет во главе прорывающих.
Луговой быстро подсчитал: с ним останется не больше ста человек. Продержаться с такой горсткой людей будет почти невозможно.
— Этого достаточно, — вслух сказал Луговой.
— Мало, — спокойно возразил ему Рожков. — Но если продержишься до заката, мы сумеем тебе помочь.
За спиной его вырос ординарец, держа в руке голубоватый листок.
— Что такое? — обернулся к нему Рожков.
— Радиограмма из штаба корпуса.
— Вот видишь, Луговой, — прочитав радиограмму, обрадованно сказал Рожков. — Я не ошибся. Шестая дивизия брошена нам на помощь. А до этого, Луговой, огонь из всех огневых средств. И распорядись, чтобы Агибалова перенесли ко мне в «виллис».
Двое казаков вынесли из сарая на носилках завернутого в серое солдатское одеяло Агибалова, устроили его на заднем сиденье «виллиса». Рядом с ним села медсестра из первого эскадрона Фрося. Перебинтованная голова Агибалова с плотно закрытыми на гипсово-белом лице глазами оказалась у нее на плече. На мгновение Луговой встретился с ее взглядом и вдруг вспомнил слова, услышанные им в роще из-за скирды: «Глупая ты, Ефросинья. Война войной, а все идет своим чередом».
Да, несмотря на войну, все идет своим чередом, даже и она не может остановить то, что управляет людьми. Иногда и помимо их воли. Но она же и заставляет их считаться с тем, что не предусмотрено никакими правилами и законами в обычной жизни. И ничего невозможно предугадать, не может и он, Луговой, теперь сказать, что будет с ним и с Мариной, если, конечно, судьба в дальнейшем пощадит их. Смогут ли они тогда сами распорядиться ею, независимо от других, кто так или иначе связан с ними. А теперь все сразу и, может быть, совсем непоправимо осложнилось. И он опять вспомнил то, что услышал тогда в роще из-за скирды, но уже другие слова: «Нехорошо мы с тобой делаем… Кругом льется кровь, а мы…»
Через полчаса скрытое движение началось в расположении первого эскадрона в садах. Люди покидали окопы, накапливаясь за стенами домов, за скирдами соломы. Украдкой оглядывались на темно-багровую полосу садов, где оставался полк.
— Коней в поводу поведем? — спросил Чакан у сына.
— Нет, оставим здесь, — сурово отрезал Дмитрий.
— Может, и шашки здесь бросить?
— В пешем строю будем атаковать.
— Никуда я, дорогой товарищ командир эскадрона, отсюда не пойду, — решительно заявил Чакан. — Пусть желающие без коней и шашек идут.
— Вот что, папаша, — Дмитрий затрепетал ноздрями короткого носа. — Вы мне душу не травите. Думаете, только вам тошно? Каждому сердце не велит товарищей в беде покидать. Да я… — голос Дмитрия упал до полушепота, — сам бы… Нельзя. Вы сами понимаете, что такое приказ.
— Коней, Митя, жаль, — сказал Чакан.
— Жаль, — закуривая, согласился Дмитрий. Он закашлялся и, вытирая рукавом выступившие на глаза слезы, сказал — Придется бросить.
Оставшись в северной части хуторов с горсткой людей, Луговой завязал бой с перебегавшей к садам немецкой пехотой. Успеют ли ушедшие с Рожковым полки дивизии нанести удар, прежде чем противник поймет свой просчет? Для этого нужно подольше приковывать его внимание здесь. Спускаясь с командного пункта, Луговой почти бегом направился к окопам.
Он услышал за собой шаги. Это был Остапчук.
— Ты почему здесь?
— А где ж бы я був? — Лугового поразил его вызывающий тон.
— Отправляйся с первым эскадроном.
— Я, товарищ майор, никуда не пойду. — Остапчук не сдвинулся с места.
— Как — не пойдешь? — переспросил Луговой. Впервые всегда исполнительный ординарец осмелился ослушаться его.
— Не можу я вас бросить, товарищ майор.
— Сержант Остапчук, повторить приказание, — сказал Луговой.
— Есть отправиться с первым эскадроном, — пробормотал Остапчук. В его глубоко посаженных глазах блеснули слезы. Он медленно повернулся и пошел назад.
35
В открытой степи кавалеристы Мирошниченко встретились с прорвавшимися из хуторов кавалеристами Рожкова. Впереди шел черный, обсыпанный землей Рожков. Мирошниченко, подъезжая верхом, издали узнал его коренастую фигуру. Опираясь на плечо адъютанта, Рожков хромал. Пола белого полушубка была забрызгана кровью.
— Ты ранен, Сергей Ильич? — соскакивая с лошади, испуганно спросил Мирошниченко.
— Пустое, в мякоть, — ответил Рожков. Раскрыв руки и прихрамывая, он пошел навстречу Мирошниченко.
Они обнялись.
— Спасибо, Кузьма!.. Это по-соседски… Не дал в трату. — Разве можно? Что ты, Сергей Ильич! — Помолчав, Мирошниченко кашлянул. — Я тебя тоже хотел просить.
— Говори, о чем?
— Тут такое дело… — Мирошниченко смущенно поскреб пальцем за ухом. — Третьего дня твои хлопцы, наверно по ошибке, у меня десять коней увели.
— Вот чертовы дети! Верну. Сегодня же верну, — и впервые за все эти дни Рожков рассмеялся гулким, здоровым смехом человека, снявшего с себя тягостное бремя.
Сзади щелкнула дверца «эмки». К ним быстрыми шагами подходил Милованов. Рожков ждал его, наклонив голову. «Я провинился, наказывайте меня, я готов», — говорил он всем своим видом.
— Товарищ командир корпуса, дивизия вышла из кольца, — ступив шаг вперед и бледнея от боли в ноге, сказал он вслух.
— Вижу и поздравляю, — переводя взгляд с одного на другого, сказал Милованов. За гребнем настойчиво и злобно громыхали пушки. Глаза Милованова осветились жестким, холодным светом.
— Дивизиям продолжать наступление и преследовать противника в общем направлении на Ростов.
Склоны балки дымились. Из-под оттаявших в огне боя сугробов снега журчала вода. В хаотическом беспорядке были раскиданы вокруг обугленные остовы танков, исковерканные стволы и лафеты пушек, стаканы расстрелянных снарядов. Намалеванный на уцелевшей лицевой броне танка медведь танцевал свой нелепый танец.
Луговой тихо спускался по склону. Трупы убитых странно оживляли зловещую картину порушенного металла. Один лежал на орудийной башне танка навзничь. Другой стоял рядом с танком на коленях, уткнувшись лицом в снег, третий свешивался с бруствера окопа вниз лицом, не выпустив из рук автомата.
На краю вырытой снарядом воронки, рядом с черным кожаным шлемом немецкого танкиста лежала казачья фуражка с околышем. Подняв ее, Луговой поискал вокруг глазами. Нет, владельца ее поблизости не было. «Где же он?» — оглядываясь, спрашивал Луговой.
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления