Онлайн чтение книги
Двадцать тысяч лье под водой
Twenty Thousand Leagues Under the Sea
Часть первая
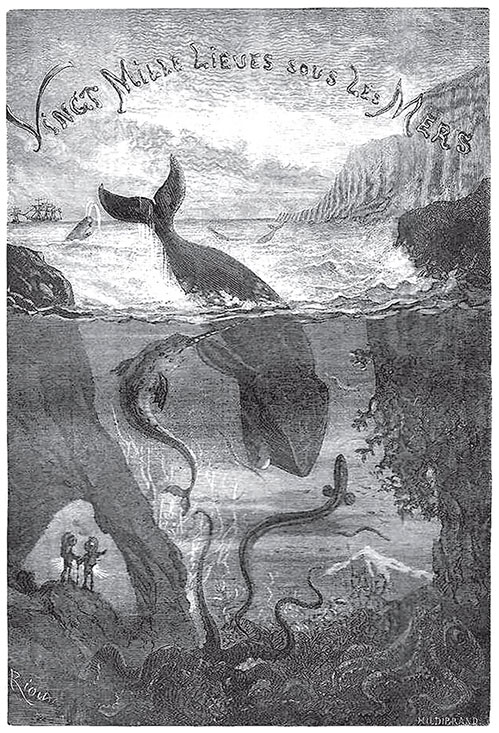

Глава первая
Плавающий риф
1866 год ознаменовался удивительным и необъяснимым явлением, которое, вероятно, еще многим памятно. Оно крайне взволновало жителей приморских городов, сильно возбудило умы в континентальных государствах и особенно встревожило моряков. Купцы и судовладельцы, капитаны торговых судов и военных кораблей, морские офицеры, шкиперы и механики как в Европе, так и в Америке, правительства различных государств — все были в высшей степени и заинтересованы и озабочены.
Дело в том, что с некоторого времени многим кораблям случалось встречать в море «что-то громадное», какой-то длинный веретенообразный предмет, который порой светился в темноте и далеко превосходил кита по размерам и быстроте движений.
В различных судовых журналах записаны были все факты, относившиеся к этим странным происшествиям, и в показаниях о строении этого загадочного предмета или существа, о его неимоверной скорости, поразительной силе движений и особенностях почти не было разногласий. Если это было животное из отряда китов, то, судя по описаниям, оно было гораздо больше всех доныне известных представителей китообразных. Ни Кювье, ни Ласепед, ни Дюмериль, ни Катрфаж не поверили бы в существование подобного чудовища, не увидав его собственными глазами, то есть глазами ученых.
Придерживаясь средних значений, полученных при различных наблюдениях, не принимая в расчет все чересчур осторожные оценки, по которым в этом непонятном существе было не более двухсот футов в длину, а также отвергая явные преувеличения, по которым оно имело будто бы одну милю в ширину и три в длину, надо было все-таки допустить, что это удивительное животное, если только оно существует, в значительной степени превосходит все размеры, установленные ихтиологами.
Животное это существовало — существование его было доказано многими фактами, и никто или почти никто в нем не сомневался. При склонности верить в чудеса, которая так свойственна человеческому уму, понятно, какую тревогу произвело это необычайное явление. Некоторые пытались было отнести его к области сказок и фантазий, но напрасно…
20 июля 1866 года пароход «Гаверн Хиггинсон», принадлежащий компании «Калькутта и Бернах», встретил эту двигающуюся массу в пяти милях[1]Морская миля — единица длины в морской и воздушной навигации, равная 1852 м. (Здесь и далее — прим. изд.) к востоку от берегов Австралии. В первую минуту капитан Бекер подумал, что на ткнулся на неизвестную подводную скалу. Он даже собрался уже определить точные координаты этой скалы, как вдруг из нее вырвались со страшной силой два столба воды и со свистом поднялись футов на полтораста в высоту. Можно было сделать только два предположения: или это был плавучий риф, на котором периодически извергались гейзеры, или «Гаверн Хиггинсон» имел дело с каким-то до сих пор неизвестным морским млекопитающим, которое выбрасывало из носовых отверстий фонтаны воды, смешанные с воздухом и паром.
23 июля того же года в водах Тихого океана подобное явление заметили с парохода «Кристобаль Колон», принадлежащего компании «Вест-Индия и Тихий океан». Оказалось, что это необыкновенное животное могло передвигаться с невероятной скоростью: за трое суток оно прошло более семисот морских миль, отделяющих пункты, на которых наблюдали его «Гаверн Хиггинсон» и «Кристобаль Колон».
Пятнадцать дней спустя в двух тысячах лье[2]Морское лье — старинная французская единица измерения расстояния, равная 5556 м. от последнего пункта пароходы «Гельвеция», принадлежащий Национальной компании, и «Шанон», принадлежащий «Рояль-Мэйл», встретились в Атлантическом океане, между Америкой и Европой, и сигналами указали друг другу на морское чудовище, лежавшее на 45°152 северной широты и 60°352 долготы к западу от Гринвичского меридиана. При совместном наблюдении приблизительно рассчитали длину млекопитающего, по меньшей мере в триста пятьдесят английских футов[3]Английский фут — единица измерения расстояния, равная 12 дюймам, или 30,48 см.. «Гельвеция» и «Шанон» казались гораздо меньше его, хотя оба имели по сто метров от форштевня до ахтерштевня. А самые громадные киты, которые попадались у Алеутских островов, и те были не более пятидесяти шести метров в длину.
Эти известия поступили одно за другим; затем были сделаны новые наблюдения с борта трансатлантического корабля «Перейр»; потом произошло столкновение судна «Этна» с чудовищем; затем офицерами французского фрегата «Нормандия» был составлен акт о том, что они видели это огромное животное; очень обстоятельные сведения были доставлены с борта «Лорд Клейда» штабом коммодора Фитцджеймса. Все это чрезвычайно взволновало общественное мнение. В странах, легкомысленно настроенных, только подсмеивались и подшучивали над загадочным чудом, но в странах серьезных и практических — Англии, Америке, Германии — им были сильно озабочены.
Во всех больших городах чудовище вошло в моду; о нем толковали в кофейнях, над ним потешались в газетах, его представляли в театрах. Газетные утки несли яйца всевозможных цветов. Все периодические издания за неимением точных и подлинных изображений принялись показывать разных фантастических гигантов, начиная от белого кита, страшного «Моби Дика» из Арктики, до чудовищных осьминогов, которые своими щупальцами могут опутать судно водоизмещением пятьдесят тонн и увлечь его в бездну океана. Дошло даже до того, что откопали древние рукописи и стали ссылаться на мнения Аристотеля и Плиния, которые допускали существование подобных чудовищ, на норвежские рассказы епископа Понтопидана, на описания Павла Геггеды и, наконец, на донесения Харрингтона, который утверждал, что в 1857 году, находясь на палубе «Кастиллана», он собственными глазами видел громадного змея, до того времени посещавшего только воды газеты «Конститьюшнл».
Тут-то и загорелась нескончаемая полемика между учеными обществами и научными журналами — полемика верующих с неверующими. Вопрос о чудовище воспламенил все умы. Журналисты, серьезно относившиеся к науке и отстаивавшие ее, вступили в распрю с другими журналистами, которые отбивались остротами и каламбурами, и целые потоки чернил пролились в этой достопамятной кампании; некоторые даже поплатились двумя-тремя капельками крови, потому что из-за этой «морской змеи» противники нередко позволяли себе самые оскорбительные выходки.
Война эта длилась с переменным успехом целые шесть месяцев. Бульварная пресса отвечала неистощимыми насмешками и на научные статьи Бразильского географического института, Берлинской королевской академии наук, Британской ассоциации, Вашингтонского Смитсоновского института, и на иронию «Индийского архипелага», и на рассуждения «Космоса» Аббата Муаньо, и на мнения «Вестей» Петермана, и на ученые заметки солидных французских и иностранных журналов. Остроумные журналисты, пародируя изречение Линнея, приведенное противниками чудовища, утверждали, что «природа не создает глупцов», и заклинали своих современников не убеждать мир в противном, допуская существование неправдоподобных морских чудовищ, осьминогов, змей, различных «моби диков» и прочих бредней полупомешанных моряков. Наконец в одном очень популярном сатирическом журнале главный редактор, любимец публики, ринулся на морское чудо, как новый Ипполит, и нанес ему последний юмористический удар при взрывах всеобщего хохота. Остроумие победило науку.
В начале 1867 года вопрос о чудовище, казалось, похоронили, как вдруг до сведения публики стали доходить новые факты. И теперь речь шла не просто об интересной научной загадке, а о серьезной действительной опасности. Осьминогов и морских змей оставили в покое, а чудовище превратилось в остров, скалу, риф, но риф плавающий, блуждающий, неуловимый.
5 марта 1867 года пароход «Моравиа», принадлежащий Монреальской морской компании, находясь ночью на широте 27°302 и долготе 72°152, ударился кормой о какую-то скалу, которая не была обозначена ни на одной штурманской карте. Ветер был попутным, и корабль мощностью четыреста сил шел со скоростью шестнадцать узлов[4]Морской узел — единица измерения скорости, равная одной морской миле, т. е. 1,852 км/ч., на нем было двести тридцать семь пассажиров, которых он вез из Канады. Удар был очень силен, и не будь корпус «Моравиа» достаточно прочным и крепким, корабль, без всякого сомнения, пошел бы ко дну.
Несчастье случилось на рассвете, около пяти часов утра. Вахтенные осмотрели море самым тщательнейшим образом. Они ничего подозрительного не увидали, только на расстоянии трех кабельтовых[5]Кабельтов — мера длины, служащая для измерения в море сравнительно небольших расстояний; длина его равна 0,1 морской мили, или 185,2 м. разбивалась большая волна, как будто что-то сильно взволновало гладкую поверхность вод. Установив координаты, «Моравиа» продолжила свой путь без явных признаков аварии.
Но на что же наткнулся пароход? На подводную скалу или на какие-нибудь выброшенные морем громадные обломки разбитого корабля? Никто этого не знал. Однако при осмотре в доке оказалось, что сломана часть киля.
Этот случай, сам по себе очень важный, был бы скоро забыт, как бывали забыты другие важные происшествия, если бы то же самое снова не повторилось при тех же самых условиях три недели спустя. Судно, ставшее жертвой новой катастрофы, шло под английским флагом и принадлежало крупной пароходной компании, поэтому событие получило широкую огласку.
Всем, вероятно, было известно имя знаменитого английского судовладельца Кюнарда. Этот удачливый промышленник учредил в 1840 году почтовое сообщение между Ливерпулем и Галифаксом с помощью трех деревянных колесных судов мощностью четыреста лошадиных сил и водоизмещением тысяча сто шестьдесят две тонны. Через восемь лет число судов увеличилось еще на четыре корабля мощностью шестьсот пятьдесят лошадиных сил и водоизмещением тысяча восемьсот двадцать тонн, а спустя два года к ним присоединены были еще два судна, которые мощностью и вместимостью превосходили прежние. В 1853 году компания Кюнарда возобновила право перевозить срочную почту и постепенно прибавила к своей флотилии корабли «Аравия», «Персия», «Китай», «Шотландия», «Ява», «Россия». Все эти суда отличались быстрым ходом и размерами уступали только знаменитому «Грет-Истерну». В 1867 году компания Кюнарда владела уже двенадцатью кораблями: восемью колесными и четырьмя винтовыми.
Я вдаюсь в такие подробности, желая яснее показать значение этой компании морских перевозок, которая своей аккуратностью и точностью приобрела мировую известность. Ни одно трансокеаническое навигационное предприятие не велось с таким умением, ни одно не увенчалось таким успехом. В течение двадцати шести лет корабли Кюнарда переплыли Атлантический океан две тысячи раз, и всегда все обходилось благополучно: не было случая, чтобы судно когда-нибудь опоздало, не было даже примера, чтобы какое-нибудь письмо затерялось. И теперь еще, несмотря на сильную конкуренцию Франции, пассажиры предпочитают компанию Кюнарда всем прочим компаниям, как это видно из официальных документов за последние годы. Принимая все это во внимание, легко можно понять, какой шум поднялся, когда приключилось несчастье с одним из самых лучших пароходов компании.
13 апреля 1867 года «Шотландия» находилась на 15°122 долготы и 45°372 широты; море было тихое, дул небольшой ветерок. Тысячесильный корабль шел со скоростью тринадцать узлов с лишним; колеса его равномерно рассекали морские волны. Осадка судна составляла шесть метров семьдесят сантиметров, а водоизмещение равнялось шести тысячам шестистам двадцати четырем кубическим метрам.
В четыре часа семнадцать минут пополудни пассажиры сидели в кают-компании за завтраком. Вдруг что-то ударилось о корпус корабля; удар, впрочем, не произвел значительного сотрясения — он пришелся на корму позади левого колеса.
По характеру толчка можно было предположить, что «Шотландия» наткнулась на какое-то острое орудие. Столкновение казалось таким слабым, что никто на палубе не обратил бы на него особого внимания, если бы кочегары не прибежали с криками:
— Мы идем ко дну! Течь в трюме!
В первую минуту пассажиры, разумеется, перепугались, но капитан Андерсен сумел их успокоить. «Шотландия» разделялась на семь частей водонепроницаемыми переборками, значит, пробоина не грозила неминуемой опасностью.
Капитан Андерсен тотчас спустился в трюм. Оказалось, что пятый отсек залит водой, и по скорости, с которой вода прибывала, можно было судить, что течь довольно велика. К счастью, здесь не было паровых котлов, иначе огонь в топках потух бы в ту же минуту.
Капитан Андерсен отдал приказание немедленно остановить машины, и один матрос нырнул, чтобы осмотреть пролом. Через несколько минут уже все знали, что в подводной части парохода пробита дыра в два метра шириной. Такую пробоину невозможно было заделать, и «Шотландия» должна была продолжать свой путь с погруженными в воду колесами. Авария произошла в трехстах милях от мыса Клиэр, и после трехдневного опоздания, несказанно взволновавшего весь Ливерпуль, судно причалило к пристани компании.
«Шотландию» поставили на сухой стапель, и инженеры компании стали ее осматривать. Они не хотели верить своим глазам. В двух с половиной метрах ниже ватерлинии зияло правильное отверстие в виде равнобедренного треугольника. Листовое железо было пробито так ровно, словно его специально вырезали. Очевидно, пролом был сделан просверливающим орудием необыкновенной закалки.
Вероятно, оно было пущено с необычайной силой, пробило листовое железо толщиной четыре сантиметра, а затем каким-то возвратным движением само собой отодвинулось. Это было совершенно необъяснимо.
Приключение с «Шотландией» снова взволновало умы. С этих пор все морские катастрофы без определенной причины стали сваливать на чудовище. Фантастическому животному довелось отвечать за все кораблекрушения, число которых, к сожалению, значительно. В «Бюро Веритас» ежегодно сообщается о гибели трех тысяч кораблей, и из этих трех тысяч по меньшей мере двести считаются пропавшими без вести со всем грузом и экипажем.
Справедливо ли, нет ли, но исчезновение судов тоже приписывали чудовищу, и по его милости сообщение между различными материками становилось все более опасным, все более затруднительным. Наконец публика настоятельно потребовала, чтобы моря были во что бы то ни стало очищены от этого ужасного животного или плавающего рифа.
Глава вторая
За и против
Примерно в это время я возвращался из ученой экспедиции, которая была предпринята с целью исследовать негостеприимный штат Небраска в Соединенных Штатах Америки. Я был прикомандирован к этой экспедиции французским правительством как адъюнкт-профессор при Парижском музее естественной истории. Я провел шесть месяцев в Небраске и с собранными там драгоценнейшими коллекциями к концу марта прибыл в Нью-Йорк. Отъезд во Францию назначен был в первых числах мая. В ожидании этого я приводил в порядок свои минералогические, ботанические и зоологические богатства, когда приключилась с «Шотландией» вышеописанная напасть.
Вопрос о чудовище или плавающем рифе стоял на повестке дня, и я, разумеется, внимательно за ним следил. Я читал и перечитывал все американские и европейские журналы и газеты, но это чтение ничего не проясняло. Таинственное чудо сильно подстрекало мое любопытство. Я не мог определиться, не мог составить собственного мнения и потому переходил от одной крайности к другой. В том, что что-то сверхъестественное в самом деле существует, сомневаться было невозможно: неверующим предоставлялось «вложить перст в рану» «Шотландии».
Я прибыл в Нью-Йорк в самом разгаре споров. Прежние предположения о плавучем острове, о блуждающем неуловимом рифе были теперь отброшены. Как могла бы скала двигаться с такой неслыханной скоростью? А предполагать, что скала снабжена какой-нибудь двигательной машиной, было уже чересчур.
О «плавающем корпусе корабля», о «громадных обломках какого-то разбитого судна» тоже перестали говорить, потому что ни остов корабля, ни обломки тоже не могли передвигаться.
Таким образом, оставалось только два решения этой загадки: все беды причиняло или громадное подводное чудовище, или подводное судно, снабженное необыкновенно мощным двигателем.
Предположение о подводном судне, на первый взгляд довольно правдоподобное, отпало после расследований, проведенных в обоих полушариях. Как можно было допустить, чтобы какое-нибудь частное лицо имело в своем распоряжении подобный корабль? Где и как он мог его построить? Допустив даже, что он его построил, — как мог он строительство такого гиганта сохранить в тайне?
Подобную разрушительную машину могло создать только какое-нибудь правительство, и в наши смутные времена, когда человечество изощряется в совершенствовании орудий войны, можно было предположить, что то или иное государство секретно испытывало этот чудовищный снаряд. После ружей Шаспо — торпеды, после торпед — подводные тараны, затем затишье. Я, по крайней мере, на это надеюсь.
Но и предположение о военном подводном корабле рухнуло: правительства заявили, что они ни к чему не причастны и ничего не знают. Сомневаться в искренности правительственных заявлений на этот раз было трудно, потому что дело шло об общих интересах и при этом опасности подвергались международные трансокеанические сообщения. Кроме того, возможно ли было допустить, что строительство подобного подводного судна могло остаться незамеченным: и частному лицу очень трудно сохранить тайну, а государству совершенно невозможно, потому что за всеми его действиями зорко и ревниво следят все другие державы.
Итак, после справок, наведенных в Англии, Франции, Германии, России, Испании, Италии, Америке и даже в Турции, предположение о «подводном мониторе» тоже было отвергнуто. Чудовище опять выплыло на поверхность, несмотря на все насмешки, которыми осыпала его бульварная пресса. Скоро возбужденное воображение разыгралось и, как говорится, пошло «писать вкривь и вкось».
Когда я прибыл в Нью-Йорк, многие лица оказали мне честь, пожелав узнать мое мнение насчет непонятного явления. Я еще в бытность мою во Франции издал сочинение in quatro[6]In quarto (лат.) — книжный формат в 1/4 листа, получаемый фальцовкой в два сгиба (инкварто). «Тайны морских глубин» в двух томах. Эта книга заслужила особое внимание ученого мира, и благодаря этому я сделался как бы специалистом в этой очень малоизвестной отрасли естествоведения. Когда стали спрашивать, что я ду маю о чудовище, я, пока еще возможно было отвергать действительность и не имея фактов, отказывался отвечать, но скоро меня, что называется, прижали к стенке, деваться было некуда, и я должен был высказаться. Газета «Нью-Йорк геральд» обратилась к «достопочтенному Пьеру Аронаксу, профессору Парижского музея» с просьбой «сформулировать свое суждение».
Я покорился и заговорил, потому что молчать уже было нельзя. Я рассмотрел вопрос со всех сторон, с политической и с научной.
Привожу здесь заключение статьи, которую я поместил в номере от 30 апреля.
«Разобрав одну за другой все гипотезы, приходится по необходимости допустить существование морского животного необычайной силы.
Большие глубины океана нам до сих пор еще совершенно неизвестны. Никакой лот никогда не достигал дна. Что такое происходит и творится в этих неизмеримых безднах? Какие существа живут и могут жить в двенадцати или пятнадцати милях ниже морской поверхности? Что за организм у этих животных?
Здесь трудно, даже едва ли возможно делать какие-либо предположения.
Однако решение заданной мне задачи может принять форму дилеммы. Одно из двух: или нам известны все виды и разновидности существ, населяющих нашу планету, или нет.
Если нет, если в области ихтиологии природа еще имеет от нас тайны, то мы очень естественно можем допустить существование не только новых видов, но даже новых родов рыб или китообразных, приспособленных исключительно для жизни в морских глубинах, для лота недоступных. Допустим, что вследствие какого-нибудь события, или по случайности, или просто по своей прихоти, если хотите, они появляются время от времени в верхних слоях океана.
Если же, напротив, нам уже известны все существующие виды, то надо искать данное животное в числе морских обитателей, перечисленных в каталогах, и в этом случае я готов допустить существование нарвала-гиганта.
Обыкновенный нарвал, или единорог, часто достигает шестидесяти футов в длину. Помножьте его размеры на пять, на десять, наделите животное силой соответственно его величине, увеличьте во столько же раз его бивень, — и вы получите искомое чудовище. Оно будет иметь и размеры, определенные офицерами „Шанона“, и орудие, способное проломить корму „Шотландии“, и достаточную силу для повреждения корпуса океанского парохода.
Известно, что нарвал вооружен чем-то вроде костяной шпаги, алебардой, как выражаются некоторые натуралисты. Это громадный рог, или бивень, обладающий твердостью стали. Бывали случаи, что осколки бивня попадались в раненых китах, которых нарвал атакует всегда с большим успехом. Случалось также, что бивни извлекали из корабельных деревянных корпусов, которые они пробивают насквозь, как бурав просверливает бочонок. В парижском музее медицинского факультета есть подобный бивень нарвала в два метра двадцать пять сантиметров длиной, а ширина его в основании сорок восемь сантиметров.
Теперь представьте себе, что орудие это в десять раз больше и крепче, а животное в десять раз сильнее; представьте еще, что оно движется со скоростью двадцать миль в час, умножьте величину животного на его скорость — и вы получите удар, способный произвести катастрофу.
Итак, в ожидании более подробных исследований я склоняюсь к тому, что мы имеем дело с громаднейшим морским единорогом, вооруженным уже не алебардой, а настоящим тараном, как бронированные фрегаты, на которые чудовище похоже как своими размерами, так и своей движущей силой.
Так, мне кажется, можно объяснять данное загадочное, необъяснимое явление, если только упомянутое явление не плод расстроенного воображения, — что тоже возможно».
Последние слова были с моей стороны уловкой; я ими хо тел оградить, насколько возможно, свое профессорское достоинство от насмешек американцев. Американцы, надо отдать им должное, мастера насмехаться, и кто попадется им на зубок, тому придется несладко. Человек слаб! Профессор естественных наук тоже! Я приберег себе лазейку для отступления, но в глубине души верил в чудовище.
Моя статья возбудила горячие споры и прения, вследствие чего получила большую известность и даже образовала партийку приверженцев. Предлагаемое в ней разрешение вопроса давало, впрочем, полную свободу воображению. Ум человеческий любит создавать громадные, чудовищные образы сверхъестественных существ, а море представляет для них самое удобное помещение; море — единственная среда, где могут рождаться и развиваться гиганты, перед которыми земные животные — слоны, носороги — кажутся карликами. В водной среде обитают самые чудовищные породы известных нам млекопитающих; в недрах океана, возможно, скрываются и моллюски невиданных размеров, ракообразные ужасающего вида — например, омары длиной сто метров или крабы весом в двести тонн. Решительно отвергать это никто не решится. Некогда земные животные, современники геологических эпох: четвероногие, четверорукие, пресмыкающиеся, птицы — были созданы как бы по гигантским моделям, отлиты в колоссальные формы, которые время мало-помалу сократило и сузило. Почему бы нам не допустить, что море сохранило в своих неизведанных глубинах эти громадные образцы жизни минувших веков? Море ведь не подвержено никаким изменениям, между тем как земля беспрестанно меняется. Почему бы нам не допустить, что море скрывает в своих глубинах последние разновидности титанических существ, годы которых равняются нашим векам, а века тысячелетиям?
Но я позволяю себе увлекаться фантазиями, которые я не только не должен поддерживать, но обязан строго преследовать. Довольно об этих химерах, которые превратились для меня впоследствии в ужасную действительность. Повторю еще раз, что общественное мнение о чудовище наконец установилось и публика допустила беспрекословно существование громадного животного, не имеющего ничего общего с баснословными морскими змеями.
Но если некоторых людей таинственное животное волновало исключительно с научной точки зрения, то люди более практического склада, особенно в Америке и в Англии, настаивали на том, чтобы всенепременно очистить моря и океаны от этого чудовища и обезопасить морские перевозки. Промышленные и торговые газеты и журналы приняли в этом самое непосредственное участие. «Газета торгового флота», «Ллойд», «Пакетбот», «Морское и колониальное обозрение» — все журналы, финансируемые страховыми компаниями, которые грозились увеличить размер страховых выплат, единодушно твердили о необходимости истребления гиганта, мешающего интересам морской международной торговли.
Соединенные Штаты отозвались первыми. В Нью-Йорке начали готовиться к экспедиции, предназначавшейся для поимки нарвала. Бронированный фрегат «Авраам Линкольн», отличавшийся быстротой хода и прочностью, должен был в самое ближайшее время выйти в море. Все военные арсеналы были открыты для капитана Фаррагута, и капитан Фаррагут деятельно снаряжал свой корабль.
Именно в то время, когда окончательно было решено преследовать чудовище, это странное животное перестало показываться. Целых два месяца о нем не было ни слуху ни духу, ни один корабль с ним не встречался. Единорог как будто проведал о состоявшемся против него заговоре. Некоторые шутники уверяли, что коварный нарвал перехватил какую-нибудь телеграмму, переданную по трансатлантическому подводному кабелю, в которой о нем говорилось, и принял меры предосторожности.
Итак, фрегат был снаряжен для далекого плавания, снабжен самыми грозными китобойными орудиями, а в какую сторону держать путь — было неизвестно. Нетерпение возрастало с каждым днем, с каждым часом. Наконец 2 июня получено было известие, что пароход, следующий курсом от Сан-Франциско в Калифорнии до Шанхая, три недели тому назад встретил чудовище в северных водах Тихого океана.
Это известие несказанно всех взволновало. Капитану Фаррагуту не дали и двадцати четырех часов отсрочки. Все запасы уже были на корабле, трюмы заполнены каменным углем, экипаж был в полном составе. Оставалось только разжечь топки, развести пары и отчалить. Нетерпение было лихорадочным, и теперь капитану не простили бы даже нескольких часов промедления, да и самому Фаррагуту хотелось поскорее выйти в море.
За три часа до отплытия «Авраама Линкольна» я получил вот такое письмо:
«Господину Аронаксу,
профессору Парижского музея.
Милостивый государь!
Если вы пожелаете присоединиться к экспедиции „Авраама Линкольна“, то правительству Соединенных Штатов будет очень приятно видеть, что Франция в вашем лице примет участие в нашем предприятии. Капитан Фаррагут предоставляет в ваше полное распоряжение отдельную каюту.
Искренно преданный И. Б. Гобсон,
министр морского ведомства».
Глава третья
Как будет угодно их чести
За три секунды до получения письма И. Б. Гобсона я столько же думал о преследовании единорога, сколько о проходе через ледовые поля, но через три секунды после прочтения вышеупомянутого письма я понял, что мое истинное назначение, цель всей моей жизни именно в том и заключается, чтобы найти это зловредное чудовище и избавить от него человечество.
Я только что вернулся из тяжелого путешествия, я был утомлен, измучен, жаждал отдыха и покоя, я только о том и мечтал, как бы мне поскорей снова увидеть родину, друзей, свою маленькую ученую обитель при ботаническом саде и свои дорогие, бесценные коллекции. Но ничто не могло меня удержать. Я забыл все: усталость, друзей, коллекции — и без дальнейших размышлений принял предложение американского правительства.
«Что ж такое? — думал я. — Что ж такое? Поплыву, и конец! Притом все пути ведут в Европу; а единорог, может, будет так любезен, что непременно увлечет меня к берегам Франции. Может статься, это достойное животное позволит — для моего личного удовольствия — изловить себя в европейских морях, и я тогда привезу в наш музей естествознания в качестве экспоната полметра — отнюдь не менее полметра! — его костяной алебарды».
Но в ожидании будущих любезностей нарвала теперь приходилось его искать на севере Тихого океана, следовательно, держать путь в противоположную сторону от Франции.
Я нетерпеливо кликнул:
— Консейль!
Консейль — это мой слуга, очень преданный мне парень, который сопровождал меня во всех моих путешествиях и странствованиях. Я его очень любил, и он платил мне взаимностью. Честный фламандец, существо флегматичное по природе, исправный и аккуратный из принципа, усердный по привычке, он никогда не изумлялся и не смущался никакими внезапными и неожиданными поворотами и проделками судьбы, был ловок в любой работе, способен ко всякому делу и, вопреки своему имени[7]Conseil (фр.) — совет, консультация, рекомендация, никогда не давал советов, даже тогда, когда их не спрашивали.
Консейль постоянно вращался в кругу нашего ученого мирка при ботаническом саде и кое-чему научился. Он стал у меня знатным специалистом по части классификации естественной истории и с быстротой акробата пробегал всю лестницу отделов, групп, классов, подклассов, отрядов, семейств, родов, видов и разновидностей. Но его познания на этом и останавливались. Классифицировать — в этом была его жизнь, дальше он не шел. Он был силен в теории классификации, но в практике слаб и, полагаю, не сумел бы отличить беззубого кита от кашалота. И, однако, какой честный и славный человек!
Уже десять лет Консейль следовал за мною всюду, куда только наука меня не увлекала. Я не слыхал от него ни единой жалобы на продолжительность или на трудность путешествия, никогда он не только не отказывался, но даже не возражал ехать со мной в Китай, или в Конго, или в любую другую даль. Он был наделен отличнейшим здоровьем, которое защищало его от всяких неудобств, перемены климата и тому подобного, крепкими мускулами и, казалось, полным отсутствием нервов.
Этому парню было тридцать лет, возраст его относился к возрасту его господина как пятнадцать к двадцати. Да простится мне, что я сообщаю этим сложным оборотом, что мне было сорок лет! Но у Консейля был один недостаток: он был отчаянным формалистом и говорил со мной не иначе, как в третьем лице, и величал меня «честью», что подчас сильно меня раздражало.
— Консейль! — повторил я, торопливо принимаясь за сборы в плавание.
Я, конечно, был совершенно уверен в преданности Консейля. Я обыкновенно даже и не спрашивал его, желает ли он отправиться со мной в такое-то странствие. Но теперь речь шла об экспедиции, которая могла затянуться на долгое время, о предприятии очень рискованном, о преследовании чудовища, которое способно пустить корабль ко дну, как ореховую скорлупку. Тут было над чем призадуматься даже самому хладнокровному и невозмутимому человеку на свете!
Что-то скажет Консейль?
Я крикнул в третий раз:
— Консейль!
Консейль явился.
— Их честь изволили звать меня? — сказал он, входя в комнату.
— Да, я звал… Собирай меня в путь, дружище, собирайся сам. Мы отплываем через два часа.
— Как будет угодно их чести, — отвечал спокойно Консейль.
— Нельзя терять ни минуты. Укладывай в чемодан все мои дорожные принадлежности, платье, рубашки, носки, бери всего побольше — как можно побольше, — не считай, да поскорее, поскорее!
— А коллекции их чести?
— Мы займемся ими после.
— Как же это? Архиотериумы и ракотериумы, ореодоны… — Они останутся здесь, в гостинице.
— А живая индийская свинка их чести?
— Ее будут кормить, пока мы в отлучке. Да притом я распоряжусь, чтобы весь наш зверинец переслали во Францию.
— Так мы не в Париж едем? — спросил Консейль.
— О, разумеется… — отвечал я уклончиво, — разумеется… только нам придется сделать небольшой крюк… — Какой будет угодно их чести.
— О, это крюк пустячный! Мы только несколько обогнем… обогнем прямую дорогу — вот и все. Мы отплываем на «Аврааме Линкольне».
— Как их чести заблагорассудится, — отвечал безмятежно Консейль.
— Ты знаешь, мой друг, что дело идет о чудовище… о знаменитом нарвале. Мы очистим от него моря! Автор сочинения о тайнах морских глубин, в двух томах, in quarto, не может отказаться… не может не сопровождать капитана Фаррагута! Это предприятие славное, но… но и опасное! Сам не знаешь, куда идешь. Чудовища эти могут быть очень капризны… Но мы все-таки отправимся. У нас капитан хоть куда.
— Если их честь поплывут, так и я поплыву, — отвечал Консейль.
— Ты подумай хорошенько. Я от тебя ничего не хочу скрывать. Это будет такое путешествие, из которого не всегда воз вращаются!
— Как их чести будет угодно.
Через четверть часа наши чемоданы были готовы. Консейль быстро уложил вещи, и можно было поручиться, что он ничего не забыл, ничего не упустил из виду: этот парень так же хорошо классифицировал рубашки и платье, как птиц и млекопитающих.
Служитель гостиницы вынес наши вещи и сложил их в вестибюле. Я спустился вниз и за большим прилавком, который постоянно осаждала толпа приезжих, расплатился по счету. Я распорядился, чтобы мои тюки с препарированными животными и сухими растениями были отправлены в Париж, открыл достаточный кредит своей морской свинке, затем вместе с Консейлем прыгнул в карету.
Экипаж, нанятый за двадцать франков, спустился по Бродвею до Юнион-сквер, проехал по Четвертой авеню до Бауэр-стрит, повернул на Катрин-стрит и остановился у Тридцать четвертой пристани. Отсюда нас, людей, лошадей и экипаж, доставили на катринском пароме в большое предместье Нью-Йорка, в Бруклин, расположенное на левом берегу Ист-Ривер. Через несколько минут мы достигли причала, где увидели «Авраама Линкольна»; он выбрасывал из своих труб клубы черного дыма.
Наши вещи немедленно погрузили на палубу фрегата. Я взбежал по трапу на борт и спросил, где капитан Фаррагут. Один матрос провел меня на ют, там я увидел очень привлекательного офицера с отличной выправкой. Этот офицер протянул мне руку.
— Господин Пьер Аронакс? — спросил он.
— Он самый, — отвечал я. — Капитан Фаррагут?
— Так точно. Очень рад, добро пожаловать, господин профессор. Каюта ваша готова — к вашим услугам.
Я поклонился и, не желая мешать капитану командовать отплытием, попросил указать мне предназначенную каюту. «Авраам Линкольн» был отлично приспособлен к своему новому назначению. Фрегат отличался прочностью, быстроходностью и был оборудован самыми совершенными двигателями — давление пара можно было повышать до семи атмосфер. При таком давлении «Авраам Линкольн» достигал средней скорости восемнадцать и три десятых мили в час — скорость эта, разумеется, была очень значительная, но все-таки недостаточная для борьбы с гигантским чудовищем. Внутреннее устройство фрегата соответствовало его мореходным качествам. Я был чрезвычайно доволен своей каютой: она находилась в кормовой части корабля и сообщалась с кают-компанией.
— Тут нам будет удобно, — сказал я Консейлю.
— Так же отлично, с позволения их чести, как раку-отшельнику в раковине моллюска трубача, — отвечал Консейль.
Консейль стал разбирать чемоданы, а я поднялся на палубу и стал следить за приготовлениями к отплытию.
В эту самую минуту капитан Фаррагут приказал отдать концы, удерживавшие «Авраама Линкольна» у бруклинской пристани. Значит, опоздай я на какую-нибудь четверть часа, даже и того менее, — и фрегат уплыл бы без меня, а я лишился бы возможности участвовать в этой необыкновенной, невероятной экспедиции!
Капитан Фаррагут не хотел терять не только одного дня, но даже одного часа и торопился направиться к морям, где в последний раз было замечено чудовище. Он вызвал старшего механика.
— Что, готовы ли у вас пары? — спросил он. — Так точно, капитан, — ответил механик.
— Вперед! — скомандовал капитан Фаррагут.
По этой команде, переданной в машинное отделение по аппарату, приводимому в действие сжатым воздухом, механики повернули пусковой рычаг. Пар со свистом устремился в полуоткрытые золотники. Длинные горизонтальные поршни застонали и двинули шатуны. Винтовые лопасти завертелись и начали рассекать волны все быстрее и быстрее, и «Авраам Линкольн» величественно тронулся в путь, сопровождаемый сотней лодок, катеров и буксиров, переполненных зрителями.
Вся бруклинская набережная и вся сторона Нью-Йорка, примыкающая к Ист-Ривер, были полны толпами любопытных. Пятьсот тысяч человек громко кричали «ура». Тысячи платков развевались в воздухе над сплотившейся толпой, приветствовавшей «Авраама Линкольна» до самого его вступления в воды Гудзона, у оконечности полуострова, на котором расположен город Нью-Йорк.
Тут фрегат, придерживаясь со стороны Нью-Джерси живописного правого берега реки, сплошь застроенного прелестными виллами, прошел мимо фортов, которые салютовали ему из самых больших своих пушек. В ответ на эти салюты «Авраам Линкольн» троекратно спускал и поднимал американский флаг с тридцатью девятью звездами. Несколько снизив скорость, он вошел в отмеченный бакенами фарватер, изгибающийся по заливу, образуемому оконечностью Санди-Хука, и прошел мимо песчаной отмели, с которой его еще раз несколько тысяч зрителей приветствовали. Процессия лодок и буксиров провожала фрегат до самого маяка.
В три часа лоцман сошел с корабля, сел в свою шлюпку и добрался до маленькой шхуны, которая ждала его под ветром. Огонь в топке усилили; лопасти винта стали быстрее рассекать волны; фрегат шел вдоль песчаного и низкого лонг-айлендского берега. К восьми часам вечера исчезли из вида на северо-востоке огни Файр-Айленда, и «Авраам Линкольн» понесся на всех парах по темным водам Атлантического океана.
Глава четвертая
Нед Ленд
Капитан Фаррагут был опытным моряком, вполне достойным «Авраама Линкольна». Он, можно сказать, совершенно сливался с своим кораблем. В существовании чудовища он не сомневался и даже не позволял на своем корабле никаких пересудов по этому поводу. Капитан Фаррагут верил в чудовище, как иные старушки верят в библейского Левиафана, — не разумом, а сердцем. Чудовище существовало, и капитан Фаррагут очистит от него моря — он в этом поклялся. Это был своего рода родосский рыцарь, который шел на борьбу с драконом, разорявшим его остров. Что-нибудь одно: или капитан Фаррагут истребит нарвала, или нарвал истребит капитана Фаррагута. Середины тут не было.
Офицеры совершенно разделяли мнение своего начальника; надо было послушать, как они разговаривали, толковали, судили, спорили, взвешивали возможные шансы и как наблюдали необозримую ширь океана. То тот, то другой добровольно отправлялся на вахту, тогда как при других обстоятельствах каждый из них жаловался бы и проклинал такую каторгу. Пока солнце описывало на небосводе свой дневной круг, матросы постоянно теснились на рангоуте, словно на палубе доски жгли им ноги и они не могли там стоять. А между тем «Авраам Линкольн» еще не рассекал своим форштевнем подозрительные воды Тихого океана.
Что касается членов экипажа, то они очень хотели найти единорога, загарпунить его, вытянуть на палубу и изрубить на куски. Все с величайшим вниманием вглядывались и всматривались в море. Надо сказать, что капитан Фаррагут пообещал премию в две тысячи долларов, назначавшуюся тому зоркому юнге, матросу, боцману или офицеру, который первым заметит чудовище. Можете себе представить, как усердно все упражняли свое зрение.
Я тоже не отставал от других, никому не уступал своей доли ежедневных наблюдений. Нашего «Авраама Линкольна» следовало тогда по-настоящему переименовать в «Стоглазого Аргуса». Только один мой Консейль относился довольно равнодушно к воспламенявшему нас вопросу и не разделял общего энтузиазма.
Я уже говорил, что капитан Фаррагут заботливо снабдил свой корабль всеми орудиями для ловли громадных китов. Настоящее китобойное судно не могло быть вооружено лучше. У нас были все известные снаряды, начиная с ручного гарпуна до ружей с разрывными пулями. На баке у нас стояла усовершенствованная пушка, заряжавшаяся с казенной части, с очень толстыми стенками и с очень узким жерлом. Модель этой пушки была представлена на Всемирной выставке 1867 года. Замечательное орудие американского происхождения посылало коническое ядро в четыре килограмма на расстояние около шестнадцати километров.
Итак, «Авраам Линкольн» снаряжен был всеми видами оружия. Мало того! На борту находился сам Нед Ленд, король китобоев.
Нед Ленд был родом из Канады. Он обладал необычайно верной рукой и не знал себе равных в своем опасном промысле. Его ловкость и хладнокровие, смелость и сообразительность достигали самой высшей степени: надо было быть очень хитрым китом или чересчур коварным кашалотом, чтобы увернуться от его гарпуна.
Неду Ленду было около сорока лет; это был мужчина высокого роста — более шести английских футов, — крепкого сложения, степенного вида, необщительного нрава, по временам очень вспыльчивый, а когда ему перечили, он выходил из себя и мог затеять скандал. Наружность его обращала на себя внимание, особенно поражал его волевой взгляд, сообщавший лицу необыкновенную выразительность.
Капитан Фаррагут поступил очень благоразумно, пригласив этого человека: по твердости руки и верности глаза он один стоил всего экипажа. Мне кажется, его можно было сравнить с точным превосходным телескопом, который в то же время был бы и пушкой, всегда готовой выстрелить.
Канадец — ведь это тот же француз, и я должен признаться, что Нед Ленд, несмотря на свой необщительный нрав, почувствовал ко мне некоторое расположение. Его, вероятно, привлекала французская национальность. Ему предоставлялся случай поговорить, а мне послушать старый французский язык, которым писал Рабле и который до сих пор еще сохранился в некоторых канадских провинциях. Семья Неда жила в Квебеке, в его роду было много отважных рыбаков еще в те времена, когда этот город принадлежал Франции.

Мало-помалу Нед разговорился, и я с наслаждением слушал рассказы о его приключениях в полярных морях. Он говорил о рыбной ловле и о поединках с китами просто и безыскусно. Подчас мне казалось, что я слушаю какого-то канадского Гомера, воспевающего Илиаду северных стран.
Я описываю этого человека таким, каким знаю его теперь. Мы стали с ним друзьями и связаны той неразрывной дружбой, которая зарождается и крепнет в страшных и тяжелых жизненных испытаниях. Молодчина Нед! Я, пожалуй, не прочь прожить еще сто лет, чтобы только вспоминать о тебе подольше.
Что же думал Нед Ленд о морском чудовище? Он, надо признаться, не очень-то верил в единорога и не разделял общего убеждения. Он даже избегал говорить на эту тему, что я заметил в первый же раз, когда попробовал узнать его мысли на этот счет.
Великолепным вечером 30 июня, через три недели после нашего отплытия из Нью-Йорка, фрегат находился в тридцати милях под ветром от патагонских берегов. Мы миновали тропик Козерога, и менее чем в семистах милях к югу перед нами открывался Магелланов пролив. Через неделю «Авраам Линкольн» должен был вступить в воды Тихого океана.
Мы с Недом Лендом сидели на юте, толковали о том о сем и поглядывали на это таинственное море, чьи глубины до сих пор были недоступны взору человека. Я завел речь про гигантского единорога и стал рассуждать о различных шансах нашей экспедиции. Я говорил довольно долго, потом заметил, что Нед молчит, и спросил его без всяких уверток:
— Как же это, Нед, неужто вы не верите, что чудовище существует? Почему вы не верите? Или у вас имеются какие-то особые уважительные причины?
Гарпунер сначала поглядел на меня с минуту молча, по привычке хлопнул себя по лбу, закрыл глаза, как бы что-то обдумывая, и наконец ответил:
— А может статься, и есть причины, господин Аронакс.
— Однако, Нед, вы ведь китобой по профессии и не раз имели дело с огромными морскими млекопитающими, — значит, вам легче, чем кому-то другому, представить себе какое-нибудь чудовищное китообразное — и легче поверить в него!
— Ну в этом вы ошибаетесь, господин профессор, — отвечал Нед. — Если темные люди верят в необыкновенные кометы да в допотопных чудовищ, что будто бы сидят в земных недрах, так это им простительно, на то они и темные люди, но ведь астрономы и геологи смеются над этими баснями. Китоловы тоже кое-что смыслят. Я на своем веку гонялся не за одним морским животным, не мало их загарпунил, случалось и убивать их в изрядном количестве, только отроду я не видывал таких хвостатых и клыкастых, чтобы они пробивали железную обшивку парохода!
— Однако, Нед, рассказывают же, что бивень нарвала пробивает насквозь суда!
— Деревянные суда, может быть, — отвечал канадец. — Да и то я этого никогда не видел собственными глазами. И пока не увижу, буду стоять на том, что такие зубастые чудовища водятся не в морях, а в сказках.
— Послушайте, Нед…
— Чего мне слушать, господин профессор? Мне совсем нечего слушать. Вы меня лучше и не уверяйте, не трудитесь. Уж лучше вы выберите что-нибудь другое, только не нарвала… Ну хоть спрута — спрут все-таки…
— Как можно спрута, Нед! Ведь спрут — мягкотелый слизняк! Будь в этом беспозвоночном хоть пятьсот футов длины, он ничуть не сможет повредить такие суда, как «Шотландия» или «Авраам Линкольн». Вот это уж чистые сказки! Осьминогами и подобными им чудовищами хорошо пугать только детей или женщин!
— Значит, господин натуралист, вы верите, что в море сидит этакий страшенный китище? — спросил Нед Ленд не без некоторой иронии.
— Да, Нед, верю! Я основываюсь на фактах, на логическом их сопоставлении. Я верю, что существует необычайно сильное млекопитающее, которое так же принадлежит к отряду китообразных, как кашалоты, киты, дельфины, и которое снабжено крепчайшим роговым бивнем — таким бивнем…
— Гм! — произнес гарпунер тоном нисколько не убежденного человека.
— Заметьте, достойнейший канадец, — продолжал я, — что если такое животное существует, если оно обитает в глубинах океана, что лежат на несколько миль ниже поверхности, так оно непременно одарено таким сильным организмом, с которым ничто не может сравниться.
— А зачем ему такой организм?
— Затем, что нужна неизмеримая сила, чтобы жить в глубине океана и выдерживать давление верхних слоев.
— В самом деле? — сказал Нед, глядя на меня и прищуривая один глаз.
— В самом деле! Я легко могу вас убедить в этом цифрами! — отвечал я.
— О, цифры! — возразил Нед. — С цифрами можно сделать все, что вашей душе угодно!
— В торговых делах — да, Нед, но в математике — нет. Послушайте. Представим мы себе давление в одну атмосферу в виде давления водяного столба высотой тридцать два фута. В сущности, столб может быть и пониже, потому что здесь дело идет о морской воде, которая гораздо плотнее пресной. Когда вы ныряете, Нед, и над вами тридцать два фута воды, то всякий раз тело ваше выдерживает давление, равное одной атмосфере, то есть по стольку же килограммов на каждый квадратный сантиметр его поверхности. Из этого следует, что на глубине триста двадцать футов это давление равняется десяти атмосферам, на глубине три тысячи двести футов — ста атмосферам, а на глубине тридцать две тысячи футов, то есть около двух лье с половиной, — тысяче атмосферам. Значит, если бы вам удалось достигнуть такой глубины в океане, каждый квадратный сантиметр вашего тела подвергся бы давлению тысячи килограммов. А вы знаете, почтеннейший, сколько кубических сантиметров имеет поверхность вашего тела?
— Понятия не имею.
— Около семнадцати тысяч.
— Неужто около семнадцати тысяч?
— А так как в действительности атмосферное давление несколько превышает тяжесть одного килограмма на квадратный сантиметр, то ваши семнадцать тысяч квадратных сантиметров в настоящую минуту выдерживают, значит, давление семнадцати тысяч пятисот шестидесяти восьми килограммов.
— А мне и горя мало?
— А вам и горя мало! На вас эта тяжесть не давит, потому что воздух внутри вашего тела давит там с такой же силой. Отсюда совершенное равновесие между давлением внешним и давлением внутренним, которые нейтрализуют друг друга, что и дает вам возможность не замечать их. Но в воде совсем другое дело.
— Да, понимаю, — ответил Нед, начинавший слушать с большим вниманием, — вода меня окружает, но внутрь не проникает.
— Именно, Нед. Итак, на глубине тридцать два фута вы будете испытывать давление семнадцати тысяч пятисот шестидесяти восьми килограммов; на глубине три тысячи двести футов давление в сто раз большее, то есть давление миллиона семисот пятидесяти шести тысяч восьмисот килограммов, а при тридцати двух тысячах футов глубины давление это увеличится в тысячу раз и будет уже равняться семнадцати миллионам пятистам шестидесяти восьми тысячам килограммов — другими словами, вас бы тогда сплющило почище, чем от действия гидравлического пресса.
— Черт побери! — проговорил Нед.
— Итак, почтеннейший китолов, если на такой глубине обитают позвоночные в несколько сотен метров длиной и соответствующей толщины и поверхность их выражается миллионами квадратных сантиметров, то выдерживаемое ими давление должно равняться миллиардам килограммов. Теперь вы сосчитайте, как велико должно быть сопротивление их скелета и какова должна быть сила их организма, чтобы они могли выносить подобное давление!
— Они, надо полагать, сбиты из листового железа в восемь дюймов толщиной, как броненосные фрегаты, — отвечал Нед.
— Пожалуй, что так, Нед. Ну вы и подумайте после этого, какое разрушение может сотворить подобная масса, когда устремится со скоростью экстренного поезда на корпус корабля!
— Да… точно… может статься… — отвечал Нед.
Цифры поколебали канадца, но он все-таки еще не хотел сдаваться.
— Ну что ж, Нед, убедились вы, а?
— Вы меня убедили в том, господин профессор, что если такие животные обитают в глубине морской, то они должны быть такие сильные, как вы говорите.
— Да ведь если бы их не было, так как же вы объясните приключение с «Шотландией», упрямая вы голова!
— Может… — начал Нед нерешительно.
— Да говорите, говорите!
— Потому что… это неправда! — ответил Нед, бессознательно повторяя знаменитый ответ Араго.
Этот ответ доказывал только упрямство китолова и ничего более, но я уже не стал к нему приставать. Случай с «Шотландией» был всем известен, отрицать его было невозможно. Пробоина была настолько большой, что ее пришлось заделывать — нужны ли были еще доказательства? Она не могла возникнуть сама собой, она не могла быть сделана подводной скалой или подводной машиной — значит, по всей вероятности, борт «Шотландии» пробил просверливающий орган огромного животного.
Итак, на основании всего вышеприведенного животное это принадлежало, по-моему, к отделу позвоночных, к классу млекопитающих, к отряду китообразных. А что касается семейства, к которому его следовало отнести, его вида и разновидности, то этот вопрос мог проясниться только впоследствии. Для его разрешения надо было прежде найти таинственное чудовище и поймать его, а чтобы его поймать, надо было его загарпунить — что было делом Неда Ленда, а чтобы загарпунить, надо было его увидеть — что было делом экипажа, а чтобы его увидеть, надо было его встретить — что было делом случая.
Глава пятая
Наудачу!
Некоторое время плаванье «Авраама Линкольна» совершалось без всяких приключений. Только раз представился случай Неду Ленду доказать свою удивительную ловкость и сноровку.
30 июня недалеко от Фолклендских островов фрегат наш повстречал американское китобойное судно «Монро». Мы тотчас обратились к ним с вопросом: «Не видали ли вы чудовище?» Они отвечали, что о чудовище нет ни слуху ни духу.
После переговоров о нарвале капитан «Монро», знавший, что Нед Ленд находится на борту «Авраама Линкольна», сказал капитану Фаррагуту:
— Мы выследили кита, и я хочу обратиться к вам с просьбой.
— С какой? Буду рад, если смогу помочь.
— Позвольте Неду Ленду отлучиться на часок — он нам поможет в охоте.
Капитан Фаррагут, разумеется, позволил, ему и самому хотелось посмотреть, как отличится Нед Ленд.
Нед Ленд на этот раз отличился так, что вместо одного загарпунил двух китов. Одному он попал в самое сердце, а другого проколол вдогонку.
«Ну! — думал я. — Если чудовище наткнется когда-нибудь на гарпун Неда Ленда, так ему, пожалуй, и не уйти живому».
Фрегат чрезвычайно быстро прошел мимо юго-восточного берега Южной Америки. 3 июля мы уже находились у входа в Магелланов пролив, близ мыса Дев. Только капитан Фаррагут не захотел войти в этот извилистый пролив, а постарался обогнуть мыс Горн.
Экипаж единодушно одобрил распоряжения капитана. И вправду, можно ли было ожидать встречи с чудовищем в этом узком проливе? Почти все матросы говорили:
— Да тут ему и не пролезть! Этакая махина здесь не продерется.
6 июля, около трех часов пополудни, «Авраам Линкольн» обогнул в пятнадцати милях к югу тот одинокий остров, ту скалу на оконечности американского материка, которую голландские моряки называли именем своего родного города, — мыс Горн. Обогнув его, мы взяли курс на северо-запад. На следующее утро фрегат уже скользил по водам Тихого океана.
— Не дремать! Не зевай! Гляди в оба! — говорили друг другу матросы.
И надо сказать, никто не дремал, не зевал и все глядели в оба. Награда в две тысячи долларов имела свою прелесть, глаза и подзорные трубы и минуты не отдыхали. И днем и ночью все вглядывались и всматривались в поверхность океана; страдающие куриной слепотой вдруг поднялись в общем мнении и возбуждали зависть: они ночью различали предметы гораздо явственнее и, значит, имели больше шансов выиграть приз.
Меня деньги не особенно прельщали, но я тем не менее никому не уступал в усердии. Я наскоро обедал, спал, что называется, одним глазом, пренебрегал и солнечным зноем, и проливным дождем и не уходил с палубы. Перегнувшись через борт на баке или опершись на поручни на шканцах, я пожирал жадными глазами пенистые борозды бурунов, которыми белел океан на необозримом пространстве до самого горизонта.

И сколько раз приходилось всем нам волноваться понапрасну! Какой-нибудь причудливый кит высунет из воды свою черноватую спину, и у нас уже дрожат поджилки. В одну секунду палуба покрывается народом. Из нижних кают офицеры и матросы валом стремятся на палубу, и все, затаив дыхание, всматриваются в одну точку до помутнения в глазах. Я так, бывало, напрягал глаза, что рисковал повредить себе сетчатку и ослепнуть, а мой невозмутимый приятель Консейль говорил мне своим спокойным голосом:
— Если бы их честь не так утруждали глаза, то их честь видели бы гораздо лучше и дальше.
Но все эти треволнения были напрасны. «Авраам Линкольн» лавировал, направляясь к увиденному чудовищу, а оно оказывалось простым китом или самым обыкновенным кашалотом и скоро исчезало, преследуемое общим негодованием и проклятьями.
Погода между тем стояла прекрасная, и плавание совершалось при самых благоприятных условиях. Было самое дождливое время года, так как в Южном полушарии июль соответствует нашему европейскому январю, но море было спокойно, и его можно было обозревать на огромном протяжении.
Нед Ленд по-прежнему скептически относился к нашим тревогам. Когда он не стоял на вахте, так он и не смотрел на море. А между тем удивительная острота его зрения могла бы принести огромную пользу! Но из двенадцати часов упрямый канадец восемь проводил в своей каюте, спал там или читал. Я его упрекал сотни раз за это постыдное равнодушие.
А он мне отвечал:
— Ба! Если и существует такое чудовище, так все-таки маловероятно, что мы его повстречаем. Как его нам повстречать? Ведь мы идем наудачу, куда бог даст. Говорят, видели это чудовище в водах Тихого океана. Ну, ладно, положим, его там видели. Да с той поры прошло уже два месяца, — неужели вы думаете, что оно все сидит на том же месте да поджидает нас? Судя по его нраву, так оно киснуть на одном месте не любит. Вы сами говорите: «Одарено необычайной скоростью движения», а вы лучше меня знаете, что если кто чем-нибудь одарен, так это не без толку, а на дело, на пользу. Помните, вы сказали сами: «Природа ничего бессмысленного не делает». Значит, если нарвал существует, так его теперь и след простыл.
На это я не знал, что ответить. Мы шли как слепые, наудачу, на авось, но иначе было невозможно. Рассчитывать положительно на встречу с нарвалом, разумеется, было нельзя. Однако никто из нас еще не сомневался в успехе предприятия и ни один матрос не побился бы об заклад против этого.
20 июля мы миновали тропик Козерога на долготе 105°, а 27 июля пересекли экватор на сто десятом меридиане. Затем фрегат направился на запад и вошел в центральный бассейн Тихого океана. Капитан Фаррагут полагал, и полагал очень резонно, что нарвала можно скорее встретить в глубоких водах, вдали от материков и больших островов, которых он, по-видимому, всегда избегал — наверное, потому, что «там для него слишком мелко», как объяснял нам боцман.
Фрегат прошел в виду островов Паумоту, Маркизских, Гавайских, пересек тропик Рака на долготе 132° и направился к Китайским морям.
Наконец мы пришли на место последних подвигов чудовища. Сказать по правде, мы все были ни живы ни мертвы. Все сердца учащенно бились, обеспечивая себе на будущее неизлечимые болезни. Я не берусь описать, как был возбужден весь экипаж. Люди не ели, не спали. Все мы испытывали необычайное волнение раз по двадцать в день: то оптический обман, то просто кто-нибудь из матросов вдруг крикнет или охнет. Нервы наши находились в состоянии постоянного напряжения, что неминуемо должно было вызвать скорую реакцию. И в самом деле, реакция не замедлила сказаться. Целых три месяца подряд — а нам каждый день казался за столетие — «Авраам Линкольн» скитался по северным водам Тихого океана и избороздил его во всех направлениях, гоняясь за попадавшимися китами, круто меняя курс, ложась с галса на галс, резко останавливаясь или прибавляя пары, рискуя сломать машину. Все пространство от берегов Японии до Америки было исследовано тщательнейшим образом. И ничего! Ничего решительно, кроме беспредельности пустынных волн! Ничего похожего на гигантского нарвала, или на подводный остров, или на разбитое судно, или на плавучий риф, — одним словом, ничего сверхъестественного!
Наступила реакция. Все пришли в уныние и упали духом, что открыло дорогу неверию. На борту «Авраама Линкольна» все испытывали новое ощущение, состоявшее из трех десятых стыда и семи десятых злости. Невыносимо стыдно было остаться в дураках, положась на какие-то бессмысленные сказки, — но еще более было досадно!
Горы доводов и доказательств, которые нагромоздили в продолжение целого года, вдруг все разом рухнули, теперь все стали есть и спать, стараясь наверстать время, которое даром потратили на выглядывание и высматривание небывалого чудовища.
Со свойственным людям непостоянством перешли из одной крайности в другую. Самые горячие, самые пламенные защитники предприятия теперь стали самыми ярыми его противниками. Упадочное настроение распространилось от кубрика до кают-компании, и если бы не удивительное упорство капитана Фаррагута, фрегат, несомненно, повернул бы к югу, то есть домой.
Однако, несмотря на упорство капитана Фаррагута, бесполезное плавание не могло очень долго продолжаться. Экипаж «Авраама Линкольна» не мог винить себя за неудачу, он сделал все, что только от него зависело. Никогда еще матросы американского флота не выказывали такого терпения и усердия. А что все это пропало понапрасну, так уж это не их вина. Они сделали свое дело, больше делать было нечего. Оставалось вернуться поскорее домой.
В этом духе сделано было заявление капитану. Капитана это заявление нимало не поколебало. Он стоял на своем. Матросы не скрывали своего неудовольствия, и дисциплина на судне упала. Я не хочу сказать, что на корабле начался бунт, но тем не менее капитан Фаррагут после непродолжительного сопротивления, не выходившего из границ порядка и благоразумия, попросил себе, как некогда Христофор Колумб, три дня отсрочки. Если в течение этих трех дней чудовище не появится, «Авраам Линкольн» направится обратно к европейским морям.
Это обещание было дано 2 ноября. Оно тотчас же ободрило, оживило и развеселило экипаж. Опять все принялись всматриваться в морские волны, опять схватились за подзорные трубы. Это был последний отчаянный вызов чудовищу.
Прошло два дня. «Авраам Линкольн» шел под малыми парами. Мы употребляли всевозможные уловки и хитрости, чтобы привлечь внимание чудовища или расшевелить его, если оно находилось где-нибудь поблизости. За кормой, к величайшему удовольствию акул, волочились на веревках огромные куски сала. «Авраам Линкольн» лежал в дрейфе, а шлюпки сновали вокруг него во всех направлениях дозором.
Настал вечер 4 ноября, а тайна морская как была, так и осталась тайной. Отсрочка кончалась на другой день, 5 ноября, в полдень. Капитан Фаррагут, верный своему обещанию, должен был тотчас же, как только стрелка станет на двенадцати, повернуть на юго-восток и покинуть северные воды Тихого океана.
Фрегат находился тогда на 31°152 северной широты и 136°422 восточной долготы. Японские берега были от нас менее чем в двухстах милях под ветром.
Ночь приближалась. Часы показывали уже восемь. Густые тучи заволокли молодой месяц. Океан был спокоен, и легкие волны тихо струились из-под форштевня.
Я стоял на баке, опершись на поручни. Консейль стоял около меня и смотрел бесцельно вперед. Матросы, взобравшись на ванты, всматривались в горизонт, который все больше суживался из-за наступающей темноты. Офицеры, приставив к глазам подзорные трубы, пытались что-то рассмотреть в увеличивающейся темноте. Время от времени темный океан вдруг местами словно вспыхивал, когда лунный луч прорывался сквозь облака, а потом серебряный след снова исчезал во мраке.
Я поглядел на Консейля, и мне показалось, что у него наконец пробудилось любопытство.
— Ну, Консейль, — сказал я, — вот последний случай заполучить две тысячи долларов!
— Если их честь позволят мне доложить, так я их чести доложу, что никогда не рассчитывал на эту премию. И если бы американское правительство предложило не две, а сто тысяч долларов, так из-за меня оно бы ничего не потеряло.
— Твоя правда, Консейль. Глупая затея, и мы вмешались в нее чересчур опрометчиво. Сколько времени потеряно даром! Сколько напрасных волнений! Ведь мы могли бы уже шесть месяцев быть во Франции…
— Дома, в квартире его чести, — подхватил Консейль, — в Парижском музее. И я бы уже классифицировал ископаемых его чести! И морская свинка его чести была бы уже посажена в клетку в ботаническом саду, и все бы сбегались на нее смотреть.
— Да, да, Консейль! А теперь кроме всех прочих приятностей нас еще поднимут на смех!
— Действительно, я полагаю, что его честь поднимут на смех. И, с позволения их чести… Только я не знаю, говорить ли…
— Говорить, говорить, Консейль!
— Ну так я скажу: их честь пожнут, что посеяли!
— В самом деле?
— Уж если их честь удостоились быть ученым, так не следует показывать легкомыслия в делах…
Консейль не закончил своего похвального слова. Среди всеобщей тишины раздался вдруг голос Неда Ленда.
Нед Ленд кричал:
— Эй! Диковина показалась! Под ветром, прямо перед нами!
Глава шестая
На всех парах
Весь экипаж кинулся к гарпунеру: капитан, офицеры, матросы, юнги — одним словом, все до единого человека, даже кочегары бросили свои топки. Тотчас же дан был приказ остановиться, и фрегат шел теперь только по инерции.
Было совсем темно, и я удивлялся, как мог канадец при всей своей дальнозоркости что-нибудь увидеть в таком мраке. И что такое он увидел? Сердце у меня так билось, словно хотело выскочить из груди.
В двух кабельтовых от «Авраама Линкольна» море как будто было иллюминировано снизу. Принять этот свет за обыкновенное свечение океана было нельзя. Чудовище всплывало, но держалось всего на несколько туазов[8]Туаз — старинная французская мера длины; равнялась примерно 1,949 м. ниже поверхности, и от него исходил тот яркий, необъяснимый свет, о котором упоминали в своих рапортах многие капитаны кораблей.
Что это было за великолепнейшее сияние! И производило его, по-видимому, что-то одаренное изумительной силой светиться. Светящийся предмет имел контуры громадного продолговатого овала, в центре которого, как в фокусе, был сосредоточен невыносимо яркий блеск.
— Да это просто случайное скопление фосфоресцирующих организмов! — воскликнул один офицер.
— Нет, вы ошибаетесь, — возразил я офицеру. — Никогда фолады или сальпы не испускают такой сильный свет. Это свет электрического происхождения… Да вы поглядите: он перемещается! Он движется вперед… назад! Он несется на нас! На палубе раздался всеобщий крик.
— Молчать! — сказал капитан Фаррагут. — К рулю! Задний ход!
Матросы кинулись к рулю, механики к машинам, и «Авраам Линкольн» описал полукруг.
— Прямо! Вперед! — крикнул Фаррагут.
Команда была исполнена, и фрегат быстро удалился от светящегося предмета.
Я неточно выразился. Фрегат хотел удалиться, но сверхъестественное чудовище погналось за ним вдвое быстрее и стало вновь его настигать.
Мы затаили дыхание. От страха и изумления мы стояли немы и недвижимы. Чудовище догоняло нас, словно резвясь и играя: оно обогнуло фрегат, который шел со скоростью четырнадцати узлов, окружив его каскадом электрических лучей, словно светящейся пылью. Затем оно удалилось на две или на три мили, оставив за собою светящуюся полосу, похожую на клубы пара, оставляемого локомотивом скорого поезда. Вдруг от темной линии горизонта чудовище с ужасающей быстротой ринулось к фрегату, мгновенно остановилось, словно замерло, в двадцати футах от его борта и погасло. Нет, оно не погрузилось в волны, потому что свет его не угасал постепенно, а потухло мгновенно, как будто источник этого чудесного светоистечения мгновенно иссяк. И сразу же чудовище появилось с другой стороны корабля, обогнув его или проскользнув под его корпусом. Каждую минуту могло произойти столкновение, которое было бы для нас гибелью. Я, однако, удивлялся маневрам «Авраама Линкольна». Выходило, что преследовали теперь его — его, который должен был преследовать чудовище! Я обратил на это внимание (не утерпел!) капитана Фаррагута.
Его всегда безмятежное лицо выражало неописуемое изумление.
— Аронакс, — отвечал он, — я не понимаю, с каким сверхъестественным чудовищем мы имеем дело, и я не хочу рисковать кораблем в такой темноте. Да и как нападать на то, чего или кого мы не знаем? О чем не имеем даже понятия? И как в случае нападения с его стороны защищаться? Дождемся утра, и тогда роли переменятся!
— Вы теперь уж не сомневаетесь, капитан, что это животное?
— Не сомневаюсь, Аронакс. По всей видимости, это гигантский нарвал и, кроме того, нарвал электрический.
— Пожалуй, к нему и не подступиться, — сказал я, — как к электрическому угрю или скату.
— Пожалуй, — отвечал капитан. — Если оно одарено способностью поражать, как молнией, все, что к нему приближается, то надо признаться, это самое ужасное животное в мире. Поэтому-то, Аронакс, я буду осторожен.
Весь экипаж не смыкал глаз целую ночь, никто и не помышлял о сне. «Авраам Линкольн», оказавшись не в состоянии состязаться в скорости с электрическим чудовищем, шел на малых парах. Нарвал, со своей стороны, казалось, подражал фрегату, покачивался на волнах и, по-видимому, нисколько не намерен был оставить театр борьбы.
Около полуночи, однако, и он исчез, или, говоря точнее, погас, как гигантский светлячок.
Что же он, уплыл? Мы не смели на это надеяться.
Но без семи минут час после полуночи вдруг раздался оглушительный свист, словно поблизости забил мощный фонтан воды.
Капитан Фаррагут, Нед Ленд и я стояли в этот момент на юте и жадными глазами всматривались в окружавшую нас темноту.
— Нед Ленд, вы ведь часто слыхали, как ревут киты? — спросил капитан Фаррагут.
— Часто, капитан. Только как ревет кит, который приносит одним своим видом две тысячи долларов, я до сих пор не слыхал.
— Да, да, премия ваша; она принадлежит вам, бесспорно. Скажите, пожалуйста, этот шум похож на тот, который производит кит, когда выбрасывает воду из носовых отверстий?
— Не только похож, а такой же, только этот шум гораздо сильнее. Сомневаться теперь нечего. Что к нам пришвартовалось китообразное, как их называет профессор, так это верно. С вашего позволения, капитан, мы на рассвете перемолвимся словечком с этим китообразным.
— Да, Нед, — сказал я, — если китообразному угодно будет вас выслушать.
— Как я подберусь к нему с гарпуном, так придется выслушать! — ответил канадец.
— А как вы подберетесь? Для вас надо спустить вельбот? — сказал капитан Фаррагут.
— Разумеется, надо, капитан.
— И рисковать жизнью матросов!
— Да, и моей, — ответил гарпунер так просто и спокойно, как будто дело шло о самой обыкновенной вещи.
Около двух часов ночи светящийся предмет снова показался; он светился так же ярко, как и прежде, в пяти милях под ветром от «Авраама Линкольна». Несмотря на расстояние, несмотря на шум ветра и ропот моря, мы ясно слышали могучие всплески хвостом и прерывистое дыхание чудовища. Казалось, когда чудовище выплыло подышать на поверхность океана, воздух набивался и выл в его легких, как пар в громадных цилиндрах машины мощностью две тысячи лошадиных сил.
«Ну, — думал я, — если водится такой кит, который один может помериться силой с целым кавалерийским полком, так это кит порядочный!»
До рассвета мы были настороже — каждый миг ждали, что вот-вот завяжется бой. Все китобойные сети расположили вдоль бортов, зарядили орудия, выбрасывающие гарпун на целую милю, и длинные ружья с разрывными пулями, которые бьют наповал самых крупных животных. Нед Ленд держал наготове свой гарпун, который в его руках стоил всякого другого смертоносного орудия.
В шесть часов начало светать, и с первыми лучами утренней зари исчез электрический свет нарвала. В семь часов уже почти совсем рассвело, но густой утренний туман застилал горизонт, и в самые лучшие подзорные трубы ничего нельзя было разглядеть. Все проклинали этот туман на разные лады.
Я взобрался на бизань-мачту. Некоторые офицеры уже влезли на марсовые площадки.
В восемь часов туман заклубился по волнам и стал медленно подниматься. Линия горизонта постепенно расширилась и прояснилась.
Вдруг раздался голос Неда Ленда, раздался так же неожиданно, как и накануне:
— Эй, смотрите! Диковина показалась! Вон там, по левому борту, за кормой!
Все глаза обратились в указанную сторону.
Там, в миле или полторы от фрегата, всплыло какое-то длинное темное тело. Волны пенились под мощными ударами его хвоста. Громадная борозда ослепительной белизны обозначала путь животного, описывая продолговатую извилину.
Фрегат приблизился к чудовищу. Я стал в него внимательно вглядываться. Рапорты с «Шанона» и «Гельвеции» несколько преувеличили его размеры: по моим наблюдениям, длина его была только двести пятьдесят футов. Его толщину я не мог точно определить, но животное, казалось, было удивительно пропорционально.
Пока я разглядывал это необычайное творение, из его носовых отверстий вырвались два столба пара и воды и поднялись на высоту сорок метров. Это дало мне некоторое понятие о том, как оно дышит. Я окончательно решил, что чудовище принадлежит к разряду позвоночных, к классу млекопитающих, к подклассу чревосумчатых, к группе рыбовидных, к отряду китообразных, к семейству…
Этого я еще не мог определить. Отряд китообразных включает три семейства: китов, кашалотов и дельфинов, и нарвалы причисляются к последним. Каждое из этих семейств подразделяется на многие роды, каждый род на виды, каждый вид на разновидности. Мне, значит, еще недоставало разновидности, вида, рода и семейства, но я не сомневался, что с помощью неба и капитана Фаррагута я в скором времени самым доскональным образом восполню пробел в классификации.
Тем временем команда с нетерпением ждала приказаний капитана.
Капитан очень внимательно наблюдал за чудовищем, а по том позвал механика. Механик тотчас же явился. — Разведены пары? — спросил капитан. — Так точно! — отвечал механик.
— Хорошо. Усилить давление! Дать полный ход!
Этот приказ был встречен троекратным «ура». Час борьбы наступил!
Несколько минут спустя из труб «Авраама Линкольна» повалили клубы черного дыма, и палуба начала содрогаться от дрожи паровых котлов. На всех парах «Авраам Линкольн» устремился к чудовищу.
Чудовище это нисколько, по-видимому, не испугало; оно равнодушно подпустило фрегат к себе на расстояние полукабельтовых, а затем, даже не погружаясь в волны, стало не спеша удаляться.
«Авраам Линкольн» полетел вдогонку. Он гнался за чудовищем около часа, но безуспешно: он и на два туаза не подошел ближе. Ясно было, что при такой скорости животное не догнать.
Капитан Фаррагут в ярости теребил свою густую бороду.
— Нед Ленд! — крикнул он.
Канадец тотчас же явился на зов.
— Ну, Нед Ленд, что вы теперь посоветуете? — спросил капитан. — Может, спустить шлюпки?
— Нет, капитан, — ответил Нед Ленд, — не советую, эту тварь только тогда можно взять, когда она сама пожелает даться в руки.
— Так что ж нам делать?
— Поднять пары, если можно, капитан. А я, с вашего позволения, стану на бушприте и, как только мы его догоним, ударю по нему гарпуном.
— Идите, Нед, — отвечал капитан. И вслед за тем крикнул: — Механик, поднять пары!
Нед Ленд занял свой пост. Винт завертелся теперь со скоростью сорок три оборота в минуту, и пар клубами вырывался через клапаны. Бросили лаг, и оказалось, что «Авраам Линкольн» делает восемнадцать и пять десятых мили в час.
Но проклятое чудовище тоже шло с такой скоростью. Еще за целый час фрегат не выиграл ни одного туаза.
Трудно было перенести такое унижение одному из самых быстроходных судов американского флота. Экипаж начинал приходить в бешенство, матросы проклинали чудовище. А чудовище и в ус не дуло!
Капитан Фаррагут уж не крутил свою бородку, а кусал ее.
Он снова позвал старшего механика.
— Вы идете на всех парах? — спросил капитан Фаррагут.
— На всех парах, капитан, — отвечал механик. — Сколько?
— Шесть с половиной атмосфер, капитан.
— Доведите до десяти атмосфер.
Это было настоящее американское распоряжение! Лучше, пожалуй, не отличились бы и на гонках на Миссисипи!
— Знаешь, дружище, — сказал я Консейлю, — мы ведь, по всей видимости, взлетим на воздух.
— Как угодно будет их чести, — отвечал Консейль.
Положа руку на сердце, я должен признаться, что нисколько не испугался: мне этот риск был очень по нраву.
Пары пустили на десять атмосфер. Уголь завалил все топки. Из вентиляторов пошли целые потоки воздуха на горящее топливо. Скорость «Авраама Линкольна» увеличилась. Мачты дрожали, и облака дыма с трудом вырывались наружу из узких труб.
Опять бросили лаг.
— Ну что, рулевой? — спросил капитан Фаррагут.
— Девятнадцать миль и три десятых, капитан, — отвечал рулевой.
— Поднять давление!
Скоро манометр показал десять атмосфер, но чудовище тоже, вероятно, «усилило пары», потому что оно, нисколько не затрудняясь, тоже шло со скоростью девятнадцать и три десятых мили в час.
Какая гонка! Я не могу описать вам, до чего я был взволнован в эти минуты!
Нед Ленд стоял на своем посту с гарпуном в руке. Несколько раз чудовище подпускало нас ближе к себе.
— Догоняем! Догоняем! — кричал тогда канадец.
Но в ту самую минуту, когда он готовился метнуть гарпун, чудовище убегало от него со скоростью не менее тридцати миль в час. А как-то раз, когда мы летели на всех парах, оно, словно издеваясь над нами, вдруг повернуло, изволило описать вокруг фрегата большой круг и снова убежало вперед! У всех нас вырвался крик бешенства.
В полдень мы находились на том же самом расстоянии от чудовища, на каком были и в восемь часов утра.
Тут капитан Фаррагут решился наконец на более крутые меры.
— А! — сказал он. — Это животное идет быстрее «Авраама Линкольна». Ну, делать нечего! Теперь посмотрим, как оно будет уходить от конических ядер! — И капитан крикнул: — Зарядить носовую пушку!
В одно мгновение пушка была заряжена и нацелена на чудовище. Раздался грохот, но ядро пролетело на несколько футов выше животного, которое держалось теперь всего в полумиле от нее.
— Пусть зарядит и прицелится кто-нибудь другой, кто половчее! — крикнул капитан. — Пятьсот долларов тому, кто пристрелит этого дьявола!
Старый канонир с седой бородой — я словно еще вижу его: взгляд спокойный, лицо уверенное — подошел к пушке, зарядил ее и долго целился.
Снова раздался выстрел, к его грохоту присоединились проклятия экипажа.
Ядро было пущено метко: оно долетело и ударило животное, но, скользнув по округлой спине чудовища, пропало в волнах.
Старик переменился в лице от ярости.
— Ах, чтоб тебя разорвало! — вскричал он. — Этот гад, надо полагать, бронирован железом в шесть дюймов толщиной!
— Проклятие! — крикнул капитан Фаррагут. — Полный вперед!
Охота началась снова.
Капитан Фаррагут наклонился ко мне и сказал вполголоса:
— Я буду до тех пор за ним гоняться, пока мой фрегат не взлетит на воздух!
— Разумеется, — отвечал я капитану, — разумеется. Вы будете совершенно правы!
Можно было надеяться только на то, что животное наконец устанет, не выдержав состязания с пароходом, но надеялись мы на это напрасно. Часы шли за часами, а чудовище не подавало ни малейших признаков утомления.
К чести «Авраама Линкольна» надо сказать, что он охотился с неслыханным упорством. Я полагаю, он пролетел по меньшей мере пятьсот километров в этот злополучный день 6 ноября. Но наступила ночь и покрыла мраком пенящийся океан.
Я подумал: «Ну все! Экспедиция наша окончена! Мы уже не увидим больше чудовища!» Однако я ошибся.
В десять часов пятьдесят минут вечера снова вспыхнул электрический свет в трех милях под ветром от фрегата. И свет этот был такой же чистый и яркий, как и в прошлую ночь.
Нарвал казался неподвижным. Может быть, утомленный дневной гонкой, он спал, покачиваясь на волнах? В таком случае снова появлялась надежда на успех. Капитан Фаррагут решил воспользоваться благоприятным моментом.
Он отдал нужные приказания. «Авраам Линкольн» на малом ходу осторожно начал приближаться к чудовищу. Встретить посреди океана глубоко спящего кита вовсе не редкость, и тогда нападать на них можно очень успешно. Нед Ленд немало их загарпунил именно во время сна. И сейчас канадец снова занял свой пост у бушприта.
Фрегат бесшумно подошел на два кабельтовых к чудовищу. Машину остановили, и судно шло по инерции. У всех замерло сердце, все затаили дыхание. Глубокое безмолвие царило на палубе. Мы были всего в сотне футов от центра электрического света; его блеск все увеличивался и просто ослеплял наши глаза.
Я в эту минуту стоял на баке, опершись о борт, и видел, как внизу Нед Ленд ухватился одной рукой за мартинштаг, а другой потрясает своим страшным орудием. Всего футов двадцать отделяло его от чудовища. А чудовище лежало неподвижно.
Вдруг Нед Ленд взмахнул рукой, и гарпун взвился в воздух. Я слышал, как звонко он ударился, словно попал в какое-то твердое металлическое тело.
Мгновенно погас электрический свет, и два громадных фонтана воды обрушились на палубу, разливаясь мощными потоками, опрокидывая людей и ломая фальшборты. Затем последовало страшное сотрясение; я не успел удержаться, и меня швырнуло через борт в море.
Глава седьмая
Кит неизвестного вида
Хотя я был несколько ошеломлен неожиданным кувырком, но тем не менее сознание не потерял.
Меня тотчас же увлекло на глубину около двадцати футов. Я не хочу ставить себя выше Байрона и Эдгара По, но я все-таки пловец изрядный, и, очутившись в воде, я не растерялся.
Двумя сильными взмахами я всплыл на поверхность.
Разумеется, сразу я начал искать фрегат глазами. Заметил ли экипаж мое исчезновение? Повернул ли «Авраам Линкольн» на другой галс? Спустил ли капитан Фаррагут шлюпку на море? Есть ли у меня надежда на спасение?
Кругом была совершенная темнота. Я, впрочем, рассмотрел черную массу, которая исчезала на востоке. Это был фрегат. Значит, я погиб!
— Помогите! помогите! — закричал я, пытаясь плыть вслед за «Авраамом Линкольном».
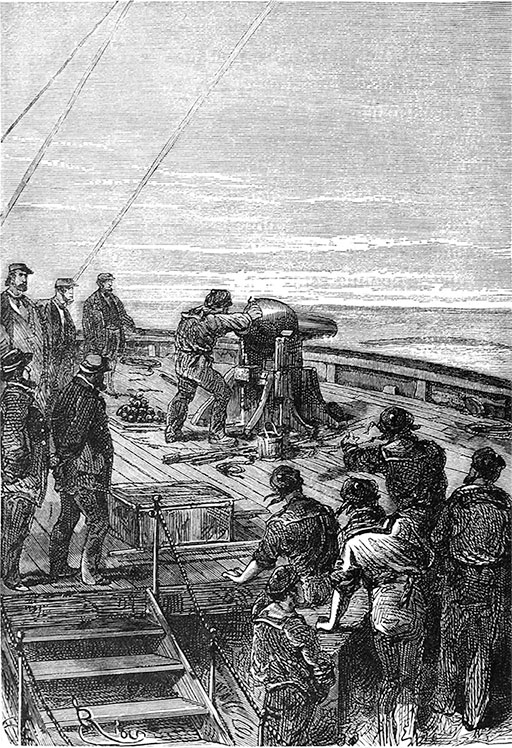
Одежда очень затрудняла мои движения; она прилипала к моему телу, словно связывала меня по рукам и по ногам.
Я шел ко дну, я задыхался!
— Помогите!
Это был мой последний крик. Мне захлестнуло рот водой.
Я начал биться, но бездна меня втягивала…
Вдруг чья-то мощная рука схватила меня за ворот, вытащила на поверхность, и я услышал слова, сказанные мне на ухо:
— Если их честь обопрется на мое плечо, так их чести будет плыть лучше.
Я схватился за своего верного Консейля.
— Это ты? — вскричал я. — Это ты?
— Я самый, — отвечал Консейль, — к услугам их чести.
— Значит, тебя тоже вышвырнуло в море?
— Нисколько меня не вышвырнуло, я сам прыгнул. Я нахожусь в услужении у их чести, значит, я должен всюду следовать за их честью. Я и последовал.
Он находил это очень естественным!
— А фрегат? — спросил я.
— Фрегат! — отвечал Консейль, переворачиваясь на спину. — Я полагаю, лучше будет, если их честь перестанет уж на фрегат рассчитывать.
— Что это значит?
— В ту самую минуту, как я прыгал в море, я слышал, рулевые закричали: «Винт сломался!» — Винт сломался?
— Да! Чудовище пробило его бивнем. Больше повреждений на «Аврааме Линкольне» нет, да вот только он уже не может теперь направляться туда, куда хочет, — значит, не может позаботиться о нас.
— Так мы, стало быть, пропадем!
— Может, пропадем, — отвечал спокойно Консейль. — А впрочем, у нас еще остается несколько часов впереди, а за несколько часов может иногда многое случиться.
Хладнокровие невозмутимого Консейля ободрило меня.
Я поплыл изо всех сил, но плыть было мне очень трудно: одежда облипала и сдавливала меня, как свинцовые оковы. Я едва мог держаться на воде.
Консейль это заметил.
— Прошу позволения у их чести сделать маленький разрез, — сказал он.
Просунув раскрытый нож под мою одежду, он быстро распорол ее сверху донизу. Пока я поддерживал его в воде, он проворно сдернул ее с меня. Потом я, в свою очередь, оказал такую же услугу Консейлю. И, держась друг возле друга, мы опять продолжили наше «плавание».
Положение, однако, было ужасным. Нашего исчезновения, возможно, не заметили, да если бы даже и заметили, фрегат не мог повернуть к нам против ветра. Если можно было на что-то рассчитывать, то только на спущенные шлюпки.
Консейль хладнокровно рассуждал на эту тему и составлял разные планы. Удивительный человек этот Консейль! Среди необозримого океана он точно находился у себя дома!
Итак, мы решили, что для нас есть одно только спасение: попасть на спущенные шлюпки «Авраама Линкольна», — значит, надо было как можно дольше продержаться на воде.
— Надо беречь силы, — сказал я Консейлю. — Знаешь, что мы сделаем? Один из нас перевернется на спину, скрестит руки, вытянет ноги и будет лежать неподвижно на воде, а другой будет плыть и подталкивать его вперед не больше десяти минут, а потом мы поменяемся местами — понимаешь? Если мы будем так чередоваться, то сможем плыть несколько часов кряду, — может хватить сил проплыть до рассвета.
Разумеется, рассчитывать плыть до рассвета было неосновательно, но человек так уж создан, что никогда не теряет надежды. И я не терял. К тому же нас было двое, что тоже подкрепляло падающий дух. Одним словом, я надеялся. Я говорил себе, что надежды нет, быть не может, а все-таки надеялся!
Столкновение «Авраама Линкольна» с чудовищем произошло около одиннадцати часов вечера. Значит, осталось восемь часов до рассвета.
— Что ж, пожалуй, проплывем восемь часов, если будем чередоваться! — сказал я Консейлю.
— Пожалуй, что проплывем, — отвечал Консейль.
Океан был спокоен, плавание мало нас утомляло. Время от времени я вглядывался в густой мрак, который освещался только фосфорическими блестками при каждом нашем движении. Я смотрел на светящиеся волны, разбивавшиеся под моими руками; переливающаяся поверхность вод сверкала какими-то бледными, свинцовыми пятнами. Мы плыли точно в море ртути.
Около часа ночи я вдруг почувствовал чрезвычайную усталость. Меня начали мучить жестокие судороги. Консейль должен был меня поддерживать, теперь забота о нашем спасении легла на него одного.
Скоро я заметил, что и он выбивается из сил, дыхание у него стало прерываться, движения сделались порывистее.
Я понял, что он изнемогает.
— Оставь меня! — сказал я верному товарищу.
— Оставить их честь! Никогда! — отвечал он. — Я надеюсь утонуть вместе с их честью!
В эту самую минуту месяц выглянул из-за туч, и поверхность океана засверкала под его лучами. Этот благодетельный свет как будто придал нам сил. Я поднял голову и огляделся.
В шести милях от нас я увидел фрегат, он представлялся темной массой, которую едва-едва можно было различить в ночной мгле. Но шлюпок нигде не было видно. Нигде, ни одной!
Я попробовал закричать. Собственно говоря, к чему было кричать? Разве могли меня услыхать на таком расстоянии? Но и закричать я не мог — опухшие губы словно слиплись и не пропускали ни звука.
Консейль смог собраться с силами; я слышал, как он несколько раз прокричал: «Помогите, помогите!»
«Что это? Шумит в ушах от прилива крови, что ли?
Или уж начинается бред? — думал я. — Что это?»
Мне показалось, что на крик Консейля ответили криком.

— Ты слышал? — прошептал я. — Слышал?
— Да! Да!
И Консейль опять отчаянно закричал.
На этот раз сомневаться было уже невозможно. Человеческий голос ответил на наш призыв очень явственно.
«Что это за голос? Чей? Откуда? Может, это еще кто-нибудь злополучный с „Авраама Линкольна“? Или, может, это окликают нас со шлюпки, спущенной на море для нашего спасения и невидимой во мраке ночи?»
Консейль, сделав последнее усилие, оперся на мое плечо — я конвульсивно его поддерживал, — приподнялся до пояса из воды, а затем, совершенно обессиленный, снова упал.
— Что ты видел?
— Я видел… — пробормотал он, — я видел… но не надо говорить… надо беречь… беречь силы…
Что же он видел? Не знаю почему, но в эту минуту у меня в первый раз мелькнула мысль о чудовище. Но человеческий голос? Ведь уже давным-давно прошли те времена, когда Ионы укрывались в чреве китов!
Консейль все-таки из последних сил подталкивал меня вперед. Время от времени он поднимал голову, осматривался и кричал. На его крик раздавался ответный голос, и голос этот слышался все ближе и ближе. Но у меня уже гудело в ушах, я выбился из сил, меня захлестывала соленая волна и неудержимо тянуло в холодную бездну. Я в последний раз поднял голову — и пошел ко дну.
Вдруг я наткнулся на какое-то твердое тело, уцепился за него и почувствовал, что меня тащат на поверхность, но… потерял сознание.
Скоро я пришел в себя благодаря жестоким растираниям, которые избороздили мое тело не лучше ударов плетью, и открыл глаза.
— Консейль! — прошептал я. — Консейль!
— Их честь изволили звать меня? — отозвался Консейль.
В ту же минуту в свете заходящей луны я увидел еще одну склонившуюся надо мной фигуру и тотчас же узнал ее.
— Нед! — вскрикнул я.
— Он самый, Аронакс. Как видите, все еще гоняюсь за премией.
— Вас сбросило при столкновении?
— Да, профессор. Только мне посчастливилось больше вашего: я почти в ту же минуту вскарабкался на плавучий островок.
— На островок?
— Точнее говоря, на чудовище, на этого «нарвала-гиганта», как вы его называли.
— Объяснитесь, Нед! Я ничего не понимаю!
— И я очень скоро понял, почему это мой гарпун не мог его пробить!
— Почему же, Нед? Почему?
— Да потому, профессор, что это чудовище сделано из стальной брони!
Слова канадца так ошеломили меня, что я почувствовал головокружение. Несколько оправившись от потрясения, я быстро взобрался на спину этого существа или предмета, который послужил нам убежищем, и попробовал ударить его ногой. Это, несомненно, было твердое, непроницаемое тело, вовсе не похожее на мягкое тело морских млекопитающих.
Твердое тело! Но, может, это костный панцирь, как у допотопных животных? Что ж! Придется причислить чудовище к пресмыкающимся типа черепахи или аллигатора, вот и все!
Но нет! Сероватая спина, на которой я стоял, была не чешуйчатой, а ровной и гладкой, как зеркало. Когда я ударял по ней, она издавала металлический звук! Каким бы странным, невероятным это ни казалось, но, по всей видимости, чудовище было сделано из металлических листов, скрепленных болтами!
Да, сомнений больше не было. Это чудовище, которое сбило с толку весь ученый мир, которое расстроило воображение моряков обоих полушарий, оказалось делом рук человеческих! Открой я существование какой-нибудь сказочной, мифической твари, меня бы это не удивило в такой степени. Чудеса природы не так поражают, как чудеса человеческие.
Однако мы находились на «спине» таинственного подводного судна, напоминающего, насколько я мог судить, по форме громадную стальную рыбу.
— Какова рыбка-то? — спросил Нед Ленд. — Да, рыбка, нечего сказать! — отвечал я.
— Изрядная, — прибавил Консейль.
— Значит, этот снаряд имеет какой-то механизм, приводящий его в движение? Значит, есть и экипаж? Кто-нибудь ведь должен управлять судном?
— Разумеется! — отвечал Нед Ленд. — Только я вот уже часа три торчу на этом плавучем острове, а еще не заметил никаких признаков того, что тут есть какая-нибудь живая душа.
— Что ж, это судно шло или все время стояло на месте?
— Нет, не шло, Аронакс. Только покачивается себе на волнах, а двигаться не двигается.
— Все равно мы уже знаем, как оно может мчаться, видели, каков у него ход. Чтобы развить такую скорость, нужен двигатель, а для двигателя нужен механик — так? Из этого можно заключить, что… что мы спасены!
В эту минуту послышалось какое-то шипение, словно в глубине заработал гребной винт, и удивительный подводный снаряд пришел в движение. Мы едва успели ухватиться за небольшое возвышение, которое выступало из воды сантиметров на восемьдесят. К счастью, на этот раз его скорость была умеренной.
— Покуда этот поплавок чешет как следует, это еще ничего, — ворчал Нед. — Но если он примется нырять, тогда я не поставлю и двух долларов за свою шкуру!
Надо было безотлагательно, во что бы то ни стало подать о себе весть, вступить в переговоры с теми, кто сидел внутри этой плавучей машины.
Я стал ощупывать поверхность, отыскивая какое-нибудь отверстие, дверку, задвижку, — ничего! Ряды заклепок, скрепляющих швы листовой стали, блестели на ровном расстоянии друг от друга. К тому же луна скрылась, и мы очутились в полной темноте. Приходилось дожидаться рассвета и тогда искать способы, как проникнуть внутрь подводного судна.
Значит, наша жизнь зависела теперь от таинственного рулевого, который управлял этим судном. Вздумай он пойти под воду, и мы погибли.
— А если он не нырнет, мы будем спасены, — сказал я. — Мы как-нибудь да выйдем на связь с этими подводными путешественниками. Ведь они, надо полагать, не сами фабрикуют воздух, значит, они должны непременно время от времени выплывать на поверхность океана, чтоб возобновить запас чистого воздуха. Должна же быть какая-нибудь отдушина, через которую внутренность судна сообщается с атмосферой.
Что касается капитана Фаррагута, то надежду на его помощь приходилось оставить. Мы шли теперь на запад со скоростью примерно двенадцать миль в час. Винт разбивал волны с математической точностью; время от времени он высовывался из воды, и тогда фосфоресцирующие водяные брызги летели столбами вверх.
Около четырех часов утра скорость судна увеличилась. Мы с трудом могли держаться; голова у нас кружилась, а волны неистово хлестали нас со всех сторон. К счастью, Неду попалось под руку большое якорное кольцо, вделанное в стальную обшивку, и мы все за это кольцо уцепились.
Наконец эта долгая ночь прошла.
Я теперь уже не могу рассказать вам о всех моих тогдашних впечатлениях. Я помню, что временами, когда на мгновение стихали шум ветра и грохот океанских волн, мне чудились какие-то неясные звуки, похожие на музыкальные аккорды.
Что это за таинственное подводное судно? Куда оно направляется? Зачем? Что за люди, что за существа живут здесь? Что за удивительный двигатель, с помощью которого можно мчаться с такой изумительной быстротой?
Рассвело. Утренний туман рассеялся.
— Наконец-то! — сказал я.
И сейчас же стал осматривать самым тщательным образом корпус судна, на верхней части которого было устроено что-то вроде горизонтальной площадки.
— Зачем здесь эта платформа? — думал я.
Вдруг я почувствовал, что платформа подо мной начинает потихоньку оседать, опускаясь в воду.
— Эй вы, тысяча чертей! — закричал Нед Ленд, стуча ногами по гулкому металлу. — Отпирайте, горе-мореплаватели!
Откройте!
Из-за оглушительного шума гребного винта вряд ли таинственные подводные путешественники слышали голос Неда. Однако погружение в глубину внезапно почему-то прекратилось. Вдруг послышался лязг отодвигаемых железных засовов. На платформе поднялась стальная пластинка, оказавшаяся крышкой люка. Оттуда показался человек, что-то крикнул и тотчас же исчез.
Несколько минут спустя из люка появились восемь дюжих молодцов, схватили нас и повели внутрь своего подводного судна.
Глава восьмая
Mobilis in mobile
Нас похитили с быстротой молнии. Ни я, ни мои товарищи не успели опомниться. Я не знаю, что почувствовали Нед Ленд и Консейль, очутившись в плавучей тюрьме, а у меня пробежал мороз по коже.
С кем мы имели дело? Вероятно, с какими-нибудь пиратами, которые разбойничали на море по изобретенному ими способу.
Как только за нами захлопнулась крышка узкого люка, мы очутились в полной темноте. Я ощущал босыми ногами, что стою на ступеньках железной лестницы. Неда Ленда и Консейля вели следом за мной. Когда мы спустились с лестницы, перед нами распахнулась дверь, нас легонько втолкнули туда, и она тотчас же затворилась с каким-то звоном.
Мы были одни.
Где мы были? Я не мог себе этого даже представить. Кругом было не то что темно, а черно — так черно, что спустя несколько минут глаза мои не могли еще уловить ни малейшего отблеска света.
Нед Ленд был взбешен и, не стесняясь, выражал свое негодование.
— Тысяча чертей! — кричал он. — Вот так дикари! Признаюсь, гостеприимный народ! Что они, людоеды, что ли? Надо полагать, что людоеды! Ну если меня захотят проглотить, так я постараюсь им поперек горла стать!
— Полноте, дружище Нед, успокойтесь, — говорил безмятежный Консейль. — Не сердитесь прежде времени. Мы еще пока не на противне!
— Не на противне, так в печи! И темнота какая! Слава богу, что я свой нож уберег, как ни темно, а я все-таки могу его пустить в дело. Пусть только хоть один бандит сунется, я…
— Вы не волнуйтесь, Нед, — сказал я гарпунеру, — а то вы, пожалуй, наделаете нам бед своим криком. Зачем кричать и вопить понапрасну? От крика пользы не будет. Кто знает, может, каждое наше слово подслушивают. Лучше давайте выясним, куда нас засадили.
Я двинулся на ощупь вдоль стены в одну сторону, а Консейль в другую. Сделав пять шагов, я наткнулся на железную стену, повернулся и стукнулся о деревянный стол, а около стола нащупал несколько скамеек. Пол этой тюрьмы был устлан толстой циновкой из новозеландского льна, так что шума шагов не было слышно. На голых стенах не было и признака дверей или окон.
— А ты, Консейль, нащупал что-нибудь? — спросил я, когда он с одной, а я с другой стороны сошлись посередине камеры.
— Нет, ничего не нашел, — отвечал Консейль.
Помещение имело примерно двадцать футов в длину и десять в ширину. Что касается высоты, то Нед Ленд на что уж высокий был детина, а потолка достать не мог.
Прошло по крайней мере полчаса, а мы все еще сидели в темноте.
Вдруг вспыхнул свет и ослепил нас. Наша тюрьма осветилась так ярко, что я сразу невольно зажмурил глаза. Я узнал беловатый слепящий свет, который мы видели с «Авраама Линкольна» и сначала принимали за фосфоресцирующий блеск морских организмов. Когда я открыл глаза, то увидел, что свет исходил из неполированного полушара, устроенного в потолке нашей камеры или каюты.
— Наконец-то! — вскрикнул Нед Ленд, стоявший с ножом в руке. — Хоть светло стало, и то хорошо!
— А дело-то не прояснилось, — сказал я.
— Если бы их честь имели терпение, так это было бы хорошо, — заметил невозмутимый Консейль.
При ярком освещении теперь можно было как следует рассмотреть устройство нашей тюрьмы.
Она была совершенно пустой, только посредине стоял деревянный стол, а вокруг него пять скамеек. Двери не было видно, она, очевидно, закрывалась герметически. Наш слух не мог уловить ни малейшего шума. Казалось, все было мертво внутри этого подводного судна. Шло оно или стояло? Держалось на поверхности океана или погружалось в глубину? Ничего нельзя было угадать.
— Однако недаром же осветили тюрьму! — сказал я. — Наверно, кто-то из экипажа скоро появится. Если бы хотели про нас забыть, так не включили бы свет.
Я не ошибся. Скоро мы услышали щелканье замков, лязг засовов, дверь открылась, и вошло двое людей.
Один был маленького роста, мускулистый, широкоплечий крепыш. Голова у него была большая, волосы черные и густые, усищи здоровенные, взгляд живой и проницательный. Его внешности южанина была присуща чисто французская живость, которой отличаются жители Прованса. Наш знаменитый Дидро очень справедливо говорил, что по движениям можно судить о характере человека. При первом взгляде на вошедшего парня можно было сказать, что в разговоре он очень щедр на прибаутки, прозвища и своевольные обороты речи.
Впрочем, я не мог это проверить, потому что он всегда говорил при мне на каком-то странном, совершенно непонятном наречии.
Второй незнакомец заслуживает более подробного описания. Для ученика Грасиоле или Энгеля его лицо было открытой книгой. Я тотчас, без колебаний, признал главные его качества: уверенность в себе, потому что его голова как-то особенно благородно сидела на мощных плечах и черные глаза смотрели с холодной решимостью; спокойствие, потому что цвет кожи, скорее бледный, чем румяный, означал хладнокровие; сильную волю, которую доказывало быстрое сжатие бровей; и мужество, потому что его сильное дыхание означало большую жизненную энергию.
Прибавлю еще, что это был гордый человек, что его твердый и спокойный взгляд выражал глубину мысли, и, судя по его облику, осанке и движениям, если верить физиономистам, он отличался несомненной прямотой натуры.
Я с первого же взгляда почувствовал невольное расположение к этому человеку и подумал, что все обойдется благополучно.
Сколько было лет незнакомцу? Тридцать пять или пятьдесят, я не мог этого определить. Он был высокого роста, лоб у него был широкий, нос прямой, рот отлично обрисованный, зубы великолепные, руки продолговатые, изящнейшей формы, по выражению хиромантов, совершенно «психические», то есть служащие признаком великой и страстной души.
Этот человек представлял до сих пор невиданный мной тип мужской красоты. Надо заметить еще одну особенность — его довольно широко расставленные глаза могли одновременно обозревать почти четверть горизонта. Способность эта, как я узнал впоследствии, сочеталась с необычайной остротой зрения и потому получала, так сказать, двойное значение и цену. Когда незнакомец устремлял пристальный взгляд на какой-нибудь предмет, брови его сдвигались, глаза прищуривались. Что за взгляд! Как он увеличивал предметы, уменьшенные перспективой! Как он пронизывал вас насквозь! Как он проникал сквозь массу воды, непроницаемую для наших глаз, открывая тайны морских глубин!
Оба незнакомца были в беретах из меха морской выдры, обуты в высокие сапоги из тюленьей кожи и одеты в какую-то особую, мягкую ткань, которая нисколько не стесняла их движений.
Высокий — по всей видимости, капитан подводного судна — осмотрел нас с величайшим вниманием, не произнося ни единого слова. Затем, обратясь к своему товарищу, сказал ему что-то на совершенно неизвестном мне языке, языке благозвучном, гармоничном, гибком.
Крепыш ответил ему кивком, к этому знаку он прибавил два-три непонятных слова, а затем обратил на меня глаза, словно спрашивая меня о чем-то.
Я ответил ему ясным французским языком, что я его не понимаю. Но он, в свою очередь, по-видимому, не понимал меня. Положение становилось довольно затруднительным.
— А их честь все-таки пусть изволит им рассказать нашу историю, — посоветовал мне Консейль. — Может, они хоть чуточку разберут, в чем дело.
Я начал рассказывать наши приключения по порядку, ясно, отчетливо и с расстановкой выговаривая все слова и слоги и не опуская ни малейшей мелочи. Я представился как профессор Парижского музея естественных наук Аронакс, затем представил слугу своего, фламандца Консейля, и Неда Ленда, гарпунера.
Незнакомец с умными и глубокими глазами слушал меня спокойно, вежливо и очень внимательно. Но я не мог прочесть на его лице, понял он мою историю или нет. Наконец я окончил повествование. Он не произнес ни слова.
Оставалось еще попробовать заговорить по-английски. Может, они поймут этот язык, на котором теперь говорит почти весь мир. Я бегло читал по-английски и по-немецки, понимал, что читаю, но говорить я не умел, то есть, я хочу сказать, произношение у меня было самое варварское, а здесь надо было ясно и точно объясняться.
— Ну, Нед, выступайте теперь вы на сцену! — сказал я гарпунеру. — Извольте вести переговоры на чистейшем английском языке, и дай бог, чтобы вам больше моего посчастливилось!
Нед Ленд не заставил себя просить и тотчас повторил мой рассказ по-английски. Однако по свойственной ему буйности нрава он начинил его достаточным количеством резких выражений. Он разразился негодующими жалобами на несправедливое заключение, спрашивал, в силу какого закона его заперли в «этом поплавке», ссылался на права личности, угрожал судебным преследованием тех, кто его незаконно задерживает, затем окончательно вышел из себя, начал размахивать руками, кричать и, наконец, гневными знаками дал понять, что мы помираем с голоду. Мы в самом деле были голодны как волки, но как-то до сих пор про это не вспоминали.
Но, как оказалось, и английского повествования не поняли.
Нед Ленд был очень озадачен, а незнакомцы и бровью не шевельнули. Язык Фарадея, так же как и язык Араго, был для них непонятен!
— Я уж и не знаю, что делать, — сказал я товарищам.
А Консейль ответил мне:
— Если их честь позволят, так я им расскажу все по-немецки.
— Как? Разве ты по-немецки знаешь?
— Как каждый фламандец, с позволения их чести.
— Ну что ж, отлично! Рассказывай по-немецки, дружище.
Консейль ровным и спокойным голосом повторил нашу историю по-немецки. Но, несмотря на изящные обороты речи и отменное произношение рассказчика, и немецкий язык не имел успеха.
Тогда я решил припомнить свои юношеские латинские упражнения. Цицерон заткнул бы себе уши и выставил бы меня за дверь, но я все-таки кое-как объяснился.
И латынь осталась без результата. После этой последней неудачной попытки незнакомцы обменялись несколькими словами на своем непонятном языке и удалились. Они могли бы подать нам какой-нибудь знак, понятный у всех народов, но они и его нам не подали!
Дверь за ними затворилась.
— Каковы канальи! — вскрикнул Нед Ленд. — Им говорят по-французски, по-английски, по-немецки, по-латыни, а они хоть бы словечко в ответ!
— Успокойтесь, Нед, — сказал я пылкому канадцу, — криком делу не поможешь! Вы…
— Да вы посудите сами, профессор! — прервал меня наш буйный товарищ. — Что ж нам тут с голоду околевать, что ли?
— Э! — заметил философски Консейль. — До смерти еще далеко, мы еще продержимся денька…
— Послушайте, друзья, — сказал я, — отчаиваться пока еще рано. Мы и не такое видали. Сделайте вы мне большое удовольствие, подождите немного и тогда уж выводите свои заключения о капитане и экипаже этого подводного судна.
— Я уж вывел свое заключение, господин профессор, — ответил буйный Нед Ленд, — это канальи… мошенники… — Хорошо, хорошо, да откуда они, из какой страны?
— Из страны мошенников!
— Любезный Нед, такая страна до сих пор еще не обозначена на географических картах… Признаюсь вам, я не могу определить, что это за люди, какой они национальности. Одно можно сказать утвердительно: они не французы, не англичане, не немцы. Впрочем, мне кажется, что оба они — и начальник, и помощник — родились в южных широтах. У них есть что-то южное. Но кто они? Испанцы, турки, арабы или индусы? Это нельзя определить по их внешности, а язык их совершенно непонятен.
— Неприятно, когда не знаешь всех языков, — сказал Консейль, — и неудобно, что вместо одного языка их расплодилась такая пропасть. Вот если бы был для всех один-единственный язык…
— И это бы не помогло! — перебил его Нед Ленд. — Вы разве не сообразили, что эти люди нарочно выдумали себе какое-то дьявольское чириканье, от которого у всякого порядочного парня ум за разум заходит? Я, кажется, очень ясно им показывал, что голоден, есть хочу! Я открывал рот, двигал челюстями, щелкал зубами, облизывал губы, — что ж, все это разве непонятно? Уж так понятно! От Квебека до Паумоту везде поймут, что человек голоден, и дадут поесть!
— О! — заметил Консейль. — Есть такие непонятливые, что и…
Он еще не окончил эту фразу, как открылась дверь и вошел корабельный слуга. Он принес нам одежду — куртки, панталоны; все это было сшито из какой-то неизвестной ткани. Я проворно оделся. Мои спутники тотчас последовали моему примеру.
Тем временем стюард — немой как рыба, а может, и глухой — накрыл на стол и поставил на него три закрытых блюда.
— Вот мы и дождались! — сказал Консейль. — Дела начинают поправляться!
— Погодите еще радоваться! — возразил злопамятный Нед Ленд. — Прежде попробуем угощенье. Чем они тут кормятся? Небось черепашьей печенкой, или вареной акулой, или бифштексами из морской собаки!
— А вот увидим! — сказал Консейль.
Блюда, покрытые серебряными колпаками, были симметрично расставлены на столе. Тонкая белая скатерть так и блестела. Наконец мы сели за стол.
Похоже, что мы имели дело с людьми цивилизованными. Не будь этого яркого электрического освещения, я бы подумал, что нахожусь в столовой ливерпульской гостиницы «Адельфи» или в столовой парижского «Гранд-отеля». Я, впрочем, должен заметить, что нам не подали ни хлеба, ни вина. Вода, правда, была удивительной чистоты и свежести, но это была вода! Это последнее обстоятельство пришлось не по вкусу Неду Ленду.
В числе поданных кушаний я распознал несколько знакомых рыбных блюд, они были очень изысканно приготовлены. Но были и такие, тоже, впрочем, отменные, содержимое которых я никак не мог определить и не знал, к какому царству их отнести — к растительному или животному.
Вся сервировка была великолепна и отличалась тонким вкусом. Каждая ложка, вилка, нож, тарелка обозначены были прописной буквой «N», а над буквой полукругом красовалась надпись: «Mobilis in mobile».
«Подвижный в подвижном!» — этот девиз очень хорошо подходил к этому подводному судну.
Буква «N» была, вероятно, начальной буквой имени или фамилии загадочной особы, которая командовала в глубине океана.
Нед и Консейль не утруждали себя подобными размышлениями. Они набросились на еду и ели все, что попадалось под руку, поэтому я поспешил последовать их примеру.
Теперь можно было не волноваться: нас кормили, значит, уморить не имели намерения.
Однако всему есть конец — даже аппетиту людей, которые пропостились пятнадцать часов. Как только мы утолили свой голод, нас тотчас же начало клонить в сон. И понятно — мы ведь провели нелегкую ночь!
— Я бы теперь знатно поспал! — сказал Консейль.
— А я уже сплю! — ответил Нед Ленд.
Товарищи мои растянулись на полу на мягкой рогожке и скоро погрузились в глубочайший сон. Что касается меня, то я уснул не так скоро. Меня одолевали разные мысли. Я не люблю ничего непонятного, а тут возникало столько неразрешимых вопросов, столько странных образов!
Где мы? Какая сила нас увлекает? Куда?
Я чувствовал — или, лучше сказать, мне казалось, что я чувствую, — как подводный снаряд мало-помалу погружается в глубину океана. Меня мучили страшные кошмары. Мне представлялся хоровод невиданных чудовищ в таинственных безднах океана, однородных с этим подводным кораблем, таким же жизнедеятельным, подвижным и страшным, как они.
Понемногу бред мой прошел, все образы исчезли, и я заснул тяжелым сном.
Глава девятая
Нед Ленд сердится
Долго ли мы спали, не знаю. Надо полагать, что долго, потому что проснулся я совершенно отдохнувшим.
Я проснулся первым. Мои товарищи еще спали, растянувшись в углу.
Хотя циновка из новозеландского льна была очень толстой и мягкой, все-таки это была ненастоящая постель, и я немного отлежал себе бока, но чувствовал себя свежим и бодрым.
Я снова стал внимательно осматривать нашу темницу. Во время нашего сна не произошло никаких превращений. Темница осталась темницею, а узники узниками. Только убраны были приборы со стола.
«Что ж это такое? — подумал я. — Уж не предполагают ли таинственные хозяева держать нас веки вечные в этой клетке? Перспектива невеселая».
Хотя голова у меня теперь была свежа, я начинал чувствовать страшную тяжесть: меня словно что давило. Я с трудом дышал, легкие мои не удовлетворялись спертым воздухом. Темница наша, правда, была очень просторна, но мы, по-видимому, уже поглотили почти весь кислород, содержащийся в воздухе.
Известно, что каждый человек потребляет в час такое количество кислорода, какое содержится в ста кубических метрах воздуха, и тогда в этом воздухе, наполненном почти таким же количеством углекислого газа, невозможно дышать.
Необходимо, значит, было освежить воздух в нашей темнице и, вероятно, во всем подводном судне. Но вот вопрос: каким образом капитан проветривал это плавучее жилье? Он что, получал кислород химическим способом, нагревая бертолетову соль (калий хлорат) и поглощая углекислоту хлористым калием? В таком случае он должен сохранять связь с материком, чтобы получать необходимые химические вещества.
Или он просто ограничивался тем, что нагнетал в резервуары воздух под высоким давлением, а потом по мере надобности выпускал его?
Может быть!
Или он употреблял более простой, более экономичный, а следовательно, более вероятный способ, то есть выплывал на поверхность океана, как какое-нибудь китообразное, и запасался воздухом на двадцать четыре часа?
Как бы он, впрочем, хитро или просто ни распоряжался, мне казалось, что пришло время распорядиться, и распорядиться безотлагательно, немедленно.
Я старался дышать чаще, чтобы извлечь из этой душной клетки остатки кислорода, как вдруг… на меня пахнула свежая струя чистого морского воздуха, пропитанного йодистыми испарениями. Широко раскрыв рот, я вдохнул в свои легкие животворный ветерок и в ту же минуту почувствовал легкий толчок и чуть заметную качку. Подводное судно, стальное чудовище, выплыло на поверхность океана, чтобы подышать, как это делают киты. Способ вентиляции судна был установлен.
Надышавшись свежим воздухом, я стал искать вентиляционное отверстие, по которому поступала к нам живительная струя. И я его нашел. Оно находилось над дверью, через отдушину врывалась струя чистого воздуха и освежала каюту.
Пока я занимался исследованиями, Нед Ленд и Консейль проснулись почти одновременно от действия оживляющей свежести. Они протерли глаза, потянулись, зевнули и в одну минуту были на ногах.
— Их честь как изволили почивать? — спросил меня Консейль со своей обычной утонченностью.
— Очень хорошо, дружище, — отвечал я. — А вы, Нед?
— Мертвым сном, господин профессор. Что это такое? Точно морской ветерок веет?
Такой моряк не мог ошибиться! Я рассказал товарищам все, что произошло во время их сна.
— Вот оно что! — отвечал Нед Ленд. — Теперь понятен тот вой, что мы слышали, когда «нарвал» выплыл в виду «Авраама Линкольна».
— Да, Нед, теперь понятно: это мы слышали дыханье «нарвала».
— Только знаете, господин Аронакс, я никак не могу сообразить, который теперь час? Надо полагать, что обеденный.
Вы как думаете?
— Обеденный? Вы лучше скажите, что время завтрака, потому что мы, наверно, спали до утра.
— Это означает, — заметил Консейль, — что мы проспали двадцать четыре часа — целые сутки.
— Я с вами не спорю, — ответил Нед Ленд. — Обед или завтрак, все равно. Пусть бы только скорее что-нибудь принесли.
— А если бы принесли и обед, и завтрак? — спросил Консейль.
— Лучше не бывает! — ответил канадец. — Мы имеем право и на то, и на другое. Не знаю, как вы, а я умял бы преотлично и обед, и завтрак.
— Подождите, Нед, — сказал я. — Очевидно, неизвестные хозяева не имеют намерения морить нас голодом. Иначе они бы вчера не стали нас кормить.
— Если только они нас не откармливают на убой! — проворчал Нед.
— Да вы что, Нед, — сказал я, — как это вам приходят в голову такие мысли! Мы ведь не к людоедам попали!
— Да я и не говорю, что они настоящие людоеды, господин профессор, может, занимаются этим время от времени? Почем мы знаем, может, они уже давным-давно свежего мяса в глаза не видали! Ну а в таком случае трое таких упитанных парней, как вы, Консейль и я, — это ведь такая находка…
— Выбросьте вы эти мысли из головы, Нед! — сказал я. — Беда с вами, как я погляжу! Придет вам что-нибудь вздорное в голову, да потом и рубите с плеча. Воздержитесь разговаривать в таком духе с хозяевами, Нед, а то ведь можете накликать беду…
— Да ну их! Я теперь думаю только о еде, а они ничего не несут!
— Какой вы, Нед! Надо подчиняться здешним порядкам. Знаете поговорку: «В чужой монастырь со своим уставом не ходят»? У вас, дружище, желудок не по местным часам, — бежит вперед!
— Это ничего, — спокойно заметил Консейль, — его можно поставить по часам.
— Зачем вы это говорите, друг любезный? — вскричал Нед Ленд. — Я и так знаю ваше терпенье. И что вы после этого за человек? Ни рыба ни мясо! Вам не дай обедать, вы посидите за пустым столом, потом встанете и благодарственную молитву прочитаете! Вы согласитесь лучше с голоду умереть, чем пожаловаться…
— Что толку в жалобах? — спросил Консейль. — К чему они? Что в них пользы?
— Как что пользы? Как к чему? Да к тому, что я жалуюсь, и мне становится легче. И если эти пираты — я их пиратами называю, потому что господин профессор не позволяет называть их людоедами, — если только они воображают, что меня можно держать в этой клетке, как какого-нибудь безответного ягненка, то они очень ошибаются! Послушайте, господин Аронакс, скажите откровенно! Вы полагаете, долго они нас будут держать в этой железной коробке?
— Откровенно говоря, Нед, не знаю.
— Ну не знаете наверно, так как думаете?
— Я думаю вот что: мы случайно узнали очень важную тайну, и если экипажу подводного судна надо эту тайну сохранить, если эта тайна важнее жизни трех человек, то мы в большой опасности. А если здесь нет ничего важного, так при первой же оказии стальное чудовище вернет нас в общество земных обитателей.
— А вдруг это чудовище завербует нас в свой экипаж? — сказал Консейль. — Завербует, да и будет держать…
— До тех пор, пока какой-нибудь фрегат побыстрее или поискуснее «Авраама Линкольна» не овладеет этим разбойничьим гнездом и не вздернет весь экипаж и нас вместе с ним на рее! — сказал Нед Ленд.
— Это вы хорошо рассудили, Нед, — отвечал я ему, — но, пока еще ничего не известно, лучше не будем говорить о подобных вещах. Повторяю вам, подождем, будем действовать по обстоятельствам! Предпринимать ничего не надо, потому что нельзя!
— Нет, господин профессор, надо что-то делать. Непременно надо! — вскрикнул канадец.
— Да что же, Нед? Что?
— Бежать!
— Бежать из земной тюрьмы и то очень трудно, а уж из подводной и вовсе, по-моему, невозможно.
— Что ж вы замолчали, приятель? — спросил Консейль у канадца. — Что задумались? Отвечайте их чести. Я знаю, американец всегда как-нибудь вывернется.
Нед Ленд замолчал, он, очевидно, был смущен. В самом деле, бегство в нашем положении было немыслимо.
Но канадец — это наполовину француз, а французы народ быстрый и решительный.
— Так вы не догадываетесь, господин профессор? — сказал он после короткого раздумья. — Не догадываетесь, что должны делать люди, которые не могут вырваться из своей тюрьмы?
— Нет, любезный Нед, не догадываюсь.
— А очень просто! Если нельзя из нее вырваться, то надо хорошенько в ней устроиться по-своему!
— Как начнем устраиваться по-своему, — заметил Консейль, — так, пожалуй…
— Что тут пожалуй? Вышвырнуть всех тюремщиков и сторожей, да и все! — перебил Нед Ленд.
— Как, Нед? — сказал я. — Вы в самом деле хотите овладеть этим подводным судном? Вы серьезно?..
— Очень серьезно, господин профессор, — отвечал канадец.
— Да ведь это невозможно! Немыслимо!
— Почему же? Очень возможно, что нам представится удобный случай. Так почему бы им не воспользоваться? Ведь на этом поплавке, надо полагать, человек двадцать — что ж, по-вашему, два француза и канадец не управятся с двумя десятками каких-то проходимцев?
Я решил, что будет лучше замять этот спор, и сказал ему:
— Разумеется… если такой случай представится… Мы тогда посмотрим. Но пока еще никакого случая не представилось, и вы, Нед, пожалуйста, будьте терпеливы. Если вы хотите действовать, так действуйте хитростью, только хитростью и можно что-нибудь сделать, а начнете выходить из себя, кричать, так вы все дело испортите. Обещайте мне, Нед, что вы не будете выходить из себя!
— Обещаю, господин профессор, — отвечал Нед, но таким голосом, который не внушал мне большого доверия. — Обещаю. Ни единого грубого слова не скажу, не выдам себя ни единым движением, ни взглядом. Что бы там ни было — пусть хоть есть не дают, — я словно воды в рот наберу.
— Ну, хорошо, Нед, я верю вашему слову, — сказал я канадцу.
Разговор прекратился, и каждый из нас углубился в свои мысли. У меня не было никаких иллюзий, несмотря на уверенность Неда Ленда. Я не верил, что при «удобном случае» мы сможем овладеть нашей тюрьмой. Судя по тому, как искусно управляли этой подводной машиной, должно было заключить, что на ней находится очень многочисленный экипаж, значит, в случае борьбы мы бы пропали. К тому же, чтобы вступить в борьбу, надо было быть свободными, а мы сидели взаперти. Как вырваться из этой стальной камеры с герметической дверью?
Нет, если у капитана есть какая-то важная тайна — что казалось мне очень вероятным, — он никогда не позволит нам свободно расхаживать по своему судну! Что он с нами будет делать — швырнет ли он нас в воду или со временем высадит на каком-нибудь необитаемом клочке суши? Ничего нельзя было сказать наверно, и положение наше было незавидным.
Я думал: «Плохо! Благоразумный человек сразу поймет, что это несбыточное дело, только Нед Ленд может еще строить воздушные замки!»
А чем больше раздумывал Нед Ленд, тем больше он свирепел. В горле у него началось какое-то клокотание, словно там застревали проклятия, движения стали порывистыми и конвульсивными. Он вскакивал, метался, как дикий зверь в клетке, яростно топал ногами, колотил в стену кулаками и пятками.
В самом деле, время шло, мы проголодались, а на этот раз никто к нам не приходил.
Если у нашего хозяина нет худого умысла, так ему следовало бы обращать больше внимания на нужды потерпевших бедствие!
А Нед Ленд свирепел все больше и больше. Хотя он дал мне честное слово сдерживаться, я сильно опасался какого-нибудь необузданного поступка с его стороны при появлении хо зяина.
Прошло еще два часа. Канадец звал, кричал, ревел, но все напрасно. Стальные стены были глухи. Я, сколько ни прислушивался, не мог уловить никакого шума, никакого звука внутри судна, — все в нем, казалось, умерло. Оно не двигалось, иначе я почувствовал бы легкое дрожание корпуса при вращении винта. Без сомнения, судно снова погрузилось в морскую пучину.
Это безмолвие было ужасно. Мы были забыты в тюрьме, я не смел и гадать, сколько еще времени нас тут продержат и что из всего этого выйдет. Надежды, зародившиеся у меня после свидания с капитаном, мало-помалу совершенно исчезли. Спокойный, честный взгляд этого человека, великодушное выражение его лица, благородство осанки — все это словно улетучилось. Я начинал представлять себе таинственного незнакомца таким, каким он, вероятно, и был на самом деле — безжалостным, неумолимым, жестоким. Я думал о нем как о человеке, который отрешился от общества, который не имеет, по-видимому, ничего общего с людьми, так какой милости, какого великодушия можно было от него ожидать!
Что хочет этот человек? Уморить нас голодной смертью в этом железном ящике? Что с нами будет? У людей от голоду помрачается рассудок, они делаются способными на все… Мне начали представляться самые ужасные картины…
Тем временем Консейль сохранял свою обычную невозмутимость, а Нед Ленд рычал, как разъяренный лев.
Вдруг снаружи послышался шум. По металлическому полу гулко отдавались чьи-то шаги. Щелкнул замок, взвизгнули засовы, дверь отворилась, и показался уже знакомый нам стюард.
В то же мгновение наш Нед Ленд ринулся на этого несчастного, повалил его на пол и схватил за горло так, что он захрипел под его могучими руками.
Консейль попытался вырвать жертву из рук канадца, я тоже бросился помочь ему, но вдруг буквально окаменел, услышав слова, внезапно произнесенные на чистом французском языке:
— Успокойтесь, мистер Ленд, а вы, господин профессор, извольте выслушать меня.
Глава десятая
Обитатель морей
Это было сказано капитаном подводного корабля.
При этих словах Нед Ленд быстро поднялся и выпустил из рук свою жертву. Полузадушенный стюард по знаку своего капитана, пошатываясь, вышел из каюты. Какую же власть имеет этот капитан! Человека чуть не убили, а он покорно удаляется, не выражая даже взглядом своего гнева!
Невозмутимый Консейль, и тот несколько заинтересовался. А я, признаюсь, был просто ошеломлен. Все мы втроем молча ожидали развязки этой сцены.
Капитан, прислонясь к столу и скрестив руки на груди, внимательно смотрел на нас. Или он не решался говорить? Или жалел, что у него вырвалось несколько французских слов?
Несколько секунд длилось молчание, которое мы не решались прервать.
— Господа, — сказал он наконец спокойным, проникновенным голосом, — я свободно говорю по-французски, по-английски, по-немецки и по-латыни. Я мог бы сразу объясниться с вами при первой же нашей встрече. Но я хотел прежде понаблюдать за вами, а потом обдумать, как мне к вам относиться. Ваш троекратно повторенный рассказ убедил меня, что вы подлинно те самые лица, за которых вы себя выдаете. Я теперь знаю, что случай свел меня с Пьером Аронаксом, профессором естественной истории в Парижском музее, командированным за границу с научной целью, с его слугой Консейлем и с Недом Лендом из Канады, гарпунером с фрегата «Авраам Линкольн», принадлежащего военно-морскому флоту Соединенных Штатов Америки.
Я поклонился в знак согласия. Капитан не задавал мне никаких вопросов, значит, мне нечего было и отвечать.
Он объяснялся по-французски без малейшего затруднения, без всякого акцента. Речь его была ясна, отчетлива, кратка и выразительна. И все-таки он не был похож на француза.
Он продолжил:
— Вы, без сомнения, решили, что я слишком запоздал со своим вторым визитом. Дело в том, что я хотел подумать, как мне поступить с вами. Я очень долго не мог принять решение. Несчастный случай свел вас с человеком, который порвал все связи с человечеством. Вы своим появлением смутили мой покой…
— Невольно, — вставил я.
— Невольно? — повторил незнакомец, несколько возвышая голос. — Невольно? Разве «Авраам Линкольн» невольно охотился за мной во всех морях? Разве вы невольно очутились на борту этого фрегата? И снаряды невольно попадали в корпус моего судна? И мистер Ленд невольно метнул в меня гарпун?
В этих словах чувствовалось сдержанное раздражение.
Но на все его упреки у меня был готов ответ.
— Милостивый государь, — сказал я, — вам, вероятно, совершенно неизвестны споры, которые разгорелись относительно вас в Европе и Америке. Вы, вероятно, не знаете, какой отклик получили различные повреждения, произведенные вашим подводным судном. Я не буду утомлять вас перечислением всех предположений и догадок, которыми объясняли необъяснимое явление, я вам скажу только одно: «Авраам Линкольн», преследуя вас, считал, что охотится за могучим морским чудовищем, от которого во что бы то ни стало требовалось очистить моря.
По губам капитана скользнула легкая усмешка. Он спросил прежним спокойным голосом:
— Господин Аронакс, вы поручитесь, что ваш фрегат не стал бы преследовать и угощать снарядами подводное судно?
Этот вопрос смутил меня. Разумеется, капитан Фаррагут не задумался бы ни на секунду; он счел бы своим долгом уничтожить подобное судно так же, как и гигантского нарвала.
— Ведь не поручитесь, профессор? — продолжал капитан. — Принимая все это во внимание, я полагаю, что могу считать вас своими врагами и поступить с вами как с врагами.
Я на это ничего не ответил. И что было мне отвечать? Спорить, доказывать? Какие споры и доказательства, когда находишься во власти другого? Мышь в лапах у кошки никогда не спорит и ничего не доказывает.
— Я очень долго колебался, — продолжал капитан. — Ничто меня не обязывало оказывать вам гостеприимство. Если нам следовало расстаться, то мне не к чему было с вами встречаться. Я мог бы опять вывести вас на палубу этого судна, погрузиться в морскую глубину и забыть о вашем существовании. Согласитесь, что я вправе был это сделать?
— Дикарь, возможно, был бы вправе, — отвечал я, — но человек цивилизованный — нет!
— Профессор! — резко возразил капитан. — Я вовсе не из тех людей, которых вы называете цивилизованными! Я разорвал все отношения с обществом. Я имею на это веские причины. Поэтому я не повинуюсь ни общественным правилам, ни законам и попросил бы вас никогда о них при мне не упоминать.
В глазах незнакомца сверкнул гнев, на лице выразилось презрение.
Я подумал, что у этого человека, наверное, страшное прошлое. «Прервал все отношения с обществом!», «Не повинуюсь ни его правилам, ни его законам!». Легко сказать!
Незнакомец умолк и как будто погрузился в свои воспоминания.
Я глядел на него с ужасом и любопытством, как, вероятно, Эдип глядел на сфинкса.
После томительного молчания он снова заговорил:
— Итак, я долго колебался, но наконец решил, что могу совместить свои интересы с тем состраданием и участием, на которые имеет право каждое живое существо. Вы останетесь на моем судне, вы будете здесь свободны, и взамен этой свободы — свободы, разумеется, относительной — я поставлю вам одно условие. Если вы дадите мне слово, что выполните его, мне этого будет достаточно.
— Говорите, милостивый государь, — отвечал я. — Я полагаю, условие ваше такого рода, что честный человек может его принять?
— Вы не ошиблись. Вот какое это условие: очень возможно, что некоторые непредвиденные обстоятельства вынудят меня удалять вас время от времени на несколько часов или на несколько дней в ваши каюты, или, как вы говорите, в тюрьму, без права выходить оттуда. Я не желаю насилия и потому требую в этом случае беспрекословного повиновения. Действуя таким образом, я беру на себя всю ответственность, разрешаю вам все наблюдать и обследовать, но вы не будете свидетелями событий, которые я желаю сохранить в тайне. Принимаете вы это условие?
Значит, на борту подводного судна происходили такие вещи, которые могли видеть только люди, «стоящие вне общественных законов»! Значит, здесь было много всего.
— Мы принимаем, — отвечал я. — Но позвольте, милостивый государь, задать вам один вопрос!
— Извольте.
— Вы сказали, что мы будем полностью свободны на бор ту вашего судна?
— Совершенно свободны.
— Так я хотел бы знать, что вы подразумеваете под этой свободой?
— Вы можете свободно ходить по всему судну, осматривать его, наблюдать за всем, что здесь происходит, за исключением тех редких случаев, о которых я уже говорил, — одним словом, вы будете пользоваться такой же свободой, какой пользуются и мои товарищи.
Очевидно, мы не поняли друг друга!
— Извините, милостивый государь, — возразил я, — ведь свобода, которую вы обещаете, — это свобода узника в стенах темницы! Подобная свобода не может нас удовлетворить!
— Однако придется удовлетвориться.
— Как! Мы должны отказаться от надежды увидать родину, друзей, родных?
— Да, должны. Вы должны отказаться от тяжкого земного ига, которое люди называют свободой. И это вовсе не так трудно, как вы полагаете.
— Что касается меня, — вскрикнул Нед Ленд, — я не дам слова отказаться убежать отсюда!
— Я вашего слова и не прошу, мистер Ленд, — холодно ответил капитан.
— Капитан! — вскричал я, не владея собой. — Вы пользуетесь нашим положением! Это жестоко… бесчеловечно…
— Напротив, это милосердие. Вы мои пленники, вы взяты в плен на поле битвы. Я вас держу на своем судне, хотя мог бы бросить вас в пучину океана. А я сохранил вам жизнь. Вы на меня напали! Вы проникли в тайну, в которую проникать ни один человек не должен, — тайну моего существования! И вы думаете, что я позволю вам вернуться на землю? Никогда! Я буду удерживать вас здесь ради своей безопасности.
Эти слова ясно показывали, что капитан уже принял решение и что убеждения или просьбы будут бесполезны и напрасны.
— Так, значит, — сказал я, — вы просто предлагаете нам выбор между жизнью и смертью?
— Именно так.
Я обратился к своим товарищам:
— Друзья, спорить бесполезно. Но мы не даем никакого обещания, никакого слова капитану подводного судна, мы не связаны…
— Ничем не связаны, — сказал капитан. Затем он прибавил более мягким голосом: — Теперь позвольте мне закончить. Я вас знаю, господин Аронакс. Может быть, товарищи ваши будут тяготиться пребыванием на моем судне, но вы не будете. Вы скоро перестанете жаловаться на случай, который свел нас. Вы найдете среди моих книг ваше сочинение «Тайны морских глубин». Я часто перечитывал эту книгу. Вы подвинули науку океанографию так далеко, как только это возможно для обитателя земли. Но вы всего не знаете, вы всего не видели. Позвольте вам сказать, господин профессор, вы не пожалеете о времени, которое проведете на борту моего судна. Вы будете путешествовать по стране чудес. Жизнь подводного мира непрерывно будет развертываться перед вашими глазами. Вы будете находиться в постоянном изумлении. Вам никогда не наскучит то, что я вам покажу. Я теперь снова предпринимаю кругосветное подводное путешествие, возможно, последнее! Я хочу снова увидеть подводный мир, и вы будете моим спутником, мы вместе будем наблюдать его и изучать. С этого дня вы вступите в новую стихию, вы увидите то, чего еще не видел ни один человек — себя и своих товарищей я не считаю, — и благодаря мне наша планета откроет вам свои последние тайны.
Я не стану притворяться: слова капитана произвели на меня большое впечатление. У меня, как у Ахиллеса, была тоже своя пята! Я забыл на минуту, что созерцание самых великих чудес не стоит свободы. Впрочем, я утешил себя тем, что будущее само решит этот трудный вопрос.
Поэтому я ответил:
— Милостивый государь, хотя вы и совершенно разорвали все отношения с человечеством, я все-таки надеюсь, что вам не чужды человеческие чувства. Мы потерпели кораблекрушение, и вы великодушно приняли нас на свое судно, — мы будем это помнить. Что касается меня, я, разумеется, не отрицаю, что, поглощай наука в человеке потребность свободы, встреча с вами вознаградила бы меня с лихвой за все перенесенные страдания.
Я думал, что капитан протянет мне руку, чтобы скрепить наш договор. Но капитан руки мне не протянул, и я мысленно пожалел его.
— Последний вопрос, — сказал я, видя, что наш таинственный хозяин хочет удалиться.
— Слушаю вас, профессор.
— Как мы должны вас называть?
— Я для вас капитан Немо[9]Nemo (лат.) — никто, а вы и ваши товарищи для меня — пассажиры «Наутилуса».
Капитан Немо позвал слугу и отдал ему какое-то приказание на непонятном языке. Затем он обратился к Неду Ленду и Консейлю.
— Завтрак вас ждет в вашей каюте, — сказал он им. — Потрудитесь следовать за этим человеком.
— Завтрак! — проговорил Нед Ленд. — Пора! А если будет обед, так и непослушания не будет!
Консейль и Нед Ленд вышли наконец из темницы, где мы просидели больше тридцати часов.
— Наш завтрак тоже готов, господин Аронакс, — сказал мне капитан Немо. — Не угодно ли вам пожаловать за мной?
— К вашим услугам, капитан, — отвечал я.
Я пошел следом за капитаном. Сразу за дверью нашей тюрьмы начинался узкий коридор, освещенный электрическим светом. Мы прошли по этому коридору шагов тридцать, и перед нами отворилась другая дверь.
Мы вошли в столовую, отделанную и меблированную в строгом вкусе. Два высоких буфета, инкрустированные черным деревом, стояли у стен, на полках сверкал дорогой фаянс, фарфор и хрусталь. Серебряная посуда блестела в лучах света, падавшего с потолка. Потолок был разрисован изящнейшими рисунками, что смягчало яркое освещение.
Посередине столовой залы стоял богато сервированный стол.
Капитан Немо жестом указал мне мое место.
— Садитесь, профессор, — сказал он, — и принимайтесь за еду, как человек, который очень долго постился и умирает с голоду.
Завтрак состоял из многих блюд, отлично приготовленных. Одни из них были из рыбы, но другие решительно ставили меня в тупик: я никак не мог решить, хоть приблизительно, из чего они приготовлены. Вкус у них был отличный, но какой-то необыкновенный, довольно странный, к которому, впрочем, я скоро привык. Эти различные кушанья содержали в себе, как мне показалось, много фосфора, и я вывел заключение, что они, вероятно, имеют морское происхождение или относятся к морской растительности.
Капитан Немо посматривал на меня. Я ничего у него не спрашивал, но он сам угадал мои мысли и ответил мне на вопросы, которые я не решался ему задать, боясь показаться навязчивым.
— Большая часть этих блюд вам неизвестна, — сказал он, — но вы можете их кушать без всякого опасения. Эти кушанья здоровые и питательные. Я уже очень давно отказался от мяса, и здоровье мое ничуть от этого не пострадало. Мой экипаж — а матросы у меня все здоровяки, — тоже питается морскими продуктами.
— Так, значит, все это морские продукты?
— Да, профессор, все морские. Море удовлетворяет всем моим потребностям и нуждам. Закину сеть, через несколько минут вытащу, а она уже чуть не разрывается от тяжести пойманной рыбы. Опустившись в глубину водной стихии, которая кажется недоступной человеку, я охочусь за дичью в своих подводных лесах. Мои стада, как стада Нептуна, мирно пасутся на обширных лугах океана. У меня громадные владения, с которых я без всякого ущерба собираю постоянные доходы.
Я поглядел на капитана Немо с некоторым удивлением и сказал:
— Я очень хорошо понимаю, капитан, что закинутые сети чуть не рвутся от тяжести пойманной рыбы, но для меня не совсем ясно, каким образом вы охотитесь за водной дичью в подводных лесах и где вы можете добыть хоть немного говядины.
— Говядины у меня нет, — отвечал капитан. — Я не употребляю в пищу, я уже сказал вам, мясо земных животных.
— Ну а это что такое? — спросил я, указывая на блюдо с несколькими кусками мяса.
— То, что вы принимаете за говядину, профессор, всего лишь филейная часть морской черепахи. А вот это печенка дельфина, — попробуйте, вкус точь-в-точь как у рагу из свинины. Мой повар — большой искусник в своем деле и умеет отлично консервировать дары океана. Отведайте всего понемногу и скажите свое мнение. Вот консервы из голотурий, — малаец нашел бы их несравненными. Вот сливки, взбитые из молока китов. Вот сахар, добытый из водорослей Северного моря, а вот попробуйте варенье из плодов актинидии, смею вас уверить, оно стоит всех других земных варений.
Я попробовал, впрочем, больше из любопытства, чем из жадности.
— Море, господин Аронакс, — продолжал капитан Немо, — это моя кормилица, — кормилица самая щедрая, самая неистощимая. И море не только меня кормит, оно меня и одевает. Платье, что на вас надето, знаете из чего соткано? Из биссуса некоторых двустворчатых моллюсков. Чем окрашена ткань? Соком улитки пурпурницы по примеру древних, а эти фиолетовые полосы по пурпурному полю — краской, которую я извлекаю из раковин аплизии. У себя в каюте вы найдете духи на туалетном столике, они дистиллированы из морских трав, цветов и растений. Постель ваша из самой мягкой морской травы зостеры. Перо, которым вы будете писать, сделано из китового уса, а чернила — из жидкости, выделяемой каракатицей.
— Вы любите море, капитан?
— Да, люблю! Море — это все! Море покрывает семь десятых земного шара. Дыхание его чистое, животворное. Это необозримая пустыня, где человек не чувствует себя одиноким, потому что он слышит и видит, как кругом кипит жизнь. Море — это вечная жизнь, вечное движение, вечная любовь, как справедливо сказал один из ваших поэтов. Природа, господин профессор, являет здесь себя в трех царствах: минеральном, растительном и животном. Животное царство широко представляют четыре группы беспозвоночных, три класса членистоногих, пять классов моллюсков, три класса позвоночных, млекопитающие, пресмыкающиеся и несметные легионы рыб: в этом классе насчитывают более двадцати пяти тысяч видов, из которых только одна десятая водится в пресных водах. Море — это громадный резервуар природы. Морем началась жизнь земного шара и — кто знает? — морем и окончится. В море вы видите божественное спокойствие. Море не принадлежит деспоту-человеку. На его поверхности он еще может чинить беззакония, может затевать кровопролитные битвы, истреблять себе подобных, но на глубине тридцати футов его могущество сходит на нет, влияние исчезает, власть теряется. О, господин профессор! Живите в глубинах морских! Только здесь царствует полная независимость! Только здесь мы можем пользоваться свободой! Здесь нет тиранов…
Капитан Немо вдруг умолк. Он словно подавил в себе энтузиазм, невольно прорвавшийся в его хвалебной песне морю. Или он сказал что-то лишнее? Что именно? Или он, вопреки своей обычной сдержанности, увлекся и жалел об этом?
Несколько минут он в видимом волнении ходил по комнате. Затем успокоился, лицо его приняло обычное выражение холодности и уверенности. Он остановился и сказал мне:
— Теперь, профессор, если вы желаете осмотреть «Наутилус», я к вашим услугам.
Глава одиннадцатая
«Наутилус»
Я последовал за капитаном Немо.
В глубине столовой открылась двойная дверь, и мы вошли в другую большую комнату.
Это была библиотека. В высоких шкафах из черного палисандрового дерева на широких полках стояли ряды книг в одинаковых переплетах. Шкафы тянулись вдоль стен от пола до потолка. Отступя от шкафов, шли удобные широкие диваны, обитые коричневой кожей. Около диванов были расставлены легкие передвижные столики с пюпитрами для книг. Посередине стоял огромный стол, заваленный журналами, между ними я заметил несколько старых газет. Электрический свет падал с лепного потолка из четырех шаров матового стекла, заливая яркими лучами весь гармоничный ансамбль.
Я с изумлением рассматривал великолепную комнату и просто не верил своим глазам.
— Капитан Немо, — сказал я своему хозяину, расположившемуся на диване, — вот библиотека так библиотека! Она сделала бы честь любому дворцу на материке. Я не могу опомниться от удивления! И эта библиотека сопутствует вам в морских глубинах?
— Да, господин профессор! Где найдете вы такое уединение, такое безмолвие? — ответил мне капитан Немо. — В вашем кабинете при Парижском музее вы ведь не найдете таких условий для работы?
— Нет, капитан, не найду. Кроме того, должен сказать, что мой кабинет при нашем музее очень беден в сравнении с вашим. У вас ведь здесь шесть или семь тысяч томов…
— Двенадцать тысяч, господин Аронакс. Книги — это единственные узы, еще связывающие меня с землей. Мир перестал для меня существовать в тот день, когда мой «Наутилус» в первый раз погрузился в глубину вод. В тот день я купил в последний раз книги, журналы и газеты, и с тех пор я говорю себе, что человечество ничего нового не выдумало и ничего не написало. Книги мои я предоставляю в ваше распоряжение, прошу вас, не стесняйтесь.
Я поблагодарил капитана Немо, подошел к шкафам и стал рассматривать книги.
Тут было обилие всевозможных книг на всех языках: научные, философские, путешествия, романы; только я не смог отыскать ни одного сочинения по политической экономии; казалось, политическая экономия строго воспрещена на борту «Наутилуса». Я заметил одно очень любопытное обстоятельство: книги на разных языках были расставлены на полках в алфавитном порядке, очевидно, капитан Немо свободно владел всеми языками.
Среди книг я увидел лучшие произведения древних и современных писателей, поэтов и мыслителей, начиная с Гомера до Виктора Гюго, с Ксенофонта до Прудона, с Рабле до госпожи Санд. Особенно много было научных книг. Тома по механике, баллистике, гидрографии, метеорологии, географии, геологии чередовались с трудами по естественной истории. Очевидно, капитан Немо охотнее всего читал подобные произведения. Я нашел здесь полное собрание работ Гумбольдта, Араго, Фуко, Анри Сент-Клер Девиля, Шасля, Мильна-Эдвардса, Катрфажа, Тиндаля, Фарадея, Бертло, Секки, Петермана, капитана Мори, Агассиса, а также «Записки» Академии наук, сборники различных географических обществ. Наконец, на полке стояли два моих тома «Тайн морских глубин», которым, возможно, я был обязан за благосклонный и милосердный прием на борту «Наутилуса».
Между сочинениями Жозефа Бертрана мне попались его «Основы астрономии», эта книга была издана в 1865 году, поэтому я мог заключить, что подводное плавание «Наутилуса» началось никак не раньше конца этого времени. Значит, капитан Немо прервал все связи с землей не более трех лет назад. Чтобы установить точную дату, надо было поискать издания поновее. Но я отложил эти поиски до другого времени. Спешить было некуда. К тому же мне хотелось осмотреть «Наутилус».
— Капитан, — сказал я, — от всей души благодарю вас за любезное позволение пользоваться вашей библиотекой.
Тут собраны сокровища, и я не премину ими насладиться.
— Здесь не только библиотека, профессор, — сказал капитан Немо, — но и курительная.
— Курительная? — вскрикнул я. — Да разве на борту «Наутилуса» курят?
— Совершенно верно.
— В таком случае, капитан, я должен заключить, что вы поддерживаете связь с Гаваной?
— Нет, — ответил капитан Немо. — Позвольте предложить вам эту сигару, хотя она и не из Гаваны, вы будете ею очень довольны, если только вы знаток сигар.
Я взял предложенную сигару, по форме она напоминала гаванскую, но, казалось, была скручена из золотистых листьев. Я зажег ее от изящной лампы, стоящей на красивом бронзовом пьедестале, и вдохнул в себя дым с наслаждением, которое будет понятно любому завзятому курильщику.
— Отменная сигара! — сказал я капитану Немо. — Но ведь это не табак?
— Нет, не табак, — отвечал капитан Немо. — То есть я хочу сказать, этот табак не из Гаваны и не из Турции. Это род редкой водоросли, которая содержит в себе много никотина.
Что ж, вы и теперь хотите гаванскую сигару, профессор?
— Капитан, с этого дня я их презираю!
— Пожалуйста, курите спокойно, господин Аронакс, не выясняя происхождение этих сигар. Никакая таможня не брала за них налог, но, я полагаю, они от этого не хуже?
— Напротив, лучше!
В эту минуту капитан Немо открыл дверь, противоположную той, в которую мы вошли. Мы очутились в большом, великолепно освещенном салоне.
Это был прямоугольный зал длиной десять, шириной шесть и высотой пять метров. И здесь свет падал сверху, а потолок был разрисован легкими арабесками, что смягчало яркое освещение. Это был настоящий музей, и видно было, что устраивал его человек, у которого не было недостатка ни в художественном вкусе, ни в деньгах.
Десятка три картин великих мастеров, обрамленных в одинаковые рамы, висели на стенах, обтянутых великолепными обоями со строгим рисунком. Здесь были бесценные произведения живописи, которыми я восхищался в частных картинных галереях Европы и на художественных выставках.
Образчиками различных школ старинных мастеров тут были такие сокровища, как «Мадонна» Рафаэля, «Дева» Леонардо да Винчи, «Нимфа» Корреджо, «Женщина» Тициана, «Поклонение волхвов» Паоло Веронезе, «Успение» Мурильо, «Портрет» Гольбейна, «Монах» Веласкеса, «Мученик» Рибейры, «Ярмарка» Рубенса, два фламандских пейзажа Тенирса, три жанровых картины Жерара Доу, Метсю, Паулюса Поттера, картины Жерико и Прюдона, несколько морских пейзажей Бакхёйзена и Верне. Новейшую живопись представляли картины Делакруа, Энгра, Декана, Труайона, Мессонье, Добиньи. Прекраснейшие мраморные и бронзовые копии лучших античных скульптур на высоких пьедесталах стояли в углах салона.
Предсказание капитана Немо начинало сбываться: я был буквально ошеломлен увиденным.
— Господин профессор, — сказал мне капитан Немо, — я надеюсь, вы извините, что я вас принимаю без церемоний, извините за беспорядок в гостиной.
— Капитан, — ответил я, — не хочу допытываться, кто вы такой, но я угадываю в вас художника.
— Любителя, не более. Когда-то я имел большое пристрастие ко всевозможным коллекциям. Я жадно собирал все прекрасные творения рук человеческих. Я был страстным коллекционером, и мне удалось приобрести несколько очень редких и ценных вещей. Земля для меня теперь не существует, и прежние коллекции остались как воспоминание. И современные художники, и древние — все смешались у меня. По-моему, великие произведения возраста не имеют.
— А композиторы? — спросил я, указывая на партитуры Вебера, Россини, Моцарта, Бетховена, Гайдна, Мейербера, Герольда, Вагнера, Обера, Гуно и множества других, разбро санные на большом рояле, который стоял в углублении салона.
— Для меня они современники Орфея, — отвечал капитан Немо. — Повторяю вам, хронологические различия исчезают в памяти умерших, — а я умер для мира, так же надежно и хорошо умер, как ваши усопшие друзья, которые покоятся в шести футах под землей!
Капитан Немо умолк и глубоко задумался, казалось, совершенно забыв об окружающем. Я смотрел на него с живейшим волнением и участием, изучая его удивительное лицо! Трудно было оторвать от него глаза!
Капитан Немо облокотился на мозаичный столик редкой работы и не замечал меня. Я не прерывал течение его мыслей и продолжал осматривать сокровища, украшавшие этот великолепный зал.
Кроме произведений искусства здесь было собрание творений природы: растения, раковины и другие дары океанской флоры и фауны. Вероятно, они были собраны самим капитаном Немо.
Посредине салона был фонтан, спадавший в громадную раковину тридакны. Подсвеченный электрическим светом, он сверкал, как алмазный сноп.
Края этой ребристой раковины были очень изящно выгнуты красивыми зубчиками. Окружность ее была метров шесть, значит, она превосходила размером прекрасные тридакны, подаренные Венецианской Республикой Франциску I, из которых теперь устроены в Париже, в церкви св. Сульпиция, две гигантские кропильницы.
Вокруг фонтана, в изящных стеклянных витринах, оправленных в медь, были разложены снабженные этикетками редкие экспонаты океана. Можете себе представить мое восхищение!
Отдел зоофитов представлял очень любопытные образцы двух групп — полипов и иглокожих.
В первой группе были расположены в виде веера органчики, горгонии, сирийские губки, молуккские изиды, морские перья, прелестная лофогелия из Норвежского моря, различные зонтичные, альциониевые, несколько шестилучевых мадрепоровых кораллов, которые мой учитель Мильн-Эдвардс так остроумно классифицировал на подотряды.
Среди них были очаровательные веерные кораллы, глазчатые кораллы с острова Бурбон, антильские колючие мадрепоры — одним словом, всевозможные виды любопытных кораллов, образующих целые острова.
Среди иглокожих, примечательных своим колючим панцирем, я любовался морскими звездами астериас, морскими лилиями, морскими ежами, голотуриями. Коллекция была удивительная!
Страстный конхилиолог задохнулся бы от удовольствия перед другими стеклянными витринами, где были представлены образцы моллюсков.
Коллекция моллюсков была просто неоценима. Ее подробное описание заняло бы слишком много времени. Я назову только некоторые экспонаты: изящная королевская синевакула из Индийского океана, испещренная белыми пятнышками, очень ярко выступающими на красно-коричневом фоне; императорский спондил, который отличается яркими красками и весь усеян колючками, — редкий экземпляр в европейских музеях, он один стоит по меньшей мере двадцать тысяч франков; обыкновенная синевакула, попадающаяся в австралийских водах, добывать ее очень трудно; сенегальские бюккарды — экзотические хрупкие белые раковинки, на которые, кажется, только дунь — и они разлетятся, как мыльные пузыри; разновидности морских щипцов с острова Ява — у них раковины в виде известковых трубочек, как бы обернутых листовидными складочками, очень ценимые любителями; все виды брюхоногих трохусов — желто-зеленые из американских морей, коричневато-красные из вод Австралии; черепицеобразные раковины из Мексиканского залива; стеллериды, или морские звезды, из южных морей; и, наконец, чрезвычайно редкий экземпляр великолепнейшего новозеландского шпорника.
Тут были и прелестнейшие теллины, удивительные ците ры и венусы, решетчатые кадраны, отливающие перламутром, попадающиеся у берегов Транкебара, башенки крапчатые, зеленые ракушки из китайских морей, конус (почти не известный), все разновидности ципрей, фарфоровых улиток, которые служат монетой в Индии и Африке. Я увидел самую драгоценную раковину Восточной Индии — «Слава морей». Здесь были также представлены яйцевидки, стромбусы, мурексы, птероцеры, конусы, битинии, хитоны, дельфинки, янтины, свитки, оливы, митры, шлемы, пурпурницы, трубачи, арфы, тритоны, цериты, веретеновидки, блюдечки, гиалеи, клеодоры — словом, все прелестные и хрупкие раковины моллюсков, какие только нам известны.
В специальном отделении блестели при электрическом освещении розовые жемчужины, извлеченные из пинн Красного моря. Рядом лежал зеленый, желтый, голубой и черный жемчуг — удивительные продукты различных моллюсков всех морей и океанов. Здесь было несколько бесценных образцов из самых редких жемчужниц. Некоторые жемчужины были больше голубиного яйца, каждая из них стоила гораздо дороже той, которую путешественник Тавернье продал за три миллиона персидскому шаху. Красотой они превосходили даже жемчуг маскатского имама, которому, как я думал, не было равных. Одним словом, цена этого собрания была неопределима. Капитан Немо должен был истратить миллионы, чтобы приобрести эти драгоценные образцы, и я мысленно спрашивал себя, из каких источников он мог удовлетворять свои фантазии, собирая подобные коллекции, как вдруг мои размышления были прерваны следующими словами:
— Вы рассматриваете мои раковины, профессор? В самом деле, они могут заинтересовать натуралиста, но для меня они имеют еще больше прелести, потому что я их собрал собственными руками, и, скажу вам, нет ни одного моря на свете, которое бы я пропустил в своих поисках.
— Я понимаю, капитан, — отвечал я, — что весьма приятно прогуливаться среди таких сокровищ. Ни один из музеев Европы не обладает подобными коллекциями. Но если я ис трачу весь свой восторг, осматривая их, то что мне останется для корабля? Я вовсе не хочу проникать в ваши тайны, но признаюсь, что этот «Наутилус», его двигатели, управляющие им механизмы — все это возбуждает мое любопытство до крайней степени! Я вижу, что по стенам развешаны приборы, назначение которых мне неизвестно. Могу я спросить?..
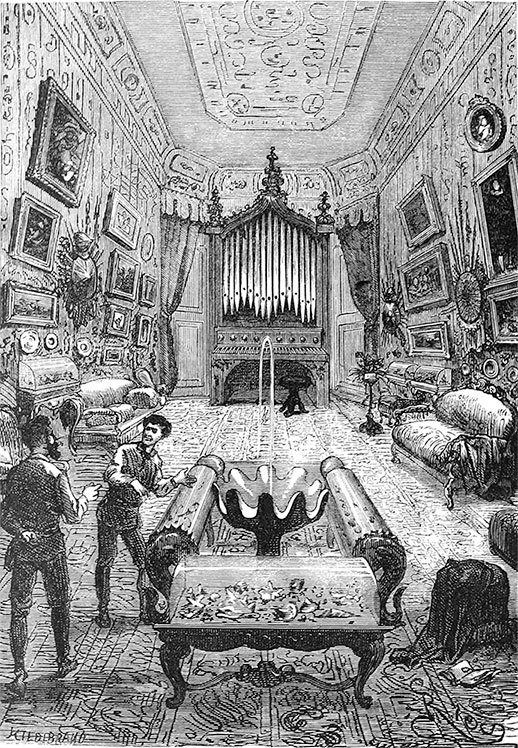
— Господин Аронакс, — перебил меня капитан Немо, — я вам сказал, что вы свободны на моем корабле и, следовательно, ни одна часть «Наутилуса» для вас не закрыта. Вы можете осматривать судно во всех подробностях, и я с удовольствием послужу вам за чичероне.
— Я не знаю, как вас благодарить, капитан. Постараюсь не злоупотреблять вашей любезностью. Только хочу спросить, для чего предназначены эти физические приборы?
— Такие приборы есть в моей каюте, и там я буду иметь удовольствие объяснить вам их употребление. Но прежде осмотрите каюту, которая приготовлена для вас. Надо же вам знать, как вы будете жить на борту «Наутилуса».
Я пошел вслед за капитаном. Через одну из дверей салона он вывел меня в узкий коридор; мы подошли к носу корабля, и там я увидел не каюту, а изящную комнату с кроватью, туалетным столом и другой удобной мебелью. Мне оставалось только поблагодарить любезного хозяина.
— Ваша каюта смежная с моей, — сказал он, открывая дверь, — а моя сообщается с гостиной, в которой мы только что были.
Я вошел в комнату капитана. Она тонула в полумраке и имела суровый, почти келейный вид: железная кровать, рабочий стол, несколько стульев, умывальник. Ничего лишнего, все только самое необходимое.
Капитан предложил мне стул.
— Садитесь, пожалуйста, — сказал он.
Я сел, и он начал свои объяснения.
Глава двенадцатая
Всё на электричестве
— Господин профессор, — сказал капитан, указывая на приборы, развешанные по стенам его каюты, — вот необходимые инструменты для плавания «Наутилуса». Здесь, как и в салоне, они всегда у меня перед глазами и показывают мне положение и точное направление судна в океане. Некоторые из них вам известны, например термометр для измерения температуры на «Наутилусе», барометр, который показывает давление воздуха и предсказывает перемену погоды, гигрометр, определяющий влажность атмосферы, штормгласс возвещает приближение бури, компас указывает мне путь, секстант по высоте солнца позволяет установить широту, хронометры помогают мне определить долготу, и, наконец, дневные и ночные подзорные трубы, которые я использую, когда «Наутилус» всплывает на поверхность.
— Это обыкновенные инструменты мореплавателя, — отвечал я, — и я знаю их назначение, но здесь есть другие, которые, без сомнения, соответствуют особенным требованиям «Наутилуса»: я вот вижу циферблат со стрелкой — это манометр?
— Да, это манометр, он указывает наружное давление и в то же время глубину, на которой находится мое подводное судно.
— А эти зонды?
— Это зонды-термометры, которые измеряют температуру различных слоев воды.
— А это что за инструменты? Я не знаю их назначения.
— Тут, профессор, я должен вам дать несколько объяснений, — сказал капитан Немо. — Есть могущественная, послушная сила, простая в обращении, которой принадлежит первое место на моем корабле. Все делается ею: она меня освещает, согревает, очень быстро приводит в действие машины. Эта сила — электричество!
— Электричество?! — вскрикнул я с удивлением.
— Да.
— Однако, капитан, исключительная скорость вашего судна плохо согласуется с силой электричества.
— Профессор, — отвечал капитан Немо, — мое электричество — не простое, необыкновенное электричество! Вот все, что я могу вам сказать.
— Я не буду настаивать на подробных объяснениях, капитан, и удовольствуюсь тем, что останусь в изумлении. Только позвольте мне задать один вопрос, на который, я надеюсь, вы мне ответите. Элементы, которые вы употребляете для произведения этой чудодейственной силы, должны быстро истощаться. Чем вы замените, например, цинк, так как вы уже не имеете никакого сообщения с землей?
— Прежде всего я вам скажу, — отвечал капитан Немо, — что на дне моря имеются залежи цинковых, железных, серебряных и золотых руд, и разрабатывать их вполне возможно. Но я не хотел добывать металлы, а предпочел, чтобы само море доставляло мне способы для выработки моего электричества. — Море?
— Да, и в этих средствах у меня нет недостатка. Расположив кабель на различных глубинах, я мог бы, например, получить электричество вследствие разности температур, но я предпочел использовать более практичную систему.
— Какую же?
— Вы знаете состав одного литра морской воды: девяносто шесть с половиной процентов воды, два и около двух третей процентов хлористого натрия, небольшое количество хлористого магния и калия, бромистого магния, сернокислого магния и углекислого кальция. Хлористый натрий содержится в воде в значительном количестве. Именно натрий я выделяю из морской воды, и именно он служит для питания элементов. — Натрий?
— Да, профессор. Если смешать натрий с ртутью, он образует амальгаму, которая заменяет цинк в элементах Бунзена. Ртуть никогда не расходуется, потребляется только натрий, и море мне его снова поставляет. Кроме того, скажу вам, что натриевые элементы гораздо лучше, потому что их электродвигательная сила вдвое больше силы цинковых элементов.
— Я понимаю, капитан, превосходство натрия в тех условиях, в которых вы находитесь. В море его много, но его надо еще добыть, а как вы это делаете? Ваши батареи, очевидно, могут служить для разложения хлористого натрия, но если я не ошибаюсь, расход натрия на электролиз может превысить его приход. Что вы будете делать в таком случае?
— Тогда, профессор, я не стану добывать его таким способом, а использую энергию каменного угля.
— Каменного угля?
— Ну, скажем, морского угля, если вы хотите, — отвечал капитан.
— И как вы им пользуетесь?
— Вы увидите все на деле. Я только прошу вас потерпеть, потерпеть придется, правда, значительное время. Помните только, что я всем обязан океану: он производит электричество, электричество дает «Наутилусу» тепло, свет, движение, одним словом — жизнь.
— Но не воздух, которым вы дышите?
— О! Я мог бы добывать и воздух, необходимый для моего существования, но это бессмысленно, потому что я выплываю на поверхность, когда мне вздумается. Впрочем, если электричество и не вырабатывает кислород, необходимый для дыхания, зато управляет мощными паровыми насосами, которые накачивают воздух в особые резервуары, что и позволяет мне продолжать по мере надобности и так долго, как мне захочется, мое пребывание под водой.
— Я в восхищении, капитан! — сказал я. — Вы, очевидно, нашли то, что люди, без сомнения, когда-нибудь откроют, — истинно динамическую силу электричества.
— Я не знаю, откроют ли, — холодно отвечал капитан Немо. — Как бы то ни было, вы уже знаете первое применение этой драгоценной энергии. Она нас освещает равномерно и безостановочно, чего солнечный свет не может. Теперь посмотрите на эти часы: они электрические и ходят так точно, что могут посоперничать с лучшими хронометрами. Я разде лил их циферблат по итальянской системе на двадцать четыре часа, потому что для меня не существуют ни день, ни ночь, ни солнце, ни луна, а только этот искусственный свет, который я уношу с собой на дно океана. Видите, сейчас десять часов утра?
— Вижу, вижу!
— Другое приложение электричества — этот циферблат, висящий перед нашими глазами, — служит для указания скорости «Наутилуса». Электрический провод приводит его в соприкосновение с винтом лага, и стрелка показывает мне скорость судна. Смотрите, мы идем с умеренной скоростью — пятнадцать миль в час.
— Это чудеса! — вскричал я. — И вы хорошо делаете, что употребляете силу, которая предназначена заменять собой ветер, воду и пар.
— Мы еще не закончили, господин Аронакс, — сказал капитан, вставая, — и если вам угодно последовать за мной, то мы посетим корму «Наутилуса».
В самом деле, я уже видел всю переднюю часть подводного судна; ее устройство было следующим. От центра к носу судна шла столовая длиной пять метров, отделенная от библиотеки переборкой, библиотека тоже была пять метров. Большой салон длиной десять метров отделялся от каюты капитана такой же переборкой. Каюта капитана имела длину пять метров, рядом моя каюта в два с половиной метра в длину и, наконец, резервуар для хранения воздуха в семь с половиной метров, продолжающийся до форштевня. Всего тридцать пять метров!
Водонепроницаемые переборки и герметичные двери с резиновыми задвижками обеспечивали безопасность «Наутилуса» в случае образования течи.
Я последовал за капитаном по узким проходам и очутился в центре судна. Тут было узкое помещение, похожее на колодец, ограниченное двумя переборками; железный трап, привинченный к стене, вел наверх.
Я спросил капитана, для чего служит этот трап.
— Он примыкает к шлюпке, — отвечал он.
— Что? Разве у вас есть шлюпка? — спросил я с изумлением.
— Без сомнения. Отличное гребное судно, легкое и устойчивое, которое служит для прогулок и для рыбной ловли.
— Но когда вы захотите сесть в эту шлюпку, вы должны подняться на поверхность моря?
— Вовсе нет. Эта шлюпка прикрепляется к кормовой части палубы и занимает нишу, специально для нее устроенную. Это настоящее палубное судно, оно не пропускает воду и прикреплено болтами. Трап ведет к люку на палубе «Наутилуса», люк этот в рост человека и сообщается с таким же люком в дне шлюпки. Этой дорогой, то есть через это двойное отверстие, я и вхожу в шлюпку. Нижний люк закрывают с «Наутилуса», а верхний — я сам. Затем я ослабляю болты, и шлюпка очень быстро поднимается на поверхность моря. Тогда я открываю люк на палубу, до сих пор герметично закрытый, ставлю мачту, поднимаю паруса или беру весла.
— Но как же вы возвращаетесь на корабль?
— Не я, а «Наутилус» возвращается, господин Аронакс.
— По вашему приказанию?
— Так точно. С «Наутилуса» проведен к шлюпке электрический провод. Я даю телеграмму, и этого довольно.
— В самом деле, — сказал я, восхищенный этими чудесами, — ничего не может быть проще!
Миновав трап, который выходил на палубу, я увидел небольшую каюту метра два длиной, в которой Консейль и Нед Ленд, зачарованные обедом, ели за обе щеки. Рядом открылась дверь на камбуз длиной три метра, расположенный между огромными кладовыми.
Здесь электричество оказалось удобнее всякого газа, оно употреблялось на всевозможные кухонные надобности. Провода в печи раскаляли платиновые спирали, нагревая плиту и поддерживая необходимую температуру. На электричестве работали и дистиллирующие аппараты, которые производили превосходную пресную воду для питья. Возле камбуза находилась ванная, удобно оборудованная, с кранами, кото рые давали по желанию холодную или горячую воду.
За кухней было расположено огромное помещение для экипажа, длиной метров пять, но дверь была заперта, и я не увидел его обстановку, которая могла помочь мне определить число людей, необходимых для управления «Наутилусом». В задней части была четвертая переборка, отделяющая кубрик от машинного отделения. Дверь открылась, и я оказался в отделении, где капитан Немо, первоклассный инженер, установил свои двигатели. Машинное отделение было отлично освещено и имело не менее двадцати метров в длину. Оно разделялось на две части; в первой находились батареи, которые производили электричество, а во второй — механизмы, приводящие в движение винт корабля.
Я был поражен прежде всего неприятным запахом, которым было наполнено это отделение, и капитан заметил это.
— Знаете, что неприятно поразило ваше обоняние? — сказал он мне. — Это газ. Выделение газа неизбежно при извлечении натрия. В сущности, это не очень большое неудобство.
Каждое утро мы очищаем воздух вентиляторами.
Я осматривал с величайшим вниманием машины «Наутилуса».
— Вы видите, — сказал мне капитан, — я употребляю батареи Бунзена, а не Румкорфа: румкорфские дают мало энергии, тогда как бунзеновских надо немного, поскольку они очень мощные. Полученная электрическая энергия через электромагнит большого размера передается на сложную систему рычагов, которые приводят в действие ось винта. Этот винт диаметром шесть метров может делать до ста двадцати оборотов в секунду.
— И вы тогда получаете?..
— Скорость пятьдесят миль в час.
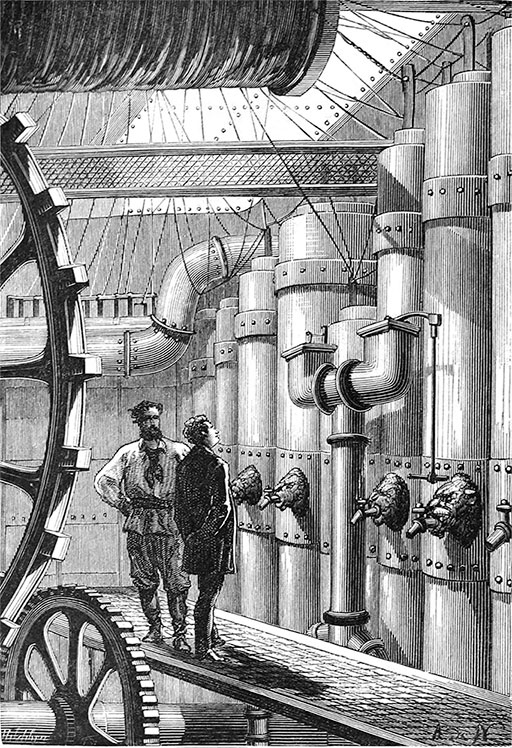
— Капитан, — сказал я, — я не сомневаюсь в результатах. Я видел, как «Наутилус» искусно маневрировал вокруг «Авраама Линкольна», и знаю, какой он быстроходный, но надо же иметь возможность, чтобы направлять судно и вверх, и вниз, и во все стороны. А как вы достигаете этого на большей глуби не, где сопротивление исчисляют сотнями атмосфер? Как поднимаетесь на поверхность океана и, наконец, как вы двигаетесь на той глубине, которая вам нужна? Не слишком ли я любопытен, спрашивая это у вас?
— Нисколько, профессор, — ответил мне капитан после легкого колебания, — ведь вы никогда не покинете это подводное судно. Пойдемте в салон, там у меня настоящий рабочий кабинет, и вы узнаете все, что вам можно знать про «Наутилус»!
Глава тринадцатая
Несколько чисел
Несколько минут спустя мы сидели в салоне на диване, с сигарами во рту. Капитан разложил передо мной чертежи «Наутилуса» в продольном и поперечном разрезе, немного погодя он начал описывать свое чудо следующими словами:
— Вот, господин Аронакс, судно, на котором вы находитесь. Это цилиндр, очень длинный, с коническими концами, по форме он очень похож на сигару. Эта форма уже принята в Лондоне для многих построек подобного рода. Длина судна от одного конца до другого семьдесят метров, а наибольшая ширина восемь метров. Он построен в другой пропорции, чем обычные паровые суда, так что вода может легко обтекать его, не затрудняя хода корабля.
Вот два чертежа, которые дадут вам понятие об объеме «Наутилуса». Поверхность его тысяча одиннадцать и сорок пять тысячных квадратных метров, его объем равняется тысяче пятистам семи и двум десятым кубических метров, или, говоря иначе, «Наутилус», погружаясь, вытесняет полторы тысячи кубических метров, или тонн, воды.
Когда я составил план судна для подводного плавания, я хотел, чтобы оно погружалось на девять десятых, а над поверхностью возвышалось бы на одну десятую. При подобных условиях оно должно было вытеснить только девять десятых своего объема, или тысячу триста пятьдесят шесть и сорок восемь тысячных кубических метров. При постройке я должен был так и рассчитывать. «Наутилус» состоит из двух корпусов: внутреннего и наружного, выполненных из листовой стали и соединенных между собой стальными балками в виде буквы «Т», что сообщает им необыкновенную прочность.
«Наутилус» выступает над водой только на одну десятую. Но если я наполню резервуары количеством воды, равным этой одной десятой, то судно будет тогда вытеснять тысячу пятьсот семь и две десятых тонн и совсем уйдет под воду. Эти резервуары находятся в нижней части «Наутилуса»; я открываю краны, они наполняются, и судно погружается.
— Хорошо, капитан, допустим, что вы можете держаться на известной глубине, но, погружаясь ниже, ваш подводный снаряд встречает давление снизу вверх, давление в одну атмосферу на каждые тридцать футов, то есть около одного килограмма на квадратный сантиметр.
— Точно так, профессор.
— Если вы не наполните резервуары водой до отказа, я не могу себе представить, как же вы погрузите «Наутилус»?
— Не много надо усилий, чтобы опуститься в нижние слои океана, потому что тела имеют стремление быть потопляемы. Когда я захотел определить вес «Наутилуса», необходимый для его погружения, мне надо было только рассчитать уменьшение объема воды на различных глубинах под давлением верхних слоев.
— Это очевидно, — отвечал я.
— Если вода не совершенно несжимаемое тело, то по крайней мере слишком мало сжимаемое. По самым новым исчислениям, это сжимание будет равно четыремстам тридцати шести десятимиллионным на каждые тридцать футов глубины. Если надо опуститься на тысячу метров, то я исчисляю увеличение тяжести от давления водяного столба в тысячу метров, то есть от давления сто атмосфер. Тогда сжимание будет равно четыремстам тридцати шести стотысячных, и я должен увеличить тяжесть судна до одной тысячи пятисот тринадцати и семидесяти семи тысячных тонны вместо обычного тоннажа одна тысяча пятьсот семь и две десятых тонны. Таким образом потребуется балласт всего шесть и пятьдесят семь тысячных тонны.
— Только?
— Да, этот расчет легко проверить. У меня есть дополнительные резервуары вместительностью сто тонн. Я могу опускаться на значительную глубину. Если я захочу, чтобы «Наутилус» вышел на поверхность на одну десятую, мне на-до только выпустить эту воду и совершенно опорожнить все резервуары.
Против таких доказательств, основанных на цифрах, я не мог возражать.
— Я признаю ваши вычисления, капитан, — отвечал я, — и не могу их оспаривать, потому что опыт доказывает это каждый день. Но вот…
— Что же, господин Аронакс?
— Когда вы находитесь на глубине тысяча метров, «Наутилус» испытывает давление сто атмосфер, и в эту минуту вы хотите слить воду из дополнительных резервуаров, чтобы облегчить судно и подняться на поверхность, — надо, чтобы паровые насосы преодолели это давление в сотни атмосфер. А ведь это сто килограмм на квадратный сантиметр. Нужна большая мощность…
— Которую может мне дать электричество, — прервал меня капитан Немо. — Я вам повторю, что динамическая сила моих машин почти беспредельна. Насосы «Наутилуса» имеют невероятную мощность, и вы должны были это видеть, когда огромные столбы воды обрушились на палубу «Авраама Линкольна». Иногда я не пользуюсь запасными резервуарами, чтобы достигнуть глубины от тысячи пятисот до двух тысяч метров, чтобы сберечь мои батареи. А если мне захочется посетить глубины океана на два или три лье ниже поверхности, я употребляю средства более надежные, но не менее верные.
— Какие же, капитан? — спросил я.
— Придется вам рассказать, как управляется «Наутилус».
— Я сгораю от нетерпения, капитан!
— Для управления подводным судном я употребляю обыкновенный руль, прикрепленный к ахтерштевню, который приводится в действие штурвалом и талями. Но я могу также двигать «Наутилус» сверху вниз и снизу вверх в вертикальной плоскости посредством двух наклонных лагов, прикрепленных к его бортам подвижными плоскостями. Они могут принимать разное положение и приводятся в действие с помощью мощных рычагов. Если лаги направлены параллельно судну, оно движется горизонтально, если они наклонены — «Наутилус» движется, соответственно, по диагонали. Если выключить винт, то под давлением воды «Наутилус» очень быстро всплывает на поверхность по вертикали.
— Браво, капитан! — вскрикнул я. — Но как рулевой может вести судно по тому пути, который вы указываете?
— Рулевой помещается в рубке, которая находится в специальном выступе в наружной части корабельного корпуса. В этой рубке большие иллюминаторы из толстого черепицеобразного стекла.
— Разве стекло способно выдержать такое давление?
— Да. Хрусталь, разбивающийся при падении, имеет значительное сопротивление давлению воды. При опытах рыбной ловли в электрическом свете в 1864 году посреди Северного моря выяснили, что хрустальные линзы толщиной всего в семь миллиметров выдерживают давление воды в шестнадцать атмосфер. При этом они еще сильно нагревались из-за тока высокого напряжения. Стекла же, которые я употребляю, имеют толщину не менее двадцати одного сантиметра, значит, они в тридцать раз толще.
— Хорошо, капитан Немо, но ведь, чтобы видеть, нужен свет, а как же во мраке вод…
— Позади рубки рулевого помещен сильный электрический прожектор, лучи которого освещают море на расстояние полумили.
— Браво! Трижды браво, капитан! Я понимаю теперь природу фосфоресцирующего света лжеединорога, который так заинтересовал и озадачил ученых. Кстати, это столкновение «Наутилуса» с «Шотландией», которое наделало столько шуму, было следствием нечаянной встречи?
— Да, господин Аронакс, это произошло совершенно случайно. «Наутилус» плыл на глубине двух метров, когда произошел толчок. Я убедился, что опасных повреждений не было.
— Не было, капитан. «Шотландия» благополучно добралась до гавани. А встреча с «Авраамом Линкольном» тоже случайная?
— Профессор, мне было очень жаль этот отличный фрегат, но меня атаковали, и я должен был защищаться! Я довольствовался тем, что поставил неприятеля в невыгодное положение, — ему даже не пришлось ремонтировать свои повреждения в ближайшей гавани.
— Капитан! — вскрикнул я с восторгом. — Что за чудесное судно ваш «Наутилус»!
— Да, профессор, — отвечал капитан Немо с волнением, — и я люблю его, как плоть от плоти моей! Если ваши корабли на поверхности океана всюду подстерегает опасность и если первое впечатление, которое производит море, есть страх бездны, как сказал голландец Янсен, то на «Наутилусе» человек может быть совершенно спокоен. Нечего опасаться пробоин, потому что двойной корпус корабля имеет твердость стали, нет утомительной качки, которая так докучает, паруса не уносит ветер; котлы не могут взорваться, пожара не может быть, потому что все сделано из листовой стали, не страшен недостаток угля, потому что здесь главная механическая сила — электричество, нечего бояться каких-нибудь неприятных встреч, потому что «Наутилус» один плавает в глубине вод, не страшны и бури, потому что в нескольких метрах ниже поверхности царит совершенный покой! Вот преимущества моего судна! И если правда, что инженер надежнее при постройке, чем конструктор, а конструктор — чем сам капитан, то представьте себе, до чего я верю в свой «Наутилус», потому что я все вместе: капитан, конструктор и инженер!
Капитан говорил так увлекательно и так красноречиво, глаза его горели, движения были так порывисты, что он совершенно преобразился. Да, он любил свой «Наутилус», как отец любит свое дитя!
Я не мог удержаться, чтоб не задать один вопрос, хотя вопрос этот мог показаться ему не совсем скромным:
— Вы инженер, капитан Немо?
— Да, профессор, в те времена, когда я еще считался жителем земли, я учился в Лондоне, Париже и Нью-Йорке.
— Но как вы могли тайно построить это чудное судно?
— Каждая его часть получена мной из разных частей света: киль выкован в Крезо, гребной вал у «Пени и К°» в Лондоне, стальная обшивка — у Лирда в Ливерпуле, винт — у Скотта в Глазго, резервуары — у «Келя и К°» в Париже, машины — у Круппа в Пруссии, таран — в мастерских Мотала в Швеции, приборы — от братьев Харт в Нью-Йорке и т. д. И каждый из этих поставщиков получал мои заказы под различными именами.
— Но, — возразил я, — положим, что отдельные части приобретены, но надо же было их собрать и проверить?
— Я устроил свои мастерские на пустынном необитаемом островке, в открытом океане. Там с моими работниками, с моими избранными верными и отважными товарищами мы собрали «Наутилус». Когда постройка была окончена, огонь испепелил все следы нашего пребывания на острове.
— Мне думается, капитан, что цена этой постройки должна быть немалой?
— Господин Аронакс, стальное судно со всем внутренним устройством стоит два миллиона, если же включить все редкости и коллекции, которые на нем находятся, то оно будет стоить от четырех до пяти миллионов франков.
— Позвольте еще вопрос, капитан!
— Извольте, профессор.
— Вы, значит, богаты?
— Богат несметно. Так богат, что мог бы без труда заплатить десять миллиардов государственного долга Франции!
Я пристально посмотрел на этого удивительного человека и подумал, не смеется ли он надо мной.
А может, говорит правду? Я решил, что время все покажет и объяснит.
Глава четырнадцатая
Черная река
Площадь, занимаемая водой на земном шаре, исчисляется в более чем тридцать восемь миллиардов гектаров. Объем этой жидкой массы — два миллиарда двести пятьдесят миллионов кубических миль. Если представить ее в форме шара, то он будет иметь диаметр шестьдесят лье, а вес составит три квинтиллиона тонн. Чтобы понять это число, надо помнить, что квинтиллион относится к миллиарду так, как миллиард к единице, то есть в квинтиллионе столько миллиардов, сколько в миллиарде единиц. Примерно такое количество воды могли бы излить все земные реки в течение сорока тысяч лет.
В геологической истории период огня следовал за периодом воды. Прежде океан был всемирным, потом мало-помалу в силурийский период начался горообразовательный процесс, появились островки, снова исчезли под частыми наводнениями, опять показались, некоторые из них соединились вместе и образовали континенты. Наконец земля географически установилась такой, какой мы ее теперь видим.
Земля отвоевала у воды тридцать семь миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч квадратных миль, или двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят миллионов гектаров. Образование материков позволило разделить Мировой океан на четыре большие части, или океаны: Северный Ледовитый, Индийский, Атлантический и Тихий.
Тихий океан простирается с севера на юг между двух полярных кругов, с востока на запад между Азией и Америкой, на протяжении 145° долготы. Это самый спокойный океан, его течения широки и неторопливы, приливы и отливы умеренны, а дожди изобильны.
И вот по этому океану предназначила мне судьба плавать в самых странных условиях!
— Профессор, — сказал мне капитан, — мы сейчас определим, если вы не против, точное местоположение нашего судна. Теперь без четверти двенадцать — около полудня. Я сейчас всплыву на поверхность.
Капитан три раза нажал на кнопку электрического звонка. Насосы начали выкачивать воду из резервуаров, стрелка манометра поползла по показаниям давления, свидетельствуя о движении «Наутилуса», потом остановилась.
— Мы всплыли, — сказал капитан.
Поднявшись по центральному трапу, я пролез в открытый люк и очутился на наружной платформе «Наутилуса».
Платформа, или, вернее, палуба, выступала из воды только на восемьдесят сантиметров. Нос и корма «Наутилуса» имели веретенообразную форму, так что его справедливо можно было уподобить сигаре. Я заметил, что его стальная черепицеобразная обшивка напоминала чешую больших земных гадов, а потому было очень естественно, что даже с лучшими подзорными трубами это судно принимали за морское животное.
Посредине палубы шлюпка, наполовину вдающаяся в корпус судна, образовывала небольшую выпуклость. Спереди и сзади помещались две невысокие рубки с наклонными стенками, частично закрытыми толстыми черепицеобразными стеклами: одна для рулевого, который управлял «Наутилусом», а другая для электрического прожектора.
Океан был великолепен, небо ясное. Легкий западный ветерок рябил поверхность воды. Горизонт был чист для наблюдения. Однако вокруг ничего не было: ни рифа, ни островка, ни даже «Авраама Линкольна». Одна необозримая пустыня!
Капитан, вооруженный своим секстантом, определял высоту солнца, которая должна была указать ему широту. Он несколько минут ждал, пока светило выйдет из-за набежавшего облака. Во время наблюдения ни один мускул его не шевельнулся, и инструмент не мог быть неподвижнее даже в руке мраморной статуи.
— Полдень, — сказал он. — Профессор, не угодно вам?
Я бросил последний взгляд на море — оно казалось немного желтоватым; вероятно, мы находились недалеко от берегов Японии, — и спустился вслед за капитаном в салон.

Там капитан с помощью приборов сделал вычисления и сказал:
— Мы находимся на 137°152 восточной долготы…
— По какому меридиану? — быстро спросил я, думая, что ответ выдаст национальность капитана.
— Профессор, — отвечал мне капитан, — у меня различные хронометры, поставленные по меридианам Парижа, Гринвича и Вашингтона, но в честь вас я возьму парижский.
Этот ответ ничего мне не объяснил. Капитан продолжал:
— 137°152 восточной долготы по парижскому меридиану и 30°72 северной широты, то есть около трехсот миль от берегов Японии. Сегодня, 8 ноября, в полдень, начнется наше путешествие под водой.
— Да сохранит нас Бог! — отвечал я.
— А теперь, профессор, я вас оставлю, — прибавил капитан. — Я взял курс на восток-северо-восток на глубине пятидесяти метров. Вот карта, по которой вы можете следить за нашим путешествием. Гостиная в вашем распоряжении, а мне позвольте удалиться.
Мы раскланялись, я остался один и погрузился в размышления.
Я думал о капитане «Наутилуса». Удастся ли мне когда-нибудь узнать, какой национальности этот странный человек, который говорил, что не принадлежит миру людей? Эта ненависть к человечеству, которая, возможно, вызывала в нем желание отомстить, — кто ее возбудил, что было ее причиной? Был он одним из непризнанных ученых, тех гениев, «которых обидели», как выражался Консейль? Может быть, он современный Галилей? Или из таких, как американец Мори, ученая карьера которого была испорчена политической революцией? Случай привел меня на его судно, жизнь моя была в его распоряжении, и он принял меня, хотя холодно, но гостеприимно. Только до сих пор он ни разу не подал мне руки и не пожал мою, когда я ему ее протягивал.
Целый час я был занят этими мыслями, пытаясь проникнуть в тайну. Потом взор мой остановился на огромной карте, разложенной на столе, и я прижал палец к той точке, где сходились наши координаты.
Океаны, как и материки, имеют свои реки — это океанские течения. Самое примечательное из них известно под названием Гольфстрим. Ученые определили пять главных течений: одно на севере, а другое на юге Атлантического океана, третье на севере, а четвертое на юге Тихого океана и пятое на юге Индийского океана. Вероятно, что существовало когда-нибудь и шестое течение, на севере Индийского океана, когда Каспийское и Аральское моря соединялись с большими азиатскими озерами в одно водное пространство.
На месте, отмеченном на карте, показано одно из этих течений, японское Куросио, что значит «Черная река». Это теплое течение выходит из Бенгальского залива, где его согревают отвесные лучи тропического солнца, проходит через Малаккский пролив, идет вдоль до берегов Азии, вливается в Тихий океан, доходит до Алеутских островов, унося с собой стволы камфарного дерева и другие тропические растения и смешивая свои чистые ярко-голубые воды с холодными водами океана. По этому течению теперь шел «Наутилус».
Вдруг в дверях показались Нед Ленд и Консейль. Мои храбрые товарищи не могли опомниться при виде всех чудес, представших перед их глазами.
— Где мы? — вскричал канадец. — В Квебекском музее?
— Нет, скорее в гостинице Соммерад, с позволения их чести! — возразил Консейль.
— Друзья мои, — отвечал я, приглашая их войти, — вы не в Канаде и не во Франции, а на судне «Наутилус» и в пятидесяти метрах ниже уровня моря.
— Надо верить, если их честь это утверждает, — сказал Консейль. — Надо признаться, эта комната может ошеломить даже такого фламандца, как я.
— Удивляйся, мой друг, для такого классификатора, как ты, здесь есть над чем поработать.
Мне незачем было давать этот совет Консейлю: усердный парень наклонился уже над витринами и бормотал разные термины: «Класс брюхоногих, семейство моллюсков, род ципрей, вид ципрея мадагаскарская…»
А Нед Ленд тем временем расспрашивал меня про мое свидание с капитаном Немо.
— Кто он такой? — приставал канадец. — Неужели вы не узнали? Откуда он? Куда его несет?
— Не знаю, Нед, не знаю ничего, — отвечал я.
— Ну, а он нас хочет глубоко погрузить, на самое дно морское, что ли?
— Погодите, Нед, я расскажу вам по порядку все, что мне известно.
Я рассказал ему все, что знал, и в свою очередь спросил его, что он видел и слышал.
— Ничего не видел и не слышал! — отвечал канадец. — Я даже не видел никого из экипажа этого судна! И экипаж тоже электрический, что ли?
— Электрический!
— Ей-ей! Придется и этому поверить! Вы, господин Аронакс, не можете мне сказать, сколько людей на судне? Десять, двадцать, пятьдесят, сто человек?
— Не могу вам ответить, Нед, потому что сам не знаю. Послушайте меня, не думайте завладеть «Наутилусом» или убежать с него. Это судно устроено с таким искусством, с таким умом… Я очень рад, что видел это чудо современной техники. Многие бы согласились быть на нашем месте, чтобы только увидеть все здешние чудеса. Так что вы лучше успокойтесь, Нед, и давайте вместе наблюдать за всем, что происходит. Смотрите…
— Смотреть! — вскрикнул Нед Ленд. — Да ничего не видно и ничего не увидишь сквозь эту железную темницу! Мы идем или плывем, как слепые…
Нед еще не закончил, когда вдруг стало так темно, словно на нас кто-то внезапно набросил черное покрывало. Свет на потолке погас так быстро, что я почувствовал резь в глазах, как если бы из глубокой темноты вдруг вышел на яркий свет.
Мы онемели, не двигались и не знали, какого еще сюрприза ожидать. Послышалось что-то вроде шелеста, и нам показалось, что задвигались борта «Наутилуса».
— Нам конец! — сказал Нед Ленд.
— Отряд гидромедуз! — проговорил Консейль.
Мгновенно в салоне опять стало светло. Свет проникал в него снаружи с обеих сторон через огромные продолговатые иллюминаторы. Водные глубины были ярко освещены. Я, признаюсь, дрогнул при мысли, что хрустальные стенки, отделяющие нас от моря, могут разбиться, но массивная медная рама давала им достаточный запас прочности.
Вода просматривалась на расстояние мили вокруг «Наутилуса». Что это было за зрелище! Какое перо может его описать! Кому удалось бы нарисовать эту игру света в прозрачной океанской воде!
Мы знаем прозрачность морской воды. Она превосходит своей чистотой даже горные ручьи. Минеральные и органические вещества, которые она в себе содержит, увеличивают ее прозрачность. В некоторых частях океана, у Антильских островов, например, под ста сорока пятью метрами воды можно видеть песчаное дно с удивительной ясностью, а солнечные лучи просвечивают там на глубине триста метров. Но в жидкой среде, сквозь которую проходил «Наутилус», электрический свет проникал даже в самую глубь волн.
Если допустить гипотезу Эремберга, который верил в фосфоресцирующее свечение подводных глубин, то, конечно, природа приберегла для их обитателей одно из чудесных зрелищ. Я мог теперь судить о его необычайной, зачаровывающей прелести, не передаваемой никакими словами. С каждой стороны у нас было окно, открытое в ужасную неизведанную бездну океана. Темнота в салоне увеличивала яркость наружного света, и казалось, что прозрачный хрусталь был стеклом какого-то огромного аквариума. Создавалось впечатление, что «Наутилус» стоит на месте. Иногда, впрочем, полосы воды, разделяемые его килем, проносились перед нашими глазами.
Пораженные открывшимся зрелищем, мы молча стояли, облокотясь на подоконники и прильнув к иллюминаторам.
Вдруг Консейль сказал:
— Вы хотели видеть, друг Нед, ну вот вы и видите!
— Удивительно! — отвечал канадец, забыв и свой гнев, и все свои планы побега, любуясь чудесным зрелищем. — Надо было сюда попасть, чтобы только поглядеть на такое диво, ей-богу надо.
— А! — воскликнул я. — Теперь я понимаю жизнь этого человека! Он создал себе отдельный мир, который раскрыл для него самые удивительные чудеса!
— Но рыбы? — заметил канадец. — Я не вижу рыб. Где рыбы?
— Что вам за дело до рыб, друг Нед, — отвечал Консейль, — ведь вы их не знаете!
— Я не знаю? — вскрикнул Нед Ленд. — Я?
По этому предмету завязался между двумя приятелями спор, потому что оба они знали рыб, но с совершенно разных сторон.
Всем известно, что рыбы составляют четвертый класс позвоночных. Их определили как «позвоночные с двойным кровообращением и холодной кровью, дышащие жабрами и живущие в воде». Они разделяются на два разряда: на костных, у которых позвоночный скелет состоит из костных позвонков, и на хрящевых, у которых позвоночный скелет состоит из хрящевых позвонков. Канадец знал, может быть, эту классификацию, но Консейль знал об этом гораздо больше, и теперь, соединенный узами дружбы с Недом, он не мог допустить, чтобы друг был менее его образован, поэтому тотчас начал проповедовать:
— Нед! Вы очень искусный рыболов! Вы на своем веку переловили довольное число этих животных! Но я побьюсь об заклад, что вы не знаете, как их разделяют!
— Как их разделяют? — повторил Ленд. — Что ж тут знать?
Разделяют на съедобных и несъедобных, вот и все!
— Так разделяют их обжоры! — отвечал Консейль. — Скажите мне, вы знаете, какая разница между костными и хрящевыми рыбами?
— Чего ж тут не знать — не диковина!
— А знаете, как подразделяются эти два больших класса?
— Ну, про это не случалось слышать.
— Не случалось? Так вот теперь слушайте и запоминайте! Костные рыбы подразделяются на шесть отрядов. Первый — колючеперые, у которых верхние челюсти подвижные, а жабры гребенчатые. Первый отряд включает пятнадцать семейств, то есть три четверти известных рыб. Представитель — окунь.
— Вкусен мошенник! — заметил Нед Ленд.
— Второй, — продолжал Консейль, — брюхоперые, у которых брюшные плавники расположены позади грудных, не соединенных с плечевой костью. Второй отряд делится на пять семейств и содержит большую часть пресноводных рыб. Представители — карп, щука.
— Пресноводные рыбы! — сказал канадец. — Их, по-моему, и вспоминать не стоит!
— Третий, — продолжал Консейль, — мягкоперые, у которых брюшные плавники прикреплены к грудным и непосредственно соединены с плечевой костью. Содержит четыре семейства. Представители — камбала, палтус, тюрбо и прочие.
— Отличные! Все до единой отличные! — вскрикнул гарпунер. — Так и тают во рту!
Нед смотрел на рыб решительно только с гастрономической точки зрения.
— Четвертый, — продолжал Консейль, не теряя присутствия духа, — бесперые, с продолговатым телом, без брюшных плавников, покрытые толстой и слизистой кожей. В четвертом отряде только одно семейство. Представители — угорь обыкновенный, угорь электрический.
— Ну, эти подгуляли! — заметил Нед.
— Пятый, — продолжал Консейль, — пучкожаберные, имеют подвижные челюсти, жабры состоят из маленьких пучков, расположенных попарно вдоль жаберных дужек В пятом отряде тоже всего одно семейство. Представители — морской конек, летучий дракон.
— Совсем не годятся — дрянь! — заметил гарпунер.
— Наконец, шестой, — продолжал Консейль, — сростночелюстные, у которых верхние челюсти срастаются неподвижно с межчелюстными костями и у которых недостает брюшных плавников. Разделяется на два семейства. Представители — иглобрюхи, рыба-луна.
— Ну, этими и кастрюльку нечего пачкать! — вскрикнул Нед.
— Что ж, поняли, друг Нед? — спросил ученый Консейль.
— Совсем ничего не понял, — ответил Нед Ленд. — Но вы рассказываете очень занятно.
— Что касается хрящевых рыб, — продолжал непоколебимый Консейль, — они разделяются только на три отряда.
— Это лучше! — заметил Нед.
— Первый — круглоротые, вместо челюсти у них одно срединное отверстие, а жабры открываются множеством дырочек позади черепа. В первом отряде имеется одно только семейство. Представитель — морская минога.
— Эта хороша! — сказал Нед Ленд.
— Второй — пластиножаберные, у них жабры как у круглоротых, но нижняя челюсть подвижная. Разделяется на два семейства. Представители — скат и акула.
— Что вы! — вскрикнул Нед. — Скат и акула в одном отряде? Ну, друг Консейль, если вы дорожите скатом, так не ставьте его рядом с акулой: только так ваш скат и будет цел!
— Третий, — продолжал Консейль, — осетровые. Жабры у них, как обычно, открываются одним отверстием, защищенным жаберной крышкой; в этом отряде четыре рода. Представитель — осетр.
— А, дружок! Лучшее вы приберегли для конца! Это вы не ошиблись! Ну что ж, все?
— Все, Нед, — ответил Консейль. — И заметьте: знать — это еще не значит узнать все, потому что семейства разделяются на роды, виды, разновидности…
— Смотрите, Консейль, смотрите, — прервал его Нед Ленд, — вот и разновидности!
— Рыбы! — воскликнул Консейль. — Мы точно глядим в аквариум!
— Нет, — сказал я, — аквариум — клетка, а эти рыбы свободны, как птицы в воздухе!
— Ну-ка, приятель, назовите их по именам, — сказал Нед Консейлю.
— Я? — возразил Консейль. — Я не могу, пусть их честь изволит назвать.
Действительно, достойный парень хотя и был яростным классификатором, но натуралист из него вышел неважный. Я не поручусь, отличил бы он скумбрию от макрели или нет. Канадец, напротив, без затруднения называл почти всех рыб.
— Спинорог! — сказал он. — Вот спинорог! И спинорог китайский.
— Род спинорога, семейство жесткокожих, отряд сростночелюстных, — бормотал Консейль.
Нед и Консейль, взятые вместе, стали бы замечательными натуралистами! Канадец не ошибся: множество спинорогов кружилось и резвилось около «Наутилуса».
— Ишь какие они приплюснутые! — сказал Нед Ленд. — Ишь какая мережка на коже, а на спинке шипы. И хвост с каждого боку утыкан колючками в четыре ряда! Надо же, сотворена ж такая тварь!
Ничего не может быть прелестнее чешуи этих спинорогов: сверху серая, а снизу белая, с золотыми пятнами, блестевшими в темных струях. Между спинорогами сновали скаты. К великой моей радости, я приметил японского ската с желтоватой спиной, нежно-розовым брюхом и тремя шипами над глазом. Вид очень редкий, его существование ставили под сомнение: Ласепед видел такого ската только на одной японской гравюре.
В продолжение целых двух часов это подводное войско провожало «Наутилус». Пока рыбы играли, резвились и соперничали друг с другом в красоте расцветки, блеске и юркости, я приметил зеленого губана, султанку, или барабульку, с двойной черной полосой, бычка белого, испещренного на спине фиолетовыми пятнами и с закругленным хвостом, японскую скумбрию с голубым телом и серебристой головой, спарид рубчатых с разноцветными плавниками, голубым и желтым, спарид полосатых, с черной перевязью на хвосте, спарид поясоносных, грациозно зашнурованных шестью поперечными полосками, японских саламандр, мурену из отряда угрей, около шести футов длиной, с маленькими живыми глазками и огромным зубастым ртом и многих других примечательных особей.
Нашему удивлению не было конца, восклицания не умолкали. Нед называл рыб, Консейль их классифицировал, а я восхищался. Я никогда еще не видел этих прелестных рыб на свободе, в их родной стихии.
Я не стану перечислять все разновидности, которые промелькнули перед нашими ослепленными глазами, — это была целая коллекция Японского и Китайского морей. Их собралось здесь и кружилось больше, чем птиц в воздухе; вероятно, их привлекал электрический свет.
Вдруг в салоне стало светло, а стальные створы закрыли иллюминаторы. Волшебное зрелище в одно мгновение исчезло, но я еще долго представлял его, пока глаза мои не остановились на приборах, развешанных по стенам.
Компас все еще показывал курс на северо-восток, манометр — давление в пять атмосфер, соответствующее глубине пятьдесят метров, а электрический лаг — скорость пятнадцать миль в час. Я ждал капитана Немо, но он не появлялся. Было уже пять часов.
Нед Ленд и Консейль ушли в свою каюту, а я в свою, где меня уже ждал обед. Обед этот был на славу: суп из нежных морских черепах, барабулька с белой, слегка слоистой мякотью и филе из окуня, которое показалось мне вкуснее лососины.
Вечер провел я в чтении, письме и размышлениях, после чего лег на кушетку и заснул.
Глава пятнадцатая
Письменное приглашение
На другой день, 9 ноября, я проснулся после глубокого двенадцатичасового сна. Консейль по обыкновению пришел узнать, как я провел ночь, и предложить свои услуги.
— А что Нед? — спросил я.
— Спит еще, — отвечал Консейль.
Я не мешал парню болтать, но самому мне было не до разговоров. Меня тревожило долгое отсутствие капитана Немо, но я надеялся увидеть его сегодня.
Я надел свое виссоновое платье, на что Консейль тотчас же сделал несколько критических замечаний.
— Из чего это сделано, с позволения их чести? — спросил он.
— Оно сделано из шелковистых прочных волокон биссуса, которым присасываются к утесам пинны, род двустворчатых моллюсков, во множестве встречающихся у берегов Средиземного моря.
В старину из них выделывали прекрасные ткани-виссоны, чулки и перчатки, очень мягкие и теплые. Таким образом, экипажу «Наутилуса» не нужны были ни хлопчатники, ни овцы, ни шелковичные черви.
Я отправился в салон. Там никого не было.
Я занялся изучением конхиологических сокровищ, хранившихся в стеклянных витринах, рылся в огромном гербариуме, наполненном самыми редкими морскими растениями, хотя и сухими, но сохранившими яркость окраски. Среди этих драгоценных водорослей я заметил каулерпу, падину, кладофору, красивый каллитамнион, нежный корсиканский морской мох алого цвета, ацетабулярию — одним словом, превосходнейшие образцы.
День прошел, а капитан Немо не удостоил меня своим посещением. Иллюминаторы в салоне оставались закрытыми. Кажется, здесь строго придерживались правила: хорошего понемногу.
Направление «Наутилуса» не изменилось, он шел со скоростью двенадцать миль в час на глубине от пятидесяти до шестидесяти метров.
На следующий день, 10 ноября, Нед и Консейль почти все время пробыли со мной. Они очень удивлялись отсутствию капитана.
— Болен он, что ли? — говорил Нед Ленд. — Или, может, он что-то против нас замышляет?
Мы, однако, пользовались полной свободой, нас прекрасно и изобильно кормили. У нас не было причин жаловаться.
Капитан строго придерживался условий договора.
С этого дня я начал вести подробный дневник моих приключений. Кстати, писал я на бумаге, изготовленной из взморника — морской травы.
11 ноября, рано утром, по «Наутилусу» распространился свежий воздух, и я догадался, что мы выплыли на поверхность океана, чтобы возобновить запас кислорода.
Я поднялся на палубу. Было шесть часов утра. Погода стояла пасмурная, море было серым, но спокойным и только слегка зыбилось.
Я не увидал никого, кроме рулевого в стеклянной рубке.
«Придет ли сюда капитан Немо?» — подумал я.
Усевшись на возвышении, образуемом корпусом шлюпки, я с удовольствием вдыхал насыщенный солью морской воздух. Мало-помалу туман рассеялся, солнце и море вспыхнули, как зажженный порох. Рассеянные по небу облака окрасились в яркие цвета с множеством великолепных оттенков; многочисленные перистые облачка, которые моряки называют «кошачьи языки», предвещали ветренную погоду. Но что значит ветер для «Наутилуса», который не боялся бурь?
Я еще любовался радостным, животворящим восходом солнца, когда услышал чьи-то шага, и уже приготовился раскланяться с капитаном Немо. Однако это был его помощник, которого я видел в наш первый день на «Наутилусе». Не обращая на меня внимания, он приложил к глазам подзорную трубу и стал очень внимательно исследовать горизонт. Окончив свои наблюдения, он подошел к люку и произнес фразу, которую я запомнил, потому что она впоследствии произносилась каждое утро:
— Nautron respoc lorni virch.
Что это означало, я не могу сказать.
С этими словами помощник ушел; я решил, что сейчас «Наутилус» начнет погружение, и потому вернулся в свою каюту.
Так прошло пять дней. Каждое утро я выходил на палубу; тот же человек произносил ту же фразу, капитан Немо не показывался.
Я уже думал, что больше не увижу его, но 16 ноября, войдя в свою каюту вместе с Недом Лендом и Консейлем, нашел на столе адресованную мне записку и торопливо ее открыл. Она была красиво написана по-французски, но готическим шрифтом.
Это было приглашение:
«Господину профессору Аронаксу,
на борту „Наутилуса“.
16 ноября 1867 г.
Капитан Немо приглашает профессора Аронакса на охоту, которая состоится завтра в его лесах на острове Креспо. Он надеется, что ничто не помешает господину профессору присутствовать на этой охоте, и будет рад, если его спутники присоединятся к нам.
Капитан Немо ».
— Охота! — вскрикнул Нед.
— И в его лесах на острове Креспо! — прибавил Консейль.
— Значит, он высадится на землю? — спросил Нед Ленд.
— Это сказано ясно! — отвечал я, перечитывая письмо.
— Надо сказать, что мы согласны! — решил канадец. — Только бы он нас на землю доставил, а там мы сами как-нибудь справимся. Кроме того, я не прочь попробовать свежей дичи.
Не пытаясь найти связь между отвращением капитана к континенту и приглашением на охоту в лес, я сказал:
— Посмотрим прежде, что это за остров Креспо.
На карте между 32°402 северной широты и 167°502 западной долготы я нашел островок, который был открыт капитаном Креспо в 1801 году и который на старинных испанских картах называется Rocca de la Plata, то есть Серебряный Утес. Мы были в ста восьмидесяти милях от этого пункта, и «Наутилус» повернул на юго-восток.
Я показал товарищам на этот маленький островок, затерянный в северной части Тихого океана.
— Если капитан иногда и выходит на землю, — сказал я им, — то, надо отдать ему должное, он выбирает самые пустынные острова.
Нед Ленд ничего не ответил, а только покачал головой и вместе с Консейлем ушел. После ужина, который мне подал немой и бесчувственный слуга, я лег спать немного озадаченный.
Проснувшись на другой день, 17 ноября, я почувствовал, что «Наутилус» стоит неподвижно. Быстро одевшись, я пошел в салон.
Капитан Немо уже был там. Он поклонился и спросил, согласен ли я сопровождать его на охоту.
Так как он не сделал ни малейшего намека на свое восьмидневное отсутствие, то и я умолчал об этом и просто ответил, что я и мои товарищи готовы за ним следовать.
— Только, — прибавил я, — позвольте мне задать вам один вопрос, капитан.
— Задайте, господин Аронакс, и я отвечу на него, если смогу.
— Каким образом вы владеете лесами на острове Креспо, если вы прервали все сношения с землей?
— Профессор, — отвечал мне капитан, — леса, которыми я владею, не нуждаются ни в солнце, ни в свете, ни в теплоте. Ни львы, ни тигры, ни пантеры, никакие другие четвероногие в них не водятся. Это не земные, а подводные леса. Они никому, кроме меня, не известны и растут только для меня одного.
— Подводные леса! — вскрикнул я.
— Да, профессор, подводные.
— И вы мне предлагаете посетить их?
— Да, предлагаю.
— Пешком?
— Пешком.
— Охотиться в этих лесах?
— Да, охотиться.
— С ружьем?
— Да, с ружьем.
Я посмотрел на капитана «Наутилуса», и в моем взгляде не было ничего лестного.
«Наверно, он сошел с ума! — подумал я. — Все эти восемь дней у него был приступ, который и теперь еще продолжается. Жаль! Все-таки лучше быть чудаком, чем сумасшедшим».
Эта мысль, должно быть, ясно отпечаталась на моем лице, но капитан Немо, не обратив, казалось, на это никакого внимания, пригласил меня следовать за собой. Я пошел за ним, как человек, который покоряется своей судьбе.
— Господин Аронакс! Я прошу вас без церемоний разделить со мной завтрак, за столом мы поговорим. Я, правда, пригласил вас на прогулку в лес, но я не обещаю там ресторанов. Завтракайте, как человек, который, по всей видимости, будет очень поздно обедать.
Я отдал должное завтраку. Меню состояло из разных рыбных блюд, ломтики голотурий, чрезвычайно вкусных зоофитов, были приправлены пикантным соусом из морских водорослей, таких как порфира и лауренсия. Питье состояло из чистой воды, к которой, по примеру капитана, я добавил несколько капель ликера, сделанного по камчатской моде из водоросли родимении лапчатой.
Сначала капитан ел молча, потом, обратясь ко мне, сказал:
— Профессор, когда я предлагал вам идти на охоту, вы подумали, что я противоречу сам себе. Когда же я сказал, что существуют подводные леса, вы подумали, что я сумасшедший. Никогда не надо судить о человеке поверхностно!
— Но, капитан, поверьте…
— Выслушайте меня и тогда увидите, вправе ли вы обвинять меня в сумасшествии или непоследовательности.
— Я вас слушаю.
— Профессор, вы знаете так же хорошо, как и я, что человек может жить под водой, если у него будет достаточный запас воздуха. При подводных работах человек, одетый в водонепроницаемый костюм с металлическим шлемом на голове, получает воздух через специальный шланг, соединенный с насосом.
— Я знаю этот костюм, капитан, это так называемый скафандр, — сказал я.
— Да, но человек в скафандре как бы привязан к насосам, которые ему дают воздух через резиновый шланг, — это настоящая цепь, которая его приковывает к земле, и если бы мы были так же привязаны к «Наутилусу», то не могли бы далеко уйти.
— Каким же способом можно быть свободным? — спросил я.
— Надо употребить аппарат Рукейроля-Денейруза, изобретенный двумя вашими соотечественниками. Я усовершенствовал его, так что вы можете пользоваться им без всякого опасения. Это толстый металлический резервуар, в который нагнетается воздух под давлением пятьдесят атмосфер. Он прикрепляется к спине ремнями, как солдатский ранец. Его верхняя часть образует ящик, где давление воздуха регулируется до нормального. В аппарате Рукейроля обычно две резиновые трубки соединяют этот ящик со специальной маской для носа и рта. Одна трубка служит для вдоха, а другая — для выдоха воздуха. По мере надобности водолаз нажимает языком на клапан той или другой трубки. Но чтобы выдержать значительное давление на дне океана, я должен вместо маски надеть на голову, так же как и в скафандре, медный шлем, к которому примыкают две трубки: вдыхательная и выдыхательная.
— Хорошо, капитан, но ведь ваш запас воздуха быстро расходуется, и если воздух будет содержать только пятнадцать процентов кислорода, он уже станет непригоден для дыхания!
— Конечно. Но я вам уже сказал, что насосы «Наутилуса» позволяют мне нагнетать его под значительным давлением, при этих условиях воздуха в аппарате хватает на девять-десять часов.
— Мне все понятно, капитан, — отвечал я. — Хотелось бы знать, как вы можете освещать дорогу на дне океана?
— Прибором Румкорфа, профессор. Дыхательный аппарат прикрепляется к спине, а этот привязывается к поясу. Он состоит из элемента Бунзена, который я привожу в действие с помощью натрия. Индукционная катушка вбирает вырабатываемый электрический ток и направляет его к фонарю особой конструкции. В этом фонаре витая стеклянная трубка содержит углекислый газ. Под действием электрического тока этот газ ярко светит. Таким образом я снабжен и светом, и воздухом.
— Вы так подробно отвечаете на все мои вопросы, капитан, — сказал я, — что более невозможно сомневаться. Я верю в аппараты Рукейроля и Румкорфа, но ружье… Я прошу вас объяснить мне устройство ружья, которым вы меня снабдите.
— Ружье это не пороховое, — ответил капитан.
— Значит, духовое?
— Именно. Как же мне делать порох на моем судне, не имея ни селитры, ни серы, ни угля?
— И чтобы выстрелить в воде, в среде, которая в восемьсот пятьдесят пять раз плотнее воздуха, надо преодолеть значительное сопротивление.
— Это не причина. Существуют такие пушки, усовершенствованные после Фультона англичанами Филиппом Кольтом и Бурлеем, французом Фюрси и итальянцем Ланди, которые снабжены особыми затворами и могут стрелять при этих условиях. Но, не имея пороха, я заменил его воздухом, которым насосы «Наутилуса» снабжают меня безостановочно.
— Но этот воздух должен быстро расходоваться?
— Да, но ведь у меня есть резервуар Рукейроля, который при необходимости может меня им снова снабдить. Для этого достаточно только повернуть кран, но вы сами увидите, что для этой охоты немного требуется воздуха и пуль.
— Мне кажется, в этой полутьме и этой чрезвычайно плотной воде нельзя выстрелить на большое расстояние и попадания редко бывают смертельны.
— Напротив, профессор, напротив. Каждый выстрел этого ружья смертелен, и как бы легко ни было ранено животное, оно падает, как пораженное молнией.
— Отчего же?
— Оттого, что это не обыкновенные пули, а маленькие стеклянные капсюли, изобретенные австрийским химиком Лениброком, — у меня их достаточно. Эти капсюли покрыты сталью и утяжелены свинцом — настоящие лейденские банки в миниатюре с электрическим током высокого напряжения. При малейшем толчке они разрываются, и животное, каким бы оно ни было, падает мертвым. Я прибавлю еще, что эти капсюли не крупнее дроби номер четыре и что на один заряд ружья их идет десять штук.
— Не смею больше спорить, капитан, — сказал я, вставая из-за стола. — Мне больше ничего не остается, как взять ружье и идти за вами!
Капитан повел меня на корму «Наутилуса». Проходя мимо каюты Неда и Консейля, я позвал их; они тотчас же присоединились к нам.
Мы пришли в каюту, расположенную рядом с машинным отделением, где и должны были одеться для предстоящей прогулки.
Глава шестнадцатая
Прогулка по равнине
Эта каюта была одновременно и арсеналом, и гардеробной.
По стенам было развешано около дюжины скафандров.
Нед Ленд поглядел на них с очевидным отвращением.
— Нет, я не согласен напяливать на себя такую штуку! — воскликнул он.
— Послушайте, Нед, — сказал я, — леса острова Креспо — ведь леса подводные!
— Вот тебе на! — вскрикнул огорченный гарпунер. — Вот тебе и свежая дичь и… А вы, Аронакс, неужели вы эту штуку наденете?
— Приходится надевать, Нед.
— Как хотите! — ответил он, пожимая плечами. — Что касается Неда Ленда, то он никогда не наденет, — разве только силой там спрячут!
— Силой никто вас не будет заставлять, мистер Ленд, — сказал капитан Немо.
— А Консейль рискнет? — спросил Нед.
— Я всюду следую за их честью, — отвечал Консейль.
По приказу капитана явились два матроса и помогли нам одеться в тяжелые непромокаемые скафандры из цельной резины без швов. Водолазное снаряжение, рассчитанное на высокое давление, напоминало броню средневекового рыцаря, но отличалось от нее своей эластичностью. Скафандр состоял из штанов, куртки и головного шлема.
Штаны оканчивались сапогами на толстой тяжелой свинцовой подошве. Куртка придерживалась на груди медной кирасой, которая защищала от давления воды и позволяла свободно дышать, рукава оканчивались мягкими перчатками, которые нисколько не мешали движению пальцев.
— Эти скафандры, — сказал я, — несравненно удобнее пробковых лат, супервестов, «сундуков» и прочих подводных одеяний, изобретенных в XVIII веке.
— Хороши, нечего сказать! — проворчал Нед Ленд.
Капитан Немо, один из его матросов — этот матрос вы глядел как Геркулес и, по-видимому, отличался большой физической силой, — Консейль и я быстро облеклись в скафандры. Осталось только надеть на голову металлический шлем. Но прежде я попросил у капитана разрешения осмотреть предназначенное мне ружье.
Мне дали простое ружье с металлическим прикладом довольно большого размера, внутри его была устроена полость, служившая резервуаром для сжатого воздуха, который врывался в дуло при нажатии курка, открывающего клапан резервуара. В обойме помещалось двадцать электрических пуль, которые посредством пружины сами вставлялись в дуло. После каждого выстрела ружье автоматически перезаряжалось.
— Капитан, — сказал я, — это превосходное ружье, и им легко управлять. Я очень хочу поскорее испробовать его. Только как же мы достигнем дна моря?
— Теперь «Наутилус» стоит на мели, то есть на глубине десять метров, и мы сейчас можем выйти наружу.
— Но как мы выйдем?
— А вот увидите.
Капитан надел сферический шлем. Консейль и я сделали то же самое.
— Счастливой охоты! — крикнул канадец с иронией.
Шлем навинчивался на ворот куртки, где было медное кольцо с винтовой нарезкой. Три толстых смотровых стекла в шлеме позволяли глядеть во все стороны. Я повернул кран аппарата Рукейроля, помещенного на спине, и, к своему великому удовольствию, смог свободно дышать.
С фонарем Румкорфа на поясе и с ружьем в руках я был готов в путь, но, говоря чистосердечно, боялся, что в этом тяжелом снаряжении не сдвинусь с места. Но и это было предусмотрено: меня начали толкать в маленькую кабинку, смежную с гардеробной. Мои спутники последовали за мной таким же способом. Я услышал, как за нами захлопнулась дверь, и мы очутились в полной темноте.
Через несколько минут раздался пронзительный свист, и я почувствовал сильный холод снизу. Очевидно, в кабину начали закачивать океанскую воду. Когда вода наполнила все помещение, открылась другая дверь в борту «Наутилуса» и мы очутились в полумраке. Минуту спустя наши ноги ступили на морское дно.
Как теперь описать то впечатление, которое у меня осталось от этой подводной прогулки? Слова бессильны, ими не воссоздашь подобных чудес. Если кисть художника не в состоянии передать всю прелесть водной стихии, как же изобразить это пером?
Капитан Немо шел впереди, а его товарищ следовал за нами в нескольких шагах. Мы с Консейлем держались рядом, как будто могли разговаривать через металлические шлемы. Я уже не чувствовал тяжести ни скафандра, ни сапог, ни резервуара со сжатым воздухом, шлем меня тоже не стеснял: моя голова была свободна, как миндаль в скорлупе.
Все эти вещи, погруженные в воду, теряли часть своего веса, равную вытесненной жидкости, и я был очень благодарен этому физическому закону, открытому Архимедом. Я больше не представлял собой бездействующую массу и имел относительно большую свободу движений.
Свет, озарявший толщу воды на тридцать футов ниже поверхности океана, удивил меня. Солнечные лучи легко пронизывали эту водную массу. Я ясно различал предметы на расстоянии ста метров. Чудесно оттенялись тонкие слои лазури, которые сгущались вдали и терялись во мраке. Вода, которая меня окружала, походила на воздух — воздух плотнее земной атмосферы, но почти такой же прозрачный. Надо мной ясно видна была спокойная поверхность океана.
Мы шли по мелкому, плотно слежавшемуся песку; песок этот был совсем не такой, как на морском берегу: на нем не было ни следов зыби, ни малейшего отпечатка волн. Этот ослепляющий песчаный ковер, как настоящий рефлектор, отражал солнечные лучи, пронизывая сиянием каждую частицу воды, проникая во все части жидкости.
«Воображал ли ты, Пьер Аронакс, — думал я, — что на глу бине тридцати футов может быть так же светло, как на земле при дневном свете?»
В продолжение четверти часа я попирал ногами этот песок, усеянный пылью раковин. Корпус «Наутилуса», рисовавшийся как длинный подводный риф, постепенно исчезал, но свет его прожектора должен был помочь нам возвратиться на судно, если бы нас застигла ночь в океанских глубинах.
Трудно представить сияние электрического света тому, кто видел этот свет только на земле. Там пыль, которой насыщен воздух, придает ему вид светящегося тумана, но в морской воде электрические лучи отличаются необычайной ясностью.
Мы шли все дальше, огромная песчаная равнина, казалось, не имела границ. Я раздвигал руками водный занавес, который закрывался за моей спиной, а давление воды немедленно уничтожало мои следы на песке.
Вскоре начали смутно вырисовываться очертания предметов; я различил силуэты величественных подводных скал, унизанных прелестнейшими зоофитами. И тут меня глубоко поразила вся сказочная, невероятная обстановка.
Было десять часов утра. Косые лучи солнца преломлялись на поверхности воды, как сквозь призму. Водоросли, скалы, раковины, полипы переливались всеми цветами солнечного спектра. Это было что-то чудесное, радужное, невообразимое. Я трепетал от восторга. Я пламенно желал выразить свои чувства и очень жалел, что не могу поделиться ими с Консейлем. Я завидовал капитану Немо, который объяснялся со своим спутником условными знаками. Я разговаривал сам с собой. Я громко что-то восклицал в своем медном шаре, безрассудно расходуя, быть может, больше воздуха, чем следовало.
Консейль также остановился перед этим великолепным зрелищем. Вероятно, достойный парень, очутившись в присутствии редких зоофитов и моллюсков, принялся их по своему обыкновению классифицировать. Тут было обилие полипов и иглокожих. Различные кораллы — изиды, трубные корнулярии, которые живут особняком, глазчаки, известные прежде как белые кораллы, грибовидные фунгии, имеющие форму шампиньонов, морские анемоны, прилепленные к почве на мускулистой подошве, — одним словом, очаровательный цветник! Голубели порпиты с венчиком лазоревых щупальцев, сверкали морские звезды. Бородавчатые астерофитоны походили на тонкие кружева, они трепетали при легком струении водной массы от наших шагов. Жаль было ступать ногами по блестящим образчикам моллюсков — морских гребешков, морских молотков, донаксов, трохусов, красных шлемов, стромбусов из семейства крылатых, сердцевидок — и множеству других произведений неистощимого океана.
Но надо было идти, и мы двигались вперед. Над нашими головами плавали группы физалий с колышущимися бирюзовыми щупальцами, медузы своими опаловыми или нежнорозовыми зонтиками с лазоревой окраиной закрывали нас от солнечных лучей, а фосфоресцирующие медузы и пелагии освещали блеском наш путь в полутьме.
Все эти чудеса я видел, к сожалению, мимоходом: каждый раз, как только я приостанавливался, капитан Немо подзывал меня знаками.
Скоро почва изменилась; песочная равнина сменилась вязким илом, который состоял только из кремнистых или известковых раковин.
Затем мы прошли по лугам водорослей, которые поражали своей роскошью. Эти подводные мягкие лужайки могли соперничать с самыми лучшими коврами, сотканными рукой человека.
Зелень расстилалась под ногами и висела над головой. Легкая сетка из водорослей образовывала зеленые своды. Я видел, как плавали длинные фукусы, шаровидные и трубчатые лауренсии, кладостефы с тонкими листьями, причем заметил, что зеленые растения тянулись к поверхности, красные держались средней глубины, а черные и коричневые составляли сады и цветники нижних слоев океана.
Водоросли — одно из чудес всемирной флоры. Их насчитывается более двух тысяч родов. Семейство их включает и самые маленькие, и самые большие растения. На площади пять квадратных миллиметров может поместиться до сорока тысяч крохотных водорослей. А бурый фукус имеет длину до пятисот метров.
Прошло уже почти полтора часа, как мы оставили «Наутилус». Было около полудня, что я определил по перпендикулярности солнечных лучей. Переливы красок мало-помалу исчезли, изумрудные и сапфировые оттенки потускнели и пропали. Каждый наш шаг гулко отдавался в жидкой среде. Малейший шум передавался со скоростью, непривычной для нашего слуха. И действительно, вода — лучший проводник звука, чем воздух: она распространяет его в четыре раза быстрее.
Вдруг дорога пошла под уклон. Мы находились на глубине сто метров, выдерживая давление десять атмосфер, но в скафандре я не испытывал этого давления. Я сначала чувствовал некоторое болезненное ощущение в суставах пальцев, но и это скоро прошло. Что же касается усталости, которую я должен был ощущать от этой двухчасовой прогулки, то она была самая ничтожная.
Мои движения при помощи воды были удивительно легки.
На глубине триста футов я уже слабо различал солнечные лучи. Их яркий свет сменился красноватыми сумерками.
Но мы все еще могли обходиться без фонаря Румкорфа.
Капитан остановился. Дождавшись меня, он указал пальцем на темную массу, рисовавшуюся недалеко от нас.
«Это, наверное, остров Креспо!» — подумал я. И я не ошибся.
Глава семнадцатая
Подводный лес
Наконец мы пришли к окраине леса. Это было, без сомнения, одно из красивейших мест во владениях капитана Немо. Он смотрел на него как на свою собственность и имел на него такие же права, какие присвоил себе первый человек в первые дни сотворения мира.
«Никто не станет оспаривать у него этой подводной собственности! — думал я. — Кто другой решится нырнуть сюда и с топором в руках расчищать подводные темные чащи?»
Подводный лес состоял из больших древовидных растений, и как только мы вступили под его огромные своды, меня поразило странное расположение ветвей, какого я еще до сих пор никогда и нигде не примечал.
Ни одна трава, покрывающая почву, ни одна ветвь кустарника не стлалась по земле, не сгибалась и не тянулась по горизонтали. Все стремилось вверх, к поверхности океана.
Все растения, как бы тонки они ни были, держались прямо, вытянувшись в струнку, как железные прутья. Водоросли и лианы росли строго перпендикулярно, как того требовала плотность окружающей среды. Я прикасался к ним: они гнулись, но тотчас после прикосновения снова принимали свое вертикальное положение. Здесь было просто царство вертикальных линий!
Скоро я привык к этой причудливости, как и к относительному полумраку, который нас окружал. Почва была усеяна острыми камнями, на которые невозможно было не наступить при ходьбе. Подводная флора мне показалась даже богаче, чем у арктического или полярного пояса, где ее произведения не так многочисленны, и я невольно смешивал классы между собой, принимая зоофитов за гидрофитов, животных за растения. Да и кто бы не ошибся? Фауна и флора так близко соприкасались в этом подводном мире. Я заметил, что все представители растительного царства лишь прикреплялись к почве, а не росли из нее. Лишенные корней, они лепились на песке, на раковинах, на камнях, требуя не жизненных соков, а только точки опоры. Все нужное для их существования заключалось в воде: вода их поддерживала и питала. Большинство растений вместо листьев имели пластинки своеобразной формы, окрашенные в розовые, красные, зеленые, оливковые, рыжие и бурые цвета. Я здесь увидел живыми, а не засушенными, как образцы на «Наутилусе», веероподобную павлиновую водоросль падину, алый мох — церамию, ламинария вытягивала вверх свои молодые отпрыски, я видел целые букеты ацетабулярий, или «бокалов русалки», у которых стебель утолщается к верхушке, и множество других морских растений, лишенных цветков. «Любопытная аномалия, странная стихия, — сказал один остроумный натуралист, — где животное царство цветет, а растительное — нет!»
Между различными растениями величиной с земные деревья громоздились кустовидные колонии кораллов и живые изгороди из зоофитов, на которых распускались меандрины из семейства коралловых, испещренные извилистыми полосками, желтоватые звездчатые кораллы кариофиллиды с прозрачными щупальцами, пучки зоантусов, похожих на траву. В завершение картины рыбы-мухи летали с ветки на ветку, как стая колибри, желтая леписаканта с щетинистыми жабрами и острой чешуей, летучие долгоперы и другие рыбы поднимались из-под наших ног, как бекасы.
Около часа дня капитан Немо подал знак на отдых, чем очень меня обрадовал; мы растянулись в беседке из водорослей, которые поднимались вверх, как стрелы.
Отдых этот показался мне невыразимо приятным; я сожалел только, что мы не могли обмениваться своими мыслями и впечатлениями: невозможно было ни спрашивать, ни отвечать. Я удовольствовался тем, что придвинул свою огромную медную голову к голове Консейля и увидел, что глаза достойного парня блестят от удовольствия и счастья. Он качал головой с самым комическим видом.
Я удивился, что после четырехчасовой прогулки не чувствовал большого голода. Что было тому причиной, я не могу сказать. Но зато меня непреодолимо клонило ко сну. Я вспомнил, что это бывает со всеми водолазами. Скоро глаза мои закрылись, и я погрузился в сон, который до сих пор преодолевала ходьба. Капитан Немо и его могучий спутник, растянувшись во весь рост, подали нам пример.
Сколько времени я спал, я не мог определить, но когда проснулся, мне показалось, что солнце уже клонилось к горизонту. Капитан уже встал, и я принялся расправлять свои члены, когда неожиданное явление сразу поставило меня на ноги.
В нескольких шагах огромный краб примерно в метр вы сотой уставился на меня своими косыми глазами и, казалось, готов был на меня броситься. Хотя скафандр служил мне достаточной защитой от его клешней, но все-таки я не смог сдержать движения ужаса. В это время проснулись матрос с «Наутилуса» и Консейль. Капитан указал своему спутнику на гадину, тот размахнулся и тотчас же убил членистоногое ружейным прикладом.
Эта встреча заставила меня вспомнить, что эти темные океанские бездны населены и другими, еще более опасными тварями, от которых, пожалуй, не защитит и скафандр. Удивительно, как это раньше не пришло мне в голову, и впредь я решил соблюдать осторожность, величайшую осторожность!
Я предполагал, что мы дальше не пойдем, но я ошибался. Капитан Немо вместо того, чтобы повернуть к «Наутилусу», продолжил дальше нашу отважную прогулку. Дно все понижалось, его покатость становилась все заметнее. Было около трех часов, когда мы дошли до узкой ложбины между двух высоких утесов, лежащей на глубине ста пятидесяти метров. Благодаря совершенству наших водолазных костюмов мы прошли на девяносто метров ниже предела, на котором до сих пор совершались морские подводные прогулки человека.
Я сказал, что глубина была сто пятьдесят метров, хотя не мог определить расстояние никаким измерительным инструментом. Но я знал, что в самых прозрачных водах солнечные лучи не могут проникать глубже. Мы шли ощупью в глубокой темноте. Ничего нельзя было различить даже в десяти шагах. Вдруг блеснул яркий луч света. Это капитан привел в действие свой электрический фонарь. Его спутник сделал то же, и мы с Консейлем последовали их примеру. Я повернул выключатель, и витая стеклянная трубка, заполненная газом, засветилась. Море озарилось четырьмя фонарями на расстояние двадцати пяти метров.
Капитан продолжал углубляться в лес, где деревья становились все реже и реже; я заметил, что растительность исчезала быстрее, чем животные. В иных местах растения из-за недостатка света уже пропали, а несчетное множество животных, зоофитов, членистоногих, моллюсков и рыб еще так и кишело вокруг нас.

Я думал, что свет наших фонарей непременно привлечет кого-нибудь из обитателей темных глубин, но если они и приближались, то не на ружейный выстрел. Не раз я видел, что капитан прикладывал ружье к плечу, но через несколько мгновений, так и не выстрелив, снова опускал ружье и продолжал путь.
Наконец, около четырех часов дня эта чудная прогулка окончилась. Великолепные утесы заступили нам дорогу. Это было скопление гигантских скал, неприступная гранитная громада, изрытая темными гротами. Это был остров Креспо! Это была земля!
Капитан Немо вдруг остановился. Его жест остановил и нас. Здесь оканчивались владения капитана, и он не хотел переступать их границы. За этими утесами была та часть земного шара, в которую он не желал проникать.
Капитан шел во главе и указывал нам обратный путь без всяких колебаний. Я заметил, что мы возвращаемся не той дорогой. Эта новая дорога была очень крутой и потому очень трудной, но она вскоре вывела нас к поверхности океана.
Впрочем, это возвращение в верхние слои воды совершилось более или менее постепенно: быстрый внезапный подъем мог сильно подействовать на наш организм из-за резкого изменения давления и привести к внутренним повреждениям, которые губят неосторожных водолазов. Скоро стало светлее — солнце уже стояло низко на горизонте, и рефракция снова облекла все предметы спектральным кольцом.
Мы шли на глубине десяти метров посреди какой-то каши из маленьких рыбешек всех родов; они были многочисленнее и проворнее, чем птицы в воздухе, но ни одной стоящей водной дичи нам не попадалось.
Вдруг вижу, капитан быстро прицелился в какой-то подвижный предмет, мелькающий в кустах. Раздался выстрел, я услышал слабый свист, и убитое животное упало в нескольких шагах от нас. Это была великолепная морская выдра, калан, — единственное четвероногое животное, которое водится исключительно в море. Она была в один метр и пятьдесят сантиметров величиной и, вероятно, стоила очень дорого. Ее шкурка — темно-каштановая снизу и серебристая сверху — чрезвычайно высоко ценится русскими и китайскими торговцами. Принимая во внимание тонкость и лоск ее меха, можно было оценить ее самое меньшее в две тысячи франков.

Я любовался этим интересным млекопитающим с круглой головой, короткими ушами, круглыми глазами, белыми усами, похожими на кошачьи, лапы у него снабжены перепонкой и когтями, хвост пушистый. Это ценное хищное животное, жадно преследуемое охотниками, сделалось теперь почти редкостью и сохраняется еще в северной части Тихого океана, где тоже, вероятно, скоро переведется.
Товарищ капитана взвалил на плечи животное, и мы продолжали путь.
В продолжение часа мы шли по песчаной равнине; она часто возвышалась до двух метров от поверхности воды. Тогда я видел, как наши фигуры ясно отражались в обратном положении и над нами оказывалась такая же группа, представляя наши жесты и движения, только головой вниз, а ногами вверх.
Меня также очень занимали густые облака, которые проносились над нами, они быстро образовывались и таяли. Подумав, я понял, что это явление объясняется изменчивостью толщи воды над нами, и даже приметил пенящиеся белые «барашки», которые разбивались на гребнях волн и разливались по воде. Даже тени пролетавших над морем птиц, близко касавшихся поверхности, и те были ясно и отчетливо видны.
И здесь я стал свидетелем замечательнейшего выстрела. Большая ширококрылая птица парила над поверхностью, описывая круги, и мы очень явственно различали ее очертания. Спутник капитана Немо прицелился и выстрелил, когда она находилась всего в нескольких метрах над водой. Птица упала камнем почти в руки меткого стрелка. Это был великолепный альбатрос, превосходнейший образец морских птиц.

После этого мы снова отправились дальше и в продолжение целых двух часов шли то по песчаной равнине, то по лугам морских водорослей; дорога была очень трудной. Откровенно говоря, я уже изнемогал, когда вдруг заметил слабую волну света, которая перерезывала темноту вод на полмили. Это был прожектор «Наутилуса».
«Еще минут двадцать, — подумал я, — и мы будем на борту судна! И там я свободно вздохну! Скоро! Скоро! Немного еще потерпи, Пьер Аронакс!»
Мне начинало уже казаться, что мой резервуар дает очень мало кислорода. Но я не рассчитывал на встречу, которая несколько замедлила наше возвращение.
Я отстал шагов на двадцать, вдруг вижу: капитан быстро возвращается, почти бежит ко мне, хватает меня своей мощной рукой и пригибает к земле, а его спутник поступает точно так же с Консейлем. Я не знал, что и подумать об этом нечаянном нападении, но успокоился, увидев, что сам капитан лежит неподвижно около меня.
Итак, меня растянули на земле в тени водорослей, но я приподнял немного голову — и вдруг вижу: какая-то громадная фосфоресцирующая масса с шумом проносится над нами. Кровь застыла в моих жилах: это была пара страшных акул-людоедов с огромными хвостами, тусклыми, стеклообразными глазами и светящимися пятнами вокруг морды. Их чудовищная огненная пасть способна целиком раздробить человека своими железными челюстями.
Не знаю, занимался ли Консейль их классификацией, а я разглядывал их серебристое брюхо, огромную пасть, усеянную острыми зубами, впрочем, разглядывал не с научной точки зрения, не как натуралист, а как обреченная жертва. Счастье еще, что эти обжоры плохо видят. Они пронеслись мимо, слегка коснувшись нас своими коричневатыми плавниками, но не заметили. Мы избегли опасности, которая была пострашнее встречи с тигром в лесу.
Полчаса спустя наконец мы подошли к «Наутилусу». Наружный люк быт открыт, и капитан закрыл его, как только мы вошли в кабину; потом он нажал на кнопку. Насосы внутри судна начали действовать, уровень воды стал понижаться, и через несколько секунд кабина была совершенно пустой. Тогда распахнулась внутренняя дверь, и мы вошли в гардеробную. Там мы сняли свои скафандры, и сняли их не без труда.
Усталый, шатаясь от изнеможения, я добрался до своей каюты.
«Что это? — думал я. — Во сне все это было или наяву?»
Глава восемнадцатая
Четыре тысячи лье под водами Тихого океана
На следующее утро, 18 ноября, чувствуя себя совершенно отдохнувшим, я вышел на палубу в то самое время, когда помощник капитана произносил свою ежедневную фразу. Тут мне пришло на ум, что она относится к состоянию моря или означает отсутствие опасности: «На море спокойно».
И действительно, океан представлял безбрежную водную пустыню: ни паруса на горизонте, ни утесов острова Креспо — они исчезли за ночь. Поглощая призматические цвета, океанская вода отражала голубые лучи во всех направлениях и имела превосходный цвет индиго.
Я любовался величественным видом океана, когда показался капитан Немо. Не обратив на меня внимания, он приступил к астрономическим наблюдениям. Окончив их, он облокотился на рубку штурвального, и глаза его задумчиво устремились на бескрайную поверхность океана.
Тем временем двадцать матросов «Наутилуса», все люди сильные и хорошо сложенные, вышли на палубу. Они пришли вытаскивать сети, которые были заброшены на ночь. Видно было, что эти моряки принадлежали к различным нациям, хотя они были европейского типа. Я без труда узнал ирландцев, французов, нескольких славян и одного грека или киприота. Они были скупы на слова, а если и обращались из редка друг к другу, то все на том же странном наречии, которого я не мог понять. Значит, я не мог поговорить с ними.
Тем временем на судно втащили сети. Это был вид нормандского невода — огромные мешки, которые поплавки и цепь, продетая в петли, держат полуоткрытыми. Мешки эти волочатся на стальном тросе по дну и захватывают все, что попадется.
В это утро поймали любопытные образчики: здесь были лягвы — рыбы из семейства рукоперых, которых за смешные движения прозвали паяцами, спинороги, опоясанные красной полосой, ядовитые тетрадоны, или рыбы-собаки из семейства иглобрюхих, оливковые миноги, сарганы, похожие на иглу и покрытые серебристой чешуей, нитехвосты, электрическая сила которых равна силе гимнота и ската, спиноперы чешуйчатые с поперечными коричневыми полосками, зеленоватая треска, различные виды колбней. Попалось несколько больших рыб — один каранкс, или толстоголовка, с выпуклой головой, длиной в целый метр, несколько отличных макрелей, испещренных голубыми и серебристыми пятнами, и три великолепных тунца, которых вся их юркость не могла спасти от невода.
Я полагал, что на этот раз сети принесли не менее тысячи фунтов рыбы. Ловля великолепная, слов нет, — но не удивительная. Сети закидывают на несколько часов, и они захватывают в свою нитяную темницу всех обитателей водяного мира, встречающихся на пути. Да, теперь у нас недостатка в провизии не будет, это можно было сказать наверняка! Богатые дары океана были спущены в камбуз; одна часть улова, видимо, предназначалась для запасов, а другая — к столу.
Ловля была окончена, запас воздуха возобновлен, и я подумал, что «Наутилус» станет погружаться, и хотел уже идти в свою каюту. Вдруг капитан повернулся ко мне и сказал без всяких предисловий:
— Посмотрите на этот океан, профессор, разве в нем нет жизни? Разве не выказывает он своего гнева и своей нежности? Вчера он спал, как и мы, теперь же просыпается после тихой ночи!
Ни здравствуйте, ни доброго утра! Можно было подумать, что капитан продолжает начатый разговор!
— Посмотрите, — продолжал он, — он просыпается от ласки солнечных лучей! Он оживляется, начинает дневную жизнь! Как любопытно следить за ним! Он имеет организм — у него пульс, артерии, спазмы! Я согласен с ученым Мори, который нашел, что у океана точно такая же циркуляция воды, как кровообращение животных.
Конечно, капитан не ожидал от меня никакого ответа, а поддакивать ему, повторять «точно», или «наверно», или же «вы правы» я считал излишним. Он скорее говорил сам с собой и после каждой фразы надолго умолкал. Это было размышление вслух.
— Да, — говорил он, — океан имеет настоящее кровообращение, вода в нем постоянно циркулирует, и для этого достаточно изменение температуры, солей и микроорганизмов. Перепады температуры предопределяют плотность воды, как следствие, образуются течения и противотечения. Испарения воды, ничтожные на севере, очень значительные в экваториальных зонах, вызывают постоянный обмен тропических и полярных вод. Я обнаружил, кроме того, постоянное движение воды сверху вниз и снизу вверх, по вертикали, которое можно назвать настоящим дыханием океана. Я видел, как морская вода, согретая на поверхности, уходила на глубину и достигала высшей плотности при температуре ниже нуля, охлаждалась, делалась тяжелее, опускалась вниз, на глубину. Вытесняемая другой массой воды, пришедшей ей на смену, она постепенно снова согревалась, становилась легче и снова всплывала вверх. Вы увидите у полюса последствия этого явления и поймете тогда по этому закону предусмотрительной природы, отчего вода превращается в лед только на поверхности.
Пока капитан оканчивал свою фразу, я думал: «Полюс! Разве этот смельчак хочет нас вести туда?»
Капитан умолк и некоторое время любовался водной стихией, которую он беспрерывно изучал. Потом он снова продолжил:
— В море находится значительное количество солей. Если бы вы могли извлечь ее всю, то у вас образовалась бы масса в четыре с половиной миллиона кубических лье. Если рассыпать ее по земному шару ровным слоем, то его толщина составила бы более десяти метров! Не думайте, что присутствие солей было прихотью природы. Нет, они делают морскую воду менее испаряемой и препятствуют ветрам уносить большое количество водяных паров, которые в виде осадка затопляли бы умеренные пояса. Вот какое важное значение имеет соль!
Капитан опять умолк, встал, сделал несколько шагов и, подойдя ко мне, снова заговорил:
— Что же касается тех миллиардов микроскопических существ — в одной капле воды их миллионы, — то значение этих инфузорий не менее важно! Они поглощают морские соли, в том числе растворенную в воде известь, и являются творцами известковых и коралловых рифов. Умирая, они снова отдают в воду минеральные вещества, частично отлагая их на дне в виде скелетов. Капля воды, лишенная своего минерального содержания, облегчается, поднимается на поверхность, поглощает испаряемую соль, делается тяжелее, опускается и приносит микроскопическим животным новые элементы для поглощения. Таким образом осуществляется вечное круговое движение, вечная жизнь! Жизнь более напряженная, более плодотворная, чем на материке, процветает во всех частях океана. Это стихия смерти для человека, как кто-то сказал, но стихия жизни для мириадов животных — и для меня!
Говоря эти слова, капитан совершенно преобразился, чем произвел на меня необыкновенное впечатление.
— Здесь, — прибавил он, — только здесь настоящая жизнь! И я допускаю возможность основания подводных городов, строительства подводных домов, которые, как «Наутилус», будут выплывать, чтобы подышать свежим воздухом, каждый день на поверхность моря, — городов свободных! Но и на дне морском, кто поручится, что какой-нибудь деспот не…
Капитан Немо оборвал свою фразу быстрым движением.
Потом, чтобы прогнать мрачные мысли, он спросил меня:
— Господин Аронакс, знаете вы, какова глубина океана?
— Я знаю, капитан, то, что показали измерения.
— Можете вы мне их назвать, чтобы я в случае надобности мог проверить?
— Вот некоторые, — отвечал я. — В северной части Атлантического океана средняя глубина восемь тысяч двести метров, а в Средиземном — две тысячи пятьсот метров. Наиболее примечательные глубины обнаружены на юге Атлантического океана на широте около 35° — двенадцать тысяч метров, четырнадцать тысяч девяносто один метр и пятнадцать тысяч сто сорок девять метров. В итоге полагают, что будь дно Мирового океана на одном уровне, его средняя глубина была бы около семи километров.
— Хорошо, профессор, — отвечал капитан, — я надеюсь дать вам более точные цифры. Что же касается средней глубины этой части Тихого океана, то могу сообщить, что она примерно четыре тысячи метров.
Сказав это, капитан направился к люку. Я последовал за ним. Машины «Наутилуса» тотчас же пришли в движение, и лаг показал скорость двадцать миль в час.
Проходили дни, недели; капитан Немо редко посещал нас. Помощник капитана аккуратно отмечал на карте курс судна, и я мог следить за местоположением «Наутилуса».
Консейль и Нед Ленд проводили со мной целые часы. Консейль рассказывал своему приятелю Неду про чудеса нашей подводной прогулки, и канадец очень сожалел, что не отправился с нами, но я его обнадеживал.
— Не горюйте, Нед, — говорил я, — не горюйте! Пойдем еще и в другой раз, и тогда вы наверстаете упущенное!
Почти каждый день на несколько часов открывались иллюминаторы в салоне, и наши глаза могли созерцать тайны подводного мира.
«Наутилус» шел курсом на юго-восток, на глубине от ста до ста пятидесяти метров. Один раз, не знаю по какому случаю, судно погрузилось на глубину двух тысяч метров. Стоградусный термометр показывал температуру 4,25°, температуру, которая на этой глубине одинакова для всех широт.
26 ноября в три часа утра «Наутилус» пересек тропик Рака на долготе 172°. 27 ноября он миновал Гавайские острова, где 14 февраля 1779 года умер знаменитый капитан Кук. Мы, значит, прошли четыре тысячи восемьсот шестьдесят лье с начала нашего путешествия.
Утром, когда я был на палубе, я приметил в двух милях под ветром Гавайи один из семи замечательнейших островов архипелага. Я ясно различил его возделанные окраины, предгорья и цепи гор, идущие параллельно берегу, вулканы, над которыми возвышается Мауна-Кеа, подымающаяся на пять тысяч метров над уровнем моря.
Между другими образцами сети выловили несколько экземпляров падины павлиньей, полипа чрезвычайно грациозной формы, который преимущественно встречается в этой части океана.
«Наутилус» по-прежнему шел на юго-восток. Он пересек экватор 1 декабря на долготе 142°, а 4 декабря, после быстрого перехода, который не ознаменовался никакими приключениями, мы увидели группу Маркизских островов, принадлежащих Франции. На расстоянии трех миль, на 8°572 южной широты и 139°322 западной долготы я увидел пик Мартин, на острове Нукухива. Я только мог различить абрис лесистых гор на горизонте, потому что капитан Немо не любил близко подходить к берегу. Здесь закинутые сети вытащили отличных рыб: корифенов с голубыми плавниками и золотым хвостом, радужных губанов, почти без чешуи, превосходных на вкус, коралловых рыбок с костяными челюстями и многих других, достойных включения в наше меню.
Миновав прелестные острова, находящиеся под охраной французского морского флота, «Наутилус» с 4 по 11 декабря прошел около двух тысяч миль. Это плавание было примечательно встречей с огромным количеством кальмаров, интересным моллюском, родственником каракатицы. Он известен у французских рыболовов под названием «летающий кальмар» и принадлежит к классу головоногих, к семейству каракатиц и аргонавтов. Этих животных тщательно изучали древние натуралисты, они служили пособием для многочисленных метафор античных ораторов и вместе с тем являлись отличным блюдом богатым гражданам, если верить Атенею, древнегреческому доктору, предшественнику Галена.
В ночь с 9 на 10 декабря «Наутилус» встретил огромные полчища моллюсков. Исчисляемые миллионами, они переселялись из умеренного в теплый пояс, мигрируя по маршруту сельдей и сардин. Мы смотрели через толстые стекла, как они плыли, с силой выбрасывая воду из своей «воронки», как преследовали с необычайной скоростью мелких рыбок и моллюсков, пожирали мелких, были пожираемы более крупными и проворно двигали десятью щупальцами, развевающимися вокруг их головы.
«Наутилус», несмотря на свою скорость, плыл посреди этих животных несколько часов; сети захватили их бесчисленное множество. Я узнал представителей девяти видов, которых д'Орбиньи причислял к обитателям Тихого океана.
Море щедро угощало нас великолепными зрелищами, оно разнообразило их до бесконечности, меняя декорации и обстановку сцены.
Днем 11 декабря я читал в салоне. Нед и Консейль наблюдали через иллюминаторы светящуюся воду. «Наутилус» стоял на месте. Резервуары его были наполнены, и он держался на глубине тысячи метров — часть океана малообитаемая и редко посещаемая большими рыбами.
Я читал интересную книгу «Угодники желудка» Жана Масе и наслаждался остроумием автора, как вдруг Консейль прервал мое занятие.
— Прошу извинения у их чести! Пусть их честь пожалует сюда на минуту! — сказал он странным голосом.
— Что там такое, Консейль?
— Пусть их честь изволит посмотреть!
Я подошел, облокотился и посмотрел в стекло. Освещаемая электрическим светом прожектора, в воде висела неподвижная чернеющая огромная масса. Я старался распознать, к какому роду принадлежит это гигантское животное, как вдруг понял, что это такое.
— Корабль! — вскрикнул я.
— Да, — отвечал канадец, — затонувший, с перебитым рангоутом!
Нед Ленд не ошибся. Это точно было судно, перерезанные ванты висели еще на цепях, корпус, казалось, был в хорошем состоянии, и надо полагать, что крушение произошло всего несколько часов назад. Обломки трех мачт, сбитых на два фута выше палубы, показывали, что команде пришлось пожертвовать рангоутом. Судно лежало на боку и было полно воды.
Печальное зрелище представлял этот корабль, но еще печальнее был вид его палубы, где лежало несколько трупов, привязанных канатами! Я насчитал четыре мужских трупа, один еще стоял как живой у руля. Женщина с ребенком на руках наполовину высунулась из решетчатого люка. Она была молода, я мог различить при ярком свете «Наутилуса» ее черты, которые вода еще не испортила, и отчаянно поднимала вверх своего ребенка, а бедный крошка цеплялся ручонками за материнскую шею. Четверо моряков замерли в конвульсиях, пытаясь в последнем усилии разорвать веревки, привязывающие их к судну. Один лишь рулевой с ясным и благородным лицом, с седыми, прилипшими ко лбу волосами, с руками, сжимающими штурвал, остался спокоен — казалось, он по-прежнему управляет трехмачтовым судном в глубине океана.
Какое зрелище! Мы долго смотрели, не говоря ни слова, на эту картину кораблекрушения, которая казалась фотографическим снимком последней минуты катастрофы. Я уже видел приближающихся акул с огненными глазами: они почуяли запах человеческого мяса.
Когда «Наутилус» обходил потопленное судно, я смог прочитать на его корме надпись: «Флорида», Сандерленд.
Глава девятнадцатая
Ваникоро
Это ужасно трагическое зрелище, вероятно, не было редкостью для наших подводных мореплавателей. Как только «Наутилус» вступил в воды часто посещаемых морей, мы то и дело начали встречать гниющие остовы потопленных корабельных корпусов, а на самом дне ржавели пушки, ядра, якоря, цепи и тысячи тому подобных железных предметов.
11 декабря мы приблизились к архипелагу Туамоту, открытому французским мореплавателем Бугенвилем. Он тянется на пятьсот лье с востока-юго-востока на запад-северо-запад между 13°302 и 23°502 южной широты и 125°302 и 151°302 западной долготы от острова Дюси до острова Лазарева (Матаива).
Этот архипелаг площадью триста семьдесят квадратных лье состоит из шестидесяти групп островов, между которыми самая замечательная — группа Гамбье, находящаяся под покровительством Франции. Эти коралловые острова медленно постоянно приподнимаются благодаря неустанной работе полипов и, вероятно, со временем соединятся все вместе. Затем образовавшийся остров сплотится с соседним архипелагом, образовав пятый континент от Новой Зеландии и Новой Каледонии до Маркизских островов.
Когда я излагал эту теорию капитану Немо, он холодно меня прервал.
— Нужны новые люди, а не новые континенты! — сказал он.
Следуя своему курсу, «Наутилус» прошел мимо острова Клермон-Тоннер — самого любопытного острова из всей группы. Он был открыт капитаном «Минервы» Беллом в 1822 году. Здесь я мог изучить мадрепоровые кораллы, из которых состоят все острова этой части Тихого океана.
У мадрепор, которых не надо смешивать с кораллами других видов, мощный известковый скелет. Их строение позволило моему знаменитому учителю Мильн-Эдвардсу причислить их к пятому отряду. Эти микроскопические морские животные миллиардами живут в своих келейках; из их известковых жилищ образуются скалы, рифы, островки и острова. Здесь они образуют кольцо вокруг лагуны или маленького озера, внутри атолла, которое посредством брешей соединяется с морем; там они представляют цепь барьерных рифов, подобных тем, какие находятся у берегов Новой Каледонии и около многих островов Туамоту. В других же местах, например у островов Общества и у острова Маврикия, они поднимаются зубчатыми рифами, высокими отвесными стенами, и глубина около них бывает довольно значительной. В то время, когда «Наутилус» проходил мимо берегов острова Клермон-Тоннер, я восхищался гигантской работой, произведенной этими микроскопическими зодчими. Эти стенообразные скалы было делом мадрепоров класса коралловых полипов, известных под названием миллепоровых, поритов, астрей и меандрин. Полипы эти развиваются преимущественно ближе к поверхности и, значит, начинают свои постройки не снизу, а сверху, потом, по мере наращивания постройки, опускаются ко дну.
Так, по крайней мере, должно быть по теории Дарвина, который объясняет подобным образом образование атоллов. По-моему, эта теория несравненно вероятнее той, которая утесы, горы и вулканы, не достигающие нескольких футов поверхности моря, считают базой для нарастания мадрепоров.
Я очень близко мог наблюдать эти любопытные ответные стены; зонды показывали в этом месте глубину более трехсот метров. В свете наших электрических прожекторов известь сверкала как алмаз.
— С позволения их чести, — сказал Консейль, — сколько времени заняло образование этих стен?
— Ученые полагают, — отвечал я, — что в столетие прибавляется по одной восьмой дюйма.
Консейль удивился.
— Значит, с позволения их чести, чтобы воздвигнуть эти стены, надо было?..
— Сто девяносто две тысячи лет, мой любезный Консейль, что превышает обыкновенное библейское летоисчисление.
Образование каменного угля, то есть минерализация до исторических лесов, поглощенных наводнениями, требовало гораздо больше времени. Но я прибавлю, что библейский день творения — не что иное, как эпоха, а вовсе не промежуток времени между восходами солнца, тем более что по самой Библии и солнце создано не в первый день творения.
Когда «Наутилус» всплыл на поверхность океана, я мог видеть низменный и лесистый остров Клермон-Тоннер. Его известковую почву, очевидно, оплодотворяли морские штормы и бури. Когда-то какие-нибудь зерна, занесенные ураганом с соседних земель, упали на известковые стой, удобренные разложившимся прахом рыб и морских водорослей, и дали всходы. Кокосовый орех, прибитый волнами, очутился на этом новом берегу и пустил корни. Выросли деревья и остановили испарения воды, образовался ручей. Растительность мало-помалу распространилась по острову. Различные микроорганизмы, черви, насекомые приплыли на оторванных ветром и унесенных морским течением с какого-нибудь острова стволах, черепахи начали здесь класть яйца, птицы свили гнезда в молодых деревьях. Таким образом постепенно развился животный мир, и, привлеченный зеленью и плодородием, на острове появился человек.
Так микроскопические животные образуют огромные острова!
К вечеру Клермон-Тоннер исчез из виду, а курс «Наутилуса» значительно изменился. Пройдя тропик Козерога на широте 135°, он направился к западу-северо-западу, проходя все пояса, лежащие между тропиками. Хотя летние лучи солнца были очень жгучи, но мы не чувствовали сильного жара, потому что в тридцати или сорока метрах под водой температура не превышала 10–12°.
15 декабря мы оставили на востоке прелестный архипелаг Общества, в том числе живописный Таити. Утром я увидел в нескольких милях под ветром вершины этого острова. Воды у его берегов изобиловали превосходной рыбой — тунцом, альбокором и муреной, похожей на морских змей.
«Наутилус» прошел восемь тысяч сто миль. Девять тысяч семьсот двадцать миль показывал корабельный лаг, когда проходили между архипелагом Тонга-Табу, где погибли экипажи «Арго», «Порт-о-Пренс» и «Дюк оф Портленд», и архипелагом Мореплавателей, где был убит капитан Лангль, друг Лаперуза. Потом мы увидели острова Фиджи, где дикари убили матросов корабля «Юнион» и капитана Бюро из Нанта, командовавшего кораблем «Красавица Жозефина». Этот архипелаг простирается на сто лье с севера на юг, с востока на запад на девяносто лье и находится между 6° и 20° южной широты и 174° и 179° западной долготы. Он состоит из группы островков, рифов и островов, среди которых самые крупные — Вити-Леву, Вануа-Леву и Кандюбон.
Тасман открыл Фиджи в 1643 году. В том же году Торричелли изобрел барометр, а Людовик XIV взошел на престол. Я предоставляю читателю судить, какое из этих событий полезнее для человечества.
Капитан Кук был на этих островах в 1714 году, д'Антркасто — в 1793-м, и, наконец, в 1827 году Дюмон-Дюрвиль распутал географический хаос этого архипелага.
«Наутилус» приблизился к бухте Вайлеа, к месту ужасных приключений капитана Диллона, того самого, который первым разъяснил тайну крушения кораблей Лаперуза. Эта бухта изобилует превосходными устрицами. Мы поедали их без счета, вскрывая тут же за столом, по наставлениям Сенеки. Эти моллюски принадлежат к виду Ostrea lamellosa, который очень распространен на Корсике.
Каждая устрица производит до двух миллионов яиц, и не будь беспрестанных разрушений, морских звезд и крабов, поедающих молодых моллюсков, пожалуй, бухта Вайлеа окончательно бы обмелела.
Если Неду Ленду на этот раз не пришлось каяться в своем обжорстве, то единственно потому, что эти устрицы, сколько их ни ешь, не вызывают переедания. Надо съесть их не менее шестнадцати дюжин, чтобы получить триста пятнадцать граммов азотистого вещества, необходимого для ежедневного рациона человека.
25 декабря «Наутилус» шел мимо архипелага Новые Гебри ды, который был открыт Квиросом в 1606 году, исследован Бугенвилем в 1768 году и окрещен в 1773 году капитаном Куком. Эта группа главным образом состоит из девяти больших островов, составляющих полосу в сто двадцать лье с северосеверо-запада на юго-юго-восток, находящуюся между 15° и 2° южной широты и между 164° и 168° долготы.
Мы прошли довольно близко от острова Ору. Я смотрел на него в полдень, и он показался мне сплошной массой зеленого леса, над которым возвышался острый утес.
Это было как раз в день Рождества Христова, и Нед Ленд приуныл.
— Вот каторга-то! — говорил он. — Такой праздник, а мы гуляем в стальном ящике под водой!
Я не видел капитана всю неделю, но утром 27 декабря он вошел в салон, по своему обыкновению раскланялся и заговорил так, словно видел нас пять минут назад.
Я как раз рассматривал по карте путь «Наутилуса», когда капитан подошел ко мне, указал на карте точку и произнес одно только слово:
— Ваникоро.
Это название подействовало на меня магически. Ваникоро — островки, о которые разбились корабли Лаперуза.
— «Наутилус» идет к Ваникоро? — спросил я.
— Да, профессор, к Ваникоро.
— А могу я посетить эти знаменитые острова, где потерпели кораблекрушение «Компас» и «Астролябия»?
— Если вы этого желаете, профессор.
— Когда мы будем около Ваникоро?
— Мы уже около него. Пожалуйте.
Я пошел, или, вернее, побежал за капитаном на палубу, и глаза мои жадно впились в горизонт.
На северо-востоке виднелись два вулканических острова различной величины, окруженные коралловыми рифами, имеющими примерно сорок миль в окружности. Ближе к нам был остров Ваникоро, которому Дюмон-Дюрвиль дал имя остров поисков. Мы находились как раз перед маленькой гаванью Вану, лежащей на 16°42 южной широты и 164°322 восточной долготы. Земля, казалось, была сплошь покрыта зеленью, от берега до самых вершин, над которыми возвышалась гора Капого.
«Наутилус», пройдя за наружный пояс скал через узкий пролив, очутился в гавани, где глубина была от тридцати до сорока саженей. Под зеленой тенью мангровых деревьев я заметил нескольких дикарей, которые, казалось, были несказанно изумлены нашим прибытием. Они, наверное, приняли черноватую, едва выдающуюся из воды массу «Наутилуса» за какое-нибудь китообразное.
Капитан Немо спросил меня, что я знаю о крушении Лаперуза.
— То же, что и все, капитан, — отвечал я.
— А можете вы мне сказать, что все знают? — спросил он несколько иронически.
— Могу.
И я тотчас же стал ему пересказывать все события.
— Вот что известно, капитан, — начал я, — из донесений Дюмон-Дюрвиля. Лаперуз и его помощник, капитан Лангль, были посланы в 1786 году Людовиком XVI совершить кругосветное плавание на корветах «Компас» и «Астролябия» и бесследно пропали.
В 1791 году французское правительство, беспокоясь о судьбе этих двух корветов, снарядило спасательную экспедицию в составе двух фрегатов, «Поиск» и «Надежда», которые отплыли из Бреста 28 сентября под командой Бруни д'Антркасто. Спустя два месяца узнали из свидетельства Боуэна, командовавшего судном «Албермаль», что около Новой Георгии видели обломки разбитых судов. Но д'Антркасто, ничего не зная об этом известии, впрочем, довольно сомнительном, отправился к островам Адмиралтейства, означенным в донесении капитана Гентера как место крушения Лаперуза. Его поиски были напрасны: «Надежда» и «Поиск» прошли мимо Ваникоро не останавливаясь, и результат этого путешествия был весьма печален: оно стоило жизни самому д'Антркасту, двум его по мощникам и многим матросам из экипажа.
Первым нашел следы крушения кораблей Лаперуза старый морской волк, знаток Тихого океана, капитан Диллон. 15 мая 1824 года его судно «Святой Патрик» прошло около острова Тикопиа из Новых Гебридов. Там один туземец, подплывший на пироге, продал ему серебряный эфес от шпаги, на котором была вырезана какая-то надпись, и рассказал между прочим, что шесть лет тому назад он видел на Ваникоро двух европейцев, выброшенных на скалы острова после кораблекрушения.
Диллон догадался, что дело шло о корветах Лаперуза, исчезновение которых так взволновало весь мир. Он хотел добраться до Ваникоро, где, по словам туземца, еще сохранились обломки судов, но сильные ветры и течение помешали его намерениям.
Диллон вернулся в Калькутту; там он заинтересовал своим рассказом «Азиатское общество» и Ост-Индскую компанию. Судно «Поиск» было дано в его распоряжение, и он отправился в путь 23 января 1827 года в сопровождении французского представителя.
После неоднократных остановок в различных пунктах Тихого океана «Поиск» бросил якорь у Ваникоро 7 июля 1827 года, в той же самой гавани Вану, где теперь находился «Наутилус».
Диллон здесь собрал множество остатков крушения: инструменты, якоря, блоковые стропы, камнеметные мортиры, ядра, обломки астрономических приборов, куски гакаборта и бронзовый колокол с надписью «Сделано Базеном», клеймом литейного Брестского арсенала, и датой «1785». Сомнений больше не оставалось.
Диллон продолжал поиск доказательств на месте кораблекрушения до октября. Покинув Ваникоро, он направился к Новой Зеландии, потом бросил якорь в Калькутте 7 апреля 1828 года и вернулся во Францию, где очень милостиво был принят Карлом X.
В то же самое время Дюмон-Дюрвиль, не зная ничего об открытии Диллона, тоже искал место крушения, но совсем в другом направлении. По донесению одного китолова, он узнал, что в руках дикарей Луизиады и Новой Каледонии находятся медали и крест св. Людовика.
Дюмон-Дюрвиль, командовавший «Астролябией», вышел в море спустя два месяца после того, как Диллон оставил Ваникоро, и бросил якорь у Гобарт-Тоуна. Там он услышал об успешной экспедиции Диллона и еще узнал, что некий Джемс Гоббс, помощник капитана корабля «Юнион» из Калькутты, дошел до острова, лежащего на 8°182 южной широты и 156°302 восточной долготы, и видел у туземцев железные брусья и красную материю.
Дюмон-Дюрвиль, находясь в сомнении и не зная, верить ли этим противоречивым донесениям, решился, однако, идти по следам Диллона. 10 февраля 1828 года «Астролябия» пришла к Тикопии, где Дюмон-Дюрвиль взял себе проводником и переводчиком бывшего матроса, поселившегося на этом острове, и направился к Ваникоро. Подойдя к острову 12 февраля и лавируя между рифами, судно только 20 февраля бросило якорь в гавани Вану.
23 февраля офицеры и матросы обошли вокруг острова и принесли несколько обломков. Туземцы притворились, что не понимают, о чем их спрашивают, и отказались показать место кораблекрушения. Они вели себя очень подозрительно, возможно, потому, что они не очень благодушно обошлись с потерпевшими крушение. Они, казалось, боялись Дюмон-Дюрвиля, думая, что он пришел мстить за Лаперуза и его несчастных товарищей.
Однако 26 февраля, прельстившись подарками и поняв, что им нечего бояться, туземцы проводили на место катастрофы Жаконо, помощника капитана. Там, под тремя-четырьмя саженями воды, между рифами Паку и Вану, лежали якоря, пушки, железные и свинцовые бруски балласта, уже сплошь покрытые известью. Шлюпка и китобойное судно с «Астролябии» направлены были к этому месту, и экипаж не без труда вытащил якорь весом тысяча восемьсот фунтов, пушку, свинцовую чушку и две медные мортиры.
Расспросив туземцев, Дюмон-Дюрвиль узнал, что Лаперуз, потеряв у рифов острова два корабля, построил из обломков маленькое суденышко, чтобы погибнуть во второй раз… Где?
Этого не знали.
Капитан «Астролябии» воздвиг под сенью мангрового дерева памятник в честь знаменитого мореплавателя и его товарищей. Это была простая четырехугольная пирамида, поставленная на коралловом пьедестале. Для ее постройки не было использовано ни одного кусочка металла, на который так падки туземцы.
Дюмон-Дюрвиль хотел тотчас же отплыть, но команда «Астролябии» была истощена лихорадкой, свойственной этой нездоровой местности, да и сам он заболел, так что с якоря снялись только 17 марта.
Между тем французское правительство, опасаясь, что Дюмон-Дюрвиль не пошел по следам Диллона, послало к Ваникоро корвет «Байонез» под командой Легоарана де Тромлена, который стоял тогда у западного берега Америки. «Байонез» бросил якорь у Ваникоро спустя несколько месяцев после отплытия «Астролябии», но Тромлен не нашел ничего нового и только засвидетельствовал, что туземцы не тронули памятника Лаперузу. Вот, капитан, все, что известно.
— А сейчас знают, — спросил капитан, — где погибло третье судно, построенное Лаперузом после крушения на острове Ваникоро?
— Не знают.
Капитан знаком пригласил меня следовать за ним в салон. «Наутилус» погрузился на несколько метров под воду, и иллюминаторы открылись.
Я кинулся к стеклам и под липкими слоями кораллов, под фунгиями, сифонниковыми и множеством других полипов, среди мелких красивых рыбок, радужных губанов, глифизидонов, диакопей и жабошипов рассмотрел несколько обломков: железные подпорки, якоря, пушки, ядра, форштевень и множество других остатков корабельного снаряжения, которые были теперь покрыты живыми цветами-кораллами.
Пока я рассматривал эти плачевные останки, капитан сказал мне:
— Капитан Лаперуз отплыл 7 декабря 1785 года на суднах «Компас» и «Астролябия»; он бросил якорь у Ботани-Бея, посетил архипелаг Общества, Новую Каледонию, направился к Санта-Крусу, останавливался у Намука, одного из островов Гавайской группы. Потом суда подошли к неизвестным рифам Ваникоро. «Компас» шел впереди, около южного берега сбился с курса, наткнулся на риф и был выкинут на берег; «Астролябия» поспешила к нему на помощь и села на мель. Первое судно тотчас же разбилось, второе сидело на мели под ветром и потому еще продержалось несколько дней. Туземцы довольно хорошо приняли потерпевших кораблекрушение. Лаперуз и его спутники обосновались на острове и из обломков двух больших судов построили одно маленькое. Несколько матросов охотно остались на Ваникоро. Другие, ослабленные болезнью, отплыли с Лаперузом к островам Соломона и погибли у западного берега острова главной группы, между мысами Разочарования и Удовлетворения.
— Откуда вы это знаете, капитан? — вскрикнул я.
— Вот что я нашел на месте последнего крушения!
Капитан показал мне шкатулку из белой жести с французским гербом на крышке, заржавевшую от соленой воды. Он открыл ее, и я увидел свиток пожелтевшей бумаги, но текст еще можно было прочитать. Это было предписание морского министерства капитану Лаперузу с пометками на полях рукой Людовика XVI.
— Знаете, профессор, это прекрасная смерть для моряка! — сказал капитан Немо. — Он покоится в коралловой могиле. Я бы желал, чтобы судьба послала мне и моим товарищам такую же смерть!

Глава двадцатая
Пролив Торрес
В ночь с 27 по 28 декабря «Наутилус» с необычайной скоростью оставил Ваникоро. Он направился на юго-запад и за три дня прошел семьсот пятьдесят лье, отделявших группу островов Лаперуза от юго-восточной оконечности Новой Гвинеи.
1 января 1868 года, рано утром, Консейль пришел ко мне на палубу.
— Если их честь позволит, — сказал он мне, — то я желаю их чести счастливого нового года!
— Спасибо, Консейль, — отвечал я. — Я принимаю твое пожелание точно так же, как принял бы его в моем кабинете при ботаническом саду в Париже, и благодарю за него. Только я спрошу, что ты подразумеваешь под «счастливым годом» при теперешних наших обстоятельствах? Желаешь ты в этом году конца нашему заключению или благополучного продолжения подводного плавания?
— Не знаю, что и сказать их чести, — отвечал Консейль. — Мы видим любопытные вещи, и вот уже целых два месяца мы еще не имели времени скучать. Их чести, верно, известна поговорка: «Последнее чудо всегда самое удивительное». Если и впредь будут такие же чудеса, так я уж и не знаю, чем все это кончится. Другого такого случая не будет, смею заверить их честь…
— Правда, Консейль, другого такого не будет!
— И капитан Немо, с позволения их чести, отлично оправдывает свое латинское имя: он ничуть не стесняет нас, словно вправду не существует.
— Это так, Консейль.
— Я полагаю, с позволения их чести, что это будет счастливый год, когда мы увидим все на свете…
— Все увидим, Консейль? Это может надолго затянуться!
А что думает Нед Ленд?
— Нед Ленд думает совсем не то, что я, — отвечал Консейль. — У него положительный склад ума и требовательный желудок. Смотреть на рыб да их одних есть — это ему не по вкусу. Ему недостает вина, хлеба и мяса, что много значит для саксонца. Саксонцы до смерти любят бифштекс и джин.
— Что касается меня, Консейль, то для меня здешняя пища ничуть не изнурительна, и я не жалуюсь на меню капитана Немо — я им доволен.
— И я тоже, — сказал Консейль. — Я бы остался здесь. А вот Нед спит и видит, как бы отсюда убежать. Значит, если новый год будет для меня неприятен, то для него будет хорош, а если для него будет новый год приятен, то для меня… — Понимаю, Консейль, понимаю! — сказал я.
— Так выходит, с позволения их чести, что один из нас будет доволен. А в заключение я пожелаю того их чести, чего их честь сама себе желает.
— Спасибо, Консейль, спасибо! Только дозволь мне отложить вопрос о новогодних подарках и заменить их до поры до времени пожатием руки — со мной другой монеты нет.
— Это самая лучшая монета, — ответил Консейль.
2 января мы уже сделали одиннадцать тысяч триста сто сорок миль, то есть пять тысяч двести пятьдесят лье с момента нашего выхода из Японского моря. Перед «Наутилусом» расстилались опасные воды Кораллового моря у северо-восточного берега Австралии.
Наше судно шло на расстоянии только нескольких миль от опасного барьерного рифа, где едва не погибли корабли Кука 10 июня 1770 года. Судно, на котором был Кук, ударилось о скалу, и если не затонуло, то только потому, что кусок коралла, отколовшийся при ударе, остался в пробоине корабельного корпуса.
Мне очень хотелось побывать на этом рифе длиной триста шестьдесят лье, о который вечно волнующееся море разбивалось с такой яростной силой, что, казалось, вас оглушают раскаты грома. Но в это время «Наутилус» унес нас на большую глубину, и мне не удалось увидеть эти высокие коралловые стены вблизи. Пришлось удовольствоваться образцами рыб, попавших в наши сети.
Между этими рыбами я заметил крупных тунцов с голубоватым брюшком и поперечными темными полосами, которые исчезают, как только рыба умирает. Эти рыбы следовали за нами целыми косяками и в готовом виде были чрезвычайно вкусны. Мы поймали также довольно большое количество морских карасей длиной пять сантиметров, имеющих вкус златоспинной дорады, и рыб-летучек, настоящих подводных ласточек, которые в темную ночь своим фосфоресцирующим блеском попеременно освещают то воздух, то воду.
Между моллюсками и зоофитами я нашел в неводе различные виды альционарий, морских ежей, ракушек-молотков, церитов и стеклушек.
Представителями флоры явились прелестные плавучие водоросли, ламинарии, макроцистисы, покрытые слизью, которая сочилась сквозь их поры. Тут же я нашел чудную Nemastoma, которая считается большой редкостью.
Два дня спустя после нашего перехода через Коралловое море, 4 января, мы увидели берега Новой Гвинеи. По этому случаю капитан сообщил мне, что он пройдет в Индийский океан через Торресов пролив.
Нед с удовольствием отметил, что мы приближаемся к европейским морям.
Торресов пролив считается опасным для мореплавателей не только из-за обилия подводных рифов, но и из-за характера дикарей, которые часто появляются на его берегах. Он отделяет Австралию от большого острова Новая Гвинея.
Этот остров простирается на четыреста лье в длину, на сто тридцать лье в ширину и имеет площадь семьсот восемьдесят пять тысяч квадратных километров. Он лежит между 0°192 и 10°22 южной широты и 128°232 и 146°152 долготы. В полдень, когда помощник капитана Немо определял высоту солнца, я разглядел цепи Арфальских гор, подымающиеся террасами и увенчанные остроконечными пиками.
Остров был открыт в 1511 году португальцем Франциско Серрано; затем его посетил дон Хозе де Менезес в 1526 году, в 1527-м — Грихальва, в 1528-м — испанский генерал Альвар де Сааведра, в 1545-м — Хуго Ортес, в 1616-м — голландец Саутен, в 1753-м — Николас Срюик, в 1792-м — Тасман, Дампир, Фюмель, Картере, Эдвардс, Бугенвиль, Кук, Форрест, Мак-Клур, в 1792-м — д'Антркасто, в 1823-м — Дюппере и в 1827-м — Дюмон-Дюрвиль. «Это очаг всех малайских негров», — сказал де Риенци о Новой Гвинее.
«Судьба может столкнуть нас с андаманами! А андаманы шутить не любят!» — думал я.
«Наутилус» приблизился ко входу в опаснейший пролив земного шара, которым самые отважные плаватели едва рискуют проходить. Пролив открыл Луис Ваэс де Торрес, возвращаясь из южных морей в Меланезию. В этом проливе в 1840 году корветы Дюмон-Дюрвиля сели на мель и чуть не погибли. Сам «Наутилус», пренебрегающий всеми опасностями, принял, однако, некоторые предосторожности у коралловых рифов.
Торресов пролив длиной около ста тридцати километров и шириной сто семьдесят километров загроможден бесчисленным множеством островов, островков, рифов и скал, которые делают его почти непроходимым.
Капитан Немо, как я уже сказал, принял все возможные меры предосторожности; «Наутилус» на малой скорости плыл по поверхности воды, лопасти винта, как хвост китообразного, медленно разбивали волны.
Воспользовавшись случаем, мы с Недом Лендом и Консейлем вышли на палубу, которая, как всегда, была пуста, и встали за штурвальной рубкой. Мне показалось, что сам капитан Немо лично управляет «Наутилусом».
У меня в руках была великолепная карта Торресова пролива, начерченная инженером-гидрографом Дюмуленом и мичманом Куван-Дебуа, теперь адмиралом, который состоял в штабе Дюмон-Дюрвиля во время его последнего кругосветного путешествия. Эта карта, как и карта капитана Кинга, самая лучшая: она вносит ясность в путаницу прохода. Я следил за рифами и сверял их по карте самым тщательнейшим образом.
Вокруг «Наутилуса» яростно бушевало море. Волны нес лись с юго-востока на северо-запад со скоростью двух с половиной миль и с грохотом разбивались о коралловые вершины, которые то тут, то там выступали из вспененной воды.
— Вот скверное море! — сказал мне Нед Ленд.
— В самом деле, скверное, — отвечал я, — и вовсе не пригодное для плавания такого судна, как «Наутилус».
— Надо полагать, что наш странный капитан очень хорошо знает дорогу! Посмотрите-ка, вон целая куча коралловых громадин: любая может разбить корпус на тысячу кусков.
В самом деле, положение было опасным, но «Наутилус» скользил, словно по волшебству, среди подводных рифов. Он не пошел по роковому для Дюмон-Дюрвиля маршруту «Астролябии», взял севернее, прошел около берегов острова Мёррея и вернулся на юго-запад, к Кумберландскому проходу. Я думал, что «Наутилус» войдет в этот проход, но он вдруг повернул назад на северо-запад и стал лавировать между множеством малоизвестных островов и островков, направляясь к острову Тунда и каналу Мове.
Я уже думал, что сумасбродный капитан Немо хочет погубить свое судно в этом проходе, где разбились корветы Дюмон-Дюрвиля, когда он еще раз изменил направление и, перерезав дорогу на запад, направился к острову Гвебороар.
Было три часа пополудни. Морской прилив почти достиг своего высшего уровня. «Наутилус» приблизился к этому острову, который и сейчас еще живо представляется мне со своими висячими гирляндами мха и зелени. Мы плыли вдоль его берега не менее двух миль. Вдруг от сильного толчка меня свалило с ног. «Наутилус» наткнулся на подводный риф и встал неподвижно, слегка накренившись на левый борт. Когда я поднялся, то увидел на палубе капитана и его помощника. Они осматривали положение судна, говоря на своем, как выражался Нед, «дьявольском» наречии.
Вот каково было положение: в двух милях справа виднелся остров Гвебороар, его берег тянулся на северо-запад, как гигантская рука; на юго-востоке из воды показались верхушки коралловых рифов, которые уже открывал морской отлив. Мы сели на мель в таком месте, где приливы бывают весьма малы. Судно не потерпело никаких повреждений — до того прочным был его корпус, но даже если в нем не было пробоин, то он рисковал остаться навсегда пригвожденным к подводному рифу.
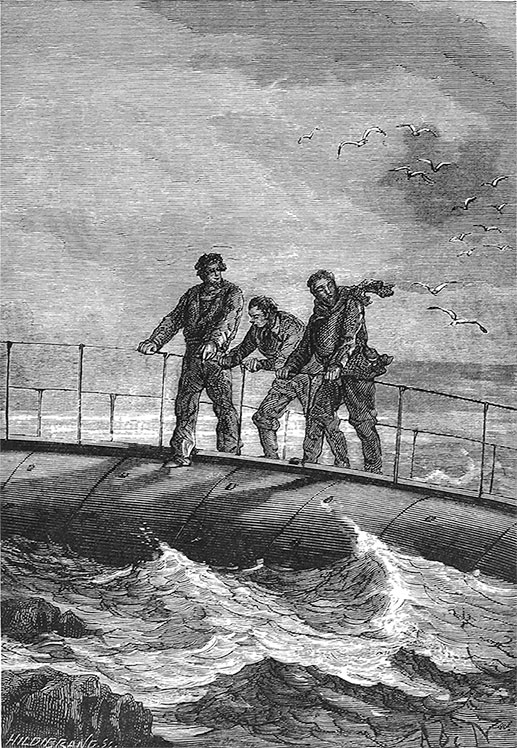
Капитан, как всегда невозмутимый, спокойный, без малейших признаков тревоги, подошел ко мне.
— Несчастье? — спросил я.
— Нет, только препятствие, — отвечал он.
— Но препятствие, — вскрикнул я, — которое заставит вас, может быть, стать снова жителем земли! А вы земли избегаете!
Капитан как-то странно посмотрел на меня и сделал отрицательный жест, который ясно дал мне понять, что ничто и никогда не заставит его выйти на сушу. Потом он сказал:
— Погодите, Аронакс, «Наутилус» еще не погиб! Он еще не раз пронесет вас среди чудес океана! Наше путешествие только началось, и я не хотел бы так скоро лишиться вашего общества.
— Но, капитан, — сказал я, как бы не замечая его иронии, — мы сели на мель во время полного прилива, а в Тихом океане приливы и отливы не так сильны, и если вы не выгрузите балласт — что мне кажется невозможным, — то я не вижу, каким образом «Наутилус» выплывет.
— Это вы справедливо заметили, профессор, — отвечал капитан, — но в Торресовом проливе между уровнем прилива и отлива разница в полтора метра. Сегодня 4 января, и через пять дней будет полнолуние, — я буду очень удивлен, если этот любезный ночной спутник нашей планеты значительно не поднимет водную массу и не окажет мне услугу, которую я желал бы принять только от него.
С этими словами капитан Немо в сопровождении своего помощника сошел вовнутрь «Наутилуса».
Что же касается судна, то оно уже больше не качалось и стояло неподвижно, словно коралловые полипы уже замуровали его в свой неразрушимый цемент.
— Ну что, профессор? — спросил Нед Ленд. Он тотчас же после ухода капитана подошел ко мне.
— Ну, друг Нед, мы будем спокойно дожидаться девятого числа, — ответил я, — кажется, Луна будет так любезна, что снимет нас с мели.
— Просто Луна?
— Да.
— И капитан в надежде на Луну будет сидеть сложа руки? Ничего не станет делать? Не примется за…
— Да зачем же, Нед, — прервал его Консейль, — если все нужное сделает один прилив?
Канадец посмотрел на Консейля, потом пожал плечами.
— Профессор, — сказал он мне, — вы поверьте мне, когда я скажу, что эта железная посудина не будет больше плавать — ни на воде, ни под водой. Она теперь только годится в продажу на вес, и я полагаю, что наступило время нам расстаться с капитаном Немо!
— Нед, — ответил я, — у меня другое мнение насчет «Наутилуса». Погодите, через четыре дня мы увидим, каковы приливы Тихого океана. Вы все думаете о побеге. Побег был бы еще возможен, если б мы были в виду Англии или Прованса, но у берегов Новой Гвинеи это рискованно. Повторяю вам, подождите: к крайностям можно будет прибегнуть в случае, если «Наутилус» не снимется с мели.
— Хоть бы пока пощупать эту землю! — сказал неугомонный Нед Ленд. — Вон остров, на нем деревья, под деревьями разгуливают земные животные, из которых делают котлеты и ростбиф. Эх, отведал бы их теперь!
— В этом случае Нед прав, — сказал Консейль. — Может, их честь могли бы испросить позволения у капитана Немо высадиться на землю, хотя бы только для того, чтобы не разучиться ходить по этой твердой части нашей планеты?
— Попросить могу, — отвечал я, — но он откажет.
— Пусть их честь попробуют, — сказал Консейль, — и мы по этому увидим, чего можно ждать от капитана.
К моему удивлению, капитан Немо любезно согласился на мою просьбу и даже не взял с меня слова возвратиться на судно. Впрочем, побег через Новую Гвинею был опасен, и я не посоветовал бы Неду Ленду искушать судьбу. Лучше было остаться пленником на «Наутилусе», чем попасть в руки диких папуасов.
Шлюпка была дана в наше распоряжение на завтрашнее утро. Я даже не стал узнавать, поедет ли капитан с нами, и был уверен, что нам не дадут ни одного человека из экипажа и что Нед Ленд будет сам управлять шлюпкой. Земля находилась от нас не более как в двух милях, и канадцу ничего не стоило провести шлюпку между рифами, столь опасными для больших судов.
На другой день, 5 января, шлюпку спустили с палубы два матроса. Весла были уже в шлюпке, и нам оставалось только в нее сойти.
В 8 часов мы, вооруженные ружьями и топорами, отчалили от «Наутилуса». Море было довольно спокойным, с земли дул небольшой ветерок. Консейль и я сидели на веслах и энергично гребли, а Нед вел шлюпку по узким проходам между рифами. Шлюпка легко подчинялась рулю и быстро преодолевала все препятствия.
Нед Ленд не мог опомниться от радости. Как выпущенный на волю узник, он вовсе не думал о том, что ему придется снова возвратиться в темницу.
— Мясо! — повторял он. — Мы будем есть мясо! И какое еще мясо! Настоящую дичь! Вот только что хлеба нет! Я не говорю, что рыба не хороша, но если все время есть рыбу да рыбу, так она приедается, а кусок свежего мяса… Знаете, господин профессор, изжарить его на угольках… Прелесть что такое!
— Лакомка! — заметил Консейль. — Так рассказал, что у меня слюнки потекли!
— Погодите, сначала еще надо узнать, нет ли в этих лесах такой дичи, которая начнет охотиться за охотниками, — сказал я.
— Ничего, господин Аронакс, — отвечал канадец, показывая свои острые зубы, — я буду есть и тигра, если на этом острове не попадется других четвероногих!
— Друг Нед заносится! — заметил Консейль.
— Какие бы ни были животные — бесперые четвероногие или двуногие с перьями, — только бы мне их увидеть, и я тотчас в них — паф!
— Ну, — отвечал я, — начинаются сумасбродства мистера Ленда!
— Не бойтесь, господин Аронакс, — отвечал канадец, — и гребите сильнее. Я через двадцать пять минут угощу вас своей стряпней!
В половине девятого шлюпка тихо причалила к песчаному берегу, благополучно миновав коралловое кольцо, окружающее остров Гвебороар.
Глава двадцать первая
Несколько дней на суше
Признаюсь, я не без волнения ступил на землю. Нед Ленд попробовал почву ногой, будто боялся на нее наступить. А между тем мы всего два месяца были, по выражению капитана, «пассажирами» «Наутилуса», но, в сущности, пленниками на подводном судне.
Через несколько минут мы находились уже на расстоянии выстрела от берега. Известковая почва состояла почти вся из мадрепоровых кораллов, но некоторые русла обмелевших ручьев усеяны были гранитными обломками, что доказывало, что этот остров был древнего геологического происхождения.
Горизонт прятался за великолепным лесным занавесом. Огромные деревья высотой до двухсот футов соединялись между собой гирляндами лиан, которые качались, точно гамаки, от легкого ветерка. Какие тут были мимозы, казуарины, фикусы, гибискусы, пальмы! А под их зеленым сводом росли орхидеи, бобовые растения и папоротники.
Не замечая всех этих великолепных образцов новогвинейской флоры, канадец предпочел приятному полезное. Он нашел кокосовое дерево, сбил с него несколько орехов, расколол их, и мы пили молоко и ели мякоть с невыразимым удовольствием.
— Отлично! Превосходно! — говорил Нед Ленд.
— Превкусно! — отвечал Консейль.
— Я полагаю, — сказал канадец, — что ваш Немо не рассердится, если мы привезем с собой несколько кокосовых орехов, а?
— Полагаю, что не рассердится, — отвечал я, — но есть их он не будет.
— Тем хуже для него! — сказал Консейль.
— И тем лучше для нас! — возразил Нед. — Нам больше останется!
— Одно слово, мистер Ленд, — сказал я Неду, который собрался обивать вторую пальму, — кокосовые орехи — отличная вещь, но прежде чем наполнять ими шлюпку, мне кажется, разумнее узнать, нет ли на острове более полезных продуктов. Свежие овощи, например, были бы очень кстати.
— Их честь изволили это дельно сказать, — отвечал Консейль, — по-моему, надо приберечь три места в шлюпке: одно для плодов, другое для овощей и третье для дичи. Только до сих пор не видно никаких признаков этой дичи!
— Не надо отчаиваться, Консейль! — сказал канадец.
— Пойдемте дальше, — сказал я. — Надо быть настороже, хотя остров, кажется, необитаем, но все лучше соблюдать осторожность. Может, откуда-нибудь вдруг появятся не такие разборчивые охотники, как мы!
— Ам-ам-ам! — сказал Нед, выразительно щелкая зубами и двигая челюстями.
— Что это вы, Нед?! — вскрикнул Консейль.
— Мне что-то захотелось стать людоедом! — сказал канадец.
— Нед, Нед! Что вы за ахинею несете? — сказал Консейль. — Задумали стать людоедом! Да я теперь буду бояться спать с вами в одной каюте! Я могу всего ожидать! Когда-нибудь проснусь и вдруг увижу, что я наполовину съеден!
— Друг Консейль, я вас очень люблю, но не настолько, чтобы есть вас без необходимости.
— Нет, уж я вам теперь не доверяю! — отвечал Консейль. — Давайте лучше охотиться! Надо непременно настрелять какой-нибудь дичи и накормить этого каннибала, а то, пожалуй, случится так, что их честь поутру проснется, а от слуги останутся только огрызки!
Таким образом обмениваясь шутками, мы проникли под темный свод леса и в продолжение двух часов исходили его во всех направлениях.
Случай помог нам отыскать одно из самых полезных растений тропического пояса, оно доставило нам драгоценную пищу, которой не было на «Наутилусе». Я говорю о хлебном дереве, которое в изобилии росло на острове Гвебороар. Мне встретился особый его вид, не имеющий семян; малайцы называют его «рима».
Это дерево отличалось длинным прямым стволом высотой сорок футов; по его изящно закругленной верхушке, состоящей из больших многопластинчатых листьев, натуралист тотчас же мог узнать «хлебоплод», который так удачно разводят на Маскаренских островах. Среди густой зелени свешивались огромные шарообразные плоды шириной десять сантиметров, снаружи шероховатые, с сетью шестиугольников. Хлебным деревом, которое не требует никакого ухода и дает плоды в течение восьми месяцев, природа наградила те земли, где нет зернового хлеба.
Неду Ленду эти плоды были хорошо знакомы, он уже не раз угощался ими в своих многочисленных путешествиях и знал, как их надо готовить. При виде их он так разволновался, что уже не мог сдержаться, и сказал:
— Разрази меня на месте, если я не попробую этого хлебца!
— Пробуйте, Нед, пробуйте, сколько вам угодно! Мы для того здесь и высадились, чтобы все испробовать.
— За этим дело не станет! — отвечал канадец.
С помощью увеличительного стекла он зажег хворост, который вскоре весело затрещал. А Консейль и я тем временем стали выбирать самые лучшие плоды. Одни из них не совсем созрели, и под толстой кожей белая мякоть была еще твердой и волокнистой, другие, желтоватые и сочные, уже поспели и годились в пищу.
Косточек в этих плодах совсем не было. Нед Ленд разрезал их на толстые ломти и положил на горячие угли, беспрестанно приговаривая:
— Вот увидите, как вкусен этот хлеб! Вот увидите!
— Очень вкусным он покажется, — сказал Консейль, — особенно после того, как долго ничего такого не пробовали.
— Это даже не хлеб, — прибавил канадец, — а приятное пирожное… Вы никогда его не пробовали, профессор?
— Никогда, Нед.
— Ну так увидите, что это такое: как манна небесная!
Через несколько минут плоды, разложенные на углях, совершенно почернели и полопались; изнутри показалось белая мякоть, похожая на мякиш, напоминающая по вкусу артишоки. Надо признаться, хлеб этот был превосходен, и я ел его с большим удовольствием.
— Жаль, что это тесто не может долго сохраняться, — сказал я, — поэтому бесполезно брать его с собой.
— Вот тебе на! — вскрикнул Нед Ленд. — Вы говорите по-ученому, господин профессор, вы ведь натуралист, а я примусь за дело, как настоящий булочник. Консейль, нарвите побольше плодов, на обратном пути мы их захватим.
— А как же вы их сохраните? — спросил я канадца.
— А так и сохраню: сделаю из мякоти квашеное тесто, которое долго не портится. Захочется хлеба — возьму немного этого теста и испеку! Хоть оно чуточку и кисловато будет, а все-таки отличного вкуса.
— В таком случае, мистер Нед, скажу, что ваш хлеб хоть куда! Теперь у нас всего вволю…
— Нет, недостает еще фруктов и овощей.
Мы отправились дальше пополнять наш «земной» обед.
Поиски не были напрасны, и около полудня у нас уже был большой запас бананов. Эти нежные тропические плоды созревают круглый год, и малайцы едят их сырыми.
Вместе с бананами мы набрали также много плодов манго и в заключение нашли невероятно большие ананасы.
Поиски и сбор плодов отняли большую часть нашего времени, но мы, впрочем, об этом не жалели. Консейль наблюдал за Недом, который шел впереди и уверенной рукой сшибал и срывал лучшие плоды.
— Ну, теперь вы довольны, друг Нед? — спросил Консейль. — Кажется, всего набрали!
— Гм! — промычал канадец.
— Как? Вы еще недовольны?
— Все эти растения ведь не настоящий обед, — отвечал Нед, — это конец обеда, десерт! А где суп? Где жаркое?
— Да, да! — сказал я. — Нед обещал нам котлеты! Но обещанье-то, кажется, было дано второпях…
— Господин профессор! — отвечал канадец. — Охота еще даже не начиналась. Потерпите немного! Нам непременно попадется какая-нибудь пернатая или четвероногая дичь, если не в этом месте, так в другом.
— И если не сегодня, то завтра, — прибавил Консейль, — потому нам не следует заходить далеко. По-моему, уже пора нам вернуться к шлюпке.
— Уже пора? — вскричал Нед.
— Мы должны к ночи быть на месте, — сказал я.
— А который теперь час?
— Да уже, наверное, часа два, — отвечал Консейль.
— Как быстро летит время на твердой земле! — воскликнул Нед Ленд со вздохом.
— В путь! — сказал Консейль.
Мы возвращались через лес и попутно дополнили наши припасы листьями капустного дерева, за которыми приходилось взбираться на самую верхушку, зеленой фасолью и отличнейшими диоскореями (ямсом). Мы так были навьючены, что едва дошли до шлюпки, но Нед Ленд все-таки считал, что провизии недостаточно. И судьба, видимо, ему благоприятствовала. Когда мы уже хотели садиться в шлюпку, он заметил несколько саговых деревьев высотой двадцать пять — тридцать футов, принадлежащих к роду пальм. Эти деревья так же драгоценны, как хлебоплодники, и справедливо причисляются к полезнейшим представителям флоры Малайи.
Саговые пальмы не нуждаются в уходе и размножаются, как сливовое дерево, отростками и зернами. Нед умел с ними обращаться. Он схватил топор, размахнулся и в одно мгновение свалил одно дерево, потом другое и третье.
— Спеленькие! — сказал Нед Ленд.
Зрелость саговых деревьев узнается по белой пыли, которая осыпает их листья. Я следил за проворной работой Неда Ленда скорее глазами натуралиста, чем голодного человека. Нед начал с того, что снял с каждого ствола полосу коры толщиной с большой палец, обнажив сетку длинных волокон, которые переплетались в невероятно запутанные узлы, склеенные неким подобием клейкой муки. Эта мука и была саго, съедобное вещество, служащее главной пищей меланезийским племенам. Нед Ленд разрубил стволы на куски, как обычно рубят дрова.
— Теперь повезу так, — говорил он, — а потом выберу из них всю муку, просею ее сквозь тонкое полотенце, чтоб отделить волокна, подсушу на солнце, чтоб вышла вся влага, а потом засушу.
Наконец около пяти часов вечера наша шлюпка, нагруженная всеми нашими богатствами, покинула остров, и через полчаса мы пристали к «Наутилусу». Нас никто не встретил. Огромный стальной цилиндр казался пустым. Выгрузив запасы из шлюпки, я пошел в свою каюту; ужин для меня был уже приготовлен. Я поужинал и лег спать.
На другой день, 6 января, на судне царило все то же безмолвие: ни малейшего шума или признака жизни, даже лодка была на том же месте, где мы ее вчера оставили. И мы решили опять отправиться на остров Гвебороар. Нед надеялся на счастливую охоту и хотел побывать в другой части леса.
С восходом солнца мы отправились в путь. Шлюпка, подхваченная морской волной, уже через несколько минут достигла берега.
Мы высадились и, положившись на инстинкт канадца, пошли за Недом Лендом по берегу на запад, перешли вброд несколько ручьев и достигли большой равнины, которая окаймлялась великолепными лесами.
Несколько зимородков бродили у ручья, но при нашем приближении они улетели. Их осторожность служила доказательством, что эти пернатые знали, чего можно ожидать от двуногих представителей нашей породы, и я заключил, что если этот остров и необитаем, то по крайней мере посещается людьми.
Перейдя довольно густой луг, мы подошли к опушке небольшого леска, который оживлялся пением и порханием множества птиц.
— Здесь только одни птицы! — сказал Консейль.
— И есть кое-какие съедобные! — ответил Нед.
— Где же съедобные, друг Нед? — возразил Консейль. — Я вижу только простых попугаев!
— Друг Консейль, — сказал важно Нед, — попугай — это фазан для того, кому нечего есть!
— А я прибавлю, — сказал я, — что если попугая хорошо приготовить, так его с удовольствием будет кушать даже самый отъявленный лакомка.
В густой листве порхал с ветки на ветку целый попугайный мир.
— Стоит поучить, и заговорят по-человечески! — заметил глубокомысленный Консейль. — Попугай — очень восприимчивая птица!
— Какой гам поднимают! — сказал Нед Ленд.
Гам был действительно страшный. Самцы и самки всевозможных цветов усердно, по выражению Неда Ленда, «драли горло». Кричали и важные какаду, которые, казалось, размышляли о какой-то философской задаче. Красные лори мелькали, как лоскутки яркой материи, развеваемые ветром, среди шумных калаосов, голубых папуасов и других, хотя малосъедобных, но удивительно красивых попугаев.
Но в этой коллекции недоставало птиц, свойственных этой местности и никогда не покидающих острова Ару и Папуа.
Но судьба приберегла это удовольствие на потом.
Пройдя сквозь довольно редкий лесок, мы нашли поляну, заросшую густым кустарником. Из этого кустарника выпорхнули великолепные птицы, которые, судя по расположению длинных перьев, способны летать против ветра. Их волнообразный полет, отлив их красочных перьев были восхитительны. Я без труда их узнал.
— Райские птицы! — вскрикнул я.
— Отряд воробьиных, — сказал Консейль.
— Семейство куропаток? — спросил Нед Ленд.
— Не думаю, мистер Ленд, — отвечал я. — А я рассчитываю на вашу ловкость и надеюсь, что вы мне поймаете одну такую птичку. Мне очень хотелось бы приобрести это очаровательное создание тропической природы!
— Попробую, хотя я больше привык цеплять острогой, чем стрелять из ружья.
Малайцы ведут крупную торговлю райскими птицами с Китаем, они их ловят различными способами, которых мы не могли использовать. Иногда, например, они ставят силки на верхушках высоких деревьев, иногда ловят, обмазывая ветки липким клеем, парализуя таким образом их движения, иногда даже отравляют источники, из которых эти птицы пьют воду. Мы же могли только подстрелить птиц на лету, на что было мало шансов. И действительно, мы понапрасну истратили много зарядов.
Около одиннадцати часов утра мы перешли через первую гряду холмов в центре острова, а еще ничего не убили.
Голод уже давал о себе знать. Охотники понадеялись на богатую добычу — и просчитались.
Но вдруг Консейль выстрелил и обеспечил нам завтрак. Он убил белого голубя и вяхиря, которых мы проворно ощипали и насадили на вертел. Пока они жарились, Нед готовил плоды хлебного дерева.
Птицы были съедены до последней косточки: все мы заявили единогласно, что кушанье это превосходно. Мускатные орехи, которыми они питаются, придали мясу особый запах и вкус.
— Точно пулярки, начиненные трюфелями, — сказал Консейль.
— Чего вам теперь недостает, Нед? — спросил я у канадца.
— Четвероногой дичи, господин Аронакс, — отвечал Нед. — Все эти голуби одна забава, а не кушанье! Вот если бы убить такое животное, чтобы из него наделать котлет! Пока я такого не убью, не успокоюсь!
— И я тоже не успокоюсь, пока не поймаю райскую птицу! — сказал я.
— Надо еще поохотиться, — сказал Консейль, — только давайте повернем к морю. Мы дошли уже до первых склонов гор, а в горах, я думаю, охота хуже, чем в лесу.
Это был дельный совет, и мы ему последовали.
После часовой ходьбы мы пришли к настоящему лесу из саговых пальм. Безвредные змеи уползали из-под наших ног, а райские птицы при нашем появлении скрывались из виду. Я уже отчаивался, когда Консейль, шедший впереди, вдруг наклонился, испустил крик торжества и поднес мне великолепную райскую птицу.
— Браво, Консейль! — вскрикнул я.
— Их честь очень добры, — отвечал Консейль.
— Да нет, дружище, какая тут доброта! Ты мастерски поймал ее: взял живую птицу голыми руками!
— Если их честь посмотрят на нее хорошенько, то их честь увидят, что моя заслуга не очень велика.
— Да что такое, Консейль? Говори!
— Эта птица пьяна, как перепел.
— Пьяна?
— Да, опьянела от мускатных орехов. Я ее поймал под мускатным деревом: она сидела под ним и объедалась. Подумайте-ка, друг Нед, чем откликается невоздержание!
— Тысячу чертей! — возразил канадец. — Это ко мне не относится, я целых два месяца ничего в рот не брал!
Я между тем рассматривал птицу. Консейль не ошибся. Она действительно ошалела от хмельного сока мускатных орехов, не могла лететь и с трудом шла, но меня это не беспокоило.
Эта птица принадлежала к лучшему из восьми видов, обитающих в Новой Гвинее и на соседних островах. Это была райская птица «большой изумруд» — самая редкая. Она имела в длину тридцать сантиметров, голова ее была относительно мала, глаза, посаженные близко к клюву, тоже маленькие. Однако ее оперение представляло превосходное сочетание цветов и оттенков: у нее был желтый клюв, коричневые лапки и когти, орехового цвета крылья с пурпурным окаймлением, хохолок и затылок желто-палевые, шея изумрудная, брюшко и грудь коричневые. Над хвостом поднимались два пушистых перышка, а хвост состоял из длинных, очень легких и удивительно тонких перьев.
Это была чудесная птичка! Туземцы имели основание назвать ее «солнечной». Мне очень хотелось привезти в Париж этот великолепный образец и подарить ее ботаническому саду, в котором до сих пор не было еще живой райской птицы.
— Это они такие редкие? — спросил канадец тоном охотника, который очень мало ценит дичь за красоту и изящество.
— Очень редкие, а главное, их очень трудно поймать живьем. Ими и мертвыми хорошо торгуют. Туземцы их подделывают, как жемчуг и алмаз.
— Что? — вскричал Консейль. — Делают чучела фальшивых райских птиц?
— Да, Консейль.
— Их честь знают, как это они ухитряются?
— Знаю. Райские птицы во время восточного муссона теряют свое великолепное хвостовое оперение. Эти самые перья туземцы подбирают и ловко приклеивают или вшивают в хвост какого-нибудь попугая, потом закрашивают швы, покрывают лжептичку лаком и сбывают в европейские музеи или европейским любителям.
— Ну что ж такое? — сказал Нед Ленд. — Если не сама птица, так ее перья настоящие, и если их покупают не на жаркое, так, по-моему, тут нет ничего страшного.
Мое желание овладеть райской птичкой было удовлетворено, но желание канадца еще не исполнилось. К счастью, около двух часов Нед убил превосходного кабана, который известен у натуралистов под именем «бариутанг». Нед Ленд был в восхищении от своего выстрела. Свинья, сраженная электрической пулей, упала замертво. Канадец содрал с нее шкуру, выпотрошил и нарезал для ужина с полдюжины антрекотов.
Затем снова охота возобновилась и вскоре ознаменовалась новыми охотничьими подвигами Неда и Консейля.
Два приятеля, обшаривая кустарники, подняли целое стадо кенгуру, которые пустились от них бежать, прыгая на своих эластичных лапах, но, как бы быстро они ни бежали, электрические пули их настигли.
— Ах, профессор! — вскрикнул Нед. — Какая великолепная дичь! Особенно если из нее приготовить тушеное блюдо! Каков запас для «Наутилуса»! Две, три, пять штук убито! И как я подумаю, что мы съедим все это мясо! А те болваны и не покушают!
— Какие болваны, Нед? — спросил я.
— Да наши хозяева…
Я думаю, что в приливе радости канадец перебил бы все стадо! Но он удовольствовался дюжиной этих интересных животных, составлявших, как сказал наш Консейль, первый отряд млекопитающих.
Эти животные были невелики и принадлежали к роду кенгуру-кроликов, которые преимущественно живут в дуплах деревьев, быстро бегают, и хотя у них мало мяса, но зато оно считается одним из самых вкусных.
Мы остались довольны результатом нашей охоты. Счастливый Нед предполагал завтра опять вернуться на остров и истребить всех четвероногих, годных в пищу. Но Нед, как обычно, не рассчитывал на непредвиденные обстоятельства.
К шести часам вечера мы дошли до морского берега. Шлюпка стояла на обычном месте. «Наутилус» был похож на длинный подводный риф, выступавший из волн в двух милях от берега.
Нед Ленд немедленно занялся приготовлением обеда: он был отличным поваром и знал до тонкости кулинарное искусство. Отбивные из кенгуру скоро зашипели на углях и распространили приятнейший запах.
Да простит читатель мой восторг перед жарким из свежего мяса! Да простит он его мне, как и я прощаю Ленду нашу общую слабость!
Одним словом, обед был превосходен. Два вяхиря довершили роскошное меню. Саговое тесто, хлеб, несколько манго, шесть ананасов и перебродивший сок кокосовых орехов привели нас в очень веселое расположение духа. Я даже подозреваю, что мысли моих достойных товарищей не имели желанной ясности.
— А что, если мы не вернемся сегодня на «Наутилус»? — спросил Консейль.
— А что, если мы никогда туда не вернемся? — прибавил Нед. — А что…
В это самое время к нашим ногам упал камень и прервал слова Неда.
Глава двадцать вторая
Молния капитана Немо
Мы оглянулись по сторонам; я как нес в рот кусок, так рука у меня и замерла.
— Камни не падают с неба, — сказал Консейль, — а если падают, то это метеориты.
Второй камень, тщательно закругленный, выбил из рук Консейля вкусную ножку вяхиря.
Мы вскочили на ноги и схватились за ружья, приготовившись отражать нападение.
— Обезьяны это, что ли? — вскрикнул Нед Ленд.
— Почти что так, — отвечал Консейль, — это дикари!
— К шлюпке! — крикнул я и побежал к морю.
Приходилось быстро отступать: десятка два дикарей, вооруженных луками и пращами, высыпали на опушку леса и были всего в ста шагах от нас.
До шлюпки оставалось пробежать еще туазов десять, а дикари хотя и шагом, но все же приближались. Камни и стрелы сыпались как дождь.
Нед Ленд, несмотря на близкую опасность, не хотел бросать свои запасы и удирал со свиньей в одной руке, а с кенгуру — в другой.
В две минуты мы были на берегу. Нагрузить шлюпку провизией и оружием, оттолкнуть ее и схватить весла было для нас делом одной минуты.
Мы не успели отъехать еще и двух кабельтовых, как сотня дикарей, с воем размахивая руками, вошла по пояс в воду. Я смотрел на «Наутилус», надеясь, что крики туземцев заставят кого-нибудь выйти наверх, — но палуба была совершенно пуста.
Минут через двадцать мы причалили к судну, люк был открыт. Прикрепив шлюпку, мы вошли вовнутрь «Наутилуса».
Я побежал в салон, откуда раздавались звуки рояля, и застал там капитана: он сидел, склонившись над клавишами, и, казалось, был погружен в мир музыки.
— Капитан! — вскрикнул я. — Капитан!
Но он не слыхал меня.
— Капитан! — повторил я, дотрагиваясь до его руки.
Он вздрогнул и обернулся.
— А! Это вы, профессор! — сказал он. — Ну что, удачна была ваша охота? Много набрали для гербария?
— Да, капитан, да, — отвечал я, — но, к несчастью, мы приманили за собой группу двуногих!
— Каких двуногих?
— Дикарей!
— Дикарей! — сказал капитан с легкой улыбкой. — И вы удивляетесь, профессор, что, выйдя на землю, вы встречаете дикарей?.. Дикари! Да где же их нет? Разве здешние хуже других?
— Но, капитан….
— По-моему, профессор, дикари повсюду. Я встречал их везде.
— Положим, что так, — отвечал я, — но если вы не желаете видеть их на «Наутилусе», то не лишним было бы принять некоторые меры предосторожности.
— Успокойтесь, профессор, тут ничего нет опасного.
— Но их очень много!
— Сколько вы их насчитали?
— Не менее сотни.
— Профессор. — отвечал капитан, не отнимая пальцев от клавишей рояля, — если бы все жители Новой Гвинеи выступили на берег, то и тогда «Наутилусу» нечего бояться их нападения.
Пальцы капитана опять забегали по клавишам, и тут я заметил, что он играл только на черных клавишах, что придавало его мелодиям шотландский оттенок. Скоро он, казалось, забыл обо мне и погрузился в музыку. Я его оставил в покое и опять ушел на палубу.
Ночь уже наступила, потому что под этими широтами солнце быстро заходит и сумерек не бывает. Я еще видел, но уже не так ясно, остров Гвебороар. Бесчисленные костры освещали берег: это доказывало, что туземцы и не думают расходиться.
Я оставался в одиночестве несколько часов. То я думал об этих дикарях, но уже не боялся их: непоколебимая уверенность капитана передалась и мне, — то забывал о них и любовался великолепием тропической ночи. Воспоминания занесли меня во Францию вслед за зодиакальными созвездиями, которые через несколько часов должны были засиять над моей родиной. Луна взошла среди созвездий, и я подумал о том, что этот верный и услужливый спутник нашей планеты послезавтра приподнимет морские волны и поможет вытащить «Наутилус» из его кораллового ложа.
Около полуночи, убедившись, что все спокойно и на темных волнах, и под прибрежными деревьями, я отправился в свою каюту и сладко заснул.
Ночь прошла без приключений. Дикари боялись, без сомнения, самого вида лежащего на мели чудовища, потому что люк был открыт и они легко пробрались бы вовнутрь судна.
В шесть часов утра 8 января я снова вышел на палубу. Утренний туман рассеивался, и скоро показался остров — сначала берег, а потом и вершины гор.
Туземцы все еще были на берегу, их теперь было гораздо больше, чем накануне, — человек пятьсот. Некоторые из них, воспользовавшись отливом, забрались на рифы в двух кабельтовых от «Наутилуса».
Я ясно различал их лица. Это были настоящие папуасы, атлетического сложения, красивые, с широким крутым лбом, с большим, но не приплюснутым носом и белыми зубами. Их курчавые волосы, выкрашенные в красный цвет, резко оттенялись на фоне черной и блестящей, как у нубийцев, кожи. На вытянутых, разрезанных надвое мочках ушей висели костяные серьги. Все дикари большей частью были нагие. Между ними я увидел также несколько женщин, одетых от талии до колен в настоящие травяные кринолины, которые поддерживались поясом, сплетенным из водорослей. У некоторых мужчин на шее висели ожерелья из белых и розовых стеклянных бус. Почти все были вооружены луками, стрелами и щитами, а за спиной они носили сетку с округлыми камнями — оружие, которое они так искусно кидали.
Один папуас довольно близко подошел к «Наутилусу» и рассматривал его с большим вниманием. Надо думать, что это был вождь, потому что он был одет в циновку из банановых листьев, выкрашенную в яркие цвета и с зубцами по краю. Дикарь стоял так близко, что я без труда мог бы его убить, но подумал, что лучше подождать нападения с его стороны. Между европейцами и туземцами должна быть разница: европейцу следует только защищаться, а не нападать.
Во все время отлива туземцы бродили около «Наутилуса», но были тихими и смирными. Я слышал, как они часто произносили слово «assai», и по их жестам понял, что меня приглашают сойти на берег.
Но я отклонился от приглашения.
В этот день шлюпка не трогалась с места, что очень огорчало Неда Ленда.
— Сколько я теперь запасов бы набрал! — говорил он. — Надо ведь было этим обезьянам явиться!
Он утешался тем, что готовил к хранению прежде запасенное мясо и муку.
Около одиннадцати часов, как только прилив начал накрывать верхушки коралловых рифов, дикари возвратились на берег. Но я видел, что их становится все больше и больше. Вероятно, они пришли с соседних островов или с Новой Гвинеи, а между тем я не заметил ни одной туземной пироги.
«Дел никаких нет, — подумал я. — Пожалуй, надо исследовать морское дно. Сегодня последний день, если только исполнится обещание капитана Немо и „Наутилус“ выберется из пролива в открытое море».
Вода в этом месте была до того чиста, что на дне ясно были видны все раковины, зоофиты и водоросли.
Я позвал Консейля, и он принес мне маленький легкий черпак, несколько похожий на тот, каким ловят устриц.
— С позволения их чести, — сказал Консейль, — эти дикари, кажется, вовсе не злы!
— А между тем это людоеды, Консейль.
— Можно быть людоедом и добрым человеком, — отвечал Консейль. — Разве лакомка не может быть честным человеком? Одно не мешает другому.
— Хорошо придумано, Консейль! Я соглашаюсь, что эти честные людоеды честно едят своих пленников. Но так как я не желаю быть съеденным, хотя бы даже честно, то я буду держаться настороже, потому что капитан «Наутилуса» не хочет принимать никаких мер предосторожности. А теперь за работу!
В продолжение двух часов наша ловля шла успешно, но не принесла никаких редкостей. Черпак наполнялся «ушами Мидаса», арфами, гарпами и, главное, множеством молотков, красивее которых я никогда не видел. Мы поймали также несколько жемчужных раковин и с дюжину маленьких черепах, которых отдали корабельному повару.
И вот, когда я меньше всего ожидал, мне попало в руки чудо, или, вернее сказать, «уродство» природы, которое встречается очень редко. Консейль вынул черпак, нагруженный обыкновенными раковинами, я посмотрел на них и быстро достал одну раковину, испустив конхиологический крик, самый пронзительный, какой только может произвести человеческое горло.
— Что приключилось с их честью? — спросил удивленный Консейль. — Их честь что-нибудь укусило?
— Нет, дружок, нет! Хотя я бы охотно поплатился целым пальцем за эту находку!
— За какую находку, с позволения их чести?
— Вот она! — сказал я, показывая ему раковину.
— Да ведь это простая пурпурная улитка, род улиток, отряд гребенчатожаберных, класс брюхоногих моллюсков…
— Да, Консейль, но вместо того чтобы завиваться справа налево, эта улитка завивается слева направо!
— Возможно ли? — вскрикнул Консейль.
— Да, дружок, да! Это раковина-левша!
— Раковина-левша! — повторил Консейль.
— Посмотри-ка на ее спираль!
— Ах, их честь не поверят, — сказал Консейль, принимая драгоценную раковину дрожащей рукой, — но я никогда еще так не волновался!
И было от чего волноваться!
Все знают по наблюдениям натуралистов, что движение справа налево — закон природы. Светила с их спутниками движутся с востока на запад. Человек действует лучше правой, чем левой рукой, поэтому инструменты, приборы, лестницы, замки, пружины часов и многое другое сделано таким образом, чтобы действовать справа налево. Природа преимущественно следует этому же закону и в отношении раковин. У них завиток завернут справа налево, исключения очень редки, и если попадается раковина-левша, то знатоки ценят ее на вес золота.
Мы с Консейлем были поглощены созерцанием нашего сокровища, и я уже мечтал обогатить ею наш Парижский музей, как вдруг камень, метко брошенный туземцем, разбил эту драгоценность в руках Консейля.
Я испустил крик отчаяния. Консейль схватил мое ружье и прицелился в дикаря, который раскачивал свою пращу всего в десяти метрах от нас. Я хотел остановить Консейля, но он уже выстрелил и разбил браслет с амулетами, висевший на руке дикаря.
— Консейль! — закричал я. — Консейль!
— Что угодно их чести? Разве их честь не видят, что людоеды первыми начали атаку?
— Раковина не стоит жизни человека! — сказал я ему.
— Ах, негодяй! — вскрикнул Консейль. — Я скорей бы его простил, если бы он перебил мне плечо!
Я оглянулся и тут только заметил, что к нам подобрались непрошеные посетители. Примерно двадцать туземных пирог окружали «Наутилус».
Эти пироги, выдолбленные древесные стволы, — длинные, прямые и хорошо приспособлены для плавания. Они никогда не опрокидываются, потому что равновесие поддерживается с помощью двойного бамбукового шеста, который плывет по поверхности. Я не без тревоги смотрел, как пироги, управляемые ловкими полунагими гребцами, приближаются к нам все ближе и ближе.
Очевидно, что эти папуасы уже имели сношения с европейцами и знали их суда. Но что они должны были думать об этом длинном металлическом цилиндре без мачт и без труб?
Вероятно, сначала он их испугал, потому что они держались некоторое время в почтительном отдалении от него; но, видя неподвижность судна, они мало-помалу перестали бояться и отыскали теперь случай с ним познакомиться.
Это знакомство и следовало отвратить. Наши ружья стреляли бесшумно и не могли произвести на них никакого впечатления, потому что они боялись только трескучего оружия. Гроза без раскатов грома мало пугает людей, хотя опасность заключается в молнии, а не в громовом треске.
Пироги приблизились к «Наутилусу», и в него посыпались тучи стрел.
— Град идет! — сказал Консейль. — И, возможно, град отравленный!
— Надо предупредить капитана Немо! — сказал я, сбегая с трапа.
В салоне я никого не нашел и постучался в каюту капитана.
— Войдите! — ответили мне.
Я вошел и застал капитана за какими-то вычислениями, где преобладали иксы и другие алгебраические знаки.
— Я помешал вам? — спросил я из приличия.
— Да, господин Аронакс, помешали, — отвечал капитан, — но я думаю, что у вас на это серьезная причина?
— Очень серьезная. Нас окружили пироги туземцев, и через несколько минут на нас, вероятно, нападут несколько сотен дикарей!
— А! — сказал спокойно капитан Немо. — Так они приплыли в пирогах?
— Да, капитан, в пирогах!
— Ну так мы закроем люк, профессор.
— Да, надо закрыть, капитан, я за этим и пришел…
— Сейчас закроют, — сказал капитан и, нажав на кнопку звонка, передал приказ экипажу. — Исполнено! — сказал он мне через несколько секунд. — Надеюсь, вы не опасаетесь, что эти господа пробьют обшивку, которую не могли повредить снаряды вашего фрегата?
— Нет, капитан, не опасаюсь, но ведь еще остается опасность!
— Какая, профессор?
— Такая, что завтра, в этот же час, надо будет открыть люк, чтобы закачать свежий воздух в «Наутилус»!
— Разумеется, профессор, потому что «Наутилус» дышит, как китообразные животные.
— А если в это время папуасы вскарабкаются на палубу, как вы их остановите?
— Так вы думаете, что они заберутся на борт «Наутилуса»?
— Я в этом уверен!
— Ну, пусть себе забираются. Я не вижу причины мешать им. Я не хочу, чтобы моя остановка у острова Гвебороара стоила жизни хотя бы одному из них.
Я хотел уйти, но капитан удержал меня и пригласил сесть около него. Он с интересом расспрашивал меня о нашей прогулке по острову, об охоте и никак не мог понять нашей потребности в мясе, которая была так развита у Неда Ленда. Затем разговор коснулся разных других предметов. Капитан хотя и не был откровенным, но показался мне гораздо любезнее.
Между прочим мы заговорили о положении «Наутилуса», севшего на мель на том же самом месте, где чуть не погиб Дюмон-Дюрвиль.
— Этот Дюмон-Дюрвиль — один из великих моряков, — сказал капитан, — один из самых страстных и просвещенных мореплавателей. Это французский капитан Кук. Несчастный, он преодолел сплошные льды Южного полюса, коралловые рифы Океании, увернулся от людоедов Тихого океана, и все это для того, чтобы погибнуть при крушении поезда! Если бы этот энергичный человек мог размышлять в последнюю минуту своего существования, то представьте, каковы должны были быть его переживания!
Говоря это, капитан заметно волновался.
Затем мы взяли карту и проследили маршруты всех экспедиций французского мореплавателя. Мы вспомнили его кругосветные путешествия, его попытки проникнуть к Южному полюсу, что привело к открытию земель Адели и Луи-Филиппа, наконец, его гидрографические съемки главных островов Океании.
— То, что сделал Дюрвиль на поверхности морей, — сказал капитан Немо, — я сделал внутри океана, и сделал легче и точнее. «Астролябия», беспрестанно боровшаяся с ураганами, не могла равняться с «Наутилусом» — с этим спокойным рабочим кабинетом, настоящим подводным домом.
— Однако, капитан, — сказал я, — все-таки есть сходство между корветами Дюмон-Дюрвиля и «Наутилусом».
— Какое, профессор?
— Такое, что «Наутилус», как и они, сел на мель.
— «Наутилус» не садился на мель, — ответил холодно капитан. — «Наутилус» может спокойно оставаться на коралловом рифе, и мне не придется истощать экипаж мучительными работами, как пришлось Дюмон-Дюрвилю. «Астролябия» и «Зеле» погибли, а мой «Наутилус» не подвергается никакой опасности. Завтра в предсказанный день и час прилив тихо поднимет его, и он снова поплывет под морскими волнами.

— Капитан, — сказал я, — я не сомневаюсь…
— Завтра, — прибавил капитан, вставая, — завтра днем, в два часа сорок минут, «Наутилус» всплывет и без всяких повреждений покинет Торресов пролив.
Сказав эти слова, капитан слегка поклонился. Это был знак, что разговор окончен. Я вернулся в свою каюту. Здесь меня дожидался Консейль, желавший знать результат моего свидания с капитаном.
— Что капитан сказал их чести? — спросил Консейль.
— Друг мой, — отвечал я, — когда я сказал капитану, что «Наутилусу» угрожает опасность, он высмеял меня. Остается одно — довериться ему и пожелать себе спокойной ночи!
— Я не понадоблюсь их чести?
— Нет, мой друг. А что делает Нед Ленд?
— Нед Ленд, с позволения их чести, готовит паштет из кенгуру, — отвечал Консейль. — Он говорит, что паштет этот будет чудесный.
Оставшись один, я лег спать, но спал довольно плохо. Я слышал, как дикари толпились на палубе и время от времени оглушительно кричали. Таким образом прошла ночь. Экипаж «Наутилуса» не вышел из своей обычной неподвижности. Его так же мало беспокоило присутствие людоедов, как мало беспокоят солдат в бронированном форте муравьи, которые ползают по броне.
В шесть часов утра я проснулся и встал. Люк не открывали, так что запас кислорода не возобновлялся, но запасные резервуары выпустили несколько кубических метров кислорода, освежив воздух «Наутилуса».
До двенадцати часов я работал в своей каюте и капитана не видел. На судне, казалось, не делалось никаких приготовлений к отъезду.
Подождав еще некоторое время, я пошел в салон. Часы показывали половину третьего. Через десять минут прилив должен был достигнуть предела своей высоты, и если только капитан не ошибся, то «Наутилус» снимется с мели. Если же, напротив, ожидание это не исполнится, то пройдет много месяцев, пока он покинет свое коралловое ложе.
Вдруг корпус «Наутилуса» начал вздрагивать, предвещая скорое освобождение, и я услышал, как заскрежетала его обшивка на известковых шероховатостях кораллового дна.
В два часа тридцать пять минут капитан появился в салоне.
— Мы сейчас сдвинемся, — сказал он.
— А! — ответил я на это.
— Я отдал приказ открыть люк.
— А папуасы?
— Папуасы? — повторил капитан, слегка пожав плечами.
— Они не войдут вовнутрь «Наутилуса»?
— Как же они могут войти?
— Через открытый люк!
— Господин Аронакс, — отвечал спокойно капитан Немо, — через люк «Наутилуса» не всегда можно войти, даже если он открыт.
Я посмотрел на капитана.
— Вы меня не понимаете? — спросил он.
— Совсем не понимаю.
— Прошу вас следовать за мной, и вы увидите!
Я пошел за ним к центральному трапу, где Нед Ленд и Консейль с любопытством наблюдали, как несколько матросов открывали люк. Сверху между тем раздавались яростные крики и вопли.
И вот крышка люка откинулась наружу. Вскоре в отверстии показались примерно двадцать страшных лиц. Но первого же туземца, который взялся рукой за поручни трапа, отбросило невидимой силой, он перевернулся, приподнялся и побежал без оглядки, испуская пронзительнейшие крики. Десять его сородичей кинулись к трапу, но их постигла та же участь.
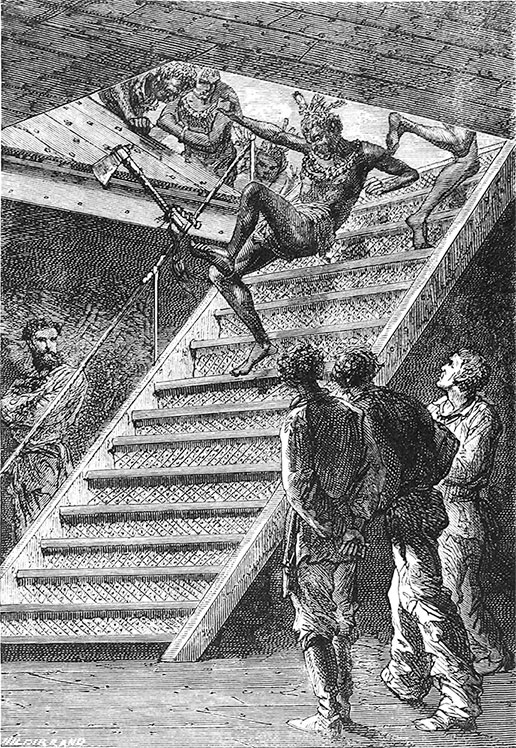
Консейль был в восторге. Буйный Нед Ленд бросился в погоню за дикарями, но только он схватился рукой за поручень, как его точно так же отбросило.
— Тысяча чертей! — закричал он. — В меня ударила молния!
Это слово объяснило мне все. Металлические поручни превратились в толстый оголенный электрический провод. Каждый, кто дотрагивался до них, чувствовал сильное сотрясение, и это сотрясение могло быть смертельным, если бы капитан Немо пустил по ним ток высокого напряжения.
Перепутанные, приведенные в неописуемый ужас туземцы ретировались. Мы не без смеха успокаивали и растирали Неда Ленда, который ругался как одержимый.
В это время «Наутилус», приподнятый приливом, оставил свое коралловое ложе, именно в два часа сорок минут, как предсказал капитан Немо. Лопасти винта стали разбивать волны с величественной медлительностью. Скорость корабля малопомалу возрастала, и, держась на поверхности океана, он целым и невредимым прошел опасные места Торресова пролива.
Глава двадцать третья
Aegri somnia (Беспокойные сны)
На следующий день, 10 января, «Наутилус» снова пустился в подводное плавание. Он плыл со скоростью тридцать пять миль в час. Винт вращался так быстро, что я не мог ни уследить за его оборотами, ни сосчитать их.
Когда я думал, что электричество — эта чудесная сила, — давая движение, тепло и свет «Наутилусу», еще и защищает его от нападения и превращает в заветный ковчег, к которому безнаказанно не может прикоснуться ни один нарушитель святыни, то мое восхищение не имело границ. Я восхищался и нашим подводным кораблем, и инженером, который его создал.
Мы шли прямо на запад и 11 января обогнули острова и мыс Уэссел, лежащие на 135° долготы и 10° северной широты; этот мыс образует восточную оконечность залива Карпентария. Рифы были еще многочисленны, но попадались сравнительно реже, и все они были обозначены на карте с величайшей точностью. «Наутилус» легко обошел Монейские рифы слева и рифы Виктории справа, лежащие на долготе 130°, на десятой параллели, которой мы строго придерживались.
13 января капитан Немо вступил в Тиморское море. По правому борту мы увидели остров того же названия, лежащий на долготе 122°.
Этот остров простирается на тысячу шестьсот двадцать пять квадратных лье, и управляют им раджи. Эти князья выдают себя за сыновей крокодилов, то есть за особ самого высокого происхождения, какое только возможно смертному. Их чешуйчатые предки в изобилии кишат в реках острова и считаются существами особого поклонения. Им покровительствуют, их балуют, им дают в пищу молодых девушек — и горе тому иностранцу, который занесет руку на священную ящерицу!
Тимор показался только на одно мгновение в полдень, в то время когда помощник «Наутилуса» определял положение корабля. Так же мельком я видел островок Ротти, который входит в ту же группу. На этом островке женщины славятся своей красотою, и роттских уроженок очень ценят на малайских рынках.
Тут направление «Наутилуса» несколько изменилось, он направился на юго-восток. Куда еще увлечет нас фантазия капитана Немо? Плывет он к берегам Азии? Приблизится ли он к берегам Европы? Но вряд ли! Зачем туда пойдет человек, который избегает населенных континентов? Может, он поплывет на юг? Или он обогнет мыс Доброй Надежды, потом мыс Горн и направится к антарктическому полюсу? Возвратится ли он в моря Тихого океана, где его «Наутилусу» легче и лучше всего плавать? Ничего нельзя было сказать наверное.
Надо было ожидать, что покажет будущее.
Пройдя рифы Картье, Гиберниа, Серингапатам и Скотт, мы 14 января вышли в Индийский океан. «Наутилус» шел на умеренной скорости, то опускаясь в морские глубины, то всплывая на поверхность.
В это время капитан Немо производил любопытные опыты, определяя температуру Мирового океана в разных слоях. В обычных условиях для этих наблюдений употребляют довольно сложные приборы, термометрические зонды например, стекла которых часто не выдерживают давления воды. Результаты, полученные таким образом, не могут быть проверены. Но капитан Немо сам измерял температуру в глубинах моря, и его термометры, соприкасавшиеся с различными слоями воды, давали ему бесспорно точные показания.
Опыты эти производились с помощью специальных резервуаров, когда «Наутилус» достигал глубины трех, четырех, пяти, семи, девяти и десяти тысяч метров. Так капитан Немо сделал окончательный вывод, что океан под всеми широтами на глубине тысяча метров имеет постоянную температуру 4,5°. (Это правильно лишь для широкого экваториального пояса.)
Я следил за опытами с живейшим интересом. Капитан Немо производил их с истинной страстью. Часто я спрашивал себя, с какой целью он делает эти наблюдения. Было ли это для пользы человечества? Невероятно, потому что рано или поздно его открытия должны были погибнуть вместе с ним в каком-нибудь неизвестном море. Вот разве только он посвящает меня в эти опыты для того, чтобы я передал их результаты куда следует?
Это значило допустить, что мое подводное путешествие имело предел… Я этого предела еще не видел.
Как бы там ни было, капитан Немо сообщил мне все полученные им числовые значения, определяющие плотность воды во всех главных морях земного шара.
Утром 15 января капитан, с которым я прохаживался по палубе, спросил меня, знаю ли я плотность морской воды на различных глубинах. Я ответил отрицательно и добавил, что науке еще недостает неоспоримых наблюдений по этому поводу. — Я сделал эти наблюдения, — сказал он мне, — и могу доказать их точность.
— Отлично! — сказал я. — Но «Наутилус» — это отдельный мир, и тайны его ученых никогда не дойдут до земли!
— Вы правы, профессор, — ответил капитан после нескольких минут молчания. — Здесь обособленный мир! Он так же чужд земле, как и планеты, сопровождающие земной шар вокруг Солнца. Конечно, на земле никогда не узнают моих открытий, как и открытий ученых с Сатурна и Юпитера. Но так как случай связал наши две жизни, то я могу сообщить вам результат моих наблюдений.
— Я вас слушаю, капитан.
— Вы знаете, профессор, что морская вода плотнее пресной, но плотность эта не одинакова. Если я приму за единицу плотность пресной воды, то плотность воды в Атлантическом океане будет равна 1,028, в Тихом океане — 1,026, в Средиземном море — 1,030, в Ионийском море — 1,018 и в Адриатическом — 1,029.
Значит, «Наутилус» бывал и в морях, часто посещаемых европейцами! Из этого я заключил, что когда-нибудь и мы — а может, даже и скоро — будем у берегов более цивилизованных. Я подумал, что Нед Ленд узнает это с особенным удовольствием.
Мы с капитаном целые дни проводили за опытами, определяя соленость воды, ее прозрачность, окраску и электризацию на различных глубинах. Во всех этих случаях капитан Немо выказывал удивительную находчивость и сообразительность.
Затем, когда опыты были окончены, я не видал его несколько дней и снова жил отшельником на «Наутилусе».
16 января «Наутилус», казалось, заснул в нескольких метрах под поверхностью воды. Электрические машины бездействовали, винт был неподвижен, и судно тихонько скользило по произволу течения. Я предположил, что экипаж занят каким-нибудь ремонтом внутри корабля.
В этот же день мы стали свидетелями любопытного зрелища. Иллюминаторы в салоне оставались открытыми, и так как прожектор «Наутилуса» не был включен, то посреди вод господствовала темнота. Небо, покрытое облаками, слабо освещало верхние слои океана.
Самые большие рыбы казались теперь едва обозначенными тенями. Вдруг стало очень светло. Сначала я подумал, что включили прожектор и что его лучи освещают океанские глубины, но я ошибся и вскоре понял свое заблуждение.
«Наутилус» плыл в светящемся потоке воды, который в окружающей темноте казался ослепительным. Свет этот происходит от мириадов фосфоресцирующих микроскопических животных, их блеск увеличивался от соприкосновения с металлическим корпусом «Наутилуса». Посреди светящейся водной массы прорывались огненные полосы, словно ручьи расплавленного в горниле свинца или нити металла, раскаленного добела, взметая тысячи искр. Нет, это было не ровное слияние лучей нашего обыкновенного электрического освещения! Здесь были сила и движение — необыкновенные. Этот свет можно было назвать живым. Это было бесчисленное скопление инфузорий — светящихся ночесветок класса жгутиковых.
— Что это такое, с позволения их чести? — спросил Консейль.
— Что ж это за инфузории? — спросил Нед Ленд. — Опишите-ка их, господин профессор.
— Это шарики из прозрачного желе, снабженные нитеобразными щупальцами. В тридцати кубических сантиметрах воды их насчитывают до двадцати пяти тысяч.
— Ишь как светятся! — заметил Нед.
Сияние ночесветок увеличивалось от блеска медуз, мерцания морских звезд, фолад и множества других фосфоресцирующих зоофитов, напитанных жиром органических веществ, разлагаемых морем и, может быть, слизью, отделяемой рыбами.
В продолжение нескольких часов «Наутилус» плыл в светящихся блестящих водах, и наше удивление еще увеличилось, когда мы увидели больших морских животных, игравших там, как саламандры. Я видел в этом огне, который не жжет, элегантных и быстрых дельфинов, неутомимых морских клоунов, и меч-рыб длиной в три метра, смышленых предвестников урагана, порой задевавших о стекла своими страшными копьями. Потом показались более мелкие рыбы — различные спинороги, макрели-прыгуны, хирурги носачи и сотни других — все это кружилось и сновало в ярком свете.
Что это было за волшебное зрелище!
Может быть, некоторые атмосферные условия умножали силу этого света? Может, на поверхности океана разразилась буря? Но «Наутилус» на глубине нескольких метров не чувствовал ее ярости и мирно покачивался посреди спокойной воды.
Мы плыли все далее, и нас беспрестанно поражали новые чудеса. Консейль наблюдал и классифицировал зоофитов, членистоногих, моллюсков и рыб.
Дни быстро проходили, и я их уже не считал. Нед хлопотал о своих съестных припасах и жаловался на однообразие корабельного стола. Мы жили, как настоящие улитки, приспособившись к своим раковинам, и я могу засвидетельствовать, что в улитку превратиться совсем не трудно. Такое существование уже стало нам казаться легким и естественным, и мы уже стали забывать, что есть другая жизнь на поверхности земного шара. Но одно происшествие напомнило нам о странности нашего положения.
18 января «Наутилус» находился на 105° долготы и 15° южной широты. Надвигался шторм, море кипело и волновалось. Дул сильный ветер с востока. Барометр, который уже несколько дней падал, возвещал приближение сильной бури.
Я вышел на палубу в ту минуту, когда помощник капитана, как всегда, исследовал горизонт.
«Вот сейчас он скажет свою ежедневную фразу!» — подумал я.
Однако на этот раз обычная фраза была заменена другой, которой я тоже не понял. Едва лейтенант успел ее произнести, появился капитан Немо с подзорной трубой и стал вглядываться в горизонт. Несколько минут он оставался неподвижен, глядя в какую-то точку на горизонте. Потом он обменялся несколькими словами с лейтенантом, который, казалось, был в большом волнении, которое тщетно старался скрыть. Капитан владел собой гораздо лучше и сохранял обычное хладнокровие. Он, по-видимому, высказывал какие-то соображения, которые его помощник опровергал. По крайней мере, я так понял по их тону и жестам.
Я очень пристально всматривался в том направлении, но ничего не приметил. Небо и вода сливались на туманной линии горизонта — вот и все.
А капитан Немо ходил взад и вперед по палубе. Он не смотрел на меня, даже, может быть, и не замечал. Шаги его были уверенными, но не такими размеренными, как обычно. Иногда он останавливался и, скрестив на груди руки, вглядывался в океан.
Чего искал он на этом огромном пространстве? «Наутилус» находился тогда в нескольких сотнях миль от ближайшего берега.
Помощник капитана снова взял подзорную трубу и стал рассматривать горизонт, он ходил, топал ногами и, очевидно, все более и более волновался.
«Что все это значит? — думал я. — Ну когда-нибудь эта тайна да откроется. И даже, по всей вероятности, очень скоро, потому что по распоряжению капитана Немо „Наутилус“ увеличил скорость».
В эту самую минуту помощник снова указал на что-то капитану. Капитан Немо остановился и навел трубу на означенную точку за горизонтом. Он долго наблюдал.
Тем временем я, чрезвычайно заинтересованный, принес из салона великолепную подзорную трубу, которой обычно пользовался, и, облокотясь на штурвальную рубку, приготовился наблюдать небо и океан. Но не успел я приставить трубу к глазам, как ее быстро вырвали у меня из рук.
Я обернулся: передо мной стоял капитан Немо, но я не узнал его. Лицо его преобразилось: глаза блестели мрачным огнем, брови сдвинуты, кулаки сжаты, голова откинута назад — казалось, ненависть обуяла все его существо. Моя труба покатилась к его ногам. Чем я вызвал этот гнев? Не вообразил ли он, что я открыл какую-то тайну, которую не должны были знать гости «Наутилуса»? Нет! Этот гнев возбудил не я, он даже не смотрел на меня — взор его был прикован к горизонту.
Наконец капитан Немо пришел в себя, его лицо приняло обычный спокойный вид. Он сказал помощнику несколько слов на своем языке, а затем обратился ко мне.
— Господин Аронакс, — сказал он повелительным тоном, — я требую от вас исполнения обязательства, которым вы связаны.
— В чем дело, капитан?
— Вы и ваши спутники обязаны побыть взаперти до тех пор, пока я найду возможность возвратить вам свободу.
— Вы здесь хозяин, — отвечал я, пристально глядя на него. — Только вы позволите мне задать вам один вопрос?
— Ни одного!
После такого ответа спорить было нельзя, бесполезно, пришлось повиноваться.
Я пошел в каюту Неда Ленда и Консейля и объявил им приказание капитана. Я предоставляю читателям судить, как подобное известие было принято канадцем.
Четыре матроса дожидались у дверей и проводили нас в ту каюту, в которой мы провели первую ночь на «Наутилусе». Нед Ленд хотел протестовать, но вместо ответа его легко толкнули, и дверь захлопнулась.
— Что это значит, с позволения их чести? — спросил меня Консейль.
Я рассказал своим собеседникам, что произошло. Они были так же удивлены, как и я, и так же терялись в догадках.
Я погрузился в размышления, разгневанное лицо капитана Немо не выходило у меня из головы. Мысли у меня как-то путались, я ничего не мог сообразить.
Вдруг Нед Ленд вскрикнул:
— Смотрите! Завтрак готов!
В самом деле, стол был уставлен разными блюдами. Очевидно, капитан отдал приказ о завтраке в то же время, когда отдавал приказ об ускорении хода «Наутилуса».
— С позволения их чести, — сказал Консейль, — я желал бы сказать, что я думаю…
— Скажи, Консейль, — отвечал я.
— По-моему, их чести следовало бы позавтракать. Позавтракать теперь очень благоразумно, ведь кто знает, что может случиться?
— Ты прав, Консейль.
— К несчастью, — сказал Нед Ленд, — они нам подали свою стряпню! Ни кусочка мяса!
— Друг Нед, — возразил Консейль, — что бы вы сказали, если бы нам совсем ничего не дали?
Мы сели за стол и позавтракали молча. Я мало ел, Консейль ел через силу из благоразумия, один Нед не страдал отсутствием аппетита. Когда завтрак окончился, каждый из нас прилег в своем углу. В это время матовый светильник на потолке погас, и мы остались в полной темноте. Нед Ленд сразу заснул, но меня удивило, что и Консейль тотчас же погрузился в тяжелую дремоту.
«Отчего это его так обуял сон?» — подумал я.
Однако меня самого клонило ко сну, веки мои тяжелели, я чувствовал себя пьяным. Напрасно открывал я глаза и старался держать их открытыми, — они сомкнулись, несмотря на все мои усилия. У меня начиналась какие-то тяжелые, болезненные галлюцинации. Очевидно, в наш завтрак было подмешано снотворное.
Капитану для сохранения тайны недостаточно было нашего заключения, ему нужен был еще наш сон!
Я слышал, как закрылся люк. Легкая боковая качка прекратилась. Покинул ли «Наутилус» поверхность океана, опустился ли он в его глубины?
Я пробовал еще бороться с одолевающим меня сном, но бороться было невозможно. Дыхание мое ослабело. Смертельный холод охватил и как бы парализовал мои члены. Мои веки упали, как налитые свинцом, на глаза, и я не мог более их поднять. Я погрузился в болезненный сон, мне стали сниться кошмары… Потом видения исчезли, и я потерял сознание.
Глава двадцать четвертая
Коралловое царство
На другой день я проснулся без всякой головной боли и чувствовал себя очень хорошо. К великому моему изумлению, я за ночь очутился в своей каюте. Без сомнения, и мои спутники тоже были перенесены обратно в их каюту, а что произошло ночью, они, вероятно, не знали, как не знал и я.
«Нечего ломать теперь голову напрасно, — убеждал я себя. — Надо терпеливо ждать: случай откроет все эти секреты».
Мне захотелось подышать свежим воздухом. Но могу ли я выйти — это еще вопрос. Очень может быть, что меня опять заперли на ключ! Я толкнул дверь, она открылась, я поднялся по центральному трапу и через открытый люк вышел на палубу.
Нед Ленд и Консейль уже ждали меня. Я на всякий случай расспросил их, как они провели ночь. Они ответили, что спали глубоким сном, совершенно ничего не помнят, и были очень удивлены, проснувшись в своей каюте.
Что касается «Наутилуса», он был тих и таинственен, как всегда. Он плыл по поверхности океана с умеренной скоростью. По-видимому, на судне ничего не изменилось.
Нед Ленд напрасно впивался своими зоркими глазами в горизонт: океан представлял собой безбрежную пустыню, не было видно ни паруса, ни земли. Дул сильный западный ветер, и «Наутилус» переваливался с одной волны на другую.
— Сегодня-таки покачивает. — заметил Консейль.
«Наутилус» снова погрузился метров на пятнадцать, так что мог в случае надобности очень быстро выплыть на поверхность. Он выплывал против обыкновения несколько раз в этот день, 19 января. Лейтенант выходил тогда на палубу и произносил свою традиционную фразу.
Капитан Немо не показывался. Из экипажа я видел только одного молчаливого стюарда, который прислуживал нам с обычной своей аккуратностью и обычным безмолвием.
Около двух часов я пошел в салон и стал приводить в порядок свои записки. Вдруг капитан Немо отворил дверь и вошел. Я ему поклонился, он почти неприметно ответил мне тем же, не сказав ни слова. Я снова принялся за работу, втайне надеясь, что он мне объяснит события прошедшей ночи. Но он молчал.
Я посмотрел на него — он казался усталым, глаза у него покраснели, видимо, он провел бессонную ночь. Лицо его выражало глубокую грусть, настоящее горе. Он ходил, садился, вставал, брал первую попавшуюся книгу и тотчас ставил ее на место, смотрел на свои приборы, не делая обычных наблюдений. Казалось, он не мог найти себе места.
Наконец он подошел ко мне.
— Вы доктор, господин Аронакс? — спросил он.
Вопрос был так неожидан, что я в недоумении молча смотрел на него некоторое время.
— Вы доктор? — повторил он. — Я знаю, многие ваши коллеги получили медицинское образование — Грасиоле, Мокен-Тандон и другие.
— Действительно, — отвечал я, — я работал врачом в госпитале. Я практиковал много лет, прежде чем поступил в музей.
— Очень рад, профессор.
Мой ответ, кажется, совершенно удовлетворил капитана. Не зная, почему он меня об этом спросил, я дожидался нового вопроса.
— Господин Аронакс, — сказал капитан, — согласитесь ли вы посмотреть одного из моих матросов?
— У вас больной?
— Да.
— Я готов следовать за вами.
— Пойдемте.
Признаюсь, сердце мое сильно билось. Не знаю почему, но я предполагал связь между болезнью этого человека и приключениями прошедшей ночи. И тайна, и больной очень меня занимали и интересовали.
Капитан провел меня на корму «Наутилуса» и впустил в каюту, находящуюся рядом с кубриком. Там, на кровати, лежал человек лет сорока с энергичным лицом англосаксонского типа. Я наклонился над ним. Он был не просто болен, но и ранен. Его голова, перевязанная окровавленными бинтами, лежала на подушках. Сняв повязку и осмотрев рану, я понял, что ничего не смогу сделать. Рана была ужасной. Из черепа, пробитого каким-то тупым орудием, выглядывал мозг. Запекшаяся кровь превратилась в твердую массу которая приняла цвет винного осадка. Дыхание больного было затрудненным, и спазмы искажали лицо. У него было воспаление мозга.
Я взял руку раненого и нащупал пульс — сердце работало с перебоями. Человек был уже слаб, конечности начали холодеть, смерть приближалась. Я сделал перевязку, поправил изголовье и обратился к капитану.
— От чего эта рана? — спросил я.
— Не все ли равно! — уклончиво ответил капитан. — «Наутилус» сильно качнуло, от этого толчка сломался один рычаг машины и ударил этого человека по голове. Как вы думаете, можно ему помочь?
Я колебался в ответе.
— Вы можете говорить, — сказал мне капитан, — этот человек не понимает по-французски.
Я еще раз посмотрел на раненого и сказал:
— Через два часа он умрет.
— Ничто не может спасти его?
— Ничто!
Рука капитана Немо судорожно сжалась в кулак, и несколько слез выкатились из его глаз. А я думал, что эти глаза не способны плакать!
Несколько минут я еще смотрел на умирающего. Жизнь мало-помалу его оставляла, бледность еще более увеличивалась от электрического света, освещавшего смертный одр. Я смотрел на его смышленое, умное лицо, изборожденное преждевременными морщинами. Морщины эти, возможно, были давно проведены невзгодами и лишениями. Я надеялся найти разгадку его жизни в последних предсмертных словах.
— Вы можете удалиться, — сказал мне капитан.
Я оставил капитана в каюте умирающего и возвратился к себе, очень расстроенный этой сценой. Мрачные предчувствия тревожили меня весь день. Ночью я спал плохо, беспрестанно просыпался, мне слышались отдаленные тяжелые вздохи и даже чудилось погребальное пение.
На другой день утром я вышел на палубу. Капитан Немо уже был там и сразу подошел ко мне.
— Профессор, — сказал он мне, — не угодно ли вам принять участие в подводной прогулке?
— С товарищами? — спросил я.
— Если они захотят.
— Мы к вашим услугам, капитан.
— Так оденьтесь в скафандры.
Об умирающем или умершем он не сказал ни одного слова.
Я сходил за Недом Лендом и Консейлем и передал им предложение капитана. Консейль, разумеется, радостно принял это приглашение, да и Нед на этот раз был согласен следовать за нами.
Было восемь часов утра. В половине девятого мы были уже облачены в скафандры и вооружены дыхательными аппаратами и фонарями. Двойная дверь открылась, и, сопровождаемые капитаном Немо, за которым следовали человек двенадцать экипажа, несшие какой-то продолговатый предмет, мы вышли из «Наутилуса» на каменистое дно на глубине десять метров.
Легкая покатость привела нас к довольно глубокой впадине. Здесь дно совершенно отличалось от того грунта, по которому нам довелось ходить во время прогулки под водами Тихого океана. На дне Индийского океана не было ни мелкого песка, ни подводных лугов, ни зарослей из водорослей. Я тотчас же узнал область чудес, в которую на этот раз проводил нас капитан Немо. Это было царство кораллов!
Среди зоофитов в классе коралловых полипов особенно примечательны горгониевые, или роговые, кораллы. Они делятся на три группы: горгонарии, белые кораллы и благородные, или красные, кораллы. Кораллы последней группы — любопытные существа, которые причислялись то к минералам, то к растениям, то к животным. У древних они считались лекарством, в средневековую эпоху — жемчугом, и только в 1694 году ученый Пейсоннель причислил их окончательно к животным.
Кораллы — это известковые скелеты живых существ, коралловых полипов. Каждая особь живет отдельной жизнью, но жизнь каждой особи способствует жизни общей. Это род естественной коммуны.
Ничего не могло быть для меня интереснее, как посетить один из этих окаменелых лесов, которыми природа засадила морское дно.
Мы зажгли фонари, когда проходили вдоль кораллового рифа, который, надо полагать, со временем закроет эту часть Индийского океана. Дорога была окаймлена непроходимыми чащами диковинных кустарников, покрытых маленькими «цветками» — белыми звездочками с шестью лучами. Но в противоположность земным растениям эти коралловые деревца, прикрепленные к скалам на дне океана, росли сверху вниз.
Свет наших фонарей играл на ярко-красных ветвях, создавая изумительные эффекты. Мне казалось, что эти перепончатые и цилиндрические трубочки дрожат от движения воды. Быстрые рыбы с легкими плавниками мелькали в этом цветнике, как порхающие птицы. Я не раз забывал, где нахожусь, и протягивал руку, желая сорвать свежие венчики, украшенные нежными щупальцами; одни «цветки» только что распустились, другие только начали зарождаться. Но едва моя рука дотрагивалась до этих живых «недотрог» — тотчас же вся колония приходила в движение. Белые венчики втягивались в свой красный футляр, цветы мгновенно пропадали, и кустарник превращался в груду пористых каменистых бугорков.
Случай позволил мне увидеть самые драгоценные образцы этих животных-цветов. Эти благородные кораллы ничем не уступали тем, которые добывают в Средиземном море, у берегов Франции и Италии. Своим ярким цветом они оправдывали поэтические названия «красный цветок» и «красная пена», которыми купцы окрестили лучшие из этих произведений. Цена таких кораллов доходит до пятисот франков за килограмм, а в этом месте океанская вода скрывала несметные коралловые богатства. Я даже приметил здесь великолепный образец розового коралла.
Скоро коралловые кустарники стали гуще и выше. И, наконец, перед нами возникли настоящие окаменелые леса и длинные причудливые аллеи. Капитан Немо вступил в одну из темных аллей, мы за ним. Дорога шла под уклон и привела нас на глубину сто метров. Наши фонари освещали шероховатые ярко-красные коралловые своды — и они в ответ сверкали, как драгоценные камни.
Между коралловыми деревьями я заметил и другие, не менее любопытные полипы: милиты и ириды зеленого и красного цвета. Они похожи были на водоросли, облепленные известкой. Естествоиспытатели после долгих споров окончательно причислили их к растительному миру; и, по глубокомысленному замечанию одного ученого, «здесь может быть именно тот предел, где жизнь только начинает пробуждаться».
Наконец после двухчасовой ходьбы мы достигли глубины около трехсот метров. Здесь уже не было ни одиноких кустиков, ни маленьких деревцев — тут был дремучий лес огромных окаменелых деревьев, переплетенный легкими гирляндами изящных плюмарий, этих морских лиан, сверкающих всеми цветами и оттенками. Мы свободно проходили под высокими коралловыми ветвями, теряющимися во мраке волн. Под нашими ногами красные меандрины, астреи, тубипоры, фунгии и другие полипы из семейства коралловых расстилались, как цветочный ковер, усеянный блестящими бутонами.
Неописуемое зрелище! Были минуты, когда я чуть-чуть не пожелал обратиться в амфибию, чтобы свободно жить и на земле, и в воде.
Вдруг капитан Немо остановился, мы последовали его примеру. Повернувшись, я увидел, что матросы расположились позади своего начальника полукругом. Вглядевшись получше, я заметил, что четверо из них держат на плечах какой-то продолговатый предмет.
Мы стояли как раз посреди большой лужайки, окруженной высокими деревьями, которые казались высеченными из камня. Фонари слабо освещали это место, и тени наши непомерно удлинялись. Далее, за лужайкой, была глубокая тьма, в которой только изредка поблескивали красные искорки света, отражавшегося на гранях кораллов.
Нед Ленд и Консейль стояли около меня. Мы глядели во все глаза и ждали, что будет дальше. То тут, то там я увидел небольшие холмики, покрытые известковым слоем и расположенные с той правильностью, которая обнаруживала работу человека.
Посередине на пьедестале из коралловых обломков возвышался коралловый крест, казалось, раскинувший в стороны свои длинные, как бы окровавленные руки.
По знаку капитана Немо один матрос приблизился к кресту, вынул из-за пояса кирку и начал рыть яму.
Я понял: здесь было кладбище, это роют могилу, а продолговатый предмет — тело умершего ночью раненого человека. Капитан Немо и его люди пришли хоронить своего товарища на братском кладбище на дне недоступного океана.
Могилу рыли медленно. Потревоженные рыбы сновали туда-сюда. Беспрестанно раздавался глухой стук железной мотыги, иногда она ударялась о кремень, и тогда летели вверх искры. Яма становилась все глубже и шире и скоро была достаточно широка и глубока, чтобы вместить тело.
Тогда приблизились носильщики. Тело, покрытое тканью из белого виссона, опустили в темную мокрую могилу… Затем могилу засыпали и немного подровняли образовавшийся холмик.
Когда все было кончено, капитан и его товарищи приблизились к могиле и поклонились ей в знак последнего прощания.
Затем все отправились обратно к «Наутилусу» и снова прошли под сводами кораллового леса, мимо зарослей коралловых кустарников, теперь уже поднимаясь в гору. Наконец вдали показались огни, путеводный свет привел нас к «Наутилусу». Переодевшись, я вышел на палубу и сел около прожектора. Много мыслей — и мыслей довольно мрачных — теснилось у меня в голове.
Вскоре ко мне присоединился капитан Немо. Я встал и сказал ему:
— Значит, мое предсказание исполнилось: этот человек умер ночью?
— Да, Аронакс, — отвечал капитан.
— И теперь он похоронен среди своих товарищей на коралловом кладбище?
— Да, профессор. Мы вырыли могилу, а полипы замуруют мертвого в прочную гробницу.
Капитан вдруг закрыл лицо руками, напрасно стараясь сдержать рыдание. Овладев собой, он добавил:
— Это наше мирное кладбище на глубине нескольких сот футов под морскими волнами!
— Ваши мертвые, капитан, спят там спокойно, не боясь акул!
— Да, профессор, — ответил с горечью капитан Немо, — ни акул, ни людей!

Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления