Онлайн чтение книги
Ветров противоборство
1
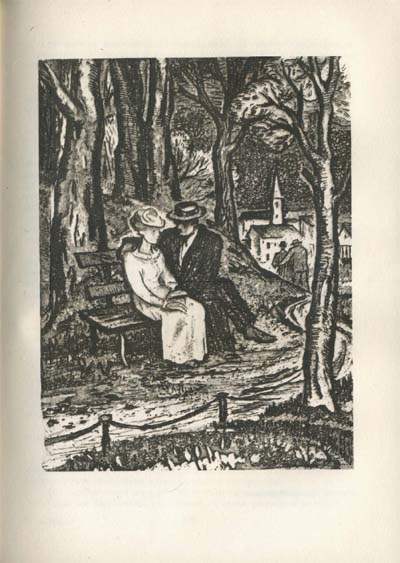
На генеральную репетицию пьесы «Ветров противоборство» собрались все руководители театра и близстоящие к ним лица. Незанятые в премьере актеры и актрисы кучками сидели в зале и в партерных ложах. Даже капельдинеры и гардеробщики то и дело входили в зал и смотрели, стоя у дверец.
Рядом с режиссером, в первом кресле пятого ряда, сидел автор, Янис Зиле. В сером летнем пальто, в серой шляпе. Положив подбородок на металлическую ручку трости, он небрежно глядел на сцену и столь же небрежно слушал шепот режиссера, делающего свои замечания.
Режиссер не мог усидеть на месте. То и дело вскакивал, чтобы дать еще какие-то указания.
Наконец Зиле протянул руку и усадил его.
— Не надо. Теперь уже поздно. Общее звучание есть. А это главное. Ваши замечания теперь только испортят дело.
Режиссер был крайне недоволен.
— Получается совсем иное, чем на первых репетициях. Казалось, так серьезно и основательно проработано, что уже ничего но может измениться. А теперь полюбуйтесь, что получается. И ведь уже который раз такое. Просто не знаю, в чем дело. На генеральных получается совсем не то, что готовится заранее.
— Кажется, это можно объяснить, — сказал Зиле, глядя, как на сцене громко беседуют отец с матерью, все оживленнее жестикулируя. — До этого только репетиция, это каждый знает. И вдруг все осознают — а это уже игра всем ансамблем. Надо быть собранным и настроенным. Это уже новая и куда более трудная задача. Кроме того, столько зрителей. Даже сам автор… — Он усмехнулся. — Как будто он и на сцене умнее всех. Я гляжу, даже самые старые актеры основательно нервничают.
Режиссер отмахнулся.
— К сцене никто привыкнуть не может. К солнцу и морозу привыкаешь. К пушкам и свисту пуль. Привыкнуть, в смысле притупить нервы. Актер же не имеет права на притупление нервов, это для него смерть. Его нервы должны быть чуткими, как воздушная арфа. Не только к тому, что заключено в роли, но и к тому, что происходит в зале… Больше вперед! Попрошу больше вперед! — неожиданно прервал он себя и двигавшихся на сцене актеров.
В голосе его явно слышалось недовольство игрой. И поэтому какое-то время в ходе репетиции ощущалось замешательство.
Зиле снова успокоил его:
— Да уймитесь вы. Если уж так нужно, скажете после окончания, А пока посмотрим все в целом.
— Вы не представляете, как мало можно полагаться на все репетиции и постановочную работу. Какая-нибудь мелочь срывает весь твой замысел. Зайдет кто-нибудь с другой стороны стола — и сразу меняется вся мизансцена. Переместится логический акцент в реплике — и тут же меняется вся картина и вся игра. Каждая постановка полна неожиданностей. Никто не может этого предвидеть и учесть. Ни режиссер, ни сам актер. Все зависит от момента.
— Ну, ну, — попытался шутливо урезонить его Зиле. — Вы, как погляжу, сразу и пессимист и фаталист? Тогда от всех этих репетиций и прогонов нет никакого толка. Это же не так — пусть даже вы во многом и правы. Теперь много говорят о единой тональности спектакля, где ни одна роль не возвышается над другими, а все сливаются в нечто, образующее единое гармоничное звучание. Но я заметил, что и при общей тональности у одной-другой роли главная задача. И как драматург, я считаю так же. В драме тоже есть свои идейные и психологические лейтмотивы, как в музыке. Этот лейтмотив придает постановке тот или иной характер и окраску. И ощущается он, конечно, только исполнителями главной роли.
— Это верно, — согласился режиссер, — но и неверно. Ваши лейтмотивы могут быть выражены сотней разных способов — и идейно, чаще психологически, а уж пуще всего технически. И тут какая-нибудь второстепенная роль играет решающее значение…
Первое действие кончилось. Опустился занавес. Где-то по бокам залы зажглось несколько тусклых лампочек. Группы зрителей стали видны лучше. Режиссер прошел за кулисы.
К Зиле подошли несколько пожилых актеров, которые, по обыкновению, больше обращали внимания на содержание пьесы и авторскую работу, чем на игру. Все недостатки и просчеты они, как всегда, относили на счет автора. Зиле было приятно поболтать с ними. За их словами обычно стоял здоровый инстинкт самозащиты и профессиональная солидарность.
После нескольких общих, незначительных фраз один из них сказал:
— А вы не считаете, что в этой пьесе повторяется ваш обычный прием. Вы наращиваете действие до второго или третьего акта, а в последнем оно ослабевает, а значит, ослабевает действие и общее воздействие.
— Вы хотите сказать, что это драматургический просчет?
— Со сценической точки зрения — несомненно. К тому же это так легко исправить. Вы же так хорошо знаете технику подмостков.
— К сожалению, о вас и современной драматургической технике не могу сказать того же. Вы все еще понимаете действие только чисто внешне — громкий разговор, жесты и движения. Но глубочайшая душевная трагедия не всегда выражается криком. То, что вы считаете просчетом, для меня намеренный и сознательный момент. Предшествующее напряженное звучание нужно мне только для того, чтобы привлечь внимание к назревающему и подготавливающемуся. Это увертюра — сама трагедия начинается позже. И именно внешняя приглушенность, после бурного начала, подчеркивает ощущение глубины и весомости происходящего. Я не знаю — может быть, я ошибаюсь, заблуждаюсь. Но таково мое намерение. Поиск, который для меня еще неясен.
— Все поиски рискованны и всегда кончаются фиаско. У сцены свои законы, и они не позволяют себя игнорировать. Без отчетливо слышимого всеми слова и подкрепляющего его выразительного жеста никто не поймет внутренний трагизм. Внутреннее всегда должно проецироваться через наружное. Разумеется, это творческая задача актера. Но драматург должен дать ему необходимый материал, за что зацепиться и что сыграть. Иначе публика смотрит и не понимает.
— Слушает и зевает…
— Это потому, что драматург исходит из своего мира, а актер из своего. И между поэтом-творцом и артистом-воплотителем нет идейного и психологического контакта… Мне кажется, что Зийна Квелде все же понимает, что именно я задумал. От ее роли зависит судьба всей пьесы.
То ли актеры имели что-то против исполнительницы главной роли, то ли, по обыкновению, не могли себе представить, что автор может что-то понимать в актерских индивидуальностях и распределении ролей. Зиле никогда не мог уяснить, где в этом мире кончается объективная оценка и где начинается простая, субъективная тенденция.
— Зийна — да… Но все же эту роль надо было дать Милде Звайгзне. Тут нужен сильный темперамент. Зийна слишком лирична. Роли героинь с сентиментальным звучанием больше подходят к ее амплуа.
— У Звайгзне и внешность более подходящая.
— Это вовсе не роль героини. Если вы ознакомитесь с пьесой целиком, то увидите, что там действуют самые ординарные люди. Это обычная трагедия, которая только благодаря отдельным эпизодам и отдельным людям выявляет свою трагическую окраску. Для этой роли не требуется ни героической фигуры, ни прочих внешних данных, присущих сценическому герою. Только умная женщина с глубокой душой.
— И достаточно привлекательная… Этому драматурги всегда придают большое значение.
Оба актера переглянулись и улыбнулись.
Занавес снова поднялся. Репетиция продолжалась.
Из-за кулис время от времени доносился нервный голос режиссера. Начало нового действия шло определенно слабее предыдущего, видимо из-за поспешно сделанных режиссером указаний. То и дело сам он, жестикулируя и поправляя актеров, показывался в просвете между декорациями или за окном в холщовой стене.
Зиле не обращал на это никакого внимания. С жадным любопытством ждал он выхода Зийны Квелде. Разумеется, она интересовала его из-за самой пьесы. Он знал, что на этой роли, как на центральном стержне, держится все действие. От нее зависит судьба произведения, его идеи и всего нового поиска.
Зиле сидел, выпрямившись, крепко обхватив обеими руками ручку трости.
Она вышла на сцену медленно, медленнее, чем он себе это представлял. Но и так хорошо. Ему казалось, что ритм пьесы определенен, более ускоренный, чтобы говорить так медленно такие недлинные и вроде бы совсем незначительные фразы.
То ли он сам неверно понимал смысл своей пьесы, то ли действительно центр тяжести находился в одной роли, но теперь он все внимание обращал только на Зийну Квелде. Самый мельчайший ее жест не проходил незамеченным. Он слушал свои собственные слова из ее уст, и потому, что они были произнесены именно ею, слова эти приобретали необычную эмоциональность и насыщенность.
Одета она была в простое коричневое гладкое платье. Оно шло к ее невысокой, стройной фигуре. Волосы накладные, темные, просто причесанные. Это его неприятно поразило. Он представлял ее с пышными светлыми волосами. И брови в тон волосам — темные и густые. Лицо не слишком, но все же заметно накрашено. Хорошо видны ее сдержанные черты. Вся фигура кажется несколько чужой, но все-таки к ней можно привыкнуть.
Несмотря на весь сценический опыт, видно, что и она немного волнуется. Красивые руки то и дело приглаживали платье, покамест не нашли для себя нужного места.
Во время первой паузы, когда ей надо было задумчиво стоять, обратясь лицом к залу, она поискала кого-то глазами. Знает, что он тут, и смотрит. А найдя, еле-еле заметно наклонила голову. Наверняка, кроме него, никто этого не заметил. А ему было приятно, что она вспомнила. Он почувствовал глубокую симпатию к этой женщине, в чьей власти теперь была судьба его произведения. Он ответно поклонился, не подумав, что это может помешать ей.
Действительно, в ее роли не было ничего кричащего и броского. Только сейчас Зиле понял, насколько рискован его поиск в этом мире, где модны легкие народные пьесы и театральщина с ее фарсовой эффектностью. Но с первого шага и с первой фразы он решил, что на эту исполнительницу можно положиться.
Именно отсутствие внешнего эффекта лучше всего говорило о том, что она глубоко проникла в суть роли. Ей не нужно было прибегать к драпировке, она могла заинтересовать легко и свободно своей естественностью…
Особенно пленяла ее речь — с первой фразы. Зиле и раньше с особым удовольствием слушал голос Зийны Квелде. Теперь же отдавался ему, как убаюкивающей музыке. В нем не было искусственных театральных интонаций. Он звучал отягощенный мыслью и тем не менее легко и звучно, передавая глубину чувства. Ведь это же были его собственные слова, но в ее устах они приобретали новую окраску и теплоту. Самое мельчайшее движение представлял он себе, создавая эту пьесу. Но что касается языка, то тут он требовал лишь передачи идейного содержания. И лишь теперь понял, насколько это недостаточно. Только слова, исходящие из души, становятся живыми, только от них трепещут нервы слушателей. Ему принадлежала одна пустая форма — она же наполнила ее своим жизненным содержанием…
Когда Зийна Квелде на время ушла со сцены, Зиле глубоко перевел дух. Что теперь там делалось и говорилось, его не интересовало. Это только вспомогательные картины, предварение дальнейшего. Теперь яснее, чем когда писал, он видел, что весь груз содержания лежит на этой роли.
В антрактах он разговаривал со знакомыми. Слушал похвалы и критические замечания. Шутил и кое с кем пререкался. А мыслями был не здесь.
После окончания репетиции он прошел за кулисы. Зачем? Ведь хорошо знал, что раньше у него этого намерения не было. Дома ждала работа. Но об этом он подумал только тогда, когда очутился в комнате за сценой и когда режиссер, несколько озабоченный, направился ему навстречу.
— Вы не судите по генеральной репетиции, — как будто принялся оправдываться он. — Премьера будет лучше.
И он вновь принялся рассказывать о постоянной спешке, недостаточном числе репетиций и прочих бессчетных препятствиях, которые обступают подмостки вражескими легионами. Наверное, нигде в мире не приходилось слышать столько жалоб, как в этой комнате за кулисами.
Но Зиле был доволен и постарался так же настроить и режиссера.
Молодая, живая девчонка за роялем барабанила вальс из популярной оперетки. Два хориста, спеша к выходу, громко подпели ей и хлопнули дверью.
Зийна Квелде в пальто и модной весенней шляпке вышла из грим-уборной и кивнула Зиле.
Он подошел к ней и тепло пожал руку. Рука была прохладная, а пожатье, как ему показалось, чуточку сдержанным.
— Благодарю, — сказал он. И сам при этом подумал: за что?
Но она угадала. Отрицательно покачала головой и выдернула руку.
— Не за что. Я сегодня не в форме. Вот увидите, на премьере будет лучше. — Она выглядела чуточку взбудораженной, нервной. — Вы домой? Тогда можем пойти вместе.
Они вышли на улицу.
— Я не хочу вас хвалить, — сказал Зиле, не глядя на нее и осторожно держась рядом с нею, — но я знаю, что эта роль и вся пьеса в надежных руках.
Его слова доставили ей удовольствие.
— Я стараюсь, как могу. Но, может быть, эта роль больше подходит Милде Звайгзне? У нее больше темперамента.
Зиле уловил ревнивую нотку — от соперничества не свободны даже самые большие художники сцены. Ему было приятно опровергнуть ее. В эту минуту он мог быть даже чуточку несправедливым.
— Вы хорошо знаете, что героини старого типа не для моей пьесы. Героев и героинь я терпеть не могу. Кроме того, в жизни, а значит, и на сцене, век героев миновал. Кажется, вы первая это уловили.
— Неужели же во мне и впрямь нет ни капельки героического? Но я же сыграла Марию Стюарт, Фьордиссу, Гуну и Спидолу. И, мне кажется, сыграла довольно неплохо.
Она произнесла это с подвохом и хитро посмотрела на него.
Зиле охватило какое-то нервное возбуждение.
— Я не очень хорошо сознаю, кого, собственно, вы называете героем. До сих пор я видел лишь сценических героинь. И все они казались мне глубоко комичными. Все это рудиментарный продукт мужской фантазии, литературной традиции того периода, который знаменовался приверженностью к древнему эпосу, классическим карикатурам и эмансипацией. Противоестественная смесь искусственной психики с ярко размалеванным внешним образом. Раскрашенные деревянные статуи я терпеть не могу. Вам, женщинам, надо наконец освободиться от шаблонов, выработанных мужским воображением. Ведь вы же имеете право быть действительно сами собой. Как в жизни, так и в искусстве. И в искусстве прежде всего! Потому что часто именно искусство открывает дверь к истинной сути жизни.
Какое-то время Зийна шла молча. Зиле сообразил: его рассуждения слишком клочковаты и неясны. Обычная его беда. Только с пером в руке может он связно думать и убедительно выражать свои мысли.
А она уже довольно давно искоса наблюдала за ним.
— Вы умеете так… интересно говорить. Почему вы не хотели прийти на первые репетиции? Объяснили бы, как именно вы представляете каждый характер и положение.
Зиле наморщил лоб.
— Разве я недостаточно ясно выразил это в своей рукописи? Вы думаете, что я смогу языком дополнить и исправить то, что напортил пером? Тогда вам непонятен труд писателя и его особенность.
— Это не так, — стояла она на своем. — Предисловий не надо. Они излишни, и исполнять их роль нет возможности. Вам в вашем произведении все кажется ясно и понятно. Но другой не всегда может уловить мысль и установить эмоциональный контакт с автором. В результате чисто индивидуальных особенностей характера что-то может остаться непонятным или неверно истолкованным.
— Мне кажется, что если актер, углубляясь в роль и живя в ней, инстинктивно не уловил чего-то, то этого ни внушить и ни передать никакими разъяснениями и толкованиями. Нам же нужно не машинальное копирование, а исполненная жизни игра, в которой проявляется дух и душа самого артиста.
— Я не знаю… мне кажется, что я свою роль почти прочувствовала. Во всяком случае меня она пленила, как мало какая…
— Да. Это я понял по первой фразе, которую вы произнесли.
Она была явно тронута этим признанием.
— И все же вы не судите по этой репетиции. Я была неуверенна и смущалась, как школьница.
— Этого нельзя было заметить.
— Мы умеем сдерживаться и маскироваться. Но это сказывается на игре, портит ее. И так всегда, когда на репетиции автор.
Зиле доброжелательно усмехнулся.
— Вы же видите, во мне нет ничего страшного. Я ничуть не умнее тех, кто смотрел.
— Но ближе всех. Вы видите свои характеры и образы такими, как они стояли у вас перед глазами. И вот выходит актер и изображает что-то совсем другое. У меня такое чувство, что я разбиваю прекрасную статую или вазу.
— В одном отношении вы правы. Я часто вижу на сцене не то, что мне самому представлялось. Но не каждый раз с разочарованием. Конечно, приятно, когда изображение совпадает с твоим видением и замыслом. Но и иное, если только оно художественное и совершенное, тоже привлекательно. Неожиданно новое и захватывающее.
— А что вы думаете… обо мне.
С минуту Зиле колебался.
— Мне бы не хотелось, чтобы вы думали, будто я льщу… Вы ухватили главное — до последней мелочи. Я был просто потрясен. И ваше исполнение полно живой теплоты. Моя роль, а, значит, с нею и вся пьеса в надежных руках.
— Я хочу верить, что вы не льстите. Мне и самой кажется, что эта роль мне близка. Я разучила ее так легко, как редко бывает. Очевидно, в этой женщине есть что-то от меня. Порою я полностью сживаюсь с ней, забывая, что всего лишь играю и изображаю. Я переживаю все это. Не думаю, что Милда Звайгзне играла бы лучше.
Зиле махнул рукой.
— Я с самого начала категорически потребовал, чтобы роль дали вам. Знаете, что мне больше всего нравится в вашей игре? Ваш голос. У вас удивительно женственный, мелодичный голос.
— Я довольно основательно его ставила. Вы, верно, знаете, что я немного и пою? Сейчас меня зовут в Петербург, там есть небольшая опера…
— Нет, самое лучшее в вашем голосе не школа, а естественная, неподдельная чистота и задушевность. Задушевность, вот что главное. В вашем произношении любое мертвое слово становится теплой волной. Мне кажется, слушая вашу речь, даже самый далекий и чужой человек не может остаться безразличным.
Щеки ее слегка зарумянились.
— Не отрицаю, эта роль мне близка и дорога. Я живу в ней. Поэтому все, о чем вы говорили… Я и сама чувствую, что мой голос звучит как-то не совсем обычно. Но это потому, что в пьесе такой наполненный мыслью и мелодичный язык. И конструкции такие легкие и притягательные. Не приходится мучиться с длинными, запутанными периодами, которые машинально откладываются в памяти и делают язык декламационно-неестественным и фальшивым. Ваш язык полон живой образности, удивительно богат звуковыми оттенками. Вы динамически сочетаете элементы музыки и цвета. Это в пьесе новое, и я предвижу ее большое сценическое будущее. Это средство сценического выражения будущего театра. Это расширяет творческие возможности артиста и позволяет ему передать частицу своей собственной души…
Неожиданно она засмеялась.
— Мы тут восхваляем друг друга, как два декадента. Взаимное умиление слишком сентиментальное и не очень эстетическое занятие. Поговорим лучше о чем-нибудь другом.
Зиле покачал головой.
— Я большой себялюбец. Мне больше нравится говорить о собственных произведениях. Я действительно счастлив, что у моей роли такая исполнительница… Да, вот что! Зачем вы так накрасились и зачем эти накладные волосы? На что вам это понадобилось?
Зийна Квелде запрокинула голову и с каким-то озорством посмотрела на него. Но слова ее звучали серьезно.
— Совсем без грима нельзя. При искусственном освещении естественный цвет тела кажется неестественным. В сценическом перевоплощении все искусственно.
— Но эти волосы не нужны. Почему вы думаете, что внешность вашей героини именно такова? Вы же не Милда Звайгзне.
— Потому что… — Она на миг засмеялась. — Мне казалось, что вам она так виделась. Мученицы и героини уже давно подаются брюнетками. Очевидно, так эффектнее.
— Это суррогат, выработанный рутиной, — раздраженно ответил он. — Я не думаю, что и вы должны с ним считаться. Страдание и пафос никак не связаны со светлыми или темными волосами. Ни в жизни, ни — мне кажется — на сцене. У вас такие красивые… Я хотел сказать, такие характерные волосы. Вам нет никакой надобности заменять их. Это отнимает у вас то привлекательное и неповторимое, что есть в вашей личности.
Она не смогла скрыть удовлетворения при виде такого интереса к своей особе. По обыкновению, кокетливо встряхнула головой и пристально посмотрела на него.
— Можно подумать, что вы уже говорите обо мне не как об актрисе, а как… безотносительно сцены.
— И о той и о другой. Вы принадлежите к тому редкому числу актеров, у которых артистизм сочетается с человеческими качествами. Истинной красоте всегда присуще и то и другое.
Она поняла, что разговор приблизился к грани рискованного и стала сдержанной.
Но они уже подошли к дому.
Она поставила ногу на первую ступеньку и протянула руку. Хотела было поспешно и официально проститься, но, взглянув ему в лицо, но смогла. Он смотрел с такой неподдельной симпатией и такой наивной доверчивостью, что с точно таким же доверием она инстинктивно потянулась к нему.
— Может быть, навестите меня как-нибудь, — сказала она и сама удивилась своему приглашению. Еще миг назад ей и в голову ничего подобного не приходило. И чтобы придать приглашению официальный оттенок, сухо добавила: — С вами интересно поговорить об искусстве.
Зиле поклонился.
Пожатие ее руки было неосознанно крепким. Повернулся он только тогда, когда край ее платья исчез в прикрываемой двери.
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления