Онлайн чтение книги
История Российского государства. Между Европой и Азией. Семнадцатый век
Двоевластие
Новый Лжедмитрий
Причина покладистости, которую проявил царь в переговорах с Болотниковым, объяснялась просто. Затягивать осаду было ни в коем случае нельзя. Тот, кого повстанцы уже отчаялись дождаться, наконец появился: живой Дмитрий, и он шел к ним на выручку. Если бы в Туле об этом узнали, ни за что бы не сдались.
Самозванец, известный в истории под именем Лжедмитрия II, или Тушинского Вора, не имел никакого отношения к интриге Михайлы Молчанова. У новой авантюры были другие создатели. В отличие от первого Лжедмитрия, второй был не столько инициатором событий, сколько жертвой обстоятельств – можно сказать, «самозванцем поневоле».
Кем на самом деле был этот проходимец, опять-таки в точности неизвестно. На первых порах ходили слухи, что он поповский сын – то ли Митька, то ли Матюшка. Родом он был, по-видимому, из Белоруссии, так что говорил и по-русски, и по-польски.
Дотошные иезуиты, проведя расследование, пришли к выводу, что самозванец был крещеным иудеем Богданкой. Эта идея впоследствии очень понравилась официальной Москве. После гибели Лжедмитрия II объявили, что в его вещах найдены бумаги на еврейском языке и талмуд – то есть получалось, что злодей тайно держался чужой религии.
Очень вероятно, насчет иудейства – выдумка, призванная подчеркнуть «неправославие» Тушинского Вора, однако несомненно он происходил из белорусских социальных низов. Манеры, речь, весь стиль поведения выдавали в нем простолюдина.
Правдоподобней всего выглядит версия, согласно которой самозванец был сначала учителем в Шклове, а потом слугой у могилевского попа.
Судя по всем рассказам, человечишка это был никудышный – трусоватый, неумный, лживый, подверженный всяким мелким порокам. В конце концов его выгнали из слуг, и он оказался в безвыходном положении.
Весной 1607 года в белорусском городке Пропойск (70 километров от Могилева) Митьку-Матюшку-Богданку за что-то посадили в тюрьму – якобы по подозрению в шпионстве, хоть и непонятно, какому государству мог понадобиться шпион в Пропойске. Не исключено, что бродяга попросту попался на воровстве или еще каком-то преступлении.
Здесь, не от хитрости и ума, а с перепуга, ожидая кары, узник объявил, что он не абы кто, но важная персона – родственник убитого царя Дмитрия, скрывающийся от врагов. С этой уловки и начались большие приключения маленького человека.
Неловкое вранье лишь отсрочило бы расплату, если б поглазеть на «царского родственника» не пришел один поляк, ротмистр Миколай Меховецкий. Он командовал небольшим отрядом, участвовавшим в московском походе, и после падения Лжедмитрия I остался не у дел. Тогда по приграничным областям России и Польши бродило множество подобных кондотьеров, которые искали способ прокормиться.
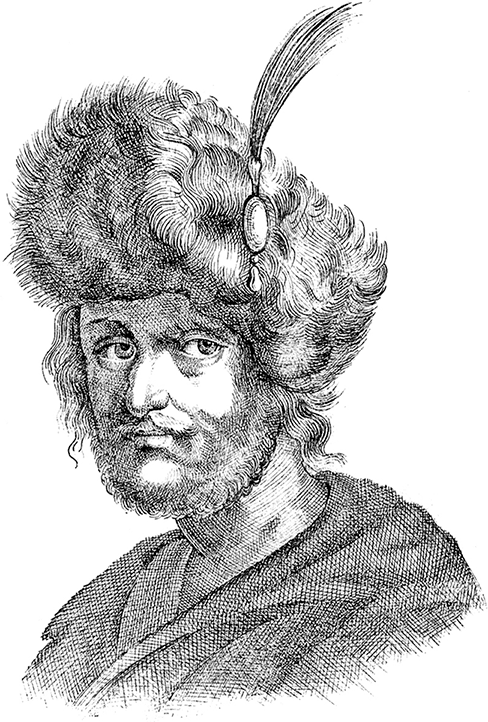
Лжедмитрий II. Фантазийный рисунок XIХ в .
Меховецкий видел в Москве первого самозванца и решил, что пропойский бродяга похож на него «издали», то есть ростом и фигурой. В те времена, когда народ мог увидеть монарха самое большее с изрядного расстояния, этого было достаточно. Шляхтич, конечно, понимал, что этот шут никакой не царь, но знал, с каким нетерпением на Руси ждут воскресшего Дмитрия, и решил не упускать такого случая. Очень уж дальних планов поляк скорее всего не строил, в этом смысле мало отличаясь от казацкого атамана Федьки с его «царевичем Петром». Выступая под знаменем законного государя, можно было неплохо поживиться на русских просторах.
Кажется, тюремный сиделец сначала очень испугался неожиданного предложения. Но выбор был такой: или соглашаться на роль помазанника Божия, или пропадать прямо сейчас.
Меховецкий объявил, что неведомый бродяга – не царский родственник, а сам царь. Для Пропойска ротмистр, явившийся туда во главе собственного конного отряда, был важной персоной, к словам которого нельзя не прислушаться. Да и местным жителям, подданным польского короля, наверное, было все равно: царь так царь.
В любом случае чудесный гость в местечке не задержался. Меховецкий перевез его на русскую сторону границы, в городок Стародуб, откуда во все стороны поскакали гонцы и полетели «прелестные письма».
Скромное начало
Как и предполагал Меховецкий, долгожданная весть о возвращении Дмитрия воспламенила многих. Весь этот край, в свое время первым выступивший за предыдущего самозванца, был настроен против московской власти. К Стародубу стали стекаться и ветераны недавней войны, и новые добровольцы из Польши и казацких краев.
Несколько городов, в числе которых были Путивль, Новгород-Северский и Чернигов, охотно присягнули Дмитрию. «Царь» даже собрал при себе «Боярскую думу», но на первых порах ее состав выглядел весьма скромно – «настоящих» бояр взять было неоткуда.
Истинный предводитель Меховецкий объявил себя гетманом. Царя он все время держал при себе и старался лишний раз людям не показывать – очень уж тот был несолиден.
За лето в стародубском лагере набралось тысячи три разношерстного войска. В начале сентября оно тронулось в поход.
Шли на Тулу, вроде бы спасать болотниковцев, но двигались небыстро – армия была невелика. Города сами отворяли ворота. Сдались Брянск, Белев. 8 октября разросшееся войско гетмана Меховецкого одержало победу в первом более или менее серьезном столкновении с правительственными отрядами, но тут ситуация коренным образом переменилась.
Не зная об успехах «Дмитрия», Болотников капитулировал, и Меховецкий оказался один против всей мощи Шуйского. Брянск, находившийся в тылу у мятежников, сразу же перешел на другую сторону. Нужно было отбить его обратно, но на сей раз ворота не открылись, а взять город штурмом не удалось.
Затем подошли царские полки и нанесли Меховецкому поражение. К тому же заволновались «литовские люди», которым нравилось наступать, но не хотелось сложить голову за гиблое дело. Забрав награбленную добычу, большинство поляков и запорожцы покинули лагерь.
К середине декабря армия почти растаяла. Меховецкий увел остатки к городу Орлу, сохранившему верность «царю Дмитрию».
Шуйский в очередной раз совершил ошибку, не добив самозванца в его зимнем логове. Держать дальше большое войско было дорого, оно устало, все хотели по домам. Авантюра нового самозванца представлялась пустяком по сравнению с мятежом Болотникова, и царю казалось, что гроза рассеялась.
Но закончилась не война, закончилась лишь ее первая кампания.
Серьезные игроки
Если бы главой предприятия и дальше оставался мелкий авантюрист Меховецкий, оно вероятнее всего действительно рассыпалось бы. Слишком жалок был «царь», которого собственные польские опекуны презрительно именовали «цариком», слишком мало было денег, слишком мало военной силы.
Но в это время в Польше завершилась длительная внутренняя распря, так называемый «рокош». Король наконец одолел непокорных магнатов, и с обеих сторон освободилось множество сабель. Бесприютные шляхтичи и безработные наемники помнили об успехе первого Дмитрия, были наслышаны о лихом московском походе, о богатой добыче, о щедрых наградах.
На Русь, в лагерь Дмитрия начали прибывать новые люди. В основном это были опытные, хорошо вооруженные воины.
Вскоре появились и серьезные игроки, не чета ротмистру Меховецкому.
Самым заметным из них был молодой князь Роман Ружинский, человек смелый и энергичный. Ему хотелось повторить успех Ежи Мнишека, сумевшего посадить на московский трон своего ставленника (во всяком случае, так победу Дмитрия воспринимали в Польше).
В апреле 1608 года Ружинский явился в Орел с большим отрядом пехоты и кавалерии, что сразу сделало его хозяином положения. Ни с «гетманом», ни тем более с «цариком» магнат церемониться не стал. Первого он выгнал, заняв место главнокомандующего сам, а второго поставил перед фактом. (Меховецкий не смирился со своим поражением, долго интриговал, плел заговоры, и в конце концов Ружинский лично зарубил его прямо на глазах у Лжедмитрия.)
Тогда же в лагере инсургентов появились еще три ярких военачальника, каждый из которых сыграет в истории Смуты важную роль – крупнее, чем сам Ружинский.
Во-первых, это был усвятский староста Ян Сапега (кузен литовского канцлера Льва Сапеги), известный в Польше удалец. Он привел собственное войско, которое в дальнейшем оставалось под его началом и не сливалось с остальными силами.
Не меньшим приобретением для орловского лагеря стал полковник Александр Лисовский, мастер конного боя, прославившийся дерзкими рейдами вглубь неприятельской территории.
Но самым крупным деятелем гражданской войны суждено было стать не шляхтичу, а плебею – Ивану Заруцкому.
Иван Мартынович Заруцкий был из мещан украинского города Тернополь. Год его рождения неизвестен, обстоятельства ранней жизни туманны.
Кажется, он был захвачен в плен крымцами во время какого-то из набегов. Потом бежал из плена на Дон, поступил в казаки. Участвовал во всех этапах гражданской войны: и в походе первого Лжедмитрия, и в движении Болотникова. Благодаря воинским талантам Заруцкий выдвинулся из рядовых казаков в командиры. Современник-поляк называет его в это время ротмистром, русские источники – атаманом.
Тульской блокады Иван избежал, потому что в это время отправился навстречу второму Лжедмитрию, где вскоре занял место предводителя казачьей части войска. Все признавали доблесть атамана, но известно про него и то, что он был «сердцем лют и нравом лукав». К этому следует прибавить, что Заруцкий отличался еще и дерзостью. Пишут, что однажды «царик», желая покрасоваться перед поляками своей рыцарственностью, затеял турнир и выбрал в соперники богатыря-атамана, уверенный, что тот поддастся. Но Заруцкий не чинясь первым же ударом вышиб «великого государя» из седла, на чем турнир и завершился.
Имея таких соратников и получая из Польши все новых волонтеров, князь Ружинский начал активно готовиться к летней кампании.
Теперь это была уже не та армия, что в прошлом году: неплохо организованная и вооруженная, высокомобильная и, главное, находившаяся под умелым командованием.
Дело приобрело совсем иной масштаб.

Ян Сапега. Рисунок XVII в.
Два царя
Когда подсохли дороги, мятежники двинулись на Москву тремя разными маршрутами. Основные силы под командованием Ружинского наступали через Калугу, Сапега сделал фланговый обход через Смоленск, а Лисовский с конницей и артиллерией зашел со стороны Зарайска и Коломны.
Василий не знал, куда посылать войска. Его полки потрепали отряд Лисовского, но Ружинский одержал более важную победу над главным корпусом правительственных сил во главе с Дмитрием Шуйским.
К 1 июня армия Лжедмитрия уже оказалась у Москвы. Ночью Ружинский внезапно атаковал царский лагерь, находившийся на Пресне, и разгромил его, но сил для разгрома московской рати у гетмана не хватило, и пришлось отступить за реку Химку.
25 июня Ружинский попытался ворваться в столицу еще раз, но опять не преуспел.
Боевые действия приостановились. У Лжедмитрия недоставало мощи взять Москву, у Василия не было возможности перейти в наступление.
Самозванец устроил свою ставку в селе Тушино, откуда до Кремля было меньше 15 километров (сейчас это район Москвы). Временное пристанище оказалось для самозванца постоянным – отсюда и прозвище Тушинский Вор.
Со временем лагерь превратился в настоящий город и даже в нечто большее – во вторую столицу (а может быть, по значимости даже и в первую). И так продолжалось целых полтора года.
«Царику» срубили деревянный дворец, где он проводил время в пирах и распутстве, а иногда заседал в «Боярской думе», но все важные решения за него принимали другие. Вокруг резиденции стояли разноцветные шатры польских военачальников и перевезенные со всей округи избы, где жили знатные русские перебежчики. Остальная часть «царского двора» и войска соорудили себе будки, лачуги и землянки.
Купцы на базаре продавали всевозможные товары, днем и ночью шумели кабаки, не умолкали женские крики – как веселые, так и жалобные, поскольку кроме гулящих отовсюду привозили и насильно похищенных. Мычал и блеял реквизированный скот, в панских псарнях лаяли охотничьи собаки. Одним словом, в Тушине жили куда разгульней и праздничней, чем в скучной, напуганной Москве.
Страна оказалась разделена надвое. Каждый город и каждая провинция сами решали, за какого из царей им быть, и чаша весов все больше склонялась в сторону Дмитрия. Ему присягали повсюду, от северной Вологды до южной Астрахани. Объяснялось это пассивностью Шуйского, практически отрезанного от своей державы. Людей Дмитрия на периферии видели чаще, чем посланцев Василия. К тому же Тушинец щедро награждал поместьями всех, кто являлся к нему на службу (по окончании Смуты эти пожалования вызовут жуткую неразбериху в земельных отношениях). Что же касается легитимности, то в этом смысле обе власти выглядели неважно: сомнительный сын Ивана Грозного, без конца воскресающий из мертвых, против непонятно кем выкликнутого боярского царя.
В этом смысле положение Дмитрия, пожалуй, было даже выигрышнее. Вскоре после начала тушинского сидения самозванец получил два важных доказательства своей «истинности», которые произвели должное впечатление на русских людей.

Тушинский лагерь. С. Иванов
Если б тушинцам удалось заполучить Марфу, мать царевича, та наверняка признала бы и этого сына, но до августейшей инокини было не достать. Зато имелась царица Марина, и кому как не жене было опознать собственного мужа?
В начале июля царь Василий, очень боявшийся того, что на помощь врагу придет польский король, сделал очередную глупость: решил умилостивить Сигизмунда, отпустив домой поляков из числа приближенных Лжедмитрия I. В их числе были и Мнишеки.
Как только об этом стало известно в Тушине, за конвоем Мнишеков отправилась погоня. Охрану разогнали, царского тестя и жену освободили. Отец и дочь толком не знали, к кому их везут – к тому самому Дмитрию или к другому, но в любом случае не возражали. Марина очень хотела снова стать московской государыней, да и пан Ежи охотно занял бы видное (желательно первое) место при «зяте».
Но к «царику» их допустили не сразу. Сначала Ружинский объяснил Мнишеку, что ни первого, ни какого другого места сандомирский воевода при дворе Дмитрия занимать не будет, только получит в утешение деньги и вотчины. Пан Ежи долго торговался, но в конце концов дал себя уговорить. Смутило его и сообщение о том, что Дмитрий все-таки фальшивый, а значит, дочери придется жить в грехе. Эту проблему совести решили, условившись, что Марину и самозванца тайно обвенчают по католическому обряду.
Похоже, что саму Марину брак с неведомым проходимцем не особенно тревожил. Это была уже не та легкомысленная девочка, которая три года назад приехала в Москву веселиться и танцевать. Плен, унижения, лишения ожесточили и закалили вдову первого Лжедмитрия, и главной ее страстью теперь было честолюбие.
Во всяком случае, свою роль она исполнила превосходно. Во время публичной встречи с «любимым супругом» лобызала его, обнимала и рыдала. Это очень укрепило положение «царика».
А Ежи Мнишек, пожив в тушинском лагере до конца года, в конце концов понял, что он здесь никому не нужен, разругался с дочерью и отбыл домой, в Польшу.
Второй «статусной» победой Лжедмитрия, пожалуй, не менее важной, чем Маринины лобзанья, было привлечение на свою сторону Филарета Романова.
Обманутый Шуйским, так и не получивший патриаршего престола Филарет был вынужден вернуться в Ростов Великий, на митрополичью кафедру. Туда к нему через месяц после «воссоединения царской семьи» и явились посланцы Вора. В исторических сочинениях много пишут о том, как злодеи глумились над святым отцом: сорвали с него облачение, напялили сермягу и татарскую шапку, увезли на простой телеге и так далее, но есть подозрение, не выдуманы ли Филаретовы страдания в романовскую эпоху, чтобы как-то оправдать этот стыдный эпизод в биографии основателя династии Романовых. Непонятно, зачем поляки стали бы без нужды оскорблять того, кто был им очень нужен, да и дальнейшие события не дают оснований полагать, что митрополит действовал по принуждению.
Лжедмитрий принял его с почетом, предложил сан патриарха – и Филарет согласился, хотя много раз видел первого самозванца и не мог не знать, что имеет дело с ряженым.
Теперь двоевластие наступило не только в государстве, но и в церкви: два государя, два патриарха.

Встреча «супругов» после разлуки. И. Сакуров
Но ценность Филарета этим не ограничивалась. Как глава самой родовитой боярской фамилии и родственник угасшей династии, он обладал огромным весом и влиянием в среде московской знати.
Теперь в Тушино потянулись настоящие аристократы – Трубецкие, Черкасские, Салтыковы, Барятинские, Плещеевы и многие другие. Боярская дума Лжедмитрия существенно «облагородилась» и теперь не уступала московской по блеску имен. Боярским званием был пожалован простолюдин Заруцкий, оказался в думе и вновь вынырнувший на поверхность Григорий Шаховской, но первые роли в этом марионеточном правительстве играли «природный» боярин Михаил Салтыков (родственник Филарета), князь Дмитрий Трубецкой и князь Дмитрий Черкасский. Я называю тушинскую думу марионеточной, потому что ее роль была декоративной и вся полнота власти по-прежнему находилась у военного командования, по преимуществу польского.
Вслед за «большими людьми» в стан самозванца стали являться перебежчики помельче. Чем скуднее и голоднее становилось в Москве, тем гуще делался этот поток. От Шуйского уходили дворяне, дьяки, военные. Купцы увозили из города в Тушино на продажу и так немногочисленные припасы, потому что у Вора лучше платили. Если же положение Дмитрия ухудшалось (в его лагере постоянно случались какие-то потрясения), поток устремлялся в обратную сторону. Одни и те же люди меняли свое «подданство» по несколько раз. Таких прозвали «перелетами». Оба царя нуждались в сторонниках, принимали и награждали перебежчиков, что еще больше поощряло эту вакханалию измен. Костомаров с горечью пишет, что у служивого сословия «не оказалось в наличии чувства долга». Хотя чему ж тут удивляться? Ни один из царей не вызывал ни любви, ни уважения.
Устав томиться под стенами столицы и не имея достаточно средств, чтобы взять ее приступом, польские предводители тушинской армии решили действовать по-другому. К осени 1608 года войско Лжедмитрия разрослось до 60 000 человек: поляков, перебежчиков-дворян и казаков (таковыми называли не только донцов и запорожцев, а вообще всех «гулящих людей»).
С такими силами можно было взять Москву в плотную блокаду и вынудить к сдаче голодом. Нужно было лишь перекрыть все дороги, по которым в столицу попадали подкрепления и припасы.
Части Яна Сапеги и Александра Лисовского обошли город с севера, со стороны Волги; другие отряды предприняли такой же маневр с юга, через Оку. Чтобы замкнуть кольцо, оставалось только взять укрепленный Троице-Сергиев монастырь, стороживший Ярославскую дорогу.
Древняя обитель, которой управляли архимандрит Иосиф и келарь Авраамий Палицын, твердо стояла против самозванца. Захватить ее можно было только силой. Толстые стены и водные преграды, а также довольно сильный гарнизон делали задачу непростой, но Сапега не сомневался в успехе. Он пришел к лавре с большим войском, притащил 90 пушек. Поторопился прибыть и Лисовский, всегда алчный на добычу – в монастыре хранились немалые сокровища. В лавре было около трех тысяч защитников, в большинстве своем людей, не привычных к оружию – монахов и местных жителей; у Сапеги и Лисовского в несколько раз больше, причем настоящих воинов.
И все же обитель сдаваться не собиралась. Защита Троицы – чуть ли не единственная красивая страница в горькой саге о распаде русского государства (будет еще и оборона Смоленска, тоже героическая, но все же менее поразительная).
Сапега встал с запада от монастыря, Лисовский с востока. Сначала попробовали договориться о сдаче – получили отказ. Тогда начали правильную осаду. Руководили делом опытные инженеры. Поляки построили передвижные башни для пушек, вырыли траншею, соорудили земляной вал. Несколько дней вели канонаду, но толстых стен пробить не смогли. Тогда вечером 13 октября пошли на приступ с лестницами, катя перед собой деревянные щиты. Атакующие не ждали серьезного отпора, но угодили под такой плотный огонь, что пришлось отступить.
Тогда польские саперы взялись за дело еще основательней: затеяли рыть подкоп, чтобы сделать пролом с помощью мины.
Среди осажденных не было мастеров подземной войны, и все же двое крестьян – Слота и Шилов – своим разумением как-то дорылись до «тихой сапы» и подожгли заготовленный поляками порох. Оба при этом погибли, но крепость спасли.
Сапеге и Лисовскому ничего не оставалось, как истомить монастырь блокадой. Всю зиму и всю весну Троица держалась, жестоко страдая от голода и особенно от холода. Топить было нечем, каждая вылазка за дровами стоила жертв. К тому же от скученности начался мор. Царевна Ксения Годунова, постриженная в монахини и оказавшаяся в осаде, писала: «Да у нас же за грехи наши моровое поветрие: великие смертные скорби объяли всех людей; на всякий день хоронят мертвых человек по двадцати, по тридцати и побольше, а те, которые еще ходят, собою не владеют: все обезножили».
И все же монастырь додержался до лета. В конце мая, увидев, что блокада не помогает, поляки устроили второй штурм – неудачно. Месяц спустя еще один – с тем же результатом.
Последний, четвертый по счету штурм произошел в конце июля 1609 года. На стенах бились не только мужчины, но и женщины. Опять отбились.
После этого поляки поняли, что твердыню им не взять, и оставили у Троицы сравнительно небольшие силы. Всего же осадная эпопея длилась целых шестнадцать месяцев.
Стойкость защитников тем поразительней, что в монастыре, как и во всей Руси, не было лада и согласия. Воеводы (их было двое – Григорий Долгорукий и Алексей Голохвастов) не ладили между собой, монастырские старцы без конца бранились друг с другом, бедные злились на богатеев, что те-де лучше кормятся и теплее греются, кто-то писал доносы, кто-то интриговал, было много лишних жертв, много дополнительных тягот от плохого управления, царь Василий не присылал никакой подмоги. Авраамий Палицын сообщает, что в боях и «от осадные немощи» погибли 2125 человек, с обычной для той эпохи небрежностью прибавляя: «кроме женска полу и недорослей, и маломощных, и старых». Он же красочно, почти стихами, пишет про будни осажденных: «И не ведуще же, что сотворити: или мертвых погребати, или стен градских соблюдати; или с любовными своими разставатися, или со враги разсекатися…»

В осажденной Троице. В. Верещагин
Брошенная царем, непонятно на что надеющаяся Троица стояла и выстояла. Это упорство производило сильное впечатление на всю деморализованную, заметавшуюся между двумя царями страну и, конечно, укрепляло положение Шуйского. Пользуясь тем, что основные отряды Дмитрия стянуты к монастырю, Василий понемногу накапливал силы.
Однако рассчитывал он не на свою малонадежную армию, а на ход, должно быть, казавшийся ему очень ловким: победить врага чужими руками.
К хаосу гражданской войны должна была прибавиться еще и интервенция.
Невыгодный союз
Когда читаешь книги иных отечественных историков, складывается ощущение, что главные виновники Смуты – чужеземные супостаты, поляки со шведами, только о том и думавшие, как бы погубить русское государство. На самом же деле главное политическое противостояние в восточной Европе того времени разворачивалось не между Россией и Польшей или между Россией и Швецией, а между Польшей и Швецией. Это соперничество, перешедшее в семнадцатый век из шестнадцатого, продлится и после Смуты, причем Речь Посполитая будет становиться все слабее, а скандинавская держава все сильнее.
К взаимным претензиям территориального и торгово-конкурентного свойства, обычным между соседями, тут прибавлялись еще династический и религиозный конфликты. Сигизмунд III из шведской династии Ваза поначалу был монархом обеих стран, но шведскую корону у него отобрал дядя Карл IX. Две эти страны, католическая Польша и протестантская Швеция, люто враждовали друг с другом и, начиная с 1600 года, в течение трех десятилетий находились в состоянии войны, то затихавшей, то вновь разгоравшейся.
Карлу очень не нравилось, что польские подданные, пускай даже не от имени Сигизмунда, захватили половину России и по-хозяйски там распоряжаются. Шведы считали Лжедмитрия креатурой своих врагов. Несколько раз они предлагали царю Василию военную помощь – они хотели не захватить русские земли, а вывести соседнюю страну из зоны польского влияния.
Шуйский долго отказывался, поскольку помощь предлагалась небесплатно, но в начале 1609 года, когда положение московской власти сделалось совсем аховым, решил, что при поддержке шведских копий сумеет наконец одолеть Вора.
По договору Карл должен был прислать войско в пять тысяч хороших солдат, а царь обязался платить им 100 тысяч талеров ежемесячно (не так уж много), отказаться от претензий на Ливонию (вернуть которую и так не представлялось возможным) и – единственное болезненное условие – уступить королю «за его любовь и дружбу» крепость Корелу (современный Приозерск) с уездом. С другой стороны, что значил один отдаленный и малонаселенный уезд, когда Василий лишился половины державы?
Юный Михаил Скопин-Шуйский, прославившийся во время болотниковской войны, возглавил русскую часть союзной армии; во главе шведской был поставлен почти такой же молодой генерал Якоб Понтуссон Делагарди, сын знаменитого Понтуса Делагарди (1520–1585), который доставил русским столько хлопот во время Ливонской войны.
На первых порах основную часть войска составляли шведские полки, которые на самом деле состояли из наемников разных европейских стран. У Скопина было не более трех тысяч воинов.
В мае 1609 года они двинулись от Новгорода в сторону Твери и в первом же сражении разбили тушинское войско. Но здесь оказалось, что денег на солдатское жалованье нет – Шуйский пообещал прислать казну и не прислал. Наемники заявили, что уходят. Делагарди не смог их вернуть и остался только с природными шведами, каковых насчитывалось около тысячи.
С этого момента главной силой армии становятся русские, а главным полководцем Скопин. Дьяк Тимофеев пишет про воеводу, что тот был «во бранех лют на враги и стремлением зело изкусен, и ратник непобедим», сравнивая его с молодым быком, который ломает рога врагов, словно гнилые ветки.
Скопин медленно двинулся к столице, повсюду набирая новых людей. К осени у него была 15-тысячная армия. Делагарди тоже увеличил свой контингент, но шведов насчитывалось едва две тысячи, и они шли своим маршрутом.
Несмотря на возраст, Скопин отличался осторожностью и обстоятельностью. Он не торопился, попусту не рисковал. Двигаясь к Москве с севера, полководец повсюду строил остроги и оставлял в этих опорных пунктах сильные гарнизоны – это лишало польские конные отряды возможности перерезать пути снабжения армии.
Тушинцы постепенно отступали, пятясь к своему лагерю, где нарастала паника. Лжедмитрий рассорился с гетманом Ружинским и 1 января 1610 года, переодевшись мужиком, сбежал в Калугу. Через несколько дней наконец завершились страдания осажденных в Троице – Ян Сапега был вынужден прекратить осаду и отступил.
Казалось, что дипломатический маневр Шуйского сработал. Возможно, проку из шведской помощи вышло немного, по-настоящему она пригодилась лишь для первой битвы, но и этого хватило, чтобы повернуть ход событий.

Михаил Скопин-Шуйский. Парсуна XVII в.
Однако царь ошибался, если думал, что заплатит за победу над Лжедмитрием одним Корельским уездом. Заключив союз со шведами, Шуйский навлек на Русь беду еще худшую, чем Тушинский Вор.
До сих пор король Сигизмунд всячески подчеркивал, что держится в стороне от русской Смуты. Иногда он даже создавал препятствия для поляков, которые желали отправиться на войну с московитами. Но теперь, когда царь Василий объединился с Карлом Шведским, у Сигизмунда появился законный повод начать против ослабевшей Москвы настоящую войну – тем более что и внутрипольские обстоятельства тому благоприятствовали.
Война с Польшей
Польская монархия – выборная и ограниченная – была вечным пугалом для московских самодержцев и вечным соблазном для русской знати. Она демонстрировала, что можно существовать и так: без ордынского обожествления верховной власти, по единым для всех законам, с правом легальной оппозиции государю и даже вооруженного сопротивления его произволу (такой узаконенный мятеж назывался «рокош»). Жестокие казни бояр при Иване Грозном и репрессии Бориса Годунова объяснялись не столько памятью о былой непокорности удельных князей, сколько страхом оказаться в положении польского короля, целиком зависевшего от расположения магнатов и шляхты.
Сигизмунд III тоже имел перед глазами соблазнительный пример: Московское государство, где царю не приходилось клянчить денег у собственных подданных и заручаться согласием Сейма для всякого мало-мальски значимого решения.
Король стремился превратить Речь Посполитую из аристократической республики в абсолютную монархию: закрепить престол за своими потомками, кардинально централизовать систему власти, превратить Сейм в совещательный орган, урезать права дворянства. Это, естественно, вызывало противодействие со стороны аристократии. Сигизмунд не мог себе позволить активно вмешаться в интересные московские события, поскольку у него хватало собственных забот. После смерти осторожного и мудрого канцлера Замойского (1605), пытавшегося не довести конфликт до обострения, оппозицию возглавил упрямый краковский воевода Зебжидовский, именем которого историки и назвали польскую гражданскую войну 1606–1609 годов: «рокош» Зебжидовского.
Пока Шуйский сражался с Болотниковым и Тушинским Вором, Сигизмунд бился со сторонниками Зебжидовского. В конце концов королевские войска победили, но такой дорогой ценой, что от идеи абсолютизма пришлось отступиться. Король амнистировал всех мятежников и подтвердил права шляхты.
Царь Василий выбрал исключительно неудачный момент для дружбы со шведами. Во-первых, у Сигизмунда наконец развязались руки. Во-вторых, король рассчитывал победой над внешним врагом укрепить свое положение внутри собственной страны – история изобилует подобными примерами. К тому же страну наполняли оставшиеся без работы наемники и вечно несытые шляхтичи.
Одним словом, король с удовольствием отправился на войну. Серьезного сопротивления он не ожидал, хорошо зная состояние российских дел и финансовые затруднения шведов.
Хорошей целью полякам представлялся Смоленск, расположенный близко от границы. Этот город в прошлом принадлежал Литве. Взяв Смоленск, Сигизмунд затмил бы славу своего великого предшественника, Стефана Батория.
Крепость слыла неприступной, в ней размещался довольно большой гарнизон, но король был уверен, что Смоленск капитулирует. Кто захочет погибать за никчемного царя Василия, не способного защитить даже ближнюю Троицу от тушинского сброда?
Но героическая Троицкая оборона, о которой говорила вся страна, придала смолянам мужества. Воевода Михаил Шеин вооружил горожан и приготовился к отпору.
Сигизмунд никак не рассчитывал на такой оборот событий. Он явился к Смоленску в сентябре 1609 года с недостаточным количеством пехоты и почти без артиллерии.
Быстрого триумфа не получилось. Пришлось затевать осаду и ждать подкреплений.
Дешевле и проще всего было пополнить войско за счет поляков, уже находившихся в России, то есть за счет армии Лжедмитрия. Сигизмунд отправил в тушинский лагерь приказ своим подданным: немедленно явиться к Смоленску, а самозванца выдать. Между тушинскими поляками произошел раскол. Многие были склонны подчиниться королю, тем более что военные дела шли неважно. Армия Скопина-Шуйского наступала, надеяться на скорый захват Москвы не приходилось. Роман Ружинский и Ян Сапега рассорились, а затем, боясь предательства, из лагеря сбежал и сам «царик». Это окончательно решило дело. Большинство польских воинов ушли к королю. В Тушине остались главным образом русские. Ружинский потерял былую власть и тоже заявил о преданности Сигизмунду, но под Смоленск не отправился.
Звезда тушинского «гетмана», на протяжении последних двух лет бывшего фактическим диктатором половины русских земель, закатывалась. Он остался без «царя», без союзников, один против Скопина. Тот, правда, не торопился, справедливо полагая, что силы Ружинского растают сами. Так и произошло. В марте 1610 года польский князь ушел из Тушина всего с тремя тысячами людей, да и те вскоре взбунтовались. Ружинский в потасовке был сбит с ног, у него открылась рана, полученная в одном из недавних боев, и через несколько дней один из главных разрушителей русского государства, всеми брошенный, умер.
Русские бояре, составлявшие тушинскую думу, оказались в трудном положении. Своего царя у них больше не было, он сбежал. Идти на поклон к Шуйскому большинство не желали – такой государь их тоже не устраивал. Сигизмунд выглядел предпочтительней.
И тогда возникла идея пригласить на царство королевского сына юного Владислава. В Смоленск отправилась делегация, которая заключила с Сигизмундом соответствующий договор. Согласно ему, Владислав становился русским царем, но при этом брал на себя определенные обязательства. От него не требовали перехода в православие, но венчаться на царство королевич должен был по русскому обычаю, от русского патриарха, а также дать гарантии неприкосновенности русской веры и церкви.
Документ, подписанный под Смоленском 4 февраля 1610 года, интересен во многих отношениях. В нем содержится несколько вполне революционных статей, свидетельствующих о том, что авторы договора намеревались не просто сменить одного царя на другого, а коренным образом перестроить государство.
Так, изменение законов должно было происходить не единоличной волей монарха, а по решению бояр и «всей земли». Царь не мог вводить новых податей, не мог никого казнить без судебного разбирательства, а если преступник будет осужден, имущество не могло быть конфисковано. Нельзя было никого разжаловать «из великих чинов», если человек ни в чем не провинился, и в то же время – поистине эпохальное новшество – «меньших людей» следовало повышать по заслугам (а не по родовитости). Было в договоре специально оговорено и такое любопытное обязательство: «Для науки вольно каждому из народа московского ездить в другие государства христианские, кроме бусурманских поганских, и господарь отчин, имений и дворов у них за то отнимать не будет».
Все эти новации несут на себе отпечаток предполагавшихся реформ первого Лжедмитрия, из числа сторонников которого в значительной степени состояла тушинская дума. Кажется, это первая в отечественной истории задокументированная попытка перейти от «ордынского» самодержавия к конституционной монархии. Ключевский пишет: «Самая идея личных прав, столь мало заметная у нас прежде, в договоре 4 февраля впервые выступает с несколько определенными очертаниями».
Впрочем, для Сигизмунда это соглашение служило всего лишь тактическим маневром. У короля были иные планы.
Бояре один за другим покидали пустеющий тушинский лагерь, перебираясь в ставку Сигизмунда. Отправился туда и Филарет Романов, в ту пору поддерживавший идею о польском царе (этот конфузный факт потом всячески обходили официальные российские историки). Но по дороге «воровского патриарха» перехватил один из правительственных отрядов и доставил в Москву. Василию было не с руки наказывать главу могущественного рода Романовых, и дело изобразили так, будто митрополит ростовский (уже не патриарх) освобожден из плена. Филарет остался в столице и начал интриговать против царя, постепенно увеличивая число сторонников Владислава.
А между тем понемногу усиливался в Калуге беглый «царик». Теперь Лжедмитрий, избавившийся от опеки Ружинского, стал самостоятельнее, но вождь из него был никудышный. Люди шли к нему ради имени или от безысходности – те, кто не желал служить ни польскому королю, ни Москве. В основном это были казаки. В Калугу же перебралась неугомонная Марина Мнишек, нарядившись в мужской костюм и прицепив саблю.
Политическая ситуация в стране еще больше усложнилась. Двоевластие превратилось в троевластие. Теперь царей стало трое: Василий, Дмитрий и Владислав.
Катастрофа
При этом весной 1610 года дела Шуйского выглядели не так уж плохо. Сигизмунд надолго увяз под Смоленском, у Лжедмитрия осталась лишь малая часть былой силы, а русско-шведское войско под командованием Скопина наступало и освобождало все новые области. Блокада Москвы прекратилась, хлеб подешевел, голод закончился.
12 марта в столицу торжественно вступили триумфаторы – Скопин-Шуйский и Делагарди. Молодого воеводу встречали восторженно, повсюду приглашали, чествовали, превозносили до небес. Он принимал знаки народного обожания как должное, с царственным родственником держался независимо. Многие заговорили, что из Михаила царь получится лучше, чем из Василия, и что по родовому старшинству ветвь Скопиных знатнее.

Скопин-Шуйский и Делагарди. И. Сакуров
Близ Москвы собиралась большая армия – идти против поляков. С таким командующим и при таком подъеме можно было надеяться на победу.
Василия не могла не тревожить мысль о том, что после разгрома поляков Скопин вернется в столицу хозяином положения и вполне может согнать троюродного дядю с престола. Многим казалось, что царь опасается юного героя больше, чем поляков.
Поэтому, когда в конце апреля Михаил Скопин, молодец богатырского сложения и здоровья, вдруг захворал странной болезнью и умер, моментально распространился слух об отравлении. Винили жену царева брата Дмитрия (возможно из-за того, что она была дочерью приснопамятного опричного палача Малюты Скуратова). Доказательств никаких не имелось, но слух сильно озлобил москвичей против Василия.
Еще хуже было то, что на место главнокомандующего царь поставил брата Дмитрия, руководствуясь вечным принципом слабой власти назначать на ключевые посты не способных, а лояльных.
Про Дмитрия Шуйского шла слава, что он «сердцем лют, но не храбр». В «Хронографе» сказано: «В его [Скопина] место дал воеводу сердца не храбраго, но женьствующими обложена вещми, иже красоту и пищу любящаго, а не луки натязати и копия приправляти хотящаго».
В июне царский брат повел тридцатитысячную рать на запад.
Сигизмунд, всё осаждавший Смоленск, смог выделить для встречного похода только семь тысяч человек, но это были отборные части, в основном «крылатые гусары», и командовал ими лучший польский полководец Станислав Жолкевский. Этот опытный государственный муж, занимавший должность коронного польного гетмана, изначально был против смоленского похода, считая его авантюрой, но не стал отказываться от трудного поручения.
Короткая летняя кампания 1610 года – классическое подтверждение древней истины о том, что побеждают не числом, а умением, и наполеоновской максимы об армии львов, возглавляемой бараном.
Сначала Дмитрий Шуйский разделил свои силы, и Жолкевский нанес поражение отделившемуся корпусу Григория Валуева, заперев его в Царево-Займищенском остроге. Потом развернулся и 24 июня перед рассветом атаковал главную русскую армию у села Клушино.
Было бы ошибкой представлять себе Клушинскую битву как сражение русских с поляками. В армии Жолкевского состояло множество русских казаков; в армии Шуйского – множество иностранных наемников. Это было столкновение не между двумя нациями, а между двумя партиями, претендующими на престол, – именно так современники и воспринимали смысл той войны, а умопостроения о патриотической борьбе русского народа против иноземных захватчиков возникли много позже. Во времена Смуты человека называли изменником не за то, что он предал Родину (самого этого понятия, кажется, еще не существовало), а за то, что он изменил присяге, данной конкретному монарху.
Сражение, начавшееся в темноте, получилось сумбурным. Польская конница налетала и отступала, понемногу тесня царский авангард. Шуйский мог бы прийти ему на помощь, но предпочитал отсиживаться в укрепленном лагере, под защитой пушек.
Часа через четыре бой начал стихать. Поляки выдохлись, и Шуйскому следовало бы перейти в контратаку, но он по-прежнему бездействовал.
И тут вдруг взбунтовались наемные роты в корпусе Делагарди. Солдатам, как обычно, задерживали жалованье, и между ними прошел слух, что это делается нарочно: начальство-де надеется, что многих перебьют, и тогда положит деньги себе в карман.
Заметив в рядах противника смятение, Жолкевский послал туда парламентеров с заманчивыми предложениями. Наемники начали массово переходить на сторону королевского войска. Делагарди пытался этому помешать, но опять, как в прошлый раз, остался с одними шведами и был вынужден заключить с гетманом сепаратное перемирие.

Клушинская битва. Картина XVII в.
Дмитрий Шуйский и его свита, видя это, в панике бежали, а за ними кинулась вся армия. По дороге в Москву люди разбредались кто куда. Делагарди с остатком шведов отступил в сторону Новгорода. Брошенные в Царево-Займище полки присягнули Владиславу и влились в польское войско.
Жолкевский шел на беззащитную русскую столицу. Из Калуги спешно явился Лжедмитрий, ожидая, что москвичи позовут его на царство, и встал лагерем близ столицы, в Коломенском.
В Кремле еще сидел Василий, но его всерьез уже никто не воспринимал. Шуйского постигла та же участь, что Федора Годунова: царь, лишившийся армии, теряет и власть.
На следующий же день после прибытия Тушинского Вора, 17 июля 1610 года, город заволновался. На Красной площади собралась толпа. В ней сновали агитаторы двух соперничающих группировок: в одной верховодил Прокофий Ляпунов с братьями, хотевшие крикнуть царем князя Василия Голицына, в другой – бывшие тушинцы, изменившие Лжедмитрию в пользу Владислава. Объединяло обе партии то, что ни Вора, ни тем более Шуйского видеть царем они не желали.
Поэтому вначале они действовали совместно – стали требовать, чтобы Василий отрекся. Переворот устраивать не понадобилось, потому что царь остался в одиночестве, если не считать патриарха Гермогена, но увещеваний старика никто не слушал.
Попробовали уговорить Шуйского добром. Он заартачился. Тогда его взяли за руки и насильно постригли в монахи, превратив из Василия в инока Варлаама, после чего заточили в келью, под стражу.
Дальнейшая судьба Василия Ивановича печальна. Ему не дали окончить дни в каком-нибудь дальнем монастыре, а по требованию поляков выдали Сигизмунду. Король увез пленника в Варшаву в качестве трофея, где бывшего московского царя заставили низко кланяться победителю и целовать ему руку.
Потом братьев Шуйских посадили в камеру и продержали так два года, пока Василий и Дмитрий не умерли в течение одной недели – как раз в те дни, когда польские дела в России начали принимать скверный оборот. Современники подозревали, что это было убийством.
Когда Василия убрали из дворца и трон очистился, у мятежников согласие кончилось. Начался разброд.
Василия Голицына бояре не захотели. Но и открыто выступить за Владислава было боязно – москвичам это могло не понравиться, а «площадь» гудела тут же, за окнами.
Тогда Филарет сменил курс и предложил в цари своего четырнадцатилетнего сына, приходившегося двоюродным племянником Федору Иоанновичу, последнему царю династии Рюриковичей (так впервые прозвучало имя Михаила Романова в качестве кандидата на престол).
Большинство были против, и вообще все со всеми разругались.
Постановили созвать особый собор из представителей «всей земли», разослали во все стороны гонцов.
Царя свергли, на его место никого не поставили. Это стало последним ударом по московскому государственному порядку. В стране наступило безвластие.

Царь становится монахом. И. Сакуров
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления