Онлайн чтение книги
Открытое общество и его враги
The Open Society and Its Enemies
Примечания
Общие замечания
Текст этой книги можно читать, не заглядывая в «Примечания». Тем не менее, «Примечания» содержат материал, который может заинтересовать всех читателей книги, а также некоторые замечания и аргументы более специального характера. Читателям, интересующимся этим материалом, я советую сначала полностью прочитать текст соответствующей главы, а затем обратиться к «Примечаниям».
Хочу принести извинения за чрезмерное, возможно, количество перекрестных ссылок, которые я включил для удобства читателей, специально интересующихся теми или иными второстепенными вопросами, которые рассматриваются в книге. (Я имею в виду, например, платоновскую концепцию расизма или проблему Сократа). Предвидя, что условия военного времени сделают для меня невозможным чтение гранок, я решил отсылать читателей не к номерам страниц книги, а к номерам примечаний. Поэтому ссылки на текст книги я делаю при помощи указаний на соответствующие примечания, например: «см. текст к примечанию 24 к главе 3» и т. п. Условия военного времени также наложили ограничения на объем доступной мне библиотечной литературы, поэтому я не сумел свериться с некоторыми источниками — и старыми, и новыми, как это следовало бы сделать при нормальных обстоятельствах.
Примечания, использующие материал, который не был для меня доступен во время написания рукописи первого издания этой книги (а также примечания другого характера, которые были добавлены после 1943 года), помещаются между звездочками, хотя так помечены не все новые примечания .
Примечания к «Введению»
Слова Канта, приведенные в качестве эпиграфа, взяты из его письма М. Мендельсо»гу от 8 апреля 1766 г. (I. Kant. Werke, ed. by E. Cassirer, vol. IX, p. 56 и след.; русский перевод: И. Кант. Трактаты и письма. М., Наука, 1980, с. 515). См. также прим. 41 к гл. 24 и соответствующий текст.
0.1
Термины «открытое общество» и «закрытое общество», насколько мне известно, впервые были использованы Анри Бергсоном в «Двух источниках морали и религии» (A. Bergson. Two Sources of Morality and Religion. Engl, ed., 1935). Несмотря на существенное отличие в употреблении этих терминов Бергсоном и мною (обусловленное фундаментальными различиями в трактовке почти каждой философской проблемы), существует и нечто общее, о чем я хотел бы упомянуть (см. определение Бергсоном закрытого общества как «человеческого общества, едва вышедшего из лона природы» — op. cii., р. 229). Главное различие, однако, состоит в следующем. Мои термины основаны на рационалистическом различении: закрытое общество характеризуется верой в существование магических табу, а открытое общество в моем понимании представляет собой общество, в котором люди (в значительной степени) научились критически относиться к табу и основывать свои решения на совместном обсуждении и возможностях собственного интеллекта. Бергсон, напротив, имел в виду религиозное различение. Вот почему он может рассматривать свое открытое общество как продукт мистической интуиции, тогда как я полагаю (о чем сказано в главах 10 и 24), что мистицизм следует рассматривать как выражение тоски по утраченному единству закрытого общества и поэтому как реакцию на рационализм открытого общества. Из того, как я использую термин «открытое общество» в главе 10, может показаться, что он напоминает термин Грэма Уоллеса «великое общество», однако он может относиться также и к «малому обществу», подобному Афинам времен Перикла. Кроме того, нетрудно представить, что и «великое общество» может быть задержано в своем развитии и закрытым. Вероятно, существует также и некоторое сходство между моим «открытым обществом» и термином, использованным У. Липманом в заглавии одной из его наиболее восхитительных книг — «благое общество» (см. W. Lippmann The Good Society, 1937, а также прим. 59 (2) к гл. 10, прим. 29, 32 и 58 к гл. 24 и соответствующий текст).
Примечания к главе 1
Слова Перикла, приведенные в качестве эпиграфа, взяты из его речи, опубликованной Фукидидом (см. Фукидид. История, II, 37-41). По поводу речи Перикла см. прим. 31 к гл. 10 и соответствующий текст.
Отрывок из Платона, служащий другим эпиграфом к главе 1, взят из «Законов», 942 а-b, и он подробно обсуждается в прим. 33 и 34 к гл. 6 и в соответствующем тексте.
1.1
Термин «коллективизм» я использую только для обозначения доктрины, подчеркивающей значение некоторого коллектива или группы — например, «государства» (или какого-нибудь определенного государства, нации или класса) в противопоставлении индивидууму. Проблема коллективизма или индивидуализма более подробно рассматривается в главе 6, в особенности в прим. 26-28 к этой главе и соответствующем тексте. — О «трибализме» см. главу 10, в особенности прим. 38 к этой главе (список пифагорейских племенных табу).
1.2
Это означает, что такая интерпретация не несет никакой эмпирической информации, как показано в моей «Логике научного исследования» (К. Popper. Logic of Scientific Discovery. London, Hutchinson, 1959; русский сокращенный перевод в: К. Поппер. Логика и рост научного знания. М., Прогресс, 1983, с. 33-235).
1.3
Одна из общих черт доктрин избранного народа, избранной расы и избранного класса состоит в том, что эти доктрины были вызваны к жизни и приобрели свое значение в качестве реакции на тот или иной вид угнетения. Доктрина избранного народа была выдвинута в период основания иудейской церкви, т.е. во время вавилонского пленения. Теория господствующей арийской расы графа Ж. Гобино была реакцией эмигранта аристократического происхождения на утверждение, что французская революция успешно изгнала господ тевтонцев. Пророчество Маркса о победе пролетариата возникло в период наиболее жестокого угнетения и эксплуатации рабочего класса в современной истории. Ср. сказанное с тем, что говорится в прим. 39 к гл. 10 и в особенности в прим. 13-15 к гл. 17, а также в соответствующих местах текста.
Одно из наиболее ярких и кратких выражений историцистского кредо представлено на страницах радикального историцистского памфлета, пространный отрывок из которого приведен в конце прим. 12 к гл. 9. Этот памфлет под названием «Христиане в классовой борьбе» был написан Джильбертом Коупом с предисловием епископа Брэдфордского (G. Соре. Christians in the Class Struggle // 'Magnificat' Publication No. 1, Published by the Council of Clergy and Ministers for Common Ownership, 1942, 28, Maypole Lane, Birmingham 14). Вот что мы читаем на с. 5-6 этого произведения: «Для всех этих воззрений характерно утверждение тезиса "неизбежность плюс свобода". Биологическая эволюция, классовая борьба, деятельность Святого Духа — все эти три процесса характеризуются движением к предустановленной цели. Человеческие усилия способны временно затормозить или отвлечь в сторону это движение, но его сила от этого не убывает, и хотя конец этого движения угадывается лишь смутно... мы можем знать об этом процессе достаточно много, чтобы задерживать или ускорять его неизбежное течение. Иначе говоря, человеку может быть известно достаточно много о законах, управляющих тем, что мы называем "прогрессом"... Он может пытаться задержать или отвлечь этот поток. Однако эти усилия, хотя временно и могут привести к успеху, в конечном счете заранее обречены на неудачу».
1.4
Гегель говорил, что в «Науке логики» он полностью воспроизвел учение Гераклита. Кроме того, он утверждал, что всеми своими идеями он обязан Платону.
Интересно, что Фердинанд фон Лассаль, один из лидеров немецкой социал-демократии (и, как и Маркс, гегельянец), посвятил Гераклиту двухтомное исследование.
Примечания к главе 2
2.1
Вопрос «Из чего сделан мир?» почти всеми ранними ионийскими философами признается в качестве фундаментальной проблемы. Если эти философы действительно рассматривали мир по аналогии с сооружением, то вопрос о природе его строительного материала должен был дополняться вопросом о его генеральном плане. Действительно, известно, что Фалес интересовался не только тем, из какого вещества сделан мир, но и астрономией и географией, а Анаксимандр первым начертил некий генеральный план — карту Земли. Еще некоторые сведения об ионийской школе (в частности, о предшественнике Гераклита Анаксимандре) можно найти в главе 10 — см. прим. 38-40 к этой главе, особенно прим. 39.
Согласно Р. Айслеру (R. Eisler. Weltenmantel und Himmelszelt, p. 693), гомеровское понятие судьбы («мойры») восходит к восточной астральной мистике, обожествлявшей пространство, время и фатум. Он же утверждает (Revue de Synthese Hisiorique, 41, app., p. 16 и след.), что отец Гесиода был малоазийцем и что идеи о Золотом веке и о присутствии металлов в теле человека имеют восточные корни (см. об этом посмертное издание книги Айслера о Платоне — R. Eisler. Plato. Oxford, 1950). Айслер показывает также (Jesus Basileus, vol. II, p. 618-619), что идея мира как всеобщности вещей («космоса») была навеяна вавилонскими политическими учениями. Идея мира как сооружения (дома или шатра) рассматривается в книге R.Eisler. Weltenmantel und Himmelszelt.
2.2
См. H. Diels. Die Vorsokratiker, 5-th edition, 1934, фрагмент 124 (ссылки на это издание в примечаниях будут сокращенно обозначаться как D5), см. также D5, vol. II, р. 423, строка 21 и след. (Предлагаемое некоторыми исследователями введение отрицания в этот фрагмент кажется мне методологически столь же несостоятельным, как и попытка некоторых авторов вообще его дискредитировать. Я не принимаю этих интерпретаций и следую восстановленному А. Рюстовым первоначальному тексту.) Две другие цита ты, приведенные в этом абзаце, являются отрывками из «Кратила», 401 d, 402 a-b.
Моя интерпретация учения Гераклита несколько отличается от той, которая сейчас считается общепринятой и которая была выражена, в частности, Дж. Бернетом. Тем, кто сомневается в том, что моя интерпретация вообще может считаться правдоподобной, советую обратиться к примечаниям 2, 6, 7 и 11 к этой главе. В них я рассматриваю философию природы Гераклита, так как в тексте я ограничился изложением только историцистских аспектов учения Гераклита и его социальной философии. Эти примечания могут оказаться также полезными при чтении глав 4-9 и в особенности главы 10, в свете которой философия Гераклита кажется мне достаточно типичной реакцией на социальную революцию, свидетелем которой он был. См. также прим. 39 и 59 к гл. 10 (и соответствующий текст), а также общую критику методологии Дж. Бернета и А. Тейлора, данную мною в прим. 56 к гл. 10.
Как было сказано в тексте главы, я, как и многие другие исследователи (в частности, Э. Целлер и Дж. Гроут), полагаю, что утверждение об универсальной текучести является центральным в учении Гераклита. Вернет, напротив, считает, что оно «вряд ли является самым важным» для Гераклита (см. J. Burnet. Early Greek Philosophy, 2nd ed., p. 163.) Однако при детальном исследовании его аргументации (см. р. 158 и далее) я так и не смог убедиться, что фундаментальное достижение Гераклита состояло в открытии абстрактной метафизической доктрины, согласно которой «мудрость заключается не в познании многих вещей, а в восприятии лежащего в их основании единства борющихся противоположностей», — как об этом пишет Бернет. Несомненно, что понятие о единстве противоположностей является важным звеном учения Гераклита, однако это понятие может быть выведено (насколько такие вещи вообще выводимы — см. прим. 11 к данной главе и соответствующий текст) из более конкретной и поддающейся интуитивному постижению теории о всеобщей изменчивости. То же самое может быть сказано и об учении Гераклита об огне (см. прим. 7 к данной главе).
Те, кто, наряду с Бернетом, полагают, что доктрина универсальной изменчивости была провозглашена еще задолго до Гераклита ранними ионийскими философами, тем самым, по-моему, не желая того, свидетельствуют о его оригинальности: ведь даже через 2400 лет после смерти Гераклита им так и не удалось понять главного в его философии. Они не видят разницы между течением или циркуляцией внутри сосуда, сооружения или космического каркаса, т.е. внутри всеобщности вещей (некоторые элементы учения Гераклита действительно могут быть поняты именно так, но лишь те элементы, в которых он не был оригинален — см. далее), и универсальным течением, охватывающим все — и сосуд, и сам каркас (см. Лукиан в D5,1, р. 190; Л 180). Признав универсальную текучесть, Гераклит пришел к выводу, что не существует никакой прочной вещи вообще. (Анаксимандр в какой-то степени положил начало устранению мирового каркаса, однако от его учения до доктрины всеобщей изменчивости предстояло пройти еще немалый путь. См. также прим. 15 (4) к гл. 3.)
Доктрина всеобщей изменчивости заставляет Гераклита дать объяснение кажущейся стабильности существующих в мире вещей, а также другим очевидным регулярностям. Для этого он создает ряд вспомогательных теорий, в частности, учение об огне (см. прим. 7 к данной главе) и о законах природы (см. прим. 6). Именно при объяснении кажущейся стабильности мира он активно использует теории предшественников, превращая их учения о сгущении и разрежении и о вращении небес в общую теорию периодической циркуляции материи. Однако я полагаю, что эта часть его учения является не центральной, а вспомогательной. Она носит до некоторой степени апологетический характер, пытаясь примирить новую революционную доктрину текучести со здравым смыслом и с учениями предшественников. Поэтому, как я считаю, Гераклит не был механистическим материалистом, выдвинувшим одну из разновидностей теории о превращении и сохранении материи и энергии. Такое понимание Гераклита, по моему мнению, совершенно исключается его магической трактовкой законов и густо замешанной на мистике теорией о единстве противоположностей.
Мое убеждение в том, что теория универсальной изменчивости является центральной в учении Гераклита, подтверждает и Платон. Подавляющее большинство его прямых ссылок на Гераклита («Кратил», 401 d, 402 a-b, 411, 437 и след., 440; «Теэтет», 153 c-d, 160 d, 177 с, 179 d и след., 182 а и след., 183 а и след.; см. также «Пир», 207 d, «Филеб», 43 а; см. также «Метафизику» Аристотеля 987а 33, 1010а 13, 1078b 13) наглядно говорят о том, как велико было влияние этой доктрины на мыслителей того времени. Эти прямые и ясные свидетельства гораздо более доказательны, чем интересный отрывок из Платона («Софист», 242 d и след.; хотя имя Гераклита открыто в нем и не упоминается, но в связи с Гераклитом ранее он уже исследовался Ф. Ибервегом и Э. Целлером), основываясь на котором, пытается построить свою интерпретацию Бернет. (Другой свидетель Бернета — Филон Александрийский (Иудей) — имеет, конечно, небольшой вес по сравнению с Платоном и Аристотелем.) Однако даже и этот отрывок полностью соответствует нашей интерпретации. (Что касается несколько двусмысленного отношения Бернета к ценности этого отрывка, то см. прим. 56(7) к гл. 10.) Сделанное Гераклитом открытие того, что мир — это универсум не вещей, а событий или фактов, вовсе не является тривиальным обобщением. Подтверждение этому — то, что совсем недавно это открытие было еще раз сделано Л. Витгенштейном: «Мир есть совокупность фактов, а не вещей» (см. L. Wittgenstein. Tractatus Logico-Philosophicus, 1921/1922, предложение 1.1 (курсив мой); русский перевод: Л. Витгенштейн. Логико-философский трактат. М., 1958, с. 31).
Подведем итоги. Я считаю доктрину всеобщей изменчивости фундаментальной для Гераклита и вытекающей из его социально-политического опыта. Все другие его теории являются вспомогательными по отношению к ней. Учение Гераклита об огне (см. Аристотель. «Метафизика», 984а 7, 1067а 2, а также 989а 2, 996а 9, 1001а 15; «Физика», 205а 3) я считаю центральным в его натурфилософии — оно представляет собой попытку примирить учение о текучести с опытом восприятия стабильных вещей, связать его с более ранними теориями циркуляции. Из учения об огне Гераклит вывел теорию законов. А доктрину единства противоположностей я не считаю центральной в философии Гераклита и расцениваю ее как весьма абстрактную, связанную с его мистицизмом и являющуюся предтечей многих последующих логических и методологических концепций (как таковая она вдохновила Аристотеля на открытие закона противоречия).
2.3
W. Nestle. Die Vorsokratiker, 1905, p. 35.
2.4
С тем, чтобы облегчить идентификацию цитируемых фрагментов, я даю их номера по изданию И. Байуотера (эта нумерация принята Дж. Бернетом для английского перевода фрагментов — см. J. Burnet. Early Greek Philosophy) и номера фрагментов по пятому изданию Дильса.
Из восьми отрывков, приведенных в этом абзаце, — (1) и (2) цитируются по фрагменту В 114 (= Bywater, Burnet), D5 121 (= Diels, 5th edition), Л 247 (= Фрагменты ранних греческих философов. М., 1989, с. 247). Остальные отрывки взяты из фрагментов: (3): В 111, D5 29, Л 244 ( ср. Платон. «Государство», 586 а-b)... (4): В 111, D5 104, Л 246... (5): В 112, D5 39, Л 246 (ср. D5, vol. 1, р. 65)... (6): В 5, D5 17, Л 191... (7): В 110, D5 33, Л 247... (8): В 100, D5 44, Л 247.
2.5
Три отрывка, приведенных в этом абзаце, взяты из фрагментов: (1) и (2): В 41, D5 91, Л 211-212 (относительно (1) см. также прим. 2 к этой главе), (3): D5 74, Л 241.
2.6
Два приведенных здесь отрывка — это В 21, D5 31, Л 220 и В 22, D5 90, Л 222.
2.7
О понятии «мера» («закон» или «период»), введенном Гераклитом, см. В 20, 21, 23, 29; D5 30, 31, 94; Л 217, 220. (D5 31 связывает друг с другом понятия «меры» и «закона» («Symbollogos»). Пять отрывков, приведенных в этом абзаце, взяты из фрагментов: (1): D5, vol. 1, р. 141, строка 10 (см. Диог. Л., IX, 7)... (2): В 29, D5 94, Л 220 (см. прим. 2 к гл. 5)... (3): В 34, D5 100, Л 228... (4): В 20, Ds 30, Л 217... (5): В 26, D5 66, Л 239.
(1) Идея закона коррелирует с идеей изменчивости и потока, ибо только законы и регулярности, существующие внутри потока, способны объяснить видимую стабильность мира. Самыми типичными регулярностями, известными человеку, погруженному в изменчивый мир, являются природные периоды: смена дня и ночи, лунный месяц, смена времен года. Мне кажется, что гераклитовская теория закона логически находится между по сути дела современной теорией «каузальных законов» (которой придерживались Левкипп и особенно Демокрит) и концепцией темных фатальных сил Анаксимандра. Гераклитовы законы все еще являются «магическими», т.е. он еще не умел различать между абстрактными каузальными регулярностями и законами типа табу, поддерживаемыми человеческими санкциями (см. об этом прим. 2 к гл. 5). По-видимому, его теория судьбы связана с теорией «Великого года» или «Великого цикла», составляющего 18000 или 36000 обычных лет. (см., например, J. Adam. The Republic of Plato, vol. II, p. 303). Я определенно не думаю, что из этой теории следует, будто Гераклит на самом деле верил не во всеобщую текучесть, а лишь в многообразные циркуляции, постоянно восстанавливающие стабильность структуры. Однако я допускаю, что ему трудно было представить закон изменчивости или даже судьбы, не прибегая к понятию периодичности (см. также прим. 6 к гл. 3).
(2) В философии природы Гераклита огонь играет центральную роль. (Возможно, что влияние на него оказали персы.) Пламя является ярким символом потока или процесса, во многих отношениях кажущегося вещью. Поэтому это понятие способно дать объяснение опыту столкновения со стабильными вещами, примиряя этот опыт с идеей потока. Эту идею легко распространить на живые тела, которые подобны пламени, но горящему медленнее. Гераклит утверждает, что все вещи текучи, все подобны пламени, но их текучесть обладает разными «мерами» или законами движения. «Горшок» или «корыто», в котором горит пламя, гораздо менее текуч, чем огонь — и все же он текуч. Он меняется, у него есть своя судьба и свои законы, огонь охватит его и он сгорит, будет уничтожен, даже если потребуется определенное время для того, чтобы свершилась его судьба. Поэтому «всех и вся, нагрянув внезапно, будет Огонь судить и схватит» (В 26, D5 66, Л 239).
Таким образом, огонь является символом и принципом объяснения того, что вещи кажутся неизменными, хотя они на самом деле текучи. Он также является символом перехода материи с одной ступени (топлива) на другую. Поэтому он является связующим звеном между интуитивной философией природы Гераклита и учениями его предшественников о сгущении и разряжении. Вспыхивание и затухание пламени, происходящие в соответствии с мерой топлива, представляют собой пример закона, который, будучи соединенным с идеей периодичности, может объяснить регулярности таких природных периодов, как сутки или год. (Изложенные соображения заставляют меня усомниться в правоте Дж. Бернета, не доверяющего хрестоматийным свидетельствам о вере Гераклита в периодически возникающие большие пожары, связанные, по-видимому, с окончанием Великого года — ср. Аристотель. «Физика», 205а 3 с D5 66, Л 239).
2.8
Четырнадцать отрывков, цитируемых в этом абзаце, взяты из фрагмен тов: (1): В 10, ДО 123, Л 192... (2): В 11, D5 93, Л 193... (3): В 16, ДО 40, Л 195... (4): ДО 81, Л 196...(5): В 94, ДО 73, Л 190... (6): В 95, ДО 89, Л 198... (с цитатами (5) и (6) ср. платоновское «Государство», 476 с и далее, 520 с)... (7): В 6, ДО 19, Л 190... (8): В 3, ДО 34, Л 190... (9): В 19, ДО 41, Л 239... (10): В 92, ДО 2, Л 198... (11): В 91а, ДО 113, Л 198... (12): В 59, ДО 10, Л 199... (13): В 65, ДО 32, Л 239... (14): В 28, ДО 64, Л 237.
2.9
Помимо всего прочего, Гераклит был еще и правовым позитивистом, причем более последовательным, чем большинство современных историков морали (о правовом позитивизме см. главу 5): «Для бога все прекрасно и справедливо, люди же одно признали несправедливым, другое — справедливым» (D5 102, В 61, Л 241; см.также гераклитовский отрывок (8) в прим. 11). То, что Гераклит был первым правовым позитивистом, засвидетельствовано еще Платоном («Теэтет», 177 c-d). Об этическом и правовом позитивизме вообще см. главу 5 (текст к примечаниям 14-18) и главу 22.
2.10
Два отрывка, цитируемые в этом абзаце, взяты из фрагментов: (1): В 44, ДО 53, Л 202... (2): В 62, ДО 80, Л 201.
2.11
Девять отрывков, приведенные в этом абзаце, взяты из фрагментов: (1): В 39, ДО 126, Л 214... (2): В 104, ДО 111, Л 214... (3): В 78, ДО 88, Л 213- 214... (4): В 45, ДО 51, Л 199... (5): ДО 8, Л 200... (6): В 69, ДО 60, Л 204... (7): В 50, ДО 59, Л 204... (8): В 61, ДО 102, Л 241 (см. прим. 9)... (9): В 57, ДО 58, Л 215 (ср. Аристотель. «Физика», 185b 20).
Поток или изменение должны быть переходом от одной стадии, свойства или положения к другим. Поскольку поток предполагает наличие того, что изменяется, то вещь, претерпевающая изменения, должна сохранять свою идентичность, даже если она переходит на противоположную стадию или приобретает противоположное свойство или положение. Это связывает теорию потока с теорией единства противоположностей (см. Аристотель. «Метафизика», 1005b 25, 1024а 24, 1062а 32, 1063а 25) и с доктриной единства всех вещей: все вещи находятся лишь на различных стадиях или представляют собой лишь различные проявления изменяющегося единого (огня).
Представлялся ли Гераклитом «путь наверх» и «путь вниз» первоначально в виде обычной дороги, ведущей сначала в гору, а затем с горы (или, быть может, как дорога, ведущая наверх с точки зрения человека, находящегося внизу, и ведущая вниз с точки зрения человека, находящегося наверху) и была ли эта метафора лишь позднее приспособлена к иллюстрации процесса кругооборота, к пути, который проходит земля, превращаясь в воду (быть может, в жидкое топливо в кувшине?), затем в огонь и опять из огня в воду (дождь?) и снова в землю, или путь вверх и путь вниз с самого начала виделся Гераклиту аналогичным процессу кругооборота материи — сегодня эти вопросы, конечно же, никому не удастся решить. (Я полагаю, однако, что первое из этих предположений более правдоподобно. Об этом говорит большое количество сходных идей, выраженных в различных фрагментах Гераклита — см., в частности, текст настоящей главы.)
2.12
Четыре цитируемых в этом абзаце отрывка взяты из фрагментов: (1): В 102, D5 24, Л 244... (2): В 101, D5 25, Л 244 (ср. платоновские «Законы», 903 d-e — этот отрывок контрастирует с отрывком из «Государства» 617 d-е)... (3): В 111, D5 29, Л 244 (продолжение этого фрагмента уже цитировалось — см. отрывок (3) в прим. 4)... (4): В 113, D5 49, Л 245.
2.13
Весьма вероятно (см. Е. Meyer. Geschichte des Altertums, особенно Bd. 1), что чрезвычайно характерные для этого времени учения об избранном народе явились источником некоторых других, помимо иудейской, религий.
2.14
О. Конт, создавший во Франции вариант историцистской философии, во многом сходный с философией Гегеля, подобно последнему пытался остановить напор революционных сил (см. F. A. von Hayek. The Counter-Revolution of Science // Economica. New Series., vol. VIII, 1941, p. 119 и след., p. 281 и след.). Об интересе Ф. Лассаля к Гераклиту см. прим. 4 к гл. 1. Интересно отметить в этой связи параллелизм в развитии историцистских и эволюционных идей. В античной Греции первым эволюционистом был полугераклитовец Эмпедокл (о платоновской разновидности эволюционизма см. прим. 1 к гл. 11). Значительно позднее возрождение эволюционизма произошло в Англии и во Франции в период Французской революции.
Примечания к главе 3
3.1
Сравните это объяснение термина «олигархия» с тем, что сказано в конце прим. 44 и 57 к гл. 8.
3.2
См. прим. 48 к гл. 10.
3.3
См. окончание гл. 7, в частности прим. 25, а также гл. 10, в частности прим. 69.
3.4
См. Диог. Л., III, 1. О семейных связях Платона, в частности о его происхождении по линии отца от Кодра «и даже от бога Посейдона», см. G. Grote. Plato and other Companions of Socrates, 1875, vol. I, p. 114. (Имеются аналогичные свидетельства о семье Крития, т.е. родственников Платона со стороны матери. Об этом см. Е. Meyer. Geschichte des Altertums, vol. V, 1922, p. 66.) Вот что Платон говорит в «Пире», (208 d): «Ты думаешь, Алкестиде,… Ахиллу… или вашему Кодру захотелось бы умереть ради будущего царства своих детей, если бы они не надеялись оставить ту бессмертную память о своей добродетели, которую мы и сейчас сохраняем?». Платон восхваляет семейство Крития (т.е. своих родственников со стороны матери) в раннем диалоге «Хармид» (157 е и след.) и в позднем диалоге «Тимей» (20 е), в котором корни этого семейства прослеживаются вплоть до Дропида, афинского правителя, архонта и друга Солона.
3.5
Два автобиографических отрывка, цитируемых в этом абзаце, взяты из «Седьмого письма» (325). Многие известные исследователи подвергают сомнению платоновское авторство этих писем (возможно, без достаточных на то оснований. Я считаю, что Дж. Филд подошел к этой проблеме весьма основательно — см. прим. 57 к гл. 10. Вместе с тем, «Седьмое письмо» кажется мне несколько подозрительным — слишком часто оно повторяет то, что нам уже известно из «Апологии Сократа», и слишком многое в нем кажется преднамеренным). Поэтому я позаботился о том, чтобы моя интерпретация Платона основывалась на самых известных его диалогах. Впрочем, она полностью соответствует и идеям, изложенным в «Письмах Платона». Для удобства читателей я привожу список наиболее часто используемых мной платоновских диалогов в предполагаемом историческом порядке их написания (см. прим. 56 (8) к гл. 10): «Критон» — «Апология Сократа» — «Евтифрон»; «Протагор» — «Менон» — «Горгий»; «Кратил» — «Менек сен» — «Федон»; «Государство»; «Парменид» — «Теэтет»; «Софист» — «Политик» — «Филеб»; «Тимей» — «Критий»; «Законы».
3.6
(1) У Платона нигде прямо не говорится о том, что историческое развитие может обладать циклическим характером. Ссылки на эту теорию, однако, имеются по крайней мере в четырех местах: в «Федоне», в «Государстве», в «Политике» и в «Законах». Вероятнее всего, во всех этих случаях Платон имел в виду теорию Великого года Гераклита (см. прим. 6 к гл. 2). Возможно, однако, и то, что Платон имел в виду не самого Гераклита, а Эмпедокла, теорию которого (см. также: Аристотель. «Метафизика», 1000а 25 и след.). Платон считал более «мягкой» разновидностью учения Гераклита о единстве всех изменений. Об этом он говорит в знаменитом отрывке из «Софиста» (242 е и след.). Согласно этому отрывку, а также тому, что повторяет Аристотель («О возникновении и уничтожении», В, 6, 334а 6), существует исторический цикл, обнимающий период, когда правит любовь, и период, когда правит гераклитова борьба или распря. Аристотель говорит, что, по мнению Эмпедокла, «в настоящее время… в мире… господствует Вражда, а раньше… господствовала Любовь». Утверждение, что изменения, характеризующие современный космический период, носят характер борьбы, и поэтому они вредоносны, хорошо соответствует как теориям, так и переживаниям Платона.
Продолжительность Великого года, по всей видимости, составляет период времени, по истечении которого все небесные тела располагаются друг относительно друга так же, как и в начале этого периода. (Поэтому Великий год равен наименьшему общему кратному периодов обращения «семи планет»).
(2) В отрывке из «Федона», о котором я говорил в пункте (1), сначала упоминается гераклитова теория изменчивости, касающаяся превращения друг в друга противоположных состояний, или противоположностей: «когда что-нибудь становится больше, значит ли это с необходимостью, что сперва оно было меньшим, а потом из меньшего становится большим?» (70 е-71 а). Затем в нем говорится о законе циклического развития: «не таким ли образом возникает все вообще — противоположное из противоположного — в любом случае, когда налицо две противоположности» (там же). А далее Платон утверждает: «Если бы возникающие противоположности не уравновешивали постоянно одна другую, словно описывая круг, если бы возникновение шло по прямой линии,… все, в конце концов… приобрело бы одни и те же свойства и возникновение прекратилось бы» (72 а-b). Мне кажется, что общая направленность «Федона» более оптимистична, выражает больше веры в человека и человеческий разум, чем позднейшие диалоги Платона, но в нем отсутствует непосредственное описание исторического развития человечества.
(3) Приведенное в тексте главы описание исторического развития дается Платоном в «Государстве», где в книгах VIII и IX можно обнаружить подробную теорию исторического упадка, о которой мы будем говорить в главе 4. Эту теорию Платон иллюстрирует рассказом о Падении человека и о Числе, который будет подробно проанализирован в главах 5 и 8. Дж. Адам в своем издании «Государства» Платона (J. Adam (ed.) The Republic of Plato, 1902, 1921, vol. 2, p. 210) справедливо называет этот рассказ «рамкой, в которую вправлена платоновская "философия истории"». В этом рассказе нет прямых высказываний о циклическом характере исторического развития, но в нем есть несколько довольно таинственных намеков, которые, согласно любопытной, хотя и не совсем понятной интерпретации Аристотеля (и Адама), вероятно, относятся к Великому году Гераклита, т.е. к теории циклического развития (см. прим. 6 к гл. 2 и Adam, op. cit., vol. II, p. 303. Замечание об Эмпедокле, сделанное на с. 303 и след. издания Адама, требует уточнения — см. (1) этого примечания).
(4) В «Политике» (268 е-274 е) имеется еще один миф. Согласно этому мифу, Бог управляет миром самостоятельно в течение половины цикла великого мирового периода. После этого мир, который до тех пор двигался вперед, начинает скатываться назад. Таким образом, Платон выделяет два полупериода или полуцикла, составляющих полный цикл: период без войн и распрей, характеризуемый поступательным движением, направляемым Богом, и период все возрастающей дезорганизации и все ужесточающихся войн, характеризуемый попятным движением покинутого Богом мира. Мы, несомненно, живем во втором периоде цикла. В конце концов, мир испортится настолько, что Бог будет вынужден снова взять в руки бразды правления и изменить направление движения мира, чтобы спасти его от полного уничтожения.
Этот миф очень напоминает упомянутый в пункте 1 миф Эмпедокла, а также, вероятно, Великий год Гераклита. Адам (op. cit., vol. II, р. 296) указывает также на сходство этого мифа с мифологией Гесиода. Один из моментов сходства составляет миф Гесиода о Золотом веке Кроноса, когда люди вырастали из земли. Этот миф очень напоминает платоновский миф о земнородных и о роли металлов в теле человека; этот миф играет важную роль в «Государстве» Платона (414 b и след., 546 е и след.). Об этом мифе мы будем подробно говорить в главе 8. Миф о земнородных упоминается также и в «Пире» (191 b). Возможно, он связан с традицией афинян называть себя «похожими на кузнечиков», т.е. автохтонами (см. прим. 32 (1) к гл. 4 и прим. 11 (2) к гл. 8).
Однако, когда в диалоге «Политик» (302 b и след.) Платон выделяет шесть форм государственного устройства по мере возрастания их несовершенства, о циклической теории исторического развития речь уже не ведется. Напротив, каждая из этих шести форм, представляющих собой все более неточные копии совершенного, или наилучшего государства («Политик», 293 d-e, 297 с, 303 b), является своеобразной ступенью в процессе вырождения, иначе говоря, и в диалоге «Политик», и в «Государстве» при решении конкретных исторических проблем Платон ограничивается рассмотрением только той части исторического цикла, для которой характерен упадок.
(5) Сходные замечания могут быть сделаны и в отношении «Законов». В книге III, 676 b-677 b, Платон, подробно описывая начало одного из циклов, дает набросок теории циклического развития истории. Там же (678 е и 679 с) мы узнаем, что это начало и было Золотым веком, а потому вся последующая история есть история упадка. Следует отметить, что отождествление Платоном планет с богами, а также учение о том, что боги оказывают воздействие на человеческие жизни (и что на развитие истории оказывают влияние космические силы), все это играло важную роль в астрологических концепциях неоплатоников. Все эти учения представлены в «Законах» (см. например, 821 b-d, 899 b, 899 d-905 d, 677 а и след.). Астрологию объединяет с историцизмом вера в предустановленную судьбу, которая может быть предсказана. Кроме того, астрология разделяет с некоторыми формами историцизма (в частности, с платонизмом и с марксизмом) веру в то, что вопреки возможности предсказывать будущее, мы способны оказывать на него влияние, особенно, если мы знаем, что должно случиться.
(6) Нет ничего, кроме упомянутых ранее редких намеков, что указывало бы на то, что Платон всерьез рассматривал возможность восходящей или прогрессивной части цикла. Вместе с тем, кроме подробного описания, данного в «Государстве», а также в фрагментах, указанных в пункте (5) настоящего примечания, в платоновских диалогах можно найти еще немало замечаний, свидетельствующих о том, что Платон весьма серьезно относился к попятному движению, т.е. к закату истории. В этой связи необходимо подробно рассмотреть диалоги «Тимей» и «Законы».
(7) В «Тимее» (42 b, 90 е, особенно 91 d и след.; см. также «Федр», 248 d и след.) Платон дает описание того, что может быть названо происхождением видов путем вырождения: мужчины выродились в женщин, а женщины — в еще более низких животных (см. текст к прим. 4 к гл. 4 и прим. 11 к гл. 11).
(8) В книге III «Законов» (см. также книгу IV, 713 а и след.) представлена достаточно подробно развитая теория исторического упадка, которая во многом аналогична теории, изложенной в «Государстве». См. также следующую главу, особенно прим. 3, 6, 7, 27, 31 и 44 к гл. 4.
3.7
Такое же мнение о политических целях Платона было высказано Дж. Филдом (G. С. Field. Plato and His Contemporaries, 1930, p. 91): «Основной целью платоновской философии можно считать стремление восстановить в цивилизации, находящейся на грани распада, стандарты мышления и поведения» (см. также прим. 3 к гл. 6 и соответствующий текст).
3.8
Полагая, вопреки Джону Бернету и А. Э. Тейлору, что теория форм или идей целиком принадлежит Платону, хотя он и вкладывает ее в уста Сократа, я солидарен со многими старыми и современными авторитетами в этой области (например, Дж. Филдом, Ф. М. Корнфордом, А. К. Роджерсом). Несмотря на то, что платоновские диалоги являются единственным первоклассным источником сведений об учении Сократа, все же, я считаю, следует провести различие между «сократовскими», т.е. исторически точными, и «платоновскими» чертами персонажа платоновских диалогов по имени «Сократ». Так называемая «проблема Сократа» обсуждается в главах 6, 7 и 10; см. в особенности прим. 56 к гл. 10.
3.9
Впервые термин «социальная инженерия» был использован, по-видимому, Р. Паундом в его «Введении в философию права» (R. Pound. Introduction to the Philosophy of Law, 1922, p. 99). Б. Маги сообщил мне, что С. и Б. Веббы скорее всего ввели его в употребление еще до 1922 года.
Р. Паунд употреблял его в смысле постепенных, частных («peacemeal») социальных преобразований. В другом смысле использовал его М. Истмен (M. Eastman. Marxism: is it Science? 1940). Книгу Истмена я прочитал уже после того, как была написана моя собственная книга, поэтому, своим термином «социальная инженерия» я не собирался намекать на терминологию, используемую Истменом. Насколько я могу судить, он является сторонником критикуемого мной в главе 9 подхода, который я назвал «утопической социальной инженерией» (см. прим. 1 к этой главе; см. также прим. 18 (3) к гл. 5). В качестве первого социального инженера можно назвать градостроителя Гипподама Милетского (см. Аристотель. «Политика», 1276b 22, а также R. Eisler. Jesus Basileus, vol. II, p. 754).
Термин «социальная технология» был предложен мне К. Симкином. Я хотел бы внести ясность в то, что, обсуждая проблемы метода, главной задачей я вижу приобретение практического институционального опыта (см. гл. 9, в особенности текст к прим. 8 к этой главе). Более подробный анализ методологических проблем, связанных с социальной инженерией и социальной технологией, дан в моей книге «Нищета историцизма» (К. Popper. The Poverty of Historicism, London, Routledge and Kegan Paul, 2nd ed., 1960, part III).
3.10
Приведенный отрывок взят из моей «The Poverty of Historicism», p. 65. Вопрос о «непредумышленных результатах человеческих действий» более подробно обсуждается в главе 14, см. в особенности прим. 11 и соответствующий текст.
3.11
Я — сторонник дуализма фактов и решений (или «сущего» и «должного»). Другими словами, я считаю невозможным сведение решений или требований к фактам, хотя, конечно, сами решения или требования можно рассматривать в качестве фактов. Некоторые соображения по этому поводу можно найти в главах 5 (текст к прим. 4-5), 22 и 24.
3.12
Аргументы в пользу такого истолкования платоновской теории наилучшего государства будут представлены в следующих трех главах. Пока достаточно сослаться на диалоги «Политик», 293 d-e, 297 с; «Законы», 713 b-с, 739 d-e; «Тимей», 22 d и след., в особенности 25 е и 26 d.
3.13
См. известное свидетельство Аристотеля, которое частично будет приведено далее в этой главе (см. прим. 25 к этой главе и соответствующий текст).
3.14
Об этом писал Дж. Гроут в своей книге о Платоне (G. Grote. Plato, vol. Ill, note и, р. 267).
3.15
Цитируемые отрывки взяты из «Тимея», 50 c-d, 51 е-52 b. Используемая Платоном аналогия формы или идеи с отцом, а Пространства — с матерью всех чувственных вещей имеет важные и далеко идущие следствия. См. также прим. 17 и 19 к этой главе, а также прим. 59 к гл. 10.
(1) Эта аналогия напоминает миф Гесиода о хаосе — зияющей дыре (пространству, восприемнику), соответствующей матери, и о боге Эроте, соответствующем отцу или идее. Хаос — это источник всего, а потому возникает проблема каузального (хаос = causa, причина) объяснения, которая долгое время ставилась в форме вопроса о происхождении (αρχε), рождении или возникновении.
(2) Пространство или мать соответствует «неопределенному» или «безграничному» Анаксимандра и пифагорейцев. Идея, поскольку она мужского пола, должна соответствовать определенному (или ограниченному) пифагорейцев. Ведь определенное как противоположность неопределенному, мужское как противоположность женскому, светлое как противоположность темному, благое как противоположность злому присутствуют на противоположных полюсах пифагорейской таблицы противоположностей (см. Аристотель. «Метафизика», 986а 22 и след.). Поэтому идеи скорее всего следует связывать со светом и благом (см. окончание прим. 32 к гл. 8).
(3) Идеи, будучи границей или пределом в противоположность неопределенному пространству (которое одновременно является неоформленной материей, т.е. бескачественным веществом Анаксимандра), впечатываются (см. прим. 17 (2) к этой главе) в него, как формовочный пресс, тем самым порождая чувственные вещи. Дж. Д. Маббот привлек мое внимание к тому факту, что, согласно Платону, формы или идеи не сами впечатываются в пространство, а их впечатывает в него Демиург. Черты теории, согласно которой формы являются «причинами бытия и возникновения (или становления)», можно найти, как отмечает Аристотель («Метафизика», 1080а 2), уже в «Федоне», 100 d.
(4) Вследствие акта порождения Пространство, т.е. восприемник, начинает действовать, так что все вещи приводятся в движение, они погружаются в поток Гераклита или Эмпедокла, который охватывает даже каркас всех вещей, т.е. само безграничное пространство. (О поздней гераклитовской идее восприемника см. «Кратил», 412 d.)
(5) Это описание напоминает также «путь обманчивого мнения» Парменида, утверждающего, что чувственный и текучий мир был создан благодаря смешению двух противоположностей — света (теплоты или огня) и тьмы (холода или земли). Понятно, что платоновские формы или идеи должны соответствовать первой группе противоположностей, а пространство и все безграничное — второй, особенно если мы вспомним, что платоновское чистое пространство очень близко неопределенной материи.
(6) После важнейшего открытия древнегреческой математикой того, что квадратный корень из двух выражается иррациональным числом, противоположность между определенным и неопределенным стала ассоциироваться с противоположностью рационального и иррационального. Однако поскольку Парменид отождествлял рациональное с бытием, то пространство или иррациональное должно было отождествляться с небытием. Другими словами, пифагорейскую таблицу противоположностей следовало расширить так, чтобы она охватывала рациональное как противоположность иррациональному и бытие как противоположность небытию. (Это соответствует тому, что Аристотель говорит в «Метафизике», 1004b 27, о том, что «все противоположности сводимы к бытию и небытию»; см. также 1072а 31, где один из полюсов таблицы, содержащий бытие, описывается как объект рационального познания, и 1093b 13, где к этому полюсу добавляются свойства некоторых чисел, противопоставляющихся, по-видимому, их корням. Эти соображения могут также объяснить смысл известного замечания Аристотеля, высказанного в «Метафизике», 986b 27. Поэтому, возможно, Ф. М. Корнфорд не прав, когда в своей замечательной статье «Два пути Парменида» (F. M. Cornford. Parmenides' Two Ways // Class. Quart., XVII, 1933, p. 108) утверждает, что Парменид (фрагм. 8, 53-54) был «искажен Аристотелем и Теофрастом», потому что если мы расширим таблицу противоположностей предложенным нами способом, то совершенно убедительная интерпретация, данная Корнфордом фрагменту 8, не будет противоречить замечанию Аристотеля).
(7) Корнфорд показал (op. cit., p. 100), что Парменид в действительности выделял три «пути»: путь Истины, путь Небытия и путь Видимости (или, как еще можно его назвать, путь Обманчивого мнения). Он показал также, что эти три пути соответствуют трем областям, о которых говорится в «Государстве»: (1) совершенному, действительному и рациональному миру идей, (2) совершенному небытию и (3) миру мнений, основанному на созерцании текучих вещей. Кроме того, он заметил (op. cit., p. 102), что в «Софисте» Платон модифицировал эту позицию. К этому можно было бы добавить некоторые замечания в связи с отрывками из «Тимея», к которым относится данное примечание.
(8) Основное различие между формами или идеями, как они излагаются в «Государстве» и как они описаны в «Тимее», состоит в том, что в «Государстве» формы (а также Бог — см. «Государство», 380 d) являются, если можно так выразиться, окаменелыми, а в «Тимее» они богоподобны. В «Государстве» они больше, чем в «Тимее», напоминают Единое Парменида (см. примечание, сделанное Адамом к «Государству» к 380 d 28-31). В «Законах» эта тенденция привела Платона к тому, что идеи большей частью были заменены душами. Главное различие состоит здесь в том, что идеи все в большей степени становятся начальными пунктами движения и причинами возникновения или, как сказано в «Тимее», отцами движущихся вещей. Обратите внимание, какой большой контраст имеется между «Федоном», 79 е: «даже самый отъявленный тугодум… признает, что душа решительно и безусловно ближе к неизменному, чем к изменяющемуся», и «Законами», 895 е-896 а: «Каково же определение того, чему имя "душа"? Разве существует другое какое-либо определение, кроме только что данного: "Душа — это движение, способное двигать само себя"?» (см. также «Федр», 245 с и след.). Промежуточная позиция между этими двумя точками зрения представлена, по-видимому, в «Софисте» (в котором обсуждается форма или идея самого движения) и в «Тимее», 35 а, где говорится о «божественных и неизменных» формах и изменчивых и распадающихся вещах. Вот почему в «Законах» (см. 894 d-e) движение души называется «первым по силе и происхождению», а сама душа описывается как «старше и божественнее тех вещей, движение которых, раз возникнув, создало вечную сущность» (966 е). (Полагая, что все живые существа имеют души, Платон, по-видимому, допускал существование в вещах по крайней мере частичного формального принципа. Эта точха зрения очень близка аристотелизму, в особенности, если учесть широкую распространенность архаичного мнения, согласно которому все вещи являются живыми.) См. также прим. 7 к гл. 4.
(9) Диалог «Софист» играет ключевую роль в развитии платоновской мысли, движущей силой которой было стремление объяснить текучий мир при помощи теории идей, т.е. по крайней мере осознать глубину непреодолимой пропасти между миром мнения и миром разума. Корнфорд отметил (op. cit., p. 102), что в «Софисте» не только обсуждается вопрос о множественности идей, но и сами идеи, в противоположность более ранней позиции Платона («Софист», 248 а и след.), представлены как: (а) действующие причины, способные взаимодействовать, например, с душой; (b) неизменные сущности, вопреки тому, что существует идея движения, которой причастны все движущиеся вещи и которая сама не находится в покое; (с) способные смешиваться друг с другом. В «Софисте» вводится также «Небытие», которое в «Тимее» отождествляется с пространством (см. F. M. Cornford. Plato's Theory of Knowledge, 1935, примечание к «Софисту», 247) и которое может смешиваться с идеями (см. также Филолай, фрагм. 2, 3, 5 по Дильсу5), создавая текучий мир, занимающий промежуточное положение между миром идей и небытием пространства или материи.
(10) В заключение я хотел бы защитить мое высказанное в тексте убеждение в том, что идеи находятся не только вне пространства, но и вне времени, хотя в самом начале времени они контактировали с миром. Мне кажется, что, приняв такую позицию, легче понять, как они могут воздействовать на вещи, не пребывая в движении, — ведь всякое движение или изменчивость возможны только в пространстве и времени. Я думаю, что Платон полагал, будто время имеет начало. Мне кажется, что это вытекает из непосредственной интерпретации его высказывания в «Законах», 721 с: «род человеческий тесно слит с совокупным временем», особенно если мы вспомним многочисленные свидетельства в пользу того, что Платон считал человека одним из первых, кто был сотворен. (В этом вопросе я несколько расхожусь во мнениях с Ф. Корнфордом — см. F. M. Cornford. Plato's Cosmology, 1937, p. 145, p. 26 и след.)
(11) Итак, неизменные идеи лучше и первичнее своих изменчивых и ухудшающихся копий (см. также прим. 3 к гл. 4).
3.16
См. прим. 4 к этой главе.
3.17
(1) Роль богов в «Тимее» сходна с той, которая описывается в тексте. Подобно тому, как идеи, так сказать, отпечатывают вещи, так боги оформляют тела людей. Только человеческая душа создается самим Демиургом, который является творцом мира и богов. (Другое указание на сходство богов и патриархов имеется в «Законах», 713 c-d.) Люди, слабые и вырожденные потомки богов, подвержены поэтому дальнейшему вырождению. См. прим. 6 (7) к этой главе и прим. 37-41 к гл. 5.
(2) В «Законах» имеется интересный отрывок (681 b; см. также прим. 32 (1, а) к гл. 4), содержащий еще один намек на параллелизм отношений идея — вещи и отцы — дети. В этом отрывке происхождение законов объясняется влиянием традиции или, точнее, передачей от родителей к детям жестко установленного порядка. После этого Платон говорит: «От более порядочных воспитателей они перенимали большую упорядоченность, от мужественных — большую мужественность и точно таким же образом запечатлевали в своих детях и внуках усвоенные ими взгляды».
3.18
См. прим. 49, в особенности пункт (3), к гл. 8.
3.19
См. «Тимей», 31а. Термин, который в тексте переведен как «образец для космоса», идентичен термину, который Аристотель часто употреблял в смысле «универсальное» или «общее» понятие, обозначавшее у него «вещь, которая является общей», «превосходящей» или «объемлющей». Мне кажется, что сначала этот термин означал «охватывание» шаблоном измеряемой с его помощью вещи.
3.20
См. «Государство», 597 с. См. также 596 а (и второе примечание, сделанное Адамом к 596 а 5): «для каждого множества вещей, обозначаемых одним именем, мы обычно устанавливаем только один определенный вид».
3.21
Об этом имеется множество платоновских отрывков. Я упомяну только «Федона», 79 а; «Государство», 544 а; «Теэтета», 152 d-e, 179 d-e; «Тимея», 28 b-c, 29 c-d, 51 d. Аристотель говорит об этом в «Метафизике», 987а 32, 999а 25-999b 10, 1010а 6-15, 1078b 15. См. также прим. 23 и 25 к этой главе.
3.22
Как замечает Дж. Бернет (J. Burnet. Early Greek Philosophy2, p. 208), Парменид утверждал, что «то, что есть… является конечным, сферическим, неподвижным и телесным», т.е. мир представляет собой не имеющий частей шар, и что «помимо него ничего нет». Я цитирую Бернета потому, что (a) его описание блестяще и (b) оно полностью подрывает его интерпретацию того, что Парменид называл «мнением смертных» (или «путем обманчивого мнения»). Бернет отбрасывает интерпретации, данные Аристотелем, Теофрастом, Симпликием, Гомперцем и Майером, как «явные анахронизмы». Интерпретация, отвергнутая Бернетом, практически совпадает с той, что была изложена мною в тексте, а именно, что Парменид верил в существование реального мира, находящегося за миром видимости. Этот дуализм, позволивший Пармениду придать своему описанию мира видимости хотя бы некоторые правдоподобные черты, Бернет отвергает как безнадежный анахронизм. Я, однако, полагаю, что, если Парменид верил только в неподвижный мир и совершенно не верил в мир изменений, то он был просто сумасшедшим (на что намекает Эмпедокл). Однако на самом деле подобного рода дуализм можно найти уже у Ксенофана, (см. Ксенофан, фрагм. 23-26, которые следует сопоставить с фрагм. 34, см. особенно: «Но все это их вздорное мнение»), так что едва ли здесь можно говорить об анахронизме. Как было сказано в прим. 15 (6-7), в интерпретации Парменида я следую Корнфорду (см. также прим. 41 к гл. 10).
3.23
См. Аристотель. «Метафизика», 1078b 23, 1078b 19.
3.24
Это важное наблюдение было сделано Дж. Филдом (G. С. Field. Plato and his Contemporaries, p. 211).
3.25
Цитируемые отрывки приводятся из: Аристотель. «Метафизика», 1078b 15 и 987b 7.
3.26
В аристотелевском анализе («Метафизика», 987а 30-b 18) аргументов в пользу теории идей (см. также прим. 56(6) к гл. 10) можно выделить следующие пункты: (а) анализ гераклитова потока; (b) утверждение о невозможности истинного знания о текучих вещах; (с) анализ влияния на Платона сократовских этических сущностей; (d) рассмотрение идей как объектов истинного знания; (e) анализ пифагорейских влияний; (f) рассмотрение «математических понятий» («mathematicals») в качестве промежуточных объектов. (Пункты (e) и (f) в тексте упомянуты не были, однако там говорилось еще об одном пункте (g) — о влиянии Парменида.)
Небесполезно проследить, как эти пункты воплощались в работах самого Платона по мере того, как он разрабатывал свою теорию. Особое внимание я обращаю на «Федона», «Государство», «Теэтета», «Софиста» и «Тимея».
(1) В «Федоне» можно обнаружить все перечисленные выше пункты до (e) включительно. В отрывке 65 а-66 а особенно заметны пункты (d) и (с), а также имеется намек на (b). В отрывке 70 е пункт (d), теория Гераклита, соединяется с элементами пифагореизма (e). Отрывок 74 а и след. напоминает нам о пункте (a). В отрывке 99-100 пункт (с) выводит нас на пункт (d) и т. д. О пунктах (a)-(d) см. также «Кратил», 439 с и след.
В «Государстве» свидетельству Аристотеля в наибольшей степени соответствует книга VI. В начале этой книги (485а-b, ср. с 527а-b) упоминается Гераклитов поток, который противопоставляется неизменному миру форм.
Платон здесь говорит о «вечно сущем и не изменяемом возникновением и уничтожением бытии» (см. прим. 2 (2) и 3 к гл. 4 и прим. 33 к гл. 8, а также текст). Пункты (b), (d) и в особенности (f) играют особую роль в знаменитом учении Платона о Линии родства («Государство», 509 с-511 е; см. примечания, сделанные Адамом, а также его Приложение I к книге VII). Этическое влияние Сократа, т.е. (с), заметно на протяжении всего «Государства». Оно играет важную роль при изложении Платоном учения о Линии родства и особенно в отрывке 508 b и след., где рассматривается значение блага; см., в частности, 508 b-с: «Вот и считай, что я утверждаю это и о том, что порождается благом, — ведь благо произвело его подобным самому себе: чем будет благо в умопостигаемой области по отношению к уму и умопостигаемому, тем в области зримого будет Солнце по отношению к зрению и зрительно постигаемым вещам». Пункт (е) охватывается пунктом (f), но наиболее полно он представлен в книге VII, в знаменитом «Curriculum» (см. в особенности 523 а-527 с), основанном большей частью на учении о Линии родства, изложенном в книге VI.
(2) В «Теэтете» наиболее полно представлены пункты (a) и (b). Пункт (с) представлен в отрывках 174 о и 175 с. В «Софисте» упоминаются почти все пункты, включая (g); нет только пунктов (е) и (f) — см., в частности, 247 а (пункт (с)), 249 с (пункт (b)), 253 d-e (пункт (d)). В «Филебе» можно найти указания на все пункты за исключением, возможно, пункта (f). Пункты (a)-(d) особенно ярко представлены в отрывке 59 а-с.
(3) В «Тимее» представлены все перечисленные Аристотелем пункты, за возможным исключением пункта (с), который упомянут лишь косвенно во вступительном изложении содержания «Государства» и в отрывке 29 d. Пункт (е) упоминается на протяжении всего диалога, поскольку «Тимей» означает «западный» философ, находящийся под сильным влиянием пифагореизма. Остальные пункты упоминаются дважды, причем почти в том же порядке, в котором они были перечислены Аристотелем: первый раз они излагаются кратко в отрывке 28 а-29 d, а затем Платон рассматривает их более подробно в отрывке 48 е-55 с. Непосредственно после изложения пункта (а), т.е. учения Гераклита о текучем мире (см. 49 а и след.; ср. с F. М. Cornford. Plato's Cosmology, p. 178), Платон выставляет (51 с-е) аргумент в духе пункта (b) о том что, если действительно следует различать разум и истинное знание, с одной стороны, и простое мнение — с другой, то мы должны признать существование неизменных форм. Эти формы вводятся Платоном в соответствии с пунктом (d) (51 е и след.). Затем снова вспоминается Гераклитов поток, но при этом он уже объясняется как следствие акта порождения. Затем, в отрывке 53 с, упоминается пункт (f). (Я полагаю, что «линии, плоскости и тела», о которых вспоминает Аристотель в «Метафизике», 992b 13, относятся к отрывку 53 с и след.)
(4) Мне кажется, что параллелизму между порядком изложения Платоном своих идей в «Тимее» и свидетельством Аристотеля до сих пор уделяли недостаточно внимания. Во всяком случае, Дж. Филд в своем превосходном и убедительном анализе этого свидетельства Аристотеля не принял его во внимание (см. G. С. Field. Plato and His Contemporaries, p. 202.) Упоминание об этом параллелизме, однако, могло бы усилить его аргументацию против Бернета и Тейлора, утверждавших, что теория идей принадлежала Сократу. (Впрочем, эта аргументация едва ли нуждается в усилении, так как она является практически исчерпывающей.) В «Тимее» теория идей излагается не устами Сократа, что, в соответствии с принципами Бернета и Тейлора, должно указывать на то, что она не принадлежала Сократу. (Этого вывода они избегают, утверждая, что Тимей был пифагорейцем, и что он излагает не платоновскую, а свою собственную теорию. Однако Аристотель знал Платона лично на протяжении двадцати лет, а потому мог выносить суждения по этим вопросам. Кроме того, он писал свою «Метафизику» в то время, когда члены Академии могли указать ему на ошибки в его изложении платонизма.)
(5) Дж. Бернет (J. Burnet. Greek Philosophy, vol. I, p. 155) пишет, что «теория форм в том виде, в каком она была изложена в "Федоне" и "Государстве", совершенно отсутствует в диалогах, которые мы справедливо можем считать специфически платоновскими, а именно — в тех, где Сократ не является главным действующим лицом. Теория форм в этом виде вообще не упоминается ни в одном диалоге, написанном позже "Парменида"… за исключением "Тимея" (51 с), где главным персонажем является пифагореец». Однако, если в «Тимее» теория форм упоминается в том же смысле, что и в «Государстве», то это определенно можно сказать и о «Софисте», 257 d-e; «Политике», 269 c-d, 286 а, 297 b-с и c-d, 301 а и е, 302 е, 303 b; «Филебе», 15 а и след., 59 a-d; «Законах», 713 b, 739 d-e, 962 с и след., 963 с и след., а также очень важные отрывки 965 с (ср. с «Филебом», 16 d), 965 d и 966 а. См. также следующее примечание. (Бернет считает «Письма Платона», в частности, «Седьмое письмо», подлинными, но в этом письме теория идей упоминается только в отрывке 342 а и след. См. также прим. 56 (5, d) к гл. 10.)
3.27
Приведенные в этом абзаце цитаты взяты из «Законов», 895 d-e. Я не согласен с Э. Инглендом (см. его издание «Laws», vol. II, p. 472), который считает, что «слово "сущность" ничем не сможет нам помочь». В самом деле, если бы под «сущностью» мы понимали какую-то важную заметную часть чувственной вещи, то это слово ввело бы нас в заблуждение. Однако слово «существенный» часто используется в смысле, который очень близок тому, что мы хотим здесь выразить: оно обозначает нечто противоположное случайной, неважной и изменчивой эмпирической стороне вещи, пребывающее либо в самой вещи, либо в метафизическом мире идей.
Термин «эссенциализм» как противоположный «номинализму», я использую, чтобы избежать употребления двусмысленного термина «реализм» (когда он противопоставляется не «идеализму», а «номинализму»; см. также прим. 26 к гл. 11 и текст к нему, а также прим. 38 к гл. 11.)
О том, как Платон использует эссенциалистскую методологию, разрабатывая теорию души, см. отрывок из «Законов», 895 е и след., который уже цитировался в прим. 15 (8) к этой главе, а также главу 5, в частности, прим. 23 к ней. См. также: «Менон», 86 d-e, и «Пир», 199 c-d.
3.28
О теории причинного объяснения см. мою «Logic of Scientific Discovery», sect. 12, p. 59. См. также прим. 6 к гл. 25.
3.29
Говоря о теории языка, я имею в виду семантику, разработанную Р. Карнапом и А. Тарским. См. R. Carnap. Introduction to Semantics, 1942. См. также прим. 23 к гл. 8.
3.30
К. Полани (в 1925 г.) убедил меня в том, что существует теория, согласно которой физические дисциплины основаны на методологическом номинализме, а общественные науки более склонны к использованию эссенциалистских («реалистских») методов. Он заметил также, что методологическая реформа общественных наук возможна только после отказа от этой теории. В разной степени этой теории придерживается большинство социологов — в частности, Дж. С. Милль (см. J. S. Mill. Logic, vol. VI, ch. VI, p. 2, см. его типичные историцистские утверждения, например в vol. VI, ch. X, p. 2, последний абзац: «Фундаментальная проблема… науки об обществе состоит в том, чтобы открыть законы, в соответствии с которыми на смену одному состоянию общества приходит другое…»), К. Маркс (см. далее), М. Вебер (см., например, его определения в начале «Methodische Grundlagen der Soziologie», а также в «Wirtschaft und Gesellschaft», I, и в «Gesammelte Aufsaetze zur Wissenschaftslehre»), Г. Зиммель, А. Вирканд, Р. М. Мак-Ивер и многие другие. Философское выражение этим тенденциям дано в «Феноменологии» Э. Гуссерля, систематически возрождающей методологический эссенциализм Платона и Аристотеля. (См. также главу 11, в частности, прим. 44).
Противоположный — номиналистский — подход в социологии, по моему мнению, возможен как технологическая теория социальных институтов.
В этом контексте я могу упомянуть о том, как я обнаружил корни историцизма в учениях таких древних мыслителей, как Платон и Гераклит. Анализируя историцизм, я выяснил, что для него характерно то, что я теперь называю методологическим эссенциализмом. Иначе говоря, я увидел, что типичные аргументы в пользу эссенциализма связаны с историцизмом (см. мою «The Poverty of Historicism»). Это заставило меня обратиться к истории эссенциализма. И я был поражен сходством между свидетельством о Платоне Аристотеля и теми выводами, которые я перед этим сделал самостоятельно, не имея в виду платонизма. В результате для меня прояснилась роль Гераклита и Платона в развитии историцистских идей.
3.31
В книге Р. Кроссмана (R. H. S. Crossman. Plato Today, 1937) я впервые (если не считать книги Дж. Гроута — G. Grote. Plato) обнаружил интерпретацию политических взглядов Платона, которая во многом походит на мою (см. также прим. 2-3 к гл. 6 и соответствующий текст). Позднее я обнаружил, что еще многие авторы высказывали сходные взгляды. Ч. Баура (С. М. Bowra. Ancient Greek Literature, 1933), по-видимому, был в этом пионером: его краткая, но основательная критика Платона (pp. 186-190) была одновременно и справедливой, и исчерпывающей. Среди других упомяну: W. Fife. The Platonic Legend, 1934; В. Farrington. Science and Politics in the Ancient World, 1939; A. D. Winspear. The Genesis of Plato's Thought, 1940; H. Kelsen. Platonic Justice, 1933 (эту работу можно также найти в книге What is Justice?, 1957) и его же Platonic Love // The American Imago, vol. 3, 1942.
Примечания к главе 4
4.1
См. «Государство», 608 е, а также прим. 2(2) к этой главе.
4.2
В «Законах» душа — «самая древняя и божественная из всех движущихся вещей» (966 е) — называется «первоначалом всех видов движений» (895 b).
(1) Аристотель противопоставляет этой платоновской теории свое собственное учение, согласно которому «благо» является не начальным пунктом изменений, а, напротив, их целью, поскольку слово «благо» означает то, к чему следует стремиться, т.е. целевую причину изменений. Поэтому он говорит, что платоники (т.е. те, «кто верит в формы») согласны с Эмпедоклом (думают «так же», как Эмпедокл), говоря о «благих» вещах «не в том смысле, что ради них существует или возникает что-то из существующего, а в том, что от них исходят движения». Далее он отмечает, что для платоников «благо» является не тем, ради чего «что-то существует или возникает», т.е. целью, а лишь «привходящей причиной» (см. Аристотель.«Метафизика», 988а 35, 988b 8 и след. и 1075а 34/35). Целлер обратил внимание на то, что эти замечания Аристотеля очень похожи на взгляды Спевсиппа. См. прим. 11 к гл. 11.
(2) Говоря о «движении к разложению», о котором упоминается в этом абзаце, и о его значении в философии Платона, следует помнить о фундаментальной противоположности между миром неизменных вещей или идей и миром чувственно данных вещей, подверженных изменению. Платон часто выражает это противопоставление как оппозицию между миром неизменяющихся вещей и миром портящихся вещей, между вещами нерожденными и вещами порожденными и обреченными на вырождение — см., например, отрывок из «Государства», 485 а-b, который цитировался в прим. 26(1) к гл. 3 и в тексте к прим. 33 к гл. 8; см. также «Государство», 508 d-e, 527 a-b и отрывок 546 а, приведенный в тексте к прим. 37 к гл. 5: «Всему, что возникло, бывает конец». То, что теория возникновения и уничтожения мира текучих вещей занимала важное место в учении платоновской школы, подтверждает тот факт, что Аристотель посвятил этой проблеме отдельный трактат. Другим интересным свидетельством в пользу этого является то, как Аристотель говорит об этой проблеме в завершающих строках «Никомаховой этики» (1181b 15): «...Мы постараемся... охватить умозрением, какие причины сохраняют и уничтожают государства». Этот отрывок важен не только потому, что в нем Аристотель сформулировал главную задачу своей «Политики», но еще и потому, что он поразительно напоминает один важный отрывок из «Законов», а именно — 676 а и 676 b-с, который будет приведен в тексте к прим. 6 и 25 к этой главе (см. также прим. 1, 3 и 24-25 к этой главе, прим. 32 к гл. 8 и отрывок из «Законов», цитируемый в прим. 59 к гл. 8).
4.3
Этот отрывок взят из «Политика», 269 d (см. также прим. 23 к этой главе.) Об иерархии движений см. «Законы», 893 с-895 b. О теории, согласно которой совершенные вещи (обладающие «божественной» природой — см. следующую главу), изменяясь, могут стать только менее совершенными, — см. отрывок из «Государства», 380 е-381 с, который во многом совпадает с отрывком из «Законов», 797 d (обратите внимание на примеры, которые приводятся в «Государстве», 380 е). Цитаты Аристотеля взяты из «Метафизики», 988b 3 и из «О возникновении и уничтожении» 335b 14. Последние четыре цитаты, приведенные в этом абзаце, являются отрывками из платоновских «Законов», 904 с и след. и 797 d; см. также прим. 24 к этой главе и соответствующий текст. (Замечание о злых бедствиях можно истолковать как еще один намек на теорию циклического развития, о которой мы говорили в прим. 6 к гл. 2 и согласно которой в момент, когда мир достигнет крайней точки зла, направление его развития должно смениться на обратное, и вещи начнут улучшаться.)
Поскольку мое истолкование платоновской теории изменений и соответствующих отрывков из «Законов» подвергалось критике, я хотел бы сделать несколько добавлений, в особенности касающихся двух отрывков из «Законов», а именно — 904 с и след. и 797 d.
(1) Отрывок из «Законов» (904 с): «the less significant is the beginning decline in their level of rank» можно передать более буквально «the less significant is the beginning movement down in the level of rank». Из контекста мне кажется ясным, что здесь скорее имеется в виду «down the level of rank», а не «as to level of rank», хотя этот перевод также допустим. (Моя убежденность в этом проистекает не только из контекста повествования, начинающегося с 904 а, но также из последовательности древнегреческих слов «κατα… κατα… κατω», которая должна придать смысловую окраску по крайней мере второму случаю употребления слова «κατα». — Что касается слова, которое я перевожу словом «level», то оно может обозначать не только «plane», но и «surface», а слово, которое я перевожу словом «rank», может обозначать также и «space», хотя перевод Бэри «the smaller the change of character, the less is the movement over surface in space» не придает большей осмысленности этому фрагменту в данном контексте.)
(2) Продолжение этого отрывка («Законы», 798) в высшей степени характерно. «Любая душа благоговейно боится поколебать что-либо из установленных раньше законов», — отмечает Платон и выдвигает требование: «Так вот законодателю и надо придумать какое-то средство, чтобы в его государстве каким-то способом было осуществлено именно это». (К тому, что следовало бы строго охранять, Платон причисляет и то, что в глазах других законодателей является «простым пустяком», — например, игры, в которые играют дети.)
(3) Вообще говоря, веские свидетельства в пользу моего истолкования платоновской теории изменений можно найти во всех диалогах Платона, где имеются упоминания об истории и эволюции мира, в частности, в «Государстве» (закат и упадок почти совершенного государства, существовавшего в Золотом веке, рассказ о котором представлен в книгах VIII и IX), в «Политике» (теория Золотого века и его упадка), в «Законах» (история первобытного патриархата и дорийского завоевания, а также история заката и падения персидской империи), в «Тимее» (история дважды повторяющейся эволюции, совершающейся путем вырождения, а также история афинского Золотого века, продолжение которой можно найти в «Критии»). Кроме того, имеется еще немало менее важных отрывков, ссылки на которые можно найти в примечаниях к этой и предыдущей главам.
К этому можно добавить частые упоминания Платоном Гесиода, а также тот несомненный факт, что, обладая синтетическим интеллектом, Платон не менее Эмпедокла, считавшего, что период розни уже настал (ср. Аристотель. О возникновении и уничтожении, 334 а, b), стремился построить космическое обрамление для человеческой истории («Политик», «Тимей»).
(4) Кроме того, я могу привести некоторые соображения психологического характера. Боязнь всего нового (которая сквозит во многих отрывках из «Законов», например, 758 c-d), с одной стороны, и идеализация прошлого (подобная той, которую мы находим в поэме Гесиода или в рассказах о потерянном рае), с другой, — это очень распространенные и бросающиеся в глаза явления. Последнее из них или даже оба можно связать с присущей человеку идеализацией детства, семьи и очага, выражающей ностальгическое желание вернуться на эти ранние стадии жизни, возвратиться к истокам. У Платона можно найти немало отрывков, в которых проявляется его убежденность в том, что первоначальное положение дел было благословенным. Я ограничусь только ссылкой на монолог Аристофана в «Пире», в котором говорится о том, что любовные томления и страсти можно объяснить, показав, что они коренятся в этой ностальгии, и что чувство полового удовлетворения в своей основе имеет радость удовлетворенной ностальгии. Вот что говорит Платон об Эроте («Пир», 193 d): «он сделает нас счастливыми и блаженными, исцелив и вернув нас к нашей изначальной природе» (см. также 191 d). Эту же мысль можно найти во многих других отрывках из Платона. Вот, например, что он говорит в «Филебе» (16 с): «Древние были лучше нас и обитали ближе к богам». Все это указывает на то, что наше несчастное и беспризорное сегодняшнее состояние является следствием развития, которое сделало нас отличными от нашей подлинной природы — нашей идеи — и которое увело нас от счастливого и добродетельного состояния к состоянию, где счастье и добродетель оказываются утерянными. Поэтому такое развитие представляет собой углубление нашего разложения. Платоновская теория анамнезиса, т.е. теория, согласно которой всякое знание есть воспоминание того, что мы знали когда-то до нашего рождения, является частью той же точки зрения: ведь в прошлом остались не только благо, справедливость и красота, но и мудрость. Первичное движение и изменение, по Платону, лучше, чем изменение вторичное: действительно, в «Законах», 895 b говорится, что душа есть «первоначало всех видов движений, первым зародившееся среди стоящих вещей и движимых,... наиболее древнее и сильное из всех изменений» и (966 е) «старше и божественнее всех вещей» (см. прим. 15(8) к гл. 3).
Как я уже говорил (см., в частности, прим. 6 к гл. 3), доктрина космического и исторического разложения сочетается у Платона с теорией космических и исторических циклов. (Период разложения, по-видимому, является частью такого цикла.)
4.4
См. «Тимей», 91 d-92 b-c. См. также прим. 6(7) к гл. 3 и прим. 11 к гл. 11.
4.5
См. начало гл. 2 и прим. 6(1) к гл. 3. То, что Платон упоминает теорию «металлов» Гесиода при изложении собственного учения об историческом разложении («Государство», 546 е-547 а; см. также прим. 39 и 40 к гл. 5), не является простым совпадением. Несомненно, Платон хотел показать, что его учение хорошо объясняет теорию Гесиода.
4.6
Историческая часть «Законов» содержится в книгах III и IV (см. прим. 6(5) и (8) к гл. 3). Два приведенных в этом абзаце фрагмента являются отрывками из «Законов», 676 а. Упомянутые в тексте сходные фрагменты можно найти в «Государстве», 369 b и след. («Государство возникает...») и 545 d («Что же именно может пошатнуть наше государство...»).
Часто утверждается, что Платон в «Законах» и «Политике» настроен по отношению к демократии менее враждебно, чем в «Государстве». Следует отметить, что тон Платона здесь действительно мягче (что, возможно, является следствием укрепления сил демократии — см. главу 10 и начало главы 11). Однако единственная практическая уступка демократии, сделанная Платоном в «Законах», — это то, что он согласился, чтобы представители политической власти избирались членами правящего (т.е. военного) класса, однако поскольку внесение серьезных изменений в законы государства Платоном все равно запрещалось (см., например, цитату, приведенную в прим. 3 к этой главе), то и эта уступка не много значила. Его общий настрой, который, согласно Аристотелю («Политика», II, 6, 17; 1265b) допускал существование так называемой «смешанной» конституции, оставался проспартанским. На самом деле, если в «Законах» позиция Платона и претерпела какие-то изменения по сравнению с «Государством», то в сторону большей враждебности духу демократии, т.е. идее свободы личности. См., в частности, текст к прим. 32 и 33 к гл. 6 (т.е. «Законы», 738 с и след. и 942 а и след.) и текст к прим. 19-22 к гл. 8 (т.е. «Законы», 903 с-909 а). См. также следующее примечание.
4.7
По-видимому, именно эта трудность объяснения первого изменения (Падения человека) заставила Платона пересмотреть его теорию идей, о чем говорилось в прим. 15 (8) к гл. 3. В результате идеи превратились у него в причины и действующие силы, которые могут смешиваться с некоторыми другими идеями (см. «Софист», 252 е и след.) и отвергать оставшиеся идеи («Софист», 223 с). Идеи, таким образом, оказались подобными богам, в отличие от того, что Платон говорил в «Государстве», где (см. 380 d) даже боги застывают в виде неподвижных парменидовских изваяний. Важным поворотным пунктом этого изменения, очевидно, был «Софист», 248 е-249 с (обратите особое внимание на то, что идея движения здесь не находится в покое). Эта трансформация, кажется, может решить проблему так называ емого «третьего человека» — действительно, если, как утверждается в «Тимее», формы являются предками, то для объяснения их сходства с потомками не требуется постулирования никакого «третьего человека».
Что касается отношения «Государства» к «Политику» и к «Законам», то мне кажется, что попытка Платона в двух последних из названных диалогов поместить дату начала человеческого общества все глубже в историю также связана с проблемой объяснения первого изменения. То, что понимание изменения совершенного города-государства сопряжено с трудностями, ясно заявлено еще в «Государстве», 546 а. Попытка Платона преодолеть эту трудность в «Государстве» будет рассмотрена в следующей главе (см. текст к прим. 37-40 к гл. 5). В «Политике» Платон использует теорию космической катастрофы, которая обусловила переход от эмпедоклова полуцикла любви к полуциклу распри, охватывающему наше время. В «Тимее» Платон, по-видимому, отказался от этой теории, заменив ее сохраненной в «Законах» теорией более ограниченных катастроф типа потопа, которые уничтожают цивилизации, но не воздействуют на ход вещей во Вселенной. (Возможно, что на это решение проблемы Платона натолкнуло произошедшее в 373-372 гг. до н.э. землетрясение, разрушившее и затопившее древний город Элиду.) Древнейшая форма общества, которую в «Государстве» отделял всего один шаг от существовавшего спартанского государства, отодвигается Платоном все дальше и дальше в прошлое. И хотя он продолжает полагать, что первое поселение должно было быть лучшим городом, теперь он подвергает рассмотрению общества, предшествовавшие первым поселениям, а именно — сообщества номадов, т.е. горных пастухов. (См., в частности, прим. 32 к этой главе.)
4.8
Цитата взята из К. Маркс, Ф. Энгельс. Манифест Коммунистической партии // Соч., т. 4, с. 424 (см. Handbook of Marxism. Ed. by E. Burns, 1935, p. 22).
4.9
Цитата заимствована из комментариев Адама к книге VIII «Государства» — см. Plato's Republic. Ed. by J. Adam, vol. II, p. 198, note to 544 a 3.
4.10
См. «Государство», 544 с.
4.11
(1) Я убежден в том, что Платон, подобно многим социологам со времен Конта, пытался выявить основные стадии социального развития, однако многие критики платоновской философии полагают, что теория Платона является всего лишь драматизированным представлением чисто логической классификации типов государственных устройств древнегреческих полисов. Однако это противоречит не только тому, что Платон говорит сам (см. примечание Дж. Адама к «Государству», 544 с 19 — J. Adam, op. cit., vol. II, p. 199), но и самому духу платоновской логики, согласно которой сущность вещи определяется ее первой природой, т.е. ее историческим происхождением. Не следует забывать, что Платон использует одно и то же слово — «γενυσ» — для обозначения логического класса и биологической расы. Логический «γενυσ» идентичен «race» еще и как «множество потомков одного родителя». (Об этом см. прим. 15-20 к гл. 3 и соответствующий текст, а также прим. 23-24 к гл. 5 и соответствующий текст, где обсуждается равенство природа = происхождение = раса.) Поэтому есть все основания понимать то, что говорил Платон, в буквальном смысле — и даже если Адам прав в том, что Платон стремился к «логической упорядоченности», то эта упорядоченность отражала для него одновременно и порядок исторического развития. Замечание Адама о том, что этот порядок «определяется, главным образом, психологическими, а не историческими соображениями» (там же), на самом деле, по моему мнению, работает против него. Ведь Адам сам отмечал (см., например, op. cit., vol. II, p. 195, note to 543 а), что Платон «повсеместно проводит... аналогию между душой и городом». Согласно политической теории души Платона (которую мы обсудим в следующей главе), психологическая история должна протекать параллельно истории общества, и, следовательно, противопоставление психологических соображений историческим оказывается неуместным, что еще раз подтверждает правильность нашего истолкования Платона.
(2) То же самое может быть сказано в ответ тому, кто станет утверждать, что предложенный Платоном порядок государственных устройств в своей основе является не логическим, а этическим. Ведь согласно платоновской философии, этический (как, впрочем, и эстетический) порядок неотличим от исторического. В этой связи можно отметить, что платоновский историцизм дает теоретическую основу сократовскому эвдемонизму, т.е. учению, согласно которому добро и счастье неразличимы. В «Государстве» (см., в частности, 580 b) эта теория принимает форму доктрины, согласно которой благо и счастье или зло и несчастье пропорциональны друг другу. Это полностью соответствует идее, что мера как добродетели, так и счастья человека определяется тем, как далеко он отошел от своей благословенной первоначальной природы — от совершенной идеи человека. (Тот факт, что платоновская теория в этом пункте теоретически обосновывает внешне парадоксальную доктрину Сократа, возможно, помог Платону убедить себя в том, что он только развивает истинное сократовское учение. См. текст к прим. 56/57 к гл. 10.)
(3) Классификацию социальных институтов Платона перенял Руссо (Ж.-Ж. Руссо. Об общественном договоре, или Принципы политического права // Трактаты. М., Наука, 1969, книга II, гл. VII; книга III, гл. III и X). Мне кажется все же что, возрождая платоновскую идею первобытного общества, Руссо находился лишь под косвенным влиянием Платона (см., однако, прим. 1 к гл. 6 и прим. 14 к гл. 9). Прямое влияние платоновского учения на Ренессанс чувствуется в знаменитой «Аркадии» Я. Санаццаро, возродившей платоновскую идею о благословенном примитивном обществе греческих (дорийских) горных пастухов. (Об этой платоновской идее см. прим. 32 к этой главе.) Поэтому исторически романтизм на самом деле является потомком платонизма (см. также главу 9).
(4) Трудно сказать, насколько глубоким было влияние теистического историцизма Дж. Вико («Новая наука», 1725) на современные историцистские концепции Конта, Милля, Гегеля и Маркса. Нет никаких сомнений в том, что сам Вико находился под влиянием Платона, а также сочинений святого Августина «О граде Божьем» и Макиавелли «Рассуждения по поводу первой декады Тита Ливия». Подобно Платону, Вико отождествлял «природу» вещи с ее происхождением (см. G. Vico. Opere. Ferrari second ed., 1852-1854, vol. V, p. 99) и полагал, что все народы, подчиняясь всеобщему закону, должны пройти по одному и тому же пути развития. Его «народы», как и гегелевские «нации», являются поэтому одним из связующих звеньев между платоновским «городом» и «цивилизацией» Тойнби.
4.12
См. «Государство», 549 c-d. Следующие отрывки приводятся также из «Государства», 550 d-e и 551 а-b.
4.13
См. «Государство», 556 е. (Этот отрывок следует сравнить со свидетельством Фукидида, III, 82-84, которое приводится в тексте к прим. 12 к гл. 10.) Следующий отрывок взят из «Государства», 557 а.
4.14
О демократической программе Перикла см. текст к прим. 31 к гл. 10, прим. 17 к гл. 6 и прим. 34 к гл. 10.
4.15
J. Adam. The Republic of Plato, vol. II, p. 240. note to 559 d 22. (Курсив во второй цитате мой.) Адам отмечает, что «эта картина, несомненно, несколько преувеличена», однако не оставляет при этом никаких сомнений в том, что, по его мнению, в своей основе она истинна «на все времена».
4.16
J. Adam, op. cit.
4.17
Цитируемый отрывок взят из «Государства», 560 d (ср. перевод этого и следующего отрывка с переводом, сделанным Дж. Линдсеем). Следующие два отрывка взяты также из «Государства», 563 а-b и d. (См. также примечание, сделанное Адамом к 563 d 25.) Существенно, что в цитируемых отрывках Платон обращается к принципу частной собственности как к неоспоримому принципу справедливости, хотя в других местах «Государства» он подвергает его яростным нападкам. По-видимому, Платон полагал, что, когда приобретаемой собственностью является раб, законные права покупателя должны быть защищены.
Другое предъявляемое Платоном обвинение демократии состоит в том, что она «растаптывает» педагогический принцип, согласно которому человек «никогда не станет добродетельным... если с малолетства — в играх и в своих занятиях — он не соприкасается с прекрасным» («Государство», 558 b, см. перевод Дж. Линдсея и прим. 68 к гл. 10). См. также платоновские нападки на эгалитаризм, которые цитируются в прим. 14 к гл. 6.
Об отношении Сократа к его молодым собеседникам говорится в большинстве ранних платоновских диалогов и в «Федоне», где описывается «почтительность и доброжелательность, с которыми он выслушивал критику молодого человека». О совершенно противоположном обращении Платона с его учениками см. текст к прим. 19-21 к гл. 7. См. также превосходные лекции Г. Черниса (H. Cherniss. The Riddle of the Early Academy, 1945), в частности его комментарии к «Пармениду», 135 c-d (pp. 70, 79). Ср. это с тем, что сказано в прим. 18-21 к гл. 7 и соответствующий текст.
4.18
Рабство (см. предыдущее примечание) и афинское движение за его отмену будут рассмотрены далее в главе 5 (прим. 13 и соответствующий текст), а также в главах 10 и 11; см. также прим. 29 к настоящей главе. Кроме Платона, о либеральном отношении афинян к рабам свидетельствует Аристотель (например, в «Политике» 1313b 11, 1319b 20 и в «Афинской политии», 59, 5) и Псевдо-Ксенофонт («Афинская полития», I, 10 и след.)
4.19
См. «Государство», 577 а и след. и комментарии Адама к 577 а 5 и b 12 (J. Adam. The Republic of Plato, vol. II, p. 332). См. также «Дополнение III (Ответ на критику)» в конце тома 1, особенно с. 408 и след.
4.20
Цитата взята из «Государства», 566 е. См. прим. 63 к гл. 10.
4.21
См. «Политик», 301 c-d. Выделяя шесть типов несовершенных госу дарств, Платон не вводит новых терминов. Названия «монархия» (или «царство») и «аристократия» использовались в «Государстве» (445 d) для описания наилучшего государства, а не относительно лучших форм несовер шенных государств, как это делается в «Политике».
4.22
См. «Государство», 544 d.
4.23
См. «Политик», 297 c-d: «Если указанное нами государственное устройство — единственно правильное, то другим (которые являются лишь «его подражаниями» — см. 297 b-с) надлежит блюсти себя, следуя его предписаниям.» (См. прим. 3 к этой главе и прим. 18 к гл. 7.) «Никто из граждан никогда не должен сметь поступать вопреки законам, посмевшего же так поступить надо карать смертью и другими крайними мерами. Такое устройство — самое правильное и прекрасное после первого». (О происхождении законов см. прим. 32(1, а) к настоящей главе и прим. 17(2) к гл. 3.) А в отрывке 300 е-301 а мы читаем: «Подобные государства, коль скоро они хотят по мере сил хорошо подражать подлинному государственному устройству,... не должны нарушать принятые в них писаные законы и отечественные обычаи... Когда наилучшему государственному устройству подражают богатые, мы называем такое государственное устройство аристократией; когда же они не считаются с законами, это будет уже олигархия» и т. д. Важно отметить, что критерием классификации для Платона выступает не абстрактная законопослушность или беззаконие, а степень сохранности древних институтов изначального совершенного государства. (Аристотель, в отличие от Платона, в «Политике», 1292а главное противопоставление проводил между «верховенством закона» и «верховенством черни».)
4.24
Фрагменты 709 е-714 а «Законов» содержат некоторые намеки на идеи, изложенные в «Политике». Так, в отрывке 710 d-c Платон, следуя Геродоту (кн. III, 80-82), за основу классификации форм государственного устройства взял критерий количества правителей. Перечисление форм государственного устройства дано в 712 c-d. А в 713 b и след., излагается миф о совершенном государстве, существовавшем во время Кроноса, «которому подражает лучшее нынешнее государственное устройство». Учитывая эти параллели, я почти не сомневаюсь, что теория о необходимости тирании для проведения утопических экспериментов задумывалась Платоном как развитие учения, изложенного в «Политике» и в «Государстве». — В этом абзаце цитируются отрывки из «Законов», 709 е и 710 c-d. «Приведенное ранее замечание из "Законов"» — это 797 d, которое цитируется в тексте к прим. 3 к настоящей главе. (Я согласен с Э. Инглендом (Е. England. The Laws of Plato, 1921, vol. II, p. 258), заметившим по поводу этого отрывка, что для Платона «изменение умаляет силу... всех вещей», в том числе и силу зла. Но я не согласен с ним в том, что «изменение злых бедствий», т.е. изменение к добру, слишком очевидно, чтобы упоминать его в качестве исключения. Оно не очевидно с точки зрения платоновской доктрины о зловредной природе изменений. См. также следующее примечание.)
4.25
Цитируемый отрывок взят из «Законов», 676 b-с (ср. с отрывком 676 а, приведенным в тексте к прим. 6. к этой главе). Соглашаясь с тем, что для Платона «изменение умаляет силу всех вещей» (см. конец предыдущего примечания), Ингленд придает этим платоновским отрывкам об изменениях и революциях оптимистическое и прогрессивное звучание. Он полагает, что цель Платона состояла в обретении «секрета политической витальности» (op. cil., vol. I, p. 345). Отрывок, в котором говорится о поиске подлинной причины (умаляющего) изменения, он истолковывает так, будто речь в нем идет о поиске «причины и природы подлинного развития государства, т.е. его прогрессивного развития по направлению к совершенству» (курсив Ингленда — см. op. cit., vol. I, p. 345). Такое истолкование не может быть верным хотя бы потому, что рассматриваемый отрывок является введением к истории политического упадка; вместе с тем такое истолкование хорошо показывает, насколько тенденция идеализировать Платона, представляя его в роли прогрессивного мыслителя, может ослеплять даже таких превосходных исследователей, как Ингленд, не давая им увидеть даже собственное открытие, а именно то, что для Платона всякое изменение «умаляет».
4.26
Приведенная цитата взята из «Государства», 545 d (см. также параллельный отрывок 465 b). Следующий фрагмент взят из «Законов», 683 е. (Адам в своем издании «Государства» в примечании к отрывку 545 d 21 ссылается на этот фрагмент.) Ингленд в своем издании «Законов» (op. cit., vol. I, p. 360, note to 683 с 5) упоминает фрагмент «Государства», 609 а, а не фрагменты 545 d и 465 b, предполагая, что в «Законах», 683 е упоминается «предшествующее обсуждение, содержащееся, возможно, в каком-то утраченном диалоге». Я не понимаю, почему Платон не мог в «Законах» сослаться на «Государство», представив дело так, как если бы некоторые тезисы последнего были известны персонажам «Законов». По словам Корнфорда, в последних диалогах Платон «не стремится даже сохранить иллюзию, будто эти беседы когда-либо состоялись на самом деле». Я также согласен с ним в том, что Платон «не был рабом своих собственных изобретений» (см. F. M. Cornford. Plato's Cosmology, pp. 4-5). В. Парето, не ссылаясь на Платона, переоткрыл платоновский закон революций (см. V. Pareto. Treatise on General Sociology, § § 2054, 2057, 2058. В конце § 2055 излагается также теория необходимости задержки истории. Этот закон был переоткрыт также и Руссо — см. Ж.-Ж. Руссо. Об общественном договоре... // Трактаты. М., Наука, 1969, книга III, гл. X).
4.27
(1) Небесполезно отметить, что неисторические черты наиболее совершенного государства и, в особенности, правление философов в нем не упоминаются Платоном в конспективном изложении идей «Государства», представленном в начале «Тимея», и что в книге VIII «Государства» он предполагает, что правители наилучшего города-государства не знали пифагорейской мудрости (см. «Государство», 546 c-d, где говорится о невежестве правителей в этих вопросах; см. также замечание, сделанное Платоном в «Государстве», 543 d-544 а, согласно которому наилучшее государство, описанное на страницах книги VIII, может быть превзойдено городом-государством, нарисованным в книгах V-VII, — идеальным небесным городом-государством).
В своей книге Ф. Корнфорд (F. M. Cornford. Plato's Cosmology, p. 6) воспроизводит структуру и содержание неоконченной трилогии Платона — «Тимей», «Критий», «Гермократ» — и показывает, как эти диалоги соотносятся с исторической частью «Законов» (книга III). Мне кажется, что эта реконструкция хорошо подтверждает мою теорию, согласно которой Платон смотрел на мир с чисто исторической точки зрения, и его интерес к тому, «как произошел мир» и как он деградирует, тесно связан с его теорией идей и основывается на ней. Однако если это так, то нет никаких оснований для предположения, что в завершающих книгах «Государства» Платон «начал исследование того, каким образом этот город может быть построен в будущем, и перечислил низшие формы политического устройства, приняв которые, он может испортиться» (F. Cornford, op. cit., p. 6 — курсив мой). Напротив, я полагаю, что книги VIII и IX «Государства», очень близкие по содержанию к книге III «Законов», следует рассматривать как упрощенное изложение истории падения идеального города-государства, существовавшего в прошлом, и как объяснение происхождения существующих государств — объяснение, аналогичное тому, что Платон пытался дать в «Тимее», в неоконченной трилогии и в «Законах».
(2) По поводу моего замечания о том, что Платон «знал, что он не располагает... необходимыми данными», см., например, «Законы», 683 d, и примечание Э. Ингленда к 683 d 2.
(3) К моему замечанию о том, что Платон рассматривал Критское и Спартанское государства как окаменелые или задержанные социальные формы (и к замечанию в следующем абзаце о том, что платоновское наилучшее государство является не только классовым, но и кастовым государством), можно добавить следующее (см. также прим. 20 к этой главе и прим. 24 к гл. 10). В «Законах», 797 d (во введении к тому, что Ингленд называет «важным заявлением», которое цитируется в тексте к прим. 3 к этой главе) Платон не оставляет никаких сомнений в том, что персонажи диалога с Крита и Спарты осознают то, что их институты находятся в «задержанном» состоянии. Клиний, выходец с Крита, признается в том, что готов выслушать любые аргументы в пользу старинных государственных устройств. Далее (799 а) Платон прямо ссылается на египетский опыт задержки развития государственных институтов. Последнее ясно указывает на то, что тенденцию к задержке всех социальных изменений Платон считал общей как для Крита и Спарты, так и для Египта.
В этом отношении мне представляется важным фрагмент из «Тимея» (24 а-b). В нем Платон пытается показать, (a) что классовое деление, очень похожее на то, что было описано на страницах «Государства», существовало в Афинах на очень ранних стадиях исторического развития этого города, и (b) что афинские институты того времени сильно походили на египетскую кастовую систему (чьи задержанные кастовые институты, по мнению Платона, были заимствованы у древнего афинского государства). Таким образом, Платон сам определенно говорит о том, что древнее идеальное и совершенное государство было кастовым государством. Интересно, что Крантор, первый комментатор «Тимея», живший только через два поколения после Платона, отмечает, что Платон отошел от афинской традиции, став учеником египтян (см. Th. Gomperz. Greek Thinkers. Germ, ed., vol. II, p. 476.). Крантор ссылается также на «Бусириса» Исократа, цитируемого в прим. 3 к гл. 13.
Проблема кастового устройства в «Государстве» обсуждается также в прим. 31 и 32(1, d) к этой главе, в прим. 40 к гл. 6 и в прим. 11-14 к гл. 8. А. Тейлор (А. Е. Taylor. Plato: The Man and His Work, p. 269) резко отвергает мнение, что Платон был сторонником кастового государственного устройства.
4.28
См. «Государство», 416 а. В этой главе данная проблема будет рассмотрена более подробно — см. текст к прим. 35. (Кастовая проблема, упоминаемая в следующем абзаце, рассматривается в прим. 27 (3) и 31 к этой главе.)
4.29
Совет Платона не ввязываться в «базарные ссоры» простых людей дан на страницах «Государства», 425 b-427 а-b, в особенности 425 d-e и 427 а. Несомненно, что в этих отрывках содержится осуждение афинской демократии с ее «поэтапным, постепенным» законодательством — «поэтапным (piecemeal)» в том смысле, который разъясняется в главе 9. То, что это именно так, заметил также и Ф. Корнфорд (F. M. Cornford. The Republic of Plato, 1941). В примечании к фрагменту, в котором Платон выражает одобрение утопической инженерии (см. «Государство», 500 d, где даются рекомендации по совершенствованию социальной жизни в духе романтического радикализма — см. также прим. 12 к гл. 9 и соответствующий текст), он пишет: «Сравни с сатирой на возню с частичными, поэтапными реформами в отрывке 425 е». Корнфорду, по-видимому, не по душе такие методы реформ, которым он предпочитает платоновские методы. — Вместе с тем наши с ним интерпретации намерений Платона, кажется, совпадают.
Четыре других фрагмента, приведенных в этом абзаце, взяты из «Государства»: 371 d/e, 463 a-b (о «кормильцах» и «плательщиках»), 549 а и 471 b/с. Дж. Адам замечает, что «Платон не допускает рабского труда в своем городе, если рабы не являются варварами» (J. Adam, op. cit., vol. I, p. 97, примечание к 371 e 32). Действительно, в «Государстве» Платон выступает против порабощения греческих военнопленных (469 b-470 с), однако далее (471 b-с) он выражает одобрение порабощению варваров — особенно, гражданами наилучшего города-государства. (Того же мнения, по-видимому, придерживается У. Тарн — см. прим. 13(2) к гл. 15.) Платон подвергает резким нападкам афинское движение против рабства, защищая права собственности на рабов (см. текст к прим. 17 и 18 к этой главе). Как хорошо видно из третьего отрывка, цитируемого в абзаце, к которому относится это примечание («Государство» 548 е-549 а), Платон не отменяет рабство в своем наилучшем городе-государстве. (См. также «Государство», 590 c-d, где он требует, чтобы грубые и необразованные становились бы рабами лучших). Поэтому А. Тейлор не прав, дважды утверждая, что в обществе Платона «нет класса рабов» (см. А. Е. Taylor. Plato, 1908 and 1914, pp. 197, 118; сходную точку зрения Тейлор высказывает в книге «Plato: The Man and His Work», 1926. См. окончание прим. 27 к этой главе.)
Отношение Платона к рабству в «Политике» проясняет многое из того, что он говорит в «Государстве». Как и в «Государстве», в «Политике» он уделяет немного внимания рабству, хотя, несомненно, допускает существование рабов в его городе-государстве. (См. характерное замечание Платона в «Политике», 289 b-с, касающееся «приобретения домашних животных (если исключить рабов)», а также не менее характерное высказывание 309 а о том, что «тех, кто погрязает в невежестве и крайней низости, царское искусство впрягает в рабское ярмо».) Причина, по которой Платон уделяет так мало внимания рабам, разъясняется во фрагментах 289 с и след. и особенно 289 d-e «Политики». Он не видит большого различия между «рабами и другими слугами», т.е. работниками, купцами и ремесленниками — словом, всеми, кто самостоятельно зарабатывает деньги (см. прим. 4 к гл. 11). Рабы отличаются от остальных представителей низших классов тем, что они являются «слугами, приобретаемыми путем купли-продажи». Иначе говоря, Платон считает себя настолько выше людей неблагородного происхождения, что разбираться в их мелких различиях ему кажется излишним. То же самое, хотя, возможно, и не так открыто, говорится в «Государстве» (см. также прим. 57 (2) к гл. 8).
Отношению Платона к рабству в «Законах» посвящена обстоятельная статья Г. Морроу (G. R. Morrow. Plato and Greek Slavery // Mind, New Series, vol. 48, pp. 186-201, 402), хотя, как мне кажется, объективности ее автору до некоторой степени мешают его симпатии к Платону. (В этой статье Морроу уделяет недостаточное внимание тому факту, что во времена Платона движение за отмену рабства в Афинах было уже достаточно мощным — см. прим. 13 к гл. 5.)
4.30
Этот фрагмент приведен из платоновского конспекта идей «Государства», изложенного в «Тимее» (18 c-d). По поводу высказанного здесь замечания о том, что платоновское предложение о создании коммуны, состоящей из женщин и детей, не содержит ничего нового, см. The Republic of Plato. Ed. by J. Adam, vol. I, p. 292 (note to 457 b), p. 308 (note to 463 с 17), pp. 345-355; о пифагорейских элементах платоновского коммунизма см. op. cit., p. 199, note to 416 d 22. (О драгоценных металлах см. прим. 24 к гл. 10. О совместных трапезах см. прим. 34 к гл. 6. О коммунистических принципах Платона и его последователей см. прим. 29 (2) к гл. 5 и упомянутые там фрагменты.)
4.31
Этот отрывок — из «Государства», 434 b-с. Требуя установления кастового государства, Платон не проявляет при этом должной решительности, не говоря уже о том, что он предваряет рассматриваемый фрагмент «длинным предисловием» (которое мы обсудим в главе 6; см. также прим. 24 и 40 к гл. 4). Когда Платон в отрывке 415 а впервые высказывается по этому вопросу, он говорит так, будто считает допустимым переход достойных из низших классов в высшие, если они рождаются «с примесью золота или серебра» (415 с), т.е. имеют благородную кровь высших классов. Однако во фрагментах 434 b-d и особенно 547 а это разрешение отменяется. В отрывке 547 а всякое смешение металлов называется «нелепым отклонением» и провозглашается губительным для государства. См. также текст к прим. 11- 14 к гл. 8 и прим. 27 (3) к настоящей главе.
4.32
См. «Политик», 271 е. Описание первобытных кочевых пастухов и их патриархов можно найти в «Законах», 677 е-680 е. Цитируемый отрывок приведен из «Законов», 680 е. Следующий отрывок из мифа о земнородных цитируется по «Государству», 415 d-e. Последняя цитата в этом абзаце приведена из «Государства», 440 d. Ряд сделанных в этом абзаце замечаний, возможно, требует некоторых пояснений.
(1) В тексте говорится, что Платон не очень ясно объясняет, как образовалось первое «поселение». И в «Законах», и в «Государстве» сначала (см. пункты (а) и (с)) говорится о чем-то наподобие соглашения или общественного договора (об общественном договоре см. прим. 29 к гл. 5 и прим. 43-54 к гл. 6 и соответствующий текст), а затем (см. пункты (b) и (с)) о насильственном завоевании.
(а) В «Законах» говорится о том, что различные племена горных скотоводов поселились на равнине, объединившись в более крупные военизированные формирования и подчинившись законам, провозглашенным договорившимися между собой судьями, наделенными царской властью (681 b, c-d; о происхождении законов, описанных во фрагменте 681 b, см. прим. 17 (2) к гл. 3). После этого, однако, Платон начинает хитрить. Вместо того, чтобы описать то, как эти группы осели в Греции и как были основаны греческие города, Платон переходит к изложению гомеровской истории Трои и троянской войны. Из Трои, по словам Платона, ахейцы возвратились под именем дорийцев, и в этом заключается «начало и конец всех преданий» лакедемонян (682 е-683 а). При этом нам ничего не говорится о том, как происходило это поселение. После этого следует очередное отступление (Платон сам говорит об «уклоняющемся в сторону» рассуждении), и, наконец, в отрывке 683 c-d мы обнаруживаем «намек», о котором говорится в тексте.
(b) Мое утверждение в тексте о том, что Платон намекает нам, что дорийское «поселение» на Пелопоннесе на самом деле было актом жестокого порабощения, основано на фрагменте из «Законов», 683 c-d, где Платон практически впервые делает некоторые замечания об истории Спарты. Он говорит, что мысленно переносится в те времена, когда весь Пелопоннес «очутился во власти» дорийцев. В «Менексене» (подлинность которого почти неоспорима — см. прим. 35 к гл. 10) есть упоминание того (245 с), что пелопоннесцы являются «иммигрантами из других краев» (так этог отрывок перевел Дж. Гроут — см. J. Grote. Plato, vol. Ill, p. 5).
(c) В «Государстве», 369 b в соответствии с теорией общественного договора говорится, что город-государство был основан работниками, привлеченными выгодами разделения труда и кооперации.
(d) Однако далее («Государство», 415 d-e — см. отрывок, процитированный в абзаце, к которому относится данное примечание) Платон описывает триумфальный поход воинов таинственного происхождения — «земнородных». В одном из фрагментов этого описания говорится о том, что земнородные должны осмотреться, где им лучше всего раскинуть лагерь, «чтобы держать жителей в повиновении», т.е. чтобы держать в повиновении тех, кто уже жил на этом месте.
(е) В «Политике» (271 а и след.) эти «земнородные» отождествляются с первобытными кочевыми горными скотоводами периода до их поселения. (См. также упоминание о самозарождающихся цикадах в «Пире», 191 b, a также прим. 6 (4) к гл. 3 и 11 (2) к гл. 8.)
(f) В целом кажется, что Платон достаточно отчетливо представлял себе историю дорийского завоевания, хотя, по вполне понятным причинам, напускал на нее туман. Кроме того, вероятно, он использовал существовавшие устные сказания о воинственных ордах кочевого происхождения.
(2) Замечание, высказываемое мною далее в этом абзаце о том, что Платон неоднократно повторяет, что правитель подобен пастуху, основано на следующих фрагментах: «Государство», 343 b, где эта идея упоминается впервые; 345 с и след., где аналогия с хорошим пастухом становится центральной темой обсуждения; 375 а-376 о, 404 а, 440 d, 451 b-e, 459 а-460 с и 466 а, где рассматривается проблема волков внутри и вне государства. См. также «Политика», где эта идея встречается очень часто — в частности, в отрывке 261 d -276 d. Что касается «Законов», то я могу сослаться на фрагмент 694 е, где Платон говорит о том, что Кир приобрел для своих сыновей «обширные стада крупного и мелкого скота, толпы рабов и много другого имущества» (см. также «Законы», 735, и «Теэтет», 174 d).
(3) Все эти вопросы обсуждаются А. Тойнби в книге «Исследование истории» (см. A Toynbee. A Study of History, vol. Ill, p. 32 (n.l), где он ссылается на книгу А. Либьера (A Lybyer. The Government of the Ottoman Empire, p. 33 (n.2), pp. 50-100), а также замечание А. Тойнби о кочевых завоевателях (р. 22), которые «выпасали... людей», и о платоновских «сторожевых псах в человеческом обличье». Меня часто стимулировали блестящие замечания и идеи Тойнби, которые, мне кажется, подтверждают мою интерпретацию Платона, что я ценю тем более, чем далее мы расходимся с Тойнби в наших фундаментальных предпосылках. Многими терминами, используемыми в тексте, в частности «человеческое стадо», «человеческая стая» и «сторожевые псы в человеческом обличье», — я также обязан Тойнби.
«Исследование истории» Тойнби (сокращенный русский перевод: А Тойнби. Постижение истории. М., Прогресс, 1991) является образцом историцизма. О моих фундаментальных расхождениях с его идеями здесь нет необходимости говорить, а некоторые наши частные расхождения рассматриваются в других местах настоящей книги. (См. прим. 43 и 45 (2) к данной главе, прим. 7 и 8 к гл. 10 и главу 24; см. также мою «The Poverty of Historicism», p. 110.) Книга Тойнби «Исследование истории» содержит много ценных идей. В отношении Платона я целиком согласен с точкой зрения Тойнби по многим пунктам, в частности, в том, что идея наилучшего государства была навеяна Платону его опытом социальных потрясений и стремлением задержать все изменения, что эта идея указывала на нечто вроде задержанной в своем развитии Спарты (которая действительно была задержана в развитии). Однако, несмотря на эти пункты нашего согласия, между нами существуют фундаментальные расхождения даже при интерпретации Платона. Тойнби расценивает платоновское наилучшее государство как типичную реакционную утопию, а я, основываясь на том, что я называю всеобщей теорией изменений Платона, рассматриваю его наилучшее государство как попытку реконструировать первобытные формы общественной жизни. Я также не думаю, что Тойнби согласился бы с моей интерпретацией платоновской истории периода, предшествовавшего поселению, и истолкованием самого поселения, поскольку Тойнби утверждает, что «спартанское общество было некочевого происхождения» (op. cit., vol. Ш, р. 80). Тойнби настаивает на особом характере спартанского общества, которое, по его мнению, удалось задержать в развитии благодаря сверхчеловеческим усилиям удержать в повиновении «человеческое стадо» (op. cit., vol. III, p. 50). Однако я полагаю, что, подчеркивая особый характер спартанского общества, нам будет трудно понять сходство между спартанскими и критскими институтами, которое Платон находил столь поразительным («Государство», 544 с, «Законы», 683 а). Это сходство, мне кажется, объясняется задержанными формами очень древних племенных институтов — гораздо более древних, чем институты Спарты времен второй Мессинской войны (около 650-620 гг. до н. э. — см. Toynbee, op. cit., vol. III, p. 53). Поскольку условия выживания этих институтов были весьма разными в этих двух случаях, существующее между ними сходство хорошо подтверждает гипотезу об их примитивном характере и опровергает любое объяснение их происхождения, покоящееся на факторе, характерном лишь для одного из этих государств.
Проблема дорийского поселения обсуждается также в книге Р. Айслера (R. Eisler. Caucasia, vol. V, 1928, p. 113, note 84), в которой слово «эллины» переводится как «селяне», а «греки» — как «пастухи» или «кочевники». В другой книге Айслер показал, что идея Бога-Пастыря имеет орфическое происхождение (R. Eisler. Orphisch-Dionisische Mysteriengedanken, 1925, p. 58, note 2). Там же упоминаются и «псы Господни» (Domini Canes).
4.33
Факт, что образование в платоновском государстве является классовой привилегией, остался незамеченным многими теоретиками педагогики, воо душевленными платоновской идеей о независимости возможности получения образования от наличия или недостатка финансовых средств. Они не заметили, что порочной является сама идея классовых привилегий и что в сравнении с этим неважно, основаны ли они на обладании деньгами или на любом другом критерии, определяющем членов правящего класса (см. прим. 12 и 13 к гл. 7 и соответствующий текст; о правилах ношения оружия см. также «Законы», 753 b).
4.34
См. «Государство», 460 с, а также прим. 31 к этой главе. Платоновское отношение к инфантициду обсуждается в книге Адама (J. Adam, op. cit., vol. I, p. 299, note to 460 с 18; p. 357 и след.). Адам, справедливо настаивая на том, что Платон одобрял инфантицид, и называя «необоснованными» все попытки «отрицать факт санкционирования Платоном» этой кошмарной практики, пытается, тем не менее, извинить Платона, замечая, «что эта практика была очень широко распространена в Древней Греции». Однако, это неверно по отношению к Афинам. Выбирая между спартанским варварством и расизмом, с одной стороны, и просвещенными Афинами периода Перикла, с другой, Платон неизменно предпочитает, первое второму, и он должен нести за это ответственность. Гипотеза, пытающаяся объяснить эту распространенную в Спарте практику, излагается в прим. 7 к гл. 10 и в соответствующем месте текста; см. также приведенные там ссылки.
Другие фрагменты, цитируемые в этом абзаце и касающиеся полезности применения принципов селекции животных к человеку, взяты мной из «Государства», 459 b (см. прим. 39 к гл. 8 и соответствующий текст). Фрагменты, где проводится аналогия между воинами и собаками, цитируются по «Государству», 404 а, 375 а, 376 а-b, 376 о. См. также прим. 40 (2) к гл. 5 и прим. 35 к настоящей главе.
4.35
Два первых фрагмента, цитируемых в этом абзаце, взяты из «Государства», 375 b. Следующий фрагмент — из 416 а (см. прим. 28 к этой главе), а остальные — из 375 с-е «Государства». Проблема смешивания противоположных «природ» (или даже форм — см. прим. 18-20 и 40 (2) к гл. 5 и соответствующий текст, а также прим. 39 к гл. 8 и соответствующий текст) является одной из излюбленных тем Платона. (В «Политике», 283 е и след., а позднее у Аристотеля, она переходит в доктрину среднего пути, т.е. концепцию о том, как следует избегать крайностей.)
4.36
Цитаты заимствованы из «Государства», 410 с, 410 d, 410 е, 411 е-412 а и 412 b.
4.37
В «Законах» (680 b и след.) Платон сам иронизирует над критянами в связи с их первобытным невежеством в области литературы. Это невежество распространяется даже на Гомера, который неизвестен одному из персонажей диалога, сказавшему о Гомере, что критяне «не очень-то пользуются чужеземными поэтами». («А мы ими пользуемся», — замечает спартанский персонаж.) Спартанские предпочтения Платона обсуждаются в прим. 34 к гл. 6 и в тексте к прим. 30 настоящей главы.
4.38
О платоновском отношении к тому, как спартанцы обращались с «человеческим стадом», см. прим. 29 к настоящей главе, а также «Государство», 548 е-549 а, где тимократический человек сравнивается с братом Платона Главконом: «Он пожестче (Главкона) и менее образован». Продолжение этого отрывка цитируется в тексте к прим. 29. — Фукидид сообщает о предательском убийстве спартанцами 2000 лучших илотов, которым была обещана свобода (Фукидид, IV, 80). Платон, несомненно, был хорошо знаком с трудами Фукидида и, кроме того, он, бесспорно, имел и более непосредственные источники информации о спартанских порядках. Платоновское отношение к чересчур мягкому обращению афинян с рабами рассматривается в прим. 18 к настоящей главе.
4.39
Учитывая решительно антиафинскую, а потому и антигуманную на правленность «Государства», энтузиазм многих современных теоретиков образования по поводу платоновских идей в этой области кажется, по крайней мере, непонятным. Мне приходят в голову только три правдоподоб ных объяснения этому энтузиазму: они либо не понимают «Государства», несмотря на то, что Платон ничем не прикрывает своей враждебности по отношению к афинскому гуманитарному образованию, либо им, как и многим философам и даже некоторым музыкантам (см. текст к прим. 41), просто льстит риторика Платона о политическом значении образования, либо, наконец, имеет место и то, и другое.
Трудно понять, что в работах Платона может ободрить почитателей греческой литературы и искусства, ведь Платон — особенно в книге X «Государства» — предпринял мощнейшую атаку на поэтов и трагиков, — в частности, на Гомера и Гесиода. В «Государстве» (600 а) Гомер оценивается ниже хорошего механика, т.е. представителя класса, презираемого Платоном (см. «Государство», 495 е и 590 с, а также прим. 4 к гл. 11). Там же, в отрывке 600 с Гомер ставится на ступень ниже софистов Протагора и Продика (см. также Th. Gomperz. Greek Thinkers. German ed., vol. II, p. 401), а в фрагменте 605 a-b все поэты просто изгоняются из совершенного государства.
Комментаторы, однако, предпочитают не замечать фрагментов, недвусмысленно выражающих отношение Платона к литературе, и ссылаются на высказывания подобные тому, которое он сделал, подготовляя свою атаку на Гомера («какая-то любовь к Гомеру и уважение к нему, владеющие мною с детства, препятствуют мне говорить» — «Государство», 595 b). Адам в примечании к 595 b 11 замечает, что «здесь Платон говорит с непритворным чувством». Я полагаю, однако, что это высказывание Платона всего лишь иллюстрирует метод, применяемый им повсюду в «Государстве», а именно — начало атаки на гуманистические идеи он предваряет некоторыми уступками читательским предпочтениям (см. гл. 10, в частности, текст к прим. 65).
4.40
Строгая цензура для укрепления классовой дисциплины рекомендуется в «Государстве», 377 е и 378 с: «Если мы намерены внушить убеждение, что никогда никто из граждан не питал вражды к другому и что это было бы нечестиво, то об этом-то и должны сразу же и побольше рассказывать детям и старики, и старухи, да и потом, когда дети подрастут; и поэтов надо заставить не отклоняться от этого в своем творчестве». Интересно, что впервые упоминая о цензуре в отрывке 376 е и след., Платон не выступает сразу же за строгую цензуру, а говорит сначала об истине, красоте и т. п. Однако, в фрагментах 595 а и особенно 605 а-b цензура становится более строгой (см. предыдущее примечание, а также прим. 18-22 к гл. 7 и соответствующий текст). В «Законах» значение цензуры обсуждается в отрывке 801 c-d.
В фрагменте 399 а и след. «Государства», где Платон требует от музыки, чтобы она подражала «напевам человека мужественного», он предает забвению введенный им же самим принцип, согласно которому музыка должна повышать душевную мягкость человека (см. «Государство», 410 с-412 b, a также прим. 36 к настоящей главе). См. также следующее примечание, п. (2). — Важно понять, что Платон «позабыл» не то, что он говорил ранее, а то, к чему должен был привести ход его рассуждений.
4.41
(1) Отношение Платона к музыке, в частности, к музыке как таковой, выражено, например, в «Государстве», 397 а, 398 е, 400 а, 410 b, 424 b, 546 d; и в «Законах», 657 е, 673 а, 700 b, 798 d, 801 d, 802 b, 816 с. Подход Платона к этой проблеме состоит, главным образом, в том, что «надо остерегаться вводить новый вид мусического искусства — здесь рискуют всем: ведь нигде не бывает перемены приемов мусического искусства без изменений в самых важных государственных установлениях — так утверждает Дамон, и я ему верю». Как обычно, Платон и здесь следует спартанским образцам. Адам говорит, что «наличие взаимосвязи между изменениями в политике и изменениями в музыке признавалось в Греции повсеместно, но особенно в Спарте, где у Тимофея отобрали лиру за то, что он добавил к ней четыре новых струны». (J. Adam, op. cit., vol. I, p. 216, note to 424 с 20, курсив мой; см. также ссылки, приведенные в этой книге.) В том, что Платона вдохновил пример именно Спарты, можно не сомневаться, однако маловероятно, что подобный подход к музыке был распространен в Греции повсеместно, в частности, в Афинах эпохи Перикла (см. п. (2) настоящего примечания).
(2) Сопоставив в тексте отношение Платона к музыке с «более просвещенной современной ему критикой», я охарактеризовал его как отравленный предрассудками консерватизм (см., в частности, «Государство», 398 е и след.). При этом я имел в виду произведение неизвестного писателя (скорее всего, музыканта), жившего в V или в начале IV века до н.э., автора приветствия, опубликованного в качестве тринадцатого фрагмента в издании Гренфела и Ханта (В. P. Grenfell, A S. Hunt. The Hibeh Papyri, 1906, p. 45). Возможно, он являлся одним из «некоторых музыкантов, критикующих Сократа» (т.е. Сократа «Государства»), о которых упоминает Аристотель в столь же отравленном предрассудками фрагменте «Политики», 1342b, где повторяются многие из платоновских аргументов. Однако, критика анонимного автора гораздо шире того, на что намекает Аристотель. Платон, как и Аристотель, полагал, что некоторые музыкальные лады — в особенности, «изнеженные» ионийские и лидийские — делают людей мягкими и женственными, в то время как другие — в особенности, дорийский — делают их храбрыми. Эта точка зрения подвергается критике анонимным автором. «Говорят, — пишет он, — что одни лады делают людей умеренными, другие — справедливыми; одни — героями, другие — трусами». Анонимный автор блестяще показывает несостоятельность этой точки зрения, отмечая, что многие из наиболее воинственных греческих племен предпочитают лады, имеющие репутацию вселять в человека трусость, в то время как многие профессиональные оперные певцы часто поют в «героической» тональности, но незаметно, чтобы они от этого становились храбрее. Возможно, эта критика была направлена против Дамона, которого Платон часто приводит в качестве авторитета и который был другом Перикла (бывшего достаточно либеральным, чтобы терпеть проспартанские идеи Дамона в области искусствоведения). Однако, эта критика может быть с успехом применена и к самому Платону. О Дамане см. у Дильса5; здесь же представлена гипотеза, касающаяся личности анонимного автора — см. ibid., vol. II, р. 334, note.
(3) Хочу заметить, что критикуя «реакционный» подход к музыке, я отнюдь не выражаю личной симпатии к «прогрессивной» музыке. На самом деле я предпочитаю старинную музыку (и чем старее она, тем лучше) и очень не люблю современную музыку (я имею в виду большую часть того, что было написано с того времени, как начал сочинять Р. Вагнер). Я являюсь решительным противником «футуризма» — как в искусстве, так и в морали (см. гл. 22 и прим. 19 к гл. 25). Однако, я не хочу навязывать другим свои вкусы и свое отношение к цензуре. Любить и ненавидеть, особенно, в искусстве, можно так, чтобы не подавлять в судебном порядке то, что мы ненавидим, и не канонизировать то, что мы любим.
4.42
См. «Государство», 537 а и 466 е-467 е. Охарактеризовать современное тоталитарное образование мне помогла книга О. Колнаи «Война против Запада» (A. Kolnai. The War against West, 1938, p. 318).
4.43
Знаменитая платоновская теория, согласно которой государство, т.е. централизованная и организованная политическая власть, было образовано благодаря завоеванию (подчинению кочевниками или охотниками оседлого сельского населения), насколько мне известно, впервые (если не принимать в расчет некоторых замечаний, сделанных Макиавелли) была повторена Юмом, критиковавшим историческую версию теории общественного договора (см. D. Hume. Essays, Moral, Political and literary, vol. II, 1752, Essay XII: Of the Original Contract): «Почти все государства, — пишет Юм, — существующие в настоящее время или о которых нам что-нибудь известно, первоначально были основаны или путем узурпации власти, или путем завоевания, или имело место и то, и другое». Юм отмечает, что «человеку искусному и предприимчивому... часто нетрудно... применяя жестокость или ложные посулы, установить власть над людьми, количество которых в сотни раз превышает число его сторонников... Так возникло множество государств, и в этом состоит их первоначальный договор, которым они так любят хвалиться». Эту теорию возродил сначала Э. Ренан в работе «Что такое нация?» (Е. Renan. What is a Nation? 1882), а затем Ф. Ницше в работе «К генеалогии морали». Вот что Ницше пишет о происхождении государства (не ссылаясь на Юма): «Какая-то стая белокурых хищников, раса покорителей и господ, которая, обладая военной организованностью и организаторской способностью, без малейших колебаний налагала свои страшные лапы на, должно быть, чудовищно превосходящее ее по численности, но все еще бесформенное, все еще бродяжное население. Так вот и затевается "государство" на земле: я думаю, что томные грезы, возводящие его начало к "договору", отжили уже свой век» (F. Nietzche. Genealogy of Morals, Germ, ed., 1894, p. 98; русский перевод: Ф. Ницше. Соч. в двух томах, М., Мысль, 1990, т. 2, с. 463). Эта теория привлекает Ницше потому, что ему нравятся эти белокурые бестии. Совсем недавно сходные идеи были высказаны Ф. Оппенгеймером (F. Oppenheimer. The State. Transl. by Gitterman, 1914, p. 68), марксистом К. Каутским (в его книге «The Materialist Interpretation of History») и У. Маклеодом (W. С. Macleod. The Origin and History of Politics, 1931). Я полагаю, что то, о чем писали Платон, Юм и Ницше, могло и на самом деле произойти во многих, если не во всех, случаях. При этом под «государством» я понимаю организованную и централизованную власть.
Стоит упомянуть, что А. Тойнби придерживается совершенно иной позиции, но прежде чем перейти к ее обсуждению, я хотел бы подчеркнуть, что, с точки зрения антиисторициста, проблема происхождения государства не имеет большого значения. Возможно, что вопрос о том, как произошло государство, сам по себе интересен, однако он не имеет никакого отношения к тому, что я понимаю под социологией государства, т.е. не имеет отношения к политической технологии (см. главы 3, 9 и 25).
Теория Тойнби не ограничивает понятие «государства» организованной и централизованной политической властью. То, что рассматривает Тойнби, является, скорее, «происхождением цивилизаций». При этом, однако, сразу же возникают трудности: действительно, некоторые «цивилизации» являлись государствами (как мы это уже видели), некоторые представляли собой группы или последовательности государств, а некоторые существовали в форме обществ типа эскимосского, не будучи государствами. Поэтому если сомнительно, что все «государства» появились по одной-единственной схеме, то тем более маловероятно, что широкий класс таких различных между собой обществ, как ранние египетские и месопотамские государства и их институты, с одной стороны, и эскимосские общины — с другой, возникли по одному шаблону.
Ограничимся, однако, только одним данным Тойнби описанием происхождения египетской и месопотамской «цивилизаций» (А Тоупbее. A Study of History, vol. I, p. 305). Его теория состоит в том, что трудности суровой жизни в джунглях порождают предприимчивых и талантливых лидеров, которые уводят своих сторонников на равнины и начинают оседлую жизнь земледельцев. Эта созданная в духе Бергсона и Гегеля теория творческого гения кажется мне весьма романтичной. Вместе с тем, при исследовании истории Египта нам необходимо прежде всего обратить внимание на происхождение кастовой системы. Мне кажется, что наиболее правдоподобным объяснением ее происхождения является иноземное завоевание, подобно тому как в Индии каждая новая волна захватчиков создавала касту, возвышающуюся над кастами покоренных народов. Имеются и другие аргументы в пользу такой концепции. Тойнби сам придерживается весьма правдоподобной теории, согласно которой разведение и особенно дрессировка домашних животных появились на гораздо более поздней стадии развития человечества по сравнению с простым земледелием и что это достижение степных кочевников. Однако в Египте существовало как земледелие, так и скотоводство, что справедливо также и для большинства других древних государств (за исключением, насколько я могу судить, некоторых государств Американского континента). Это, возможно, указывает на то, что эти государства уже содержали кочевые элементы, а потому представляется весьма вероятной гипотеза, объясняющая их наличие вторжением кочевников, навязавших жившим здесь земледельцам кастовое господство. Эта теория противоречит точке зрения Тойнби (op. cit., III, p. 23), согласно которой государства, созданные кочевниками, как правило, быстро исчезали. Однако тот факт, что во многих древних кастовых государствах было очень распространено скотоводство, требует какого-то объяснения.
Идея, что представители высших классов первоначально были кочевниками или даже охотниками, подтверждается древнейшей и все еще сохраняющейся традицией, согласно которой война, охота и лошади являются символами привилегированного класса. Как было показано Т. Вебленом (Т. Veblen. The Theory of the Leisure Class) и Тойнби, эта традиция нашла свое выражение в этике и политике Аристотеля. К этому можно добавить и распространенные среди скотоводов расистские убеждения, особенно их веру в расовое превосходство высших классов. Эта вера ярко проявляется в кастовых государствах. Она отражена в работах Платона и Аристотеля. В результате Тойнби был вынужден назвать ее «одним... из грехов... современной эпохи... совершенно чуждым эллинскому гению». Однако, несмотря на то, что многие древние греки нравственно переросли расизм, достаточно вероятно, что Платон и Аристотель основывали свои теории на старых традициях, — особенно если вспомнить о том, какую роль играли идеи расизма в Древней Спарте.
4.44
См. «Законы», 694 а-698 а.
4.45
(1) Мне кажется, что «Закат Европы» Шпенглера (О. Spengler. Decline of the West; русский перевод — О. Шпенглер. Закат Европы, т. 1. М., 1923) не следует воспринимать всерьез. Однако это — симптом, это — теория представителя правящего класса перед лицом поражения. Подобно Платону, Шпенглер пытается возложить вину за это на «мир», подчиняющийся закону упадка и смерти. И вновь, подобно Платону, он в работе «Пруссачество и социализм» (О. Spengler. Prussianism and Socialism; русский перевод — П., 1922) требует экономического воздержания и установления нового порядка, проведения отчаянного эксперимента, который противодействовал бы историческим силам и возродил бы прусский правящий класс путем осуществления «социалистических» или коммунистических идей. — Об идеях Шпенглера я придерживаюсь одного мнения с Л. Нельсоном, опубликовавшим свой критический обзор его учения в книге с длинным ироническим заглавием, начинающимся словами: «Ведовство: Посвящение в тайны предсказаний судьбы Освальда Шпенглера и несомненное доказательство истины его Откровений...» и т. д. Я думаю, что он правильно оценил учение Шпенглера, и, кроме того, он — один из первых критиков того, что я называю историцизмом (в этом он следовал кантовской критике Гердера — см. гл. 12, прим. 56).
(2) Своим замечанием о том, что Шпенглер был не последним певцом заката и упадка , я намекаю, в частности, на Тойнби. Труд Тойнби настолько превосходит работу Шпенглера, что мне даже неловко упоминать о них в одном контексте, однако это превосходство обусловлено главным образом глубиной его идей и широтой его эрудиции (проявляющейся в том, что он не говорит, подобно Шпенглеру, сразу обо всем, что происходит под луной). Однако цели и методы Шпенглера и Тойнби совпадают, будучи типично историцистскими. (Идеи Тойнби я критикую в «The Poverty of Historicism», p. 110.) Кроме того, оба они являются гегельянцами, хотя я не знаю, наскольхо отчетливо это осознавал Тойнби. Предложенный им «критерий роста цивилизации», состоящий в «прогрессе самоопределения», ясно говорит об этом, так как в нем легко распознать гегелевский закон развития «самосознания» и «свободы». (Своим гегельянством Тойнби, по-видимому, обязан Ф. Г. Брэдли, на что указывают, например, сделанные им замечания о понятии «отношение»: «Само понятие "отношения" между "вещами" или "сущностями" заключает в себе логическое противоречие... Ках преодолеть это противоречие?» (A Toynbee. A Study of History, vol. III, p. 223). Я не хотел бы здесь ввязываться в дискуссию по поводу проблемы отношений. Замечу только, не приводя доказательств, что все проблемы, связанные с отношениями, могут быть сведены посредством применения простых правил современной логики к проблемам, связанным со свойствами и классами, — иначе говоря, не существует специальных философских трудностей, касающихся отношений. Метод, который я только что упомянул, разработан Н. Винером и К. Куратовским — см. W.van О. Quine. A System of Logistic, 1934, p. 16.) Конечно, я не думаю, что для того, чтобы отвергнуть философскую работу, достаточно приклеить ей ярлык с названием некоторой школы. Однако, как будет показано во втором томе настоящей книги, с гегелевским историцизмом дело обстоит именно так.
Относительно историцизма Тойнби я хотел бы еще подчеркнуть, что испытываю серьезные сомнения в том, что цивилизации рождаются, растут, разрушаются и умирают. Я считаю необходимым отметить это, так как сам употребляю некоторые из используемых Тойнби терминов, говоря о «разрушении» и «задержке» развития государств. Однако я хотел бы пояснить, что термин «разрушение» (breakdown) я отношу не ко всем цивилизациям, а к одному частному виду явлений — к чувству потрясения, рождающемуся при виде распада магического или племенного «закрытого общества». Поэтому я не думаю вслед за Тойнби, что греческое общество «было разрушено» во время Пелопоннесской войны, я обнаруживаю симптомы разрушения гораздо раньше этого. (См. прим. б и 8 к гл. 10 и соответствующий текст.) Что касается «задержанных» обществ, то я применяю этот термин только к тем обществам, которые тяготеют к магическим формам, насильственно закрываясь от влияния со стороны открытого общества, или к обществам, пытающимся вернуться в племенную неволю.
Я не думаю также, что наша западная цивилизация является лишь одной из многих. Мне кажется, что может быть много закрытых обществ с самой различной судьбой, но «открытое общество» может только продвигаться вперед, если оно не хочет быть задержано и возвращено обратно в неволю, в звериную клетку. (См. также гл. 10, в особенности последнее примечание к этой главе.)
(3) Что касается певцов «заката и упадка», то мне кажется, что все они были вдохновлены словами Гераклита, что люди «обжираются как скоты», а также платоновской теорией низших животных инстинктов. Я имею в виду то, что все они пытаются показать, будто упадок является следствием принятия правящим классом «низших» стандартов, которые, по их мнению, более подходят для «низших», работающих классов. Грубо говоря, авторы таких теорий утверждают, что цивилизации типа Персидской и Римской империй погибли от обжорства (см. прим. 19 к гл. 10).
Примечания к главе 5
5.1
Говоря о «заколдованном круге», я цитирую Дж. Бернета (J. Burnet. Greek Philosophy, vol. I, p. 106), который рассматривал сходные проблемы. Однако я не согласен с Бернетом в том, что «на заре человечества закономерности общественной жизни осознавались людьми даже с большей отчетливостью, чем закономерности природы». Это утверждение предполагает, что уже в те времена было установлено различие, которое, по моему мнению, появилось лишь гораздо позже, когда «заколдованный круг закона и обычая» был разорван. Вместе с тем, природные закономерности (смена времен года и т. п.) должны были осознаваться на очень ранних стадиях человеческого развития (см. прим. 6 к гл. 2, а также Plato (?). «Epinomis», 978 d). — О различии между природными и нормативными законами см., в частности, прим. 18 (4) к этой главе.
5.2
См. R. Eisler. The Royal Art of Astrology. P. Айслер утверждает, что особенности движения планет истолковывались вавилонскими «писцами, создавшими библиотеку Ашурбанипала» (op. cit., p. 288), как «повинующиеся "законам" или "решениям", управляющим небом и землей» (pirishte shame u irsiti), «установленными Богом-Создателем в начале времени» (р. 232 и след.). Он отмечает (op. cit., p. 288), что идея «универсальных законов природы» коренится в этом «мифологическом… понятии… "законов неба и земли"».
Фрагмент Гераклита приводится по D5, В 20, Л 220, см. также прим. 6 и 7 (2) к этой главе и соответствующий текст.
Бернет в ранее цитируемой книге выражает мнение, что «как только люди впервые обнаружили то, что природа подчиняется естественным закономерностям, они не могли придумать для этого лучшего наименования, чем право или справедливость,… которое означало неизменный обычай, управляющий человеческой жизнью». Я не согласен с тем, что термин «закон» означал сначала нечто, относящееся к общественным явлениям, и лишь позднее был распространен и на природу. Я думаю, что природные и социальные закономерности («порядок») сначала не различались и истолковывались в терминах магии.
5.3
Эта противоположность выражается иногда как противоположность между «природой» и «законом» (т.е. «нормой» или «соглашением»), между «природой» и «установлением» (например, нормативных законов) и между «природой» и «искусством» или «естественным» и «искусственным».
Некоторые исследователи утверждают, ссылаясь на авторитет Диогена Лаэртия (II, 16 и 4), что антитеза между природой и соглашением впервые была высказана Архелаем, который, как говорят, был учителем Сократа. Мне, однако, кажется, что в «Законах», 690 b, Платон достаточно недвусмысленно дает понять, что автором этой антитезы он считает фиванского поэта Пиндара (см. прим. 10 и 28 к настоящей главе). Помимо фрагментов Пиндара, цитируемых Платоном (см. также Геродот, III, 38), и некоторых замечаний Геродота (там же), одним из первых источников этой идеи могут считаться сохранившиеся фрагменты из трактата «Об истине» софиста Антисфена (см. прим. 11 и 12 к настоящей главе). Согласно платоновскому «Протагору», одним из первых сторонников этой точки зрения был софист Гиппий (см. прим. 13 к настоящей главе). Однако наибольшую известность приобрело рассмотрение этой проблемы самим Протагором, хотя он, возможно, использовал другую терминологию. (Стоит упомянуть, что Демокрит, использовавший эту антитезу, применял ее к таким общественным «институтам» как язык. Платон сделал то же самое в «Кратиле», — например, в отрывке 384 с.)
5.4
Сходную точку зрения высказывает Б. Рассел в статье «Поклонение свободному человеку» (В. Russel. Free Man's Worship // Mysticism and Logic), а также Ч. Шеррингтон в последней главе своей книги С. Sherrington. Man on His Nature.
5.5
(1) Позитивисты, конечно, заявят на это, что нормы не выводимы из фактуальных высказываний, потому что высказывания, выражающие нормы, не имеют смысла. Это, однако, показывает лишь то, что они, как и Л. Витгенштейн в «Логико-философском трактате», применяют критерий осмысленности настолько произвольно, что «осмысленными» у них оказываются только фактуальные высказывания. (См. мою книгу «The Logic of Scientific Discovery», p. 35 и след. и р. 51 и след.) «Психологисты», со своей стороны, императивные высказывания назовут выражением эмоций, нормы — выражением привычек, а стандарты — точек зрения. Однако, хотя привычка не воровать, несомненно, является фактом, тем не менее, необходимо отличать этот факт от соответствующей нормы. По вопросу о логике норм я согласен с большинством идей, высказанных в книге К. Менгера (К. Menger. Moral, Wille und Weltgestaltung, 1935). Мне кажется, что ему впервые удалось установить основания логики норм. Я думаю также, что нежелание признавать за нормами важное значение и их несводимость к фактам является одним из источников интеллектуальной — и не только интеллектуальной — слабости наших «прогрессивных» кругов.
(2) К тому, что я сказал о невозможности вывода предложений, выражающих нормы или решения, из предложений, выражающих факты, можно добавить следующее. Анализируя отношения между предложениями и фактами, мы вступаем в область логических исследований, которую А. Тарский назвал «семантикой» (см. прим. 29 к гл. 3 и прим. 23 к гл. 8). Одним из фундаментальных семантических понятий является понятие «истины». Как было показано А. Тарским, в рамках того, что Р. Карнап назвал «семантической системой», дескриптивное утверждение «Наполеон умер на острове Св. Елены» можно вывести из утверждения «Мистер А. сказал, что Наполеон умер на острове Св. Елены», конъюнктивно связанного с утверждением «То, что сказал мистер А., является истинным». (И если термин «факт» мы будем употреблять настолько широко, что фактом у нас будет не только то, что описывает предложение, но и то, что это предложение является истинным, то мы сможем даже сказать, что утверждение «Наполеон умер на острове Св. Елены» выводимо из двух фактов: что мистер А. говорил об этом и что мистер А. говорил правду.) Однако мы вправе применить эти же соображения и к области норм. Для этого нам следует ввести понятие «правомерности» или «логической правильности, общезначимости» («validity or trueness») нормы, соответствующее понятию истинности предложения. Это означает, что в рамках семантической системы норм мы можем вывести некоторую норму N из предложения, выражающего утверждение, что норма N правомерна: иначе говоря, норму или заповедь «Не укради» можно считать эквивалентной утверждению «Норма "Не укради" правомерна». (И опять-таки, если термин «факт» мы употребляем так широко, чтобы говорить о факте правомерности нормы, то и нормы можно будет выводить из фактов. Это, однако, не опровергает того, что было сказано в тексте главы, так как там мы говорили только о невозможности вывода норм из психологических и социологических, т.е. несемантических фактов.)
(3) В первом издании этой книги я говорил о нормах и о решениях, но не упоминал о рекомендациях, советах, предложениях-проектах (proposals). Совет поговорить о «советах» и «предложениях-проектах» я почерпнул из статьи Л. Дж. Рассела (L. J. Russell. Propositions and Proposals // Library of the Tenth International Congress of Philosophy, Amsterdam, August, 11-18, 1948, vol. I, Proceedings of the Congress). В этой интересной статье автор отличает фактуальные утверждения или «пропозиции» от предложений занять некоторую линию поведения (некоторую политику, некоторую норму поведения или некоторую цель), которые он называет «советами» или «предложениями-проектами». Большое преимущество этого подхода состоит в том, что, как всем нам известно, рекомендации, советы или предложения-проекты можно обсуждать, в то время как не очень понятно, каким образом и в каком смысле можно обсуждать решения или нормы. Так, многие из тех, кто обращается к исследованию норм или решений, считают, что они не подлежат обсуждению (т.е. что они либо выше этого, как полагают некоторые догматически настроенные теологи и метафизики, либо, будучи бессмысленными, недостойны этого, как утверждают некоторые позитивисты).
По словам Л. Дж. Рассела, пропозиция утверждается (а гипотеза принимается), в то время как совет или предложение-проект одобряются, и поэтому следует отличать факт одобрения от самих советов и предложений-проектов.
Поэтому, согласно нашей дуалистической точке зрения, предложения-проекты, советы и рекомендации не сводимы к фактам (к утверждениям о фактах или пропозициям), хотя они и имеют определенное отношение к фактам.
5.6
См. также прим. 71 к гл. 10.
Несмотря на то, что моя позиция, как мне кажется, достаточно ясно изложена в тексте главы, я хотел бы кратко остановиться на том, что я считаю важнейшими принципами гуманистической и эгалитаристской этики.
(1) Терпимость ко всем, кто сам терпим и не пропагандирует нетерпимость (о последних см. прим. 4 и б к гл. 7). Из этого принципа вытекает, в частности, что следует относиться с уважением к моральному выбору других людей, если этот выбор не противоречит принципу терпимости.
(2) Признание того, что в основе всякой моральной необходимости лежит сострадание и соболезнование. Тем самым я предлагаю на место утилитаристской формулы «Стремись к наибольшему счастью для возможно большего числа людей» или, короче, «Увеличивай счастье» поставить формулу «Как можно меньше для всех страданий, которых можно избежать» или, короче, «Уменьшай страдания».
Мне кажется, что эта простая формула может стать одним из фундаментальных общественно-политических принципов (хотя, конечно же, не единственным). Напротив, принцип «Увеличивай счастье», по моему мнению, ведет к добровольному подчинению диктатуре. Важно осознать, что с этической точки зрения страдания и счастье не являются симметричными понятиями, — иначе говоря, предоставление счастья во всяком случае является менее важной задачей, чем уничтожение страдания и помощь тем, кто страдает. (То, что может считаться счастьем, во многом зависит от индивидуальных вкусов, чего нельзя сказать о страданиях.) См. также прим. 2 к гл. 9.
(3) Борьба против тирании, т.е. защита остальных принципов законодательными средствами, а не властью благонамеренных правителей. (См. раздел II гл. 7.)
5.7
См. J. Burnet. Greek Philosophy, vol. I, p. 117. Доктрина Протагора, о которой говорится в этом абзаце, излагается на страницах платоновского «Протагора» (322 а и след.). См. также «Теэтет», в частности 172 b (и прим. 27 к настоящей главе).
Различие между учениями Платона и Протагора можно кратко выразить следующим образом:
Учение Платона. Мир обладает «естественным» имманентным порядком справедливости, являющимся первообразом сотворенной природы. Поэтому благо содержится в прошлом, а изобретение новых норм пагубно.
Учение Протагора. Человек в этом мире является моральным существом. К природе же моральные оценки не применимы. Поэтому человек способен улучшать этот мир. — Весьма вероятно, что на Протагора оказал влияние Ксенофан, который был одним из первых философов, высказавших идею открытого общества и критиковавших исторический пессимизм Гесиода (см. D5 18; Л 172):
«Боги отнюдь не открыли смертным всего изначально,
Но постепенно, ища, лучшее изобретают».
По-видимому, племянник и последователь Платона Спевсипп (см. Аристотель. «Метафизика», 1072b 30, а также прим. 11 к гл. 11) возродил эту прогрессивную идею, а вместе с ним и Академия стала исповедовать более либеральные политические взгляды.
Отношение Протагора к религиозным догмам может быть охарактеризовано тем, что, по его мнению, Бог воздействует на мир через человека. Я не думаю, что эта позиция в чем-то противоречит христианству. Для сравнения приведу, например, высказывание К. Барта: «Библия — документ человеческий», т.е. человек — инструмент Бога (К. Barth. Credo, 1936, p. 188).
5.8
Сократовская убежденность в автономии этики, тесно связанная с его нежеланием принимать всерьез натурфилософские проблемы, хорошо просматривается в его учении о самодостаточности «добродетельного» человека. Насколько эта теория противоречит платоновским взглядам на человека, мы убедимся позднее; см., в частности, прим. 25 к настоящей главе, прим. 36 к гл. 6 и соответствующий текст. (См. также прим. 56 к гл. 10.)
5.9
Невозможно создать институты, которые работали бы независимо от того, какие люди их обслуживают. Эта проблема обсуждается в гл. 7 (текст к прим. 7-8, 22-23) и особенно в главе 9.
5.10
Платоновская оценка натурализма Пиндара содержится в «Горгии», 484 b, 488 b; и в «Законах», 690 b (этот фрагмент цитируется далее в настоящей главе, см. прим. 28), 714 е-715 а, 890 а-b. (См. также примечание Адама к «Государству», 359 с 20.)
5.11
Антифонт использует термин, который при обсуждении учений Платона и Парменида я перевел сочетанием «обманчивое мнение» и которое он противопоставляет «истине» (см. прим. 15 к гл. 3). См. также перевод Э. Баркера (Е. Barker. Greek Political Theory, vol. I: Plato and his Predecessors, 1918, p. 83).
5.12
См. Антифонт. Истина. См. также Barker, op. cit., pp. 83-85 и следующее прим., п. (2).
5.13
Слова Гиппия взяты из платоновского «Протагора», 337 е. Следующие четыре цитаты приводятся по: (1) Еврипид. Ион, 854 и след.; (2) Еврипид. Финикиянки, 538; см. также книги Т. Гомперца (Th. Gomperz. Greek Thinkers, Germ, ed., vol. I, p. 325) и Э. Баркера (op. cit., p. 75); (3) Слова Алкидама в «Риторике» Аристотеля, I, 13, 1373b 18; (4) Слова Ликофрона в Aristotle. Fragmenta (ed. by V. Rose, 1886), p. 91 (см. также: Псевдо-Плутарх. О доблести, 18.2). Об афинском движении против рабства см. текст к прим. 18 к гл. 4 и прим. 29 к гл. 4, а также прим. 18 к гл. 10 и «Дополнение III (Ответ на критику)» в конце тома 1, с. 408 и след.
(1) Следует отметить, что большинство сторонников платонизма не испытывают симпатии к эгалитаристскому движению. Баркер, например, посвятил ему главу под названием «Теоретическое иконоборчество» (op. cit., p. 75; см. также отрывок из книги G. Field. Plato, которая цитируется в тексте к прим. 3 гл. 6). Эта враждебность, несомненно, обязана влиянию Платона.
(2) Платоновский и аристотелевский антиэгалитаризм, о котором говорится в следующем абзаце, рассматривается в прим. 49 к гл. 8 и в соответствующем месте текста, а также в прим. 3-4 к гл. 11 и в соответствующем месте текста.
Этот антиэгалитаризм и его сокрушительные последствия были хорошо описаны У. Тарном в его превосходной статье «Александр Великий и единство человечества» (W. Tarn. Alexander the Great and the Unity of Mankind, Proc. of the Brit. Acad., XIX, 1933, p. 123 и след.). У. Тарн отмечает, что в пятом веке до н.э. в Греции зародилось движение, направленное «к чему-то лучшему, чем поспешное и тягостное деление человечества на греков и варваров. Однако это движение почти не повлияло на ход истории, так как всякая мысль в этом направлении удушалась философами-идеалистами. Отношение к этому движению со стороны Платона и Аристотеля не вызывает сомнений. Платон утверждал, что варвары являются естественными врагами греков и что с ними следует вести борьбу вплоть… до полного их порабощения. Аристотель говорил, что варвары являются рабами по природе» (op. cit., р. 124, курсив мой). Я полностью согласен с оценкой Тарном антигуманистического влияния философов-идеалистов, в частности Платона и Аристотеля как пагубного. Я также согласен с его высокой оценкой эгалитаризма и идеи единства человечества (op. cit., p. 147). Я возражаю главным образом против его оценки влияния этого эгалитаристского движения и идей ранних киников. Не знаю, прав ли он, считая их влияние на историю незначительным по сравнению с влиянием Александра Великого. Однако я уверен, что Тарн признал бы за этими теориями большее значение, если бы заметил параллели между космополитизмом и аболиционизмом. Параллелизм в отношениях греки — варвары и свободные — рабы отчетливо просматривается в только что приведенной цитате Тарна, а если мы вспомним не вызывающую сомнений силу аболиционистского движения в Афинах (см., в частности, прим. 18 к гл. 4), то имеющиеся у различных древних авторов отрывочные замечания, направленные против разделения греков и варваров, приобретут большее значение. См. также: Аристотель. «Политика», III, 5, 7 (1278а); IV (VI), 4, 16, (1319b); III, 2, 2 (1275b). См. также прим. 48 к гл. 8 и ссылку на Бадиана в конце этого примечания.
5.14
Девиз «назад к природе» обсуждается в прим. 71 к гл. 10 и в соответствующем месте текста.
5.15
Сократовское учение о душе рассматривается в тексте к прим. 44 к гл. 10.
5.16
Понятие «естественных прав» в эгалитарном смысле было привнесено в Римскую империю стоиками (особое внимание следует обратить на Антисфена, см. прим. 48 к гл. 8), а Римское право его популяризировало (см. Institutiones, II, 1, 2; I, 2, 2). Это понятие использовалось также Фомой Аквинским (Summa, II, 91, 2). Можно только сожалеть о совершаемой некоторыми томистами подмене понятия «естественных прав» понятием «естественного закона» и о их невнимании к эгалитаристскому движению.
5.17
Монистическая тенденция, заставившая когда-то некоторых философов доказывать естественный характер норм, недавно породила ряд попыток противоположной направленности, т.е. доказательств конвенционального или вербального характера законов природы. А. Пуанкаре выводил эту физическую разновидность конвенционализма из факта вербального или конвенционального характера дефиниций. Он, а позднее и А. Эддингтон, отмечают, что мы определяем понятия, обозначающие природные объекты, посредством законов, описывающих их поведение. Из этого они делают вывод, что законы природы на самом деле являются дефинициями, т.е. вербальными соглашениями. Вот что говорил Эддингтон в заметке, опубликованной в журнале «Nature» (N 148, 1941, р. 141): «Элементы (физической теории)… могут быть определены… только посредством законов, описывающих их поведение, — так что мы вращаемся в порочном кругу чисто формальных систем». — Анализ и критика этой формы конвенционализма даны в моей «The Logic of Scientific Discovery», p. 78.
5.18
(1) Надежда обнаружить какую-либо теорию или аргумент, позволяющий освободиться от груза ответственности, является, по моему мнению, одним из основных мотивов создания так называемой «научной» этики. «Научная» этика, будучи совершенно бесплодной, представляет собой поразительное социальное явление. В чем состоит ее цель? В том, чтобы говорить нам, что нам делать, создав на научной основе своего рода моральный кодекс, с которым мы могли бы консультироваться всякий раз, столкнувшись с трудной моральной проблемой? В абсурдности этого мероприятия можно не сомневаться, не говоря уже о том, что даже если это можно было бы осуществить, мы тем самым были бы избавлены от всякой личной ответственности за свои поступки и, следовательно, от всякой этики вообще. Или, быть может, она должна предоставить нам научный критерий определения истинности или ложности моральных суждений, т.е. суждений в терминах «хорошего» и «плохого»? Однако ясно, что моральные суждения совершенно бессмысленны. Судить людей и их действия любят одни лишь склочники. Заповедь «Не суди» кажется мне одним из фундаментальных и до сих пор не оцененных по заслугам принципов гуманистической этики. (Мы обезвреживаем и помещаем в тюремную камеру преступника для того, чтобы не позволить ему повторно преступить закон. Слишком большое моральное негодование почти всегда признак лицемерия и фарисейства.) Поэтому этика моральных суждений была бы не только бессмысленной, но и аморальной. Огромная важность, которую мы приписываем моральным проблемам, без сомнения, проистекает из нашей способности разумно постигать будущее и ставить перед собой определенные цели.
Почти все моралисты, исследовавшие проблему этических целей, решали ее, ссылаясь либо на «природу человека», либо на природу «добра». (Кант здесь, возможно, является исключением, хотя и он обращался к «человеческому разуму».) Первый из этих путей никуда нас привести не может, так как все возможные наши действия коренятся в «человеческой природе», так что сама задача этики должна быть сформулирована как определение того, какие присущие мне черты человеческой природы благи и должны мной развиваться, а какие — пагубны и должны быть подавлены. Однако второй путь также бесплоден, потому что, определяя понятие «добро» в форме утверждения «Добро есть то-то и то-то», мы всегда можем оказаться поставленными в тупик вопросом «Ну и что? А мне какое до этого дело?». Только когда понятие «добро» употребляется нами в этическом смысле, т.е. когда оно означает то, что мне следует делать, заключение «Я должен делать х» вытекает из утверждения «х есть добро». Иначе говоря, понятие «добро» имеет этическое значение лишь в том случае, если оно означает «то, что я должен делать (или чему я должен способствовать)». Однако в этом случае смысл термина «добро» полностью исчерпывается фразой, его определяющей, и эта фраза может быть поставлена на его место в любом контексте. Поэтому введение термина «добро» не может помочь нам решить поставленную проблему. (См. также прим. 49 (3) к гл. 11.)
Таким образом, все споры об определении добра и о возможности такого определения бесплодны. Они только показывают, насколько «научная» этика далека от насущных моральных проблем. Они показывают также, что «научная» этика является попыткой закрыть глаза на этические реалии, сложить с наших плеч груз ответственности за наши поступки. (В свете сказанного не может показаться удивительным, что начало «научной» этики, выступавшей тогда в форме этического натурализма, совпадает во времени с тем, что можно было бы назвать открытием моральной ответственности человека. См. текст к прим. 27-38 и 55-57 к гл. 10, где говорится об открытом обществе и о Великом поколении.)
(2) В этом отношении полезно вспомнить об одной частной форме бегства от ответственности, представленной юридическим позитивизмом сторонников Гегеля и тесно связанным с ним спиритуалистическим натурализмом. Тот факт, что даже такой превосходный ученый, как Дж. Кэтлин, является последователем этой точки зрения Гегеля (а также многих других его идей), указывает на то, что она все еще сохраняет значительное влияние. Поэтому мой анализ будет основан на критике аргументов, предлагаемых Кэтлином в пользу спиритуалистического натурализма и отождествления законов природы и норм (см. G. Catlin. A Study of the Principles of Politics, 1930, p. 96-99).
Кэтлин начинает с обсуждения различия между законами природы и «законами… которые устанавливаются людьми», отмечая, что на первый взгляд применение термина «закон природы» к нормам «может показаться ненаучным, поскольку оно упускает из виду различие между человеческим законом, вводимым насильственно, и законом природы, который невозможно нарушить». Однако он пытается доказать, что это только видимость и что «наша критика» такого применения термина «закон природы» была «слишком поспешной». После этого он открыто формулирует принцип спиритуалистического натурализма, согласно которому существует различие между «разумными» и «неразумными» законами: «Разумный закон, поэтому, учитывает общественные тенденции, будучи аналогом "законов природы", "открываемых" наукой о политике. Поэтому разумный закон скорее открывается, а не создается людьми. Он копирует естественные законы общества» (т.е. то, что я назвал «социологическими законами», см. текст к прим. 8 к этой главе). Из этого он делает вывод, что по мере того, как правовая система общества будет становиться все более рациональной, правила, диктуемые ею, «все менее будут напоминать произвольные постановления, будучи дедуктивными следствиями из фундаментальных общественных законов» (т.е. из того, что я назвал «социологическими законами»).
(3) Точка зрения Кэтлина является чрезвычайно ярким проявлением спиритуалистического натурализма. Критика ее кажется мне очень важной еще и потому, что Кэтлин объединяет свою концепцию с теорией «социальной инженерии», которая на первый взгляд может показаться сходной с моей (см. текст к прим. 9 к гл. 3 и текст к прим. 1-3 и 8-11 к гл. 9). Однако перед тем, как начать ее обсуждение, я хотел бы объяснить, чем концепция Кэтлина обязана гегелевскому позитивизму. Это кажется мне необходимым, так как Кэтлин применяет натуралистические аргументы для проведения различия между «разумными» (т.е. «справедливыми») и «неразумными» (т.е. «несправедливыми») законами, а такое различение совершенно не выглядит позитивистским — ведь согласно позитивизму существующие законы являются единственно возможным стандартом справедливости. Я полагаю, однако, что точка зрения Кэтлина очень близка позитивизму, так как он полагает, что только «разумные» законы могут быть эффективными и потому обладают «действительностью» в гегелевском смысле. Кэтлин утверждает, что, если захон не «разумен», т.е. не соответствует человеческой природе, то он «существует только на бумаге». Это утверждение является чистейшим выражением позитивизма, так как из него следует, что, если закон существует не только на бумаге, а успешно претворяется в жизнь, то он «разумен». Иначе говоря, если наше законодательство существует не только на бумаге, то оно соответствует человеческой природе, а потому является справедливым.
(4) Теперь я хотел бы высказать несколько критических замечаний по поводу того, как Кэтлин аргументирует свое нежелание признавать различие между (а) нерушимыми законами природы и (b) искусственными нормативными законами, которые навязываются при помощи санкций, — различие, которое он сам вначале хорошо формулирует. Аргументация Кэтлина состоит из двух основных тезисов. Он показывает (а1), что законы природы также являются искусственными и могут быть в определенном смысле нарушены, а также (b1), что нормативные законы в некотором смысле невозможно нарушить. Я начну с аргумента (а1). «Естественные физические законы, — пишет Кэтлин, — являются не сырыми фактами, а продуктом рационализации физического мира — рационализации, обусловленной либо деятельностью человека, либо внутренней рациональностью и упорядоченностью мира». После этого он показывает, что законы природы «могут быть отменены», если «свежие факты» заставят нас их пересмотреть. Мой ответ на эти соображения состоит в следующем. Утверждение, в котором мы пытаемся сформулировать закон природы, несомненно, является «искусственным». Мы создаем гипотезу, что существует некоторая неизменная закономерность, т.е. описываем предполагаемую регулярность при помощи высказывания, утверждающего закон природы. Однако, будучи учеными, мы готовы к тому, что природа может опровергнуть нас. Мы готовы пересмотреть наш закон, если новые факты, противоречащие нашей гипотезе, покажут, что то, что мы считали законом, на самом деле законом не является, поскольку соответствующее утверждение оказалось опровергнутым. Иначе говоря, соглашаясь с опровержением, произведенным природой, ученый показывает, что он принимает гипотезу лишь до тех пор, пока она не оказывается сфальсифицированной, или, говоря другими словами то же самое, что он рассматривает закон природы как нерушимое правило, потому что факт нарушения правила он считает доказательством того, что предложенная им гипотеза не описывает никакого закона природы. Далее, хотя гипотезы и искусственны, мы можем оказаться не в силах воспрепятствовать их фальсификации. Это означает, что, выдвигая гипотезу для описания некоторой закономерности, мы не создаем эту закономерность (хотя создаем новое проблемное поле, где могут быть получены новые интерпретации и проведены новые наблюдения). (b1) «Неверно, — утверждает Кэтлин, — что преступник "нарушает" закон, совершая запрещенное действие… Закон не говорит: "ты не можешь", он говорит: "ты не должен, ибо иначе будешь наказан". В качестве приказа эта заповедь может быть не выполнена, но как закон — в непосредственном смысле этого слова — он может быть нарушен только в том случае, когда за совершением запрещенного действия не следует наказание… По мере того как закон совершенствуется, а предусмотренные им санкции выполняются,… он приближается к физическому закону». Ответ на это прост. В каком бы смысле мы ни говорили о «нарушении» закона, юридический закон может быть нарушен, и никакие словесные изобретения не могут этого изменить. Предположим, что Кэтлин прав, утверждая, что преступник не может «нарушить» закон, и что закон «нарушается» лишь тогда, когда преступное действие не влечет за собой предписанного законом наказания. Однако даже и в этом случае закон может быть нарушен — например, офицерами, отказавшимися наказывать преступника. Даже в государстве, где все санкции на самом деле выполняются, офицеры могли бы, если бы посчитали это необходимым, не допустить наказания и тем самым «нарушить» закон в том смысле этого слова, в каком употребляет его Кэтлин. (То, что они при этом «нарушили» бы закон в обычном смысле этого слова, и что они сами, возможно, впоследствии были бы наказаны — это уже другой вопрос.) Иначе говоря, нормативные законы вводятся людьми посредством применения санкций и поэтому принципиально отличаются от гипотез. Мы можем законодательно запретить убийства и проявления милосердия, обман и честность, справедливость и несправедливость, но мы не можем запретить Луне двигаться по ее орбите. И никакие аргументы не смогут затушевать это огромное различие.
5.19
О природе счастья и несчастья говорится в «Теэтете», 175 с. О тесной взаимосвязи «природы» и «формы» или «идеи» см. «Государство», 597 a-d, где Платон впервые обсуждает форму или идею кровати, а затем говорит о ней как о кровати, существующей «в самой природе», и о кровати, которую «мы признали бы… произведением бога» (597 b). Там же он предлагает соответствующее различение между «искусственным» (или «изделием», являющимся «подобием») и «подлинно сущим». См. также примечание Адама к «Государству», 507 b 10 (с приведенной там цитатой из Бернета) и примечания к 476 b 13, 501 b 9, 525 с 15, а также «Теэтет», 174 b (и прим. 1 к с. 85 Ф. Корнфорда в его книге «Платоновская теория познания» — F. M. Cornford. Plato's Theory of Knowledge). См. также Аристотель. «Метафизика», 1015а 14.
5.20
По поводу нападок Платона на искусство см. последнюю книгу «Государства», 600 а-605 b, фрагменты, упомянутые в прим. 39 к гл. 4.
5.21
См. прим. 11, 12 и 13 к этой главе и соответствующий текст. Мое утверждение, что Платон, по крайней мере частично, разделяет натурализм Антифонта (хотя он, конечно, не согласен с его эгалитаризмом), многим может показаться странным, — в особенности, читателям Баркера (op. cit). Еще больше их может удивить мнение, что коренное различие между ними состояло не в теории, а в морали, и что с этой точки зрения (по крайней мере, в их отношении к эгалитаризму) прав был Антифонт, а не Платон. (О платоновском истолковании принципа Антифонта, согласно которому при рода истинна и справедлива, см. текст к прим. 23 и 28, а также прим. 30 к этой главе.)
5.22
Эти цитаты взяты из «Софиста», 266 b и 265 е. Однако этот фрагмент также содержит (265 с) критику (подобную той, что помещена в «Законах» и процитирована в тексте к прим. 23 и 30 к настоящей главе) того, что названо материалистической интерпретацией натурализма, которой, вероятно, придерживался Антифонт, Я имею в виду убеждение, что «природа порождает в силу какой-то самопроизвольной причины, производящей без участия разума».
5.23
См. «Законы», 892 а и с. Об учении о сродстве души идеям см. также прим. 15 (8) к гл. 3. О родстве «природ» или «душ» см. Аристотель. «Метафизика», 1015а 14, а также процитированные фрагменты из «Законов», в том числе 896 d/e: «душа, правящая всем и во всем обитающая, что многообразно движется…».
Сравните эти фрагменты также с теми, где «природа» и «душа» совершенно определенно рассматриваются в качестве синонимов: «Государство», 485 а/b, 485 е/486 а и d, 486 b («природа»); 486 b и d («душа»), 490 е/491 а («природа» и «душа»), 491 b («природа» и «душа») и многие другие (см. также прим. Адама к 370 а 7). Родство непосредственно постулируется в 490 b (10). О родстве между «природой», «душой» и «расой» см. 501 е, где имеющееся в аналогичных фрагментах выражение «философские натуры» или «души» заменяется выражением «племя философов».
Имеется родство также между «душой» или «природой» и общественным классом или кастой, (см., например, «Государство», 435 b). Связь между кастой и расой фундаментальна, так как с самого начала (415 а) каста отождествляется с расой.
В «Законах» 648 d, 650 b, 655 е, 710 b, 766 а, 875 с «природа» используется в том же смысле, что и «талант» или «свойства души». Первичность и превосходство души над искусством утверждается в «Законах», 889 а и след. Термин «природное» в смысле «правильное» или «истинное» употребляется в «Законах», 686 d, 818 е.
5.24
См. фрагменты, процитированные в прим. 32 (1) (а) и (с) к гл. 4.
5.25
Сократовская концепция автаркии упоминается в «Государстве», 387 d/e (см. также «Апологию Сократа», 41 с и след., и примечание Адама к «Государству», 387 d 25). Это один из тех немногих платоновских отрывков, которые, отражая учение Сократа, находятся в прямом противоречии с основной доктриной «Государства», как это было показано в тексте (см. также прим. 36 к гл. 6 и соответствующий текст). В этом можно убедиться, сравнив цитируемый отрывок с 369 с и след., а также со множеством других фрагментов.
5.26
См., например, отрывок, процитированный в тексте к прим. 29 к гл. 4. О «редких и необычных натурах» см. «Государство», 491 а/b и многие другие отрывки, например «Тимей», 51 е: «ум есть достояние богов и лишь малой горстки людей». Об «общественном окружении» см. 491 d (см. так же гл. 23).
Если Платон (а также Аристотель — см., в частности, прим. 4 к гл. 11 и соответствующий текст) был убежден в том, что физический труд ведет к вырождению, то Сократ, по-видимому, придерживался совершенно иной точки зрения (см. Ксенофонт. Воспоминания, II, 7, 7-10. Рассказ Ксенофонта до некоторой степени подтверждается отношением к физическому труду Антисфена и Диогена; см. также прим. 56 к гл. 10).
5.27
См., в частности, «Теэтет», 172 b (см. также комментарий Корнфорда к этому отрывку в книге: F. M. Cornford Plato's Theory of Knowledge). См. также прим. 7 к настоящей главе. Наличие элементов конвенционализма в учении Платона, возможно, способно объяснить, почему среди тех, кому еще были доступны труды Протагора, некоторые указывали на сходство его учения и платоновского «Государства» (см. Диог. Л., III, 37). Теория договора Ликофрона обсуждается в прим. 43-45 к гл. 6 (особенно в прим. 46) и в соответствующих местах текста.
5.28
См. «Законы», 690 b/с, а также прим. 10 к настоящей главе. О пиндаровском натурализме Платон упоминает также в «Горгии», 484 b, 488 b и в «Законах», 714 а, 890 а. О противоположности между «внешним побуждением» и «свободным действием» или «природой» см. «Государство», 603 с, и «Тимей», 64 d. (См. также отрывок из «Государства», 466 c-d, который цитируется в прим. 30 к настоящей главе.)
5.29
См. «Государство», 369 b-с. Это — основная часть теории договора. Следующая цитата, представляющая собой первое выражение принципа натурализма, на котором основано совершенное государство, приводится по 370 a/b-с. (О натурализме в «Государстве» впервые говорит Главкон в отрывке 358 е и след., при этом он, однако, излагает натуралистское учение, с которым Платон не мог бы согласиться.)
(1) О дальнейшем развитии натуралистского принципа разделения труда, а также о том, какую роль этот принцип играл в платоновской теории справедливости, см., в частности, текст к прим. 6, 23 и 40 к гл. 6.
(2) Современная радикальная версия принципа натурализма отражена в формуле коммунистического общества Маркса (который воспринял ее от Луи Блана): «Каждый по способностям, каждому по потребностям!» (см. E. Burns. Handbook of Marxism, 1931, p. 752; (МЭ, 19; 20) см. также прим. 3 к гл. 13, прим. 48 к гл. 24 и соответствующие места текста).
Что касается исторических корней «коммунистического принципа», то следует обратить внимание на платоновскую максиму «друзья сообща владеют всем, что имеют» (см. прим. 36 к гл. 6 и соответствующий текст; платоновский коммунизм рассматривается также в прим. 34 к гл. 6 и в прим. 30 к гл. 4, а также в соответствующих местах текста) и сравнить ее со словами из «Деяний святых Апостолов»: «Все же верующие были вместе и имели все общее… и разделяли всем, смотря по нужде каждого» (2, 44-45). — «Не было между ними никого нуждающегося… и каждому давалось, в чем кто имел нужду» (4, 34-35).
5.30
См. прим. 23 и соответствующий текст. Цитаты в этом абзаце приводятся из «Законов»: (1) 889 a-d (см. очень схожий отрывок в «Теэтете», 172 b); (2) 896 с-е; (3) 890 е/891 а.
К сказанному в следующем абзаце (о моем убеждении, что платоновский натурализм не способен решить ни одной практической проблемы) в качестве иллюстрации можно добавить следующее. Многие натуралисты полагают, что мужчины «по природе» отличаются от женщин как в физическом, так и в духовном отношении, и что поэтому в общественной жизни им надлежит выполнять различные функции. Платон, однако, использует натуралистскую аргументацию для доказательства прямо противоположного тезиса, так как, говорит он, разве сучки хуже кобелей сторожат дом и охотятся? «Остаются ли женщины в городе или идут на войну, — пишет Платон, — они вместе с мужчинами несут сторожевую службу, вместе и охотятся подобно собакам… Такая их деятельность и является наилучшей и ничуть не противоречит природе отношений между самцами и самками». (См. также текст к прим. 28 к настоящей главе; о собаке как идеальном страже см. гл. 4, в особенности прим. 32 (2) и соответствующий текст.)
5.31
Краткая критика биологической теории государства дана в прим. 7 к гл. 10 и в соответствующем месте текста. Восточное происхождение этой теории показано в работе Р. Айслера (R. Eisler. Revue de Synthese Historique, vol. 41, p. 15).
5.32
Некоторые применения и следствия политической теории души Плато на рассматриваются в прим. 58-59 к гл. 10 и в соответствующем месте текста. Принципиальная методологическая аналогия между городом-государством и индивидуумом упоминается в «Государстве», 368 е, 445 с, 577 с. О принадлежащей Алкмеону политической теории человеческой личности или человеческой психологии см. прим. 13 к гл. 6.
5.33
См. «Государство», 423 b и d.
5.34
Эта и следующая цитаты взяты из книги Дж. Гроута (G. Grote. Plato and the Other Companions of Socrates. 1875, vol. III, 124). Основные фрагменты «Государства» таковы: 439 с и след. (история Леонтия), 571 с и след. (о звероподобном и разумном началах души), 588 с (о многоголовом звере; ср. со «Зверем», которого символизирует число Антихриста и о котором говорится в «Откровении Иоанна Богослова», 13, 17 и 18); 603 d и 604 b (о человеке, воюющем с собой). См. также «Законы», 689 а-b и прим. 58-59 к гл. 10.
5.35
См. «Государство», 519 е и след. (см. также прим. 10 к гл. 8). Следующие две цитаты взяты из «Законов», 903 с. (Я изменил их порядок.) Следует отметить, что «целое» («pan» или «holon»), о котором говорится в этих отрывках, является не государством, а миром, хотя несомненно, что в фундаменте этого космологического холизма лежал политический холизм — см. «Законы», 903 d-e (где врачи и ремесленники уподобляются политикам). Поэтому часто, употребляя слово «holon» (особенно во множественном числе), Платон имел в виду как «мир», так и «государство». Первый (в моем порядке цитирования) из этих двух отрывков является сжатым изложением фрагмента «Государства», 420 b-421 с, а второй — «Государства», 520 b и след. («А вас родили мы, для вас же самих и для остальных граждан»). Другие отрывки, касающиеся холизма или коллективизма, приводятся из «Государства», 424 а, 449 е, 462 а и след., и из «Законов», 715 b, 739 с, 875 а и след., 903 о, 923 b, 942 а и след. (См. также прим. 31/32 к гл. 6). Относительно замечания в этом абзаце о том, что Платон рассматривал государство как организм, см. «Государство», 462 с и «Законы», 964 е, где государство даже уподобляется человеческому телу.
5.36
См. «Государство», т. II, 303 в издании Адама. См. также прим. 3 к гл. 4 и текст.
5.37
Этот пункт подчеркивает Адам (Adam, op. cit.) в прим. 546 a, b 7 и pp. 288 и 307. Следующая цитата в этом абзаце взята из «Государства», 546 а. См. также «Государство», 485 а/b, фрагмент, процитированный в прим. 26 (1) к гл. 3 и тексте к прим. 33 к гл. 8.
5.38
В этом пункте я вынужден не согласиться с интерпретацией Адама. Я считаю, что Платон хотел показать в книгах VI-VII «Государства», что философ-правитель, интересующийся главным образом несотворенными и неуничтожимыми вещами («Государство», 485 b; см. последнее примечание к настоящей главе и соответствующее место текста), получив математическое и диалектическое образование, приобретает знание о платоновском числе, которое позволит ему задержать социальное вырождение и развал государства. См., в частности, текст к прим. 39.
Цитаты в этом абзаце приводятся: «сословие стражей должно быть чистым» — из «Государства», 460 с, см. также текст к прим. 34 к гл. 4; «Трудно пошатнуть государство…» — 546 а.
О различии между рациональным знанием и обманчивым мнением, основанным на ощущениях и опыте, в математике, акустике и астрономии см. «Государство», 523 а и след., 525 d и след. (где обсуждаются «рассуждения», см. также 526 а), 527 d и след., 529 b и след., 530 а и след. (вплоть до 534 а и 537 d); см. также 509 d-511 е.
5.39
Меня упрекали за то, что я «добавил» несколько слов (которые я употреблял без кавычек) «без достаточных на то оснований». Однако, если принять к сведению то, что сказано в фрагменте «Государства», 523 а-537 d, то, на мой взгляд, упоминание об «ощущении» подразумевает именно такое противопоставление. Цитаты в этом абзаце приводятся из «Государства», 546 b и след. Следует обратить внимание, что в этом отрывке устами «Сократа» говорят «музы».
В моем пересказе Истории падения и числа я старательно избегал трудной, нерешенной и, возможно, неразрешимой проблемы определения самого числа (Платон не выдал нам секрета ее решения). Моя интерпретация этой проблемы ограничивается лишь отрывками, непосредственно предшествующими описанию числа и следующими за ним. Несмотря на то, что эти отрывки кажутся мне достаточно прозрачными, моя интерпретация их, насколько я могу судить, отличается от их истолкования другими авторами.
(1) Эта интерпретация основана, главным образом, на том, что (А) воспитатели используют «рассуждения, основанные на ощущении», (В) что «они ничуть не больше других людей будут способны установить наилучшую пору для плодоношения», (С) что «они станут рожать детей в неурочное время» и (D) что «этого им не постичь».
Что касается фрагмента (A), то всякому внимательному читателю Платона должно быть ясно, что упоминание об ощущении является здесь намеренным выражением критики в адрес рассматриваемого метода. Такое истолкование этого фрагмента (546 а и след.) подтверждается тем, что незадолго до этого (523 а-537 d) Платон уделил немало внимания противоположности между чистым рациональным знанием и мнением, основанным на ощущении, употребляя понятие «рассуждение» в контексте, подчеркивающем противоположность между рациональным знанием и опытом и придающем термину «ощущение» (см. также 511 c/d) технический и уничижительный смысл. (См. также, как выражается эта противоположность у Плутарха в «Жизнеописании Марцелла», 306.) Поэтому я придерживаюсь мнения, основанного на истолковании контекста этого фрагмента, а также фрагментов (В), (С) и (D), что отрывком (А) Платон хотел сказать, (а) что «рассуждения, основанные на ощущении», являются дурным методом и (b) что существуют лучшие методы, а именно — методы математики и диалектики, способные дать нам чистое рациональное знание. То, что я утверждаю здесь, кажется мне настолько очевидным, что мне было бы жаль усилий, затраченных на доказательство верности моего истолкования, если бы даже такие ученые, как Адам, не упустили этого момента. В примечании к 546 a, b 7 Адам истолковывает платоновское «рассуждение» как упоминание о стоящей перед правителями задаче определения количества разрешаемых ими браков, а «ощущение» — как средство, при помощи которого они «решали, кто и с кем должен сочетаться браком, как следует воспитывать детей» и т. д. Иначе говоря, Адам считает эти слова Платона простым описанием, а не полемическим выпадом против дурной эмпирической методологии. Соответственно, он не обращает внимания на отрывок (С), где говорится, что люди «станут рожать детей в неурочное время», и на отрывок (D), где правители упрекаются в неведении того, что они используют эмпирические методы. (Замечание (В) о том, что «они будут не способны установить наилучшую пору для плодоношения», в интерпретации Адама вообще должно было оставаться непереведенным.)
При интерпретации этого отрывка следует иметь в виду, что в книге VIII «Государства» непосредственно перед рассматриваемым фрагментом Платон возвращается к проблеме первого города-государства, которая обсуждалась в книгах II-IV. (См. примечания Адама к 449 а и след. и к 543 а и след.) Однако воспитатели этого города не были ни математиками, ни диалектиками. Поэтому они не имели ни малейшего представления о чисто рациональных методах, столь превозносимых в книге VII, 525-534. В этой связи значение упоминания о непригодности ощущений и использования эмпирических методов не может подвергаться сомнению.
Утверждение (В), согласно которому правители «ничуть не больше других людей будут способны установить… наилучшую пору плодоношения и, напротив, время бесплодия», в моей интерпретации оказывается совершенно прозрачным. Поскольку правителям было известно лишь об эмпирических методах рассуждений, то лишь по счастливой случайности они могли бы натолкнуться на метод, использующий математические или иные рациональные приемы. Адам предлагает переводить этот отрывок следующим образом: «тем более не смогут они рассуждениями и ощущениями установить пору плодоношения», лишь в скобках замечая «букв, "натолкнуться"». Я полагаю, что его непонимание употребления именно слова «натолкнуться» в этом контексте обусловлено его непониманием направленности фрагмента (А).
Предлагаемая мною интерпретация делает совершенно понятными и фрагменты (С) и (D) и замечание Платона о том, что человеческим потомством управляет совершенное число. Следует отметить, что Адам никак не комментирует фрагмент (D), хотя ему и следовало бы это сделать в свете его теории о том (см. его примечание к 546 d 22), что это число «не является брачным числом» и ему не следует приписывать евгенический смысл.
То, что число на самом деле относится к техническим проблемам евгеники видно из того, что отрывок с упоминанием о числе находится между двумя фрагментами, в которых содержатся рассуждения о евгеническом знании, точнее — о недостатке такого знания. Непосредственно перед этим отрывком мы читаем фрагменты (A), (В) и (С), а вслед за ним — фрагмент (D) и замечание о стражах и их недостойных потомках. Кроме того, фрагмент (С) и фрагмент (D), обрамляющие рассказ о числе, взаимно дополняют друг друга, потому что в (С) говорится о неспособности правителей «установить наилучшую пору для плодоношения», а в (D) — об их невежестве, связанном с тем, что они «не в пору сведут невест с женихами». (См. также следующее примечание.)
И, наконец, я хотел бы аргументировать мое убеждение в том, что те, кому известно число, приобретают способность управлять процессами «плодоношения». Конечно из этого не следует, что Платон полагал, будто само число обладает такой властью, так как, если Адам прав, то оно должно определять неизменный период времени, после которого наступает эпоха вырождения. Однако я полагаю, что упоминание Платона об «ощущениях», «неспособности» и «невежестве» как о непосредственных причинах евгенических ошибок не имело бы смысла, если бы он не считал, что стражи могли бы их избежать, если бы знали о правильных математических и чисто рациональных методах рассуждения. Из этого с необходимостью следует, что числу на самом деле приписывался технический евгенический смысл и что знание числа было ключевым для задержки процессов вырождения. (Этот вывод вполне согласуется с тем, что нам известно о древних суевериях. Так, все астрологические учения основаны на достаточно противоречивом убеждении в том, что знание о нашем будущем может помочь нам повлиять на него.)
Я полагаю, что отказ от моего объяснения тайны числа как суеверия связанного с брачными периодами, проистекает из нежелания признавать, что Платон мог высказывать столь грубые идеи, как бы ясно он их ни выражал. Иначе говоря, оно коренится в тенденции к идеализации Платона.
(2) В этой связи я хотел бы обратиться к одной статье А. Тейлора (А Е. Taylor. The Decline and Fall of The State in «Republic», VIII // Mind, New Series, 48, 1939, p. 23 и след.). В этой статье Тейлор критикует Адама (как мне кажется, несправедливо), выдвигая против него следующие аргументы: «Действительно, Платон в отрывке 546 b говорит о том, что закат идеального государства начинается, когда правящий класс "рожает детей в неурочное время"… Это, однако, может не означать и, по моему мнению, не означает, что Платон здесь озабочен проблемами половой гигиены. Главная мысль Платона в этом случае проста и заключается в том, что если государство, как и все, сотворенное человеком, содержит в себе семена своего собственного краха, то рано или поздно люди, наделенные верховной властью, будут хуже своих предшественников» (р. 25). Эта интерпретация, как мне кажется, не только неверна в свете совершенно недвусмысленных утверждений Платона, но и представляет собой типичный образчик попытки изъять из диалогов Платона такие нежелательные элементы, как расизм и суеверие. Сначала Адам отрицал, что число имело отношение к евгенической практике, утверждая, что оно представляло собой не «брачное число», а обыкновенный космологический период. Теперь Тейлор возражает вообще против того, что Платон здесь имеет в виду проблемы «половой гигиены». Однако этот платоновский отрывок настолько насыщен намеками на эту сферу, что сам Тейлор был вынужден двумя страницами ранее (р. 23) отметить, что «нет никаких указаний на то», что число «определяет не брачные циклы», а что-либо иное. Кроме того, «проблемам половой гигиены» посвящен не только упомянутый отрывок, но практически все «Государство» (а также «Политик», см. особенно 310 b, 310 е). Теория Тейлора, согласно которой Платон, говоря о «человеческой твари» (или, в переводе Тейлора, «вещи искусственного происхождения»), имеет в виду государство, желая сказать о том, что государство является продуктом человеческого законодателя, по моему мнению, ничем не подтверждается в платоновских диалогах. Рассматриваемый отрывок начинается с упоминания о порожденных и распадающихся вещах вечно текущего чувственного мира (см.прим. 37 и 38 к настоящей главе), а заканчивается обсуждением особенностей живых существ, растений и животных и их родовых, расовьис проблем. К тому же «вещь, сотворенная человеком» означает для Платона в этом контексте «искусственную» вещь, «дважды удаленную» от реальности (см. текст к прим. 20-23 к настоящей главе, а также всю книгу X «Государства» вплоть до фрагмента 608 b). Платон никогда не стал бы придавать выражению «вещь, сотворенная человеком» смысл совершенного, «естественного» государства. Это выражение, скорее, обозначает у него нечто низменное (вроде поэзии — см. прим. 39 к гл. 4). Фраза, которую Тейлор переводит как «вещь, сотворенная человеком» (thing of human generation), обычно переводится как «человеческое существо» (human creature), что снимает все трудности в интерпретации этого отрывка.
(3) Если моя интерпретация рассматриваемого отрывка соответствует действительности, то можно связать убежденность Платона в неумолимости процесса расового вырождения с теми его многочисленными высказываниями, где он говорит о необходимости удержания фиксированного количества членов правящего класса (что указывает на понимание Платоном-социологом нежелательных последствий роста народонаселения). Образ мышления Платона, который описывается в конце настоящей главы (см. текст к прим. 45, а также прим. 37 к гл. 8), и в частности то, как он относится к Одному монарху, тимократическим Немногим правителям и к Большинству, которое для него не более чем толпа, мог привести его к выводу о том, что увеличение количества населения означает ухудшение его качества. (Нечто в этом роде действительно говорится в «Законах», 710 d.) Если эта гипотеза верна, то он легко мог перейти к заключению, что рост народонаселения взаимосвязан и, возможно, даже обусловлен расовым вырождением. Поскольку рост народонаселения на самом деле был одной из главных причин нестабильности и распада ранних греческих племенных сообществ (см. прим. 6, 7 и 63 к гл. 10 и соответствующий текст), то эта гипотеза может объяснить, почему Платон (в полном соответствии с его фундаментальной теорией «природы» и «изменений») полагал, что «подлинной» причиной распада греческих городов-полисов было расовое вырождение.
5.40
(1) Адам полагает (см. его прим. к 546 d 22), что вместо «не в пору» следует переводить «несвоевременно». Замечу, что суть моей интерпретации от этой замены не меняется: она полностью остается в силе и при переводе «не в пору», и «неправильно», и при переводах «несвоевременно», или «не в сезон». (У Платона в тексте эта фраза означает нечто вроде «противное правильной мере». Обычно ее переводят как «не в пору».)
(2) Платоновские замечания, касающиеся «смешивания» или «примешивания», отражают, по-видимому, то, что он верил в примитивную, но популярную в его время теорию наследственности (которой и до сих пор придерживаются некоторые селекционеры). Согласно этой теории, свойства потомства определяются смесью характеров или «натур» обоих родителей, а сами эти характеры или свойства (выносливость, реакция и т.п., а также в соответствии с «Государством», «Политиком» и «Законами» благородство, мужество, искренность и самоограничение) смешиваются в человеке пропорционально количеству предков (дедушек, прадедушек и т. д.), которые обладали этими качествами. Поэтому искусство селекции состоит в разумном, научном (математическом или гармонизирующем) смешивании натур. См., в частности, «Политик», где царское искусство пасти человеческое стадо уподобляется искусству ткачества, при котором царственный ткач должен научиться увязывать искренность с самоограничением. (См. также «Государство», 375 с-е, 410 с и след.; «Законы», 731 b и прим. 34 к гл. 4, а также прим. 13 и 39 к гл. 8 и соответствующий текст.)
5.41
О платоновском законе социальных революций см. особенно прим. 26 к гл. 4 и соответствующий текст.
5.42
Термин «метабиология» используется Дж. Б. Шоу в том же смысле, т.е. для обозначения формы религии (см. предисловие к «Назад к Мафусаилу» (G. В. Shaw. Back to Methuselah), см. также прим. 66 к гл. 12).
5.43
См. прим. Адама к «Государству», 547 а 3.
5.44
Критика того, что я называю «психологизмом» в методе социологии, находится в тексте к прим. 19 к гл. 13 и в гл. 14, где обсуждается все еще популярный методологический психологизм Милля.
5.45
Часто говорят, что платоновские мысли нельзя втискивать в «систему»; поэтому, вероятно, вызовет критику предпринятая мною в этом абзаце (и не только в нем) попытка показать систематическое единство платоновских мыслей, основанных, очевидно, на пифагорейской таблице противоположностей. Однако мне такая систематизация представляется необходимой проверкой правильности моей интерпретации философии Платона. Ошибаются те, кто считает, что интерпретация не нужна и что они могут «узнать» философа или его работу, рассматривая его просто «как такового» или его работу просто «как таковую». Они не могут обойтись без интерпретации и человека, и его работы, однако, не осознавая того факта, что на их взгляды повлияла традиция, темперамент и т.п., неизбежно оказываются во власти наивной и некритической интерпретации (см. также гл. 10, прим. 1-5 и 56, и гл. 25). Критическая же интерпретация должна выполнять роль рациональной реконструкции и должна быть систематической. Критическая интерпретация должна попытаться воссоздать мышление философа в виде стройного здания. См. также, что А. Юинг говорит о Канте (А С. Ewing. A Short Commentary on Kant's Critique of Pure Reason, 1938, p. 4): «…следует прежде всего допустить, что великий философ вряд ли всегда себе противоречит, а значит, если имеются две интерпретации Канта, одна из которых противоречива, а другая нет, следует, если только возможно, предпочесть вторую». Безусловно, это относится и к Платону, и вообще к любой интерпретации.
Примечания к главе 6
6.1
См. прим. 3 к гл. 4 и соответствующий текст, особенно окончание абзаца. См. также прим. 2 (2) к гл. 4. Что касается призыва «Назад к природе!», то мне бы хотелось привлечь внимание читателей к тому факту, что Руссо испытал огромное влияние Платона. Действительно, имеются аналогии между «Общественным договором» и прокомментированными в предыдущей главе отрывками из работ Платона, посвященными натурализму (см. особенно прим. 14 к гл. 9). Так же интересно сходство между «Государством», 591 а и след. (и «Горгием», 472 е и след., где близкая идея встречается в индивидуалистском контексте) и знаменитой теорией наказания Руссо (и Гегеля). Э. Баркер (Е. Barker. Greek Political Theory, I, 388 и след.) верно подмечает влияние Платона на Руссо. Однако он не заметил значительного элемента романтизма у Платона. Кроме того, часто недооценивается тот факт, что сельский романтизм, повлиявший как на Францию, так и на Англию времен Шекспира посредством «Аркадии» Я. Санаццаро (J. Sanazzaro. Arcadia), имеет своим источником платоновские описания дорийских пастухов (см. прим. 11 (3), 26 и 32 к гл. 4, а также прим. 14 к гл. 9).
6.2
R. H. Crossman. Plato Today, 1937, p. 132; следующая цитата взята из этой же книги, р. 111. Эта интересная книга (так же, как и работы Дж. Гроута и Т. Гомперца) в значительной мере меня воодушевила, так что я смог развить свои довольно-таки неортодоксальные взгляды на Платона и показать, к каким неожиданным следствиям они могут нас привести. Цитаты из Ч. Джоуда взяты из его книги С. Е. A/. Joad. Guide to the Philosophy of Morals and Politics, 1938, pp. 661 и 660. Я хочу также сослаться на очень интересные замечания относительно платоновского подхода к справедливости, сделанные К. Л. Стивенсоном — см. С. L. Stevenson. Persuasive Definitions // Mind, New Series, vol. 47, 1938, pp. 331 и след.
6.3
R. H. S. Crossman, op. cit., p. 132 и след. Следующие две цитаты взяты из работы Дж. Филда: G. С. Field. Plato, etc., p. 91. Аналогичные замечания содержатся также в работе Э. Баркера: Е. Barker. Greek Political Theory, etc. (см. также прим. 13 к гл. 5).
Идеализация Платона сыграла немалую роль в спорах о подлинности ряда приписываемых ему работ. Некоторые критики отрицали авторство Платона лишь на том основании, что в вызывавших сомнения работах содержались фрагменты, не соответствовавшие их идеализированному взгляду на Платона. Наивное и в равной степени типичное выражение этой установки можно найти во «Вводной статье» Дж. Дэвиса и Ч. Э. Воэна к «Государству» Платона (J. L. Davies, С. Е. Vaughan. Introductory Notice) (сравните,е другим изданием «Государства» — «Republic», Golden Treasury ed., p. VI): «Усердствуя в своем стремлении свергнуть Платона со сверхчеловеческого пьедестала, Дж. Гроут готов приписать ему сочинения, которые уже признаны недостойными этого божественного философа». Авторам, вероятно, не приходит в голову, что их суждение о Платоне должно было бы зависеть от написанных им трудов, а не наоборот. Кроме того, если эти сочинения подлинны и недостойны Платона, то его вряд ли можно считать божественным философом. (О божественности Платона см. Simplicius. Arist. de coelo, 32 b 44, 319 a 15 и след.)
6.4
Условие (а) соотносимо с кантовским, при котором справедливый государственный строй описывается как «государственный строй, основанный на наибольшей человеческой свободе согласно законам, благодаря которым свобода каждого совместима со свободой всех остальных» (I. Kant. Critique of Pure Reason2, p. 373; русский перевод: : И. Кант. Сочинения в шести томах. М., Мысль, 1964, т. 3, с. 351). См. также его «Метафизику нравов», в которой он говорит: «Право — это совокупность условий, при которых произвол одного [лица] совместим с произволом другого с точки зрения всеобщего закона свободы» (русский перевод: там же, т. 4, ч. 2, с. 139). Кант полагал, что именно это было целью Платона в «Государстве». Из этого можно понять, что Кант — один из многих философов, или идеализировавших Платона, приписывавших ему свои собственные гуманистические идеи, или обманутых им. В этой связи я могу заметить, что в английских и американских работах по политической философии (за исключением W. Hastie. Kant's Principles of Politics) пылкий либерализм Канта ценится очень мало. Его слишком часто представляют предшественником Гегеля, однако по отношению к Канту это совершенно несправедливо, если учесть тот факт, что он понял, что романтизм и Гердера, и Фихте — это учения, диаметрально противоположные его собственному, не говоря уже о том, что оценка философии Гегеля как последователя Канта несомненно привела бы его в негодование. Я полагаю, что только огромное влияние гегельянства смогло привести к широкому распространению этой неприемлемой точки зрения.
6.5
См. текст к прим. 32/33 к гл. 5.
6.6
См. текст к прим. 25/29 к гл. 5. Приведенные в данном абзаце цитаты взяты из «Государства»: (1) 433 а; (2) 434 а/b; (З) 441 d. С утверждением Платона из первой цитаты — «Мы установили…» сравните также «Государство», 397 е, где тщательно подготавливается изложение теории справедливости, и, конечно, фрагмент из «Государства», 369 b-с, процитированный в тексте к прим. 29 к гл. 5. См. также прим. 23 и 40 к настоящей главе.
6.7
Как отмечалось в главе 4 (прим. 18 и соответствующий текст, а также прим. 29), Платон немного говорит в «Государстве» о рабах, хотя то, что он говорит, достаточно важно. Однако все сомнения по поводу его установки относительно рабства развеиваются в «Законах» (см. особенно статью Г. Морроу, на которую мы ссылались в прим. 29 к гл. 4 — G. R. Morrow. Plato and Greek Slavery // Mind, N.S., vol. 48, pp. 186-201, 402).
6.8
Цитаты взяты из работы Э. Баркера (Е. Barker. Greek Political Theory, I, p. 180). Баркер утверждает (р. 176 и след.), что «платоновская справедливость» — это «социальная справедливость», и верно отмечает ее холистскую природу. Он замечает (р. 178 и след.), что возможна критика этого определения, связанная с тем, что эта формула «не… затрагивает сущности того, что люди обычно подразумевают под этим словом», т.е. «принцип, позволяющий преодолеть столкновение воль», иначе говоря, справедливость в применении к личностям. Однако он полагает, что «такое возражение не относится к делу» и что платоновская идея — это «понятие социальной морали», не имеющее отношения к закону (р. 179). Более того, он утверждает, что такое понимание справедливости в определенном смысле соответствовало современным Платону древнегреческим идеям справедливости: «Определяя так справедливость, Платон не ушел далеко от идей, бытовавших в Древней Греции». Баркер даже не упоминает о том, что существуют свидетельства об обратном, — подобные тем, которые мы обсудим в следующих примечаниях и в тексте.
6.9
См. «Горгий», 488 е и след. Более полно этот фрагмент процитирован и рассмотрен в разделе VIII этой главы (см. прим. 48 к этой главе и текст). Об аристотелевской теории рабства см. прим. 3 к гл. 11 и текст. В данном абзаце цитаты из Аристотеля взяты из следующих сочинений: (1) и (2) «Никомахова этика», V, 4, 7 и 8; (3) «Политика», III, 12, 1 (1282b; см. также прим. 20 и 30 к настоящей главе. Этот отрывок содержит упоминание «Никомаховой этики»); (4) «Никомахова этика», V, 4, 9; (5) «Политика», IV (VI), 2, 1 (1317b). В «Никомаховой этике», V, 3, 7 (см. также «Политику», III, 9, 1; 1280а) Аристотель также замечает, что значение слова «справедливость» неодинаково в демократическом, олигархическом и аристократическом государствах, причем различия соответствуют различному пониманию того, что такое «заслуга».
(Следующий далее текст до конца примечания 9 был впервые добавлен к американскому изданию 1950 года.)
О взглядах Платона на политическую справедливость и равенство, как они изложены в «Законах», см. особенно фрагмент о двух видах равенства («Законы», 757 b-d), цитируемый далее в пункте (1). О том, что при распределении почестей и наказаний следует учитывать не только добродетели и воспитанность, но и здоровье (и даже рост и благообразность), см. «Законы», 744 с. Этот отрывок процитирован в прим. 20 (1) к настоящей главе, где рассмотрены и другие фрагменты, затрагивающие данную тему.
(1) В «Законах», 757 b-d Платон анализирует «два вида равенства». Прежде всего Платон пишет: «Из этих двух видов первому может отвести почетное место всякое государство и всякий законодатель, руководя его распределением с помощью жребия: таково равенство меры, веса, числа. Но любому человеку нелегко усмотреть самое истинное и наилучшее равенство… Большему оно уделяет больше, меньшему — меньше, каждому даря то, что соразмерно его природе. Особенно большой почет воздает оно всегда людям наиболее добродетельным; противоположное же — тем, кто меньше преуспел в добродетели и воспитанности. Каждому оно разумно дарит надлежащее. У нас все относящееся к государственному устройству постоянно совпадает со справедливостью… Если кто-то когда-нибудь будет устраивать другое государство, то и ему надо будет издавать законы, постоянно имея в виду именно это — справедливость… В этом-то и заключается только что высказанная нами мысль о равенстве, установленном в каждом отдельном случае для неравных согласно природе» (курсив частично мой). Второй вид равенства соответствует тому, что Платон называет «политической справедливостью», а Аристотель — «распределительным правом». Этот вид равенства Платон и Аристотель описывают как «пропорциональное равенство» — самое истинное, самое естественное и самое лучшее равенство. Позже Платон назвал его «геометрическим» равенством («Горгий», 508 а; см. также 465 b/с и Плутарх. Moralia, 719 b и след.) в противоположность более низкому и демократическому «арифметическому» равенству. Понимание этих видов равенства поясняется в (2).
(2) Традиционно считается (см. Comm. in Arist. Graeca, pars XV, Berlin, 1879, p. 117, 29; pars XVIII, Berlin, 1900, p. 118, 18), что изречение у входа в платоновскую Академию гласило: «Да не переступит этого порога тот, кто не искушен в геометрии!». Как мне представляется, этот лозунг не только подчеркивал важность математических исследований, но и означал следующее: «Арифметики (точнее — пифагорейской теории чисел) недостаточно — вы должны знать геометрию!». Я попытаюсь в общих чертах пояснить, почему последняя фраза верно отражает самое важный вклад Платона в науку. См. также «Дополнение I» к тому 1.
Теперь уже общеизвестно, что подход ранних пифагорейцев к геометрии методологически был сходен с тем, что сегодня называют «арифметизацией». Геометрия считалась частью теории чисел (или «натуральных» чисел, т.е. чисел, составленных из монад или «неделимых единиц» — см. «Государство», 525 е) и теории их «λογοι», т.е. «рациональных» отношений. Пифагорейские прямоугольные треугольники, например, могли иметь стороны, отношения между которыми выражались отношениями или пропорциями целых чисел (3:4:5 или 5 : 12 : 13). Общая формула вывода таких пропорций, открытие которой приписывается Пифагору, имеет такой вид:
2n + 1 ÷ 2n (n + 1) ÷ 2n (n + 1) + 1
Однако эта формула, полученная при наблюдении за «гномоном», не является достаточно универсальной, что показывает следующий пример — 8:15:17. Универсальной формулой, из которой выводится пифагорейская путем подстановки m = n + 1, является:
m2 - n2 ÷ 2mn ÷ m2 + n2,
где m > n, а "÷" — знак пропорции.
Поскольку эта формула легко выводится из теоремы Пифагора (применяя некоторые алгебраические приемы, которые, по-видимому, уже были известны ранним пифагорейцам) и поскольку она, очевидно, не была известна не только Пифагору, но и Платону (который, согласно Проклу, вывел другую неуниверсальную формулу), то можно сделать вывод о том, что «теорему Пифагора» в общем виде не знал ни Пифагор, ни даже Платон. (Менее радикальный взгляд на эту проблему изложен в книге Т. Хита: Т. Heath. A History of Greek Mathemathscs, 1921, vol. 1, p. 80-82. Формула, которую я назвал «универсальной», принадлежит Евклиду. Ее можно получить из излишне усложненной формулы, которую Хит приводит на с. 82 своей книги, сначала получив значение длины трех сторон треугольника и умножив полученные результаты на 2/m, а затем произведя замену m на n и p на d.)
Открытие иррациональности значения квадратного корня из двух (об этом открытии Платон упоминает в «Гиппии Большем» и в «Меноне» — см. прим. 10 к гл. 8, а также Аристотель. «Первая Аналитика», 41а 26 и след.) доказало невозможность осуществления пифагорейской программы «арифметизации» геометрии, а вместе с тем, по-видимому, и нежизнеспособность самого пифагорейского Порядка. Сведения о том, что это открытие сначала не подлежало разглашению, подтверждаются тем фактом, что Платон первоначально все еще называл иррациональное термином «αρρητοσ», т.е. секрет, сокровенная тайна — см. «Гиппий Больший», 303 b/с, «Государство», 546 с. (Позднее он стал употреблять термин «несоизмеримость» — см. «Теэтет», 147 с, и «Законы», 820 с. Термин «αλογοσ» впервые появился, по-видимому, у Демокрита, написавшего сочинение из двух книг под названием «Об иррациональных линиях и атомах» или «О несозмеримых линиях и телах», которое было утеряно. Платону был известен термин «αλογοσ», о чем свидетельствует презрительное упоминание названия труда Демокрита в «Государстве», 534 d, но он никогда не использовал его в качестве синонима термину «αρρητοσ». Первое несомненное использование термина «αλογοσ» в этом смысле мы находим у Аристотеля во «Второй Аналитике», 76b 9. См. также книгу Т. Heath, op. cit., vol. I, p. 84 и след., р. 156 и след. и мое «Дополнение I» в конце тома 1.)
Крушение пифагорейской программы арифметизации геометрии привело, по-видимому, к разработке аксиоматического метода Евклида, предназначенного, с одной стороны, спасти от краха то, что еще можно было спасти в математике (в том числе и метод рациональных доказательств), и с другой стороны, ассимилировать факт несводимости геометрии к арифметике. Поэтому весьма вероятно, что Платон сыграл чрезвычайно важную роль в переходе от древнего пифагорейского метода к методу Евклида — фактически, он был одним из первых создателей специфически геометрической методологии, цель которой состояла в покрытии издержек краха пифагореизма. Все это, конечно, следует рассматривать лишь как смелую историческую гипотезу, хотя некоторые аргументы в ее пользу можно найти у Аристотеля во «Второй Аналитике», 76b 9 (об этом фрагменте я уже упоминал ранее), особенно если сравнить этот отрывок с тем, что сказано в «Законах», 818 с, 895 е (о четном и нечетном), 819 е/820 а и 820 с (о несоизмеримости). Аристотель пишет: «Арифметика [исследует], что такое нечетное и четное… геометрия — что такое несоизмеримое» (см. также «Первую Аналитику», 41а 26 и след., 50а 37, и «Метафизику», 983а 20, 1061b 1-3, где проблема несоизмеримости трактуется как принадлежащая к геометрии, и 1089а, где, как и во «Второй Аналитике», 76b 40, есть намек на «Теэтет», 147 d, в котором говорится о свойствах квадрата со стороной в одну стопу.) То, что Платона глубоко интересовала проблема иррациональности, хорошо показывают два упомянутых ранее отрывка: «Теэтет», 147 с-148 а, и «Законы», 819 d-822 d, где он говорит о том, что ему жаль тех греков, которые не дожили до открытия великой проблемы несоизмеримости величин.
Теперь я хотел бы высказать гипотезу о том, что платоновская «теория первичных тел» (см. «Тимей» 53 с-62 с, возможно, даже вплоть до 64 а, а также «Государство», 528 b-d) была одним из средств решения этой проблемы. Эта теория, сохраняя, с одной стороны, пифагорейский атомизм, т.е. учение о неделимых единицах («монадах»), которые фигурировали также и в более поздних атомистических учениях, с другой стороны, ассимилирует иррациональные величины (квадратные корни из двух и трех), так как закрыть глаза на их присутствие в мире было уже невозможно. В этой теории говорится о двух труднопостижимых треугольниках: один из них образуется двумя сторонами и диагональю квадрата и имеет гипотенузу, кратную квадратному корню из двух, а другой получается путем проведения из вершины равностороннего треугольника высоты, длина которой кратна квадратному корню их трех. Учение о том, что эти два иррациональных треугольника являются пределами («περασ» — см. «Менон», 75 d-76 а) или формами всех элементарных физических тел может быть названо одной из центральных физических доктрин «Тимея».
Все это наводит на мысль, что предупреждение, обращенное Платоном ко всем, кто несведущ в геометрии (упоминание об этом можно найти в «Тимее», 54 а), могло иметь достаточно определенную направленность, о которой мы говорили ранее, и что оно могло быть связано с верой в то, что геометрия важнее арифметики (см. «Тимей», 31 с). Это, в свою очередь, могло бы объяснить нам, отчего «равенство отношений» (пропорцию), которое Платон считал более аристократичным, чем демократическое арифметическое или численное равенство, он позднее отождествил с «геометрическим равенством», упоминаемом в «Горгии», 508 а (см. прим. 48 к настоящей главе), а также почему многие (например, Плутарх, loc. cit.) отождествляли арифметику с демократией, а геометрию со спартанской аристократией, вопреки тому почти забытому ныне факту, что пифагорейцы были не менее аристократично настроены, чем сам Платон, и что в их программе главное внимание уделялось арифметике, а термин «геометрическое» на их языке означал некоторый род числовых (т.е. арифметических) отношений.
(3) Для объяснения строения первичных тел в «Тимее» Платон обращается к понятиям элементарного квадрата и элементарного равностороннего треугольника. Эти две фигуры, в свою очередь, составлены из двух различных видов субэлементарных треугольников: полуквадрата, длина одной из сторон которого кратна √2, и половины равностороннего треугольника, длина одной из сторон которого кратна √3. Вопрос, почему Платон избрал именно эти два треугольника, а не квадрат и равносторонний треугольник, широко обсуждался. Исследователей интересовал также вопрос (см. п. (4) далее), почему он строил элементарные квадраты из четырех, а не из двух полуквадратов, а элементарный равносторонний треугольник — из шести, а не из двух субэлементарных треугольников. (См. рис. 1 и 2).
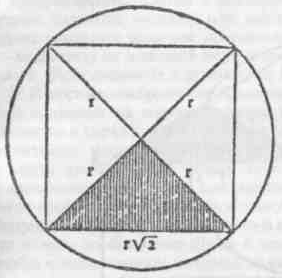
Рис. 1. Платоновский элементарный квадрат, составленный из четырех субэлементарных равнобедренных прямоугольных треугольников
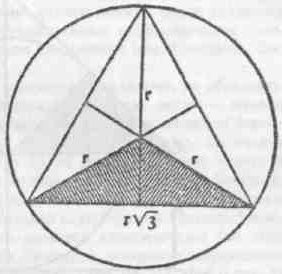
Рис. 2. Платоновский элементарный равносторонний треугольник, составленный из шести субэлементарных неравнобедренных треугольников
Как мне кажется, большинство исследователей не сумели понять того, что Платон, горячо интересуясь проблемой иррациональности, не стал бы вводить две иррациональные величины √2 и √3 (о которых он отчетливо говорит в отрывке «Тимей», 54 b) в свои субэлементарные треугольники, если бы он не стремился использовать именно эти иррациональные величины в качестве неделимых далее элементов его мира (Ф. Корнфорд — см. F. M. Cornford. Plato's cosmology, pp. 214, 231 и след. — долго обсуждает оба эти вопроса, однако предлагаемое им общее решение — «гипотеза», как он называет его (р. 234) — кажется мне неприемлемым. Если бы Платон действительно хотел получить некоторую «градацию» вроде той, о которой говорит Корнфорд — хотя у Платона нигде не упоминается о существовании чего-то меньшего, чем то, что Корнфорд называет «уровнем В», — то ему было бы достаточно разделить пополам стороны элементарных квадратов и равносторонних треугольников, построив элементы «уровня В» Корнфорда из четырех элементарных фигур, не содержащих иррациональных величин.) Однако, если Платон хотел привнести эти иррациональные величины в мир в качестве сторон субэлементарных треугольников, из которых состоят все вещи, то он, должно быть, полагал, что способен тем самым решить проблему «природы (соизмеримости и) несоизмеримости» («Законы», 820 с). Несомненно, что эту проблему было почти невозможно решить на основе той или иной разновидности атомистической космологии, поскольку иррациональные величины не могут быть выражены множеством каких-либо единиц, предназначенных для счета рациональных чисел. Однако, если сами единицы измерения будут выражены отрезками, находящимися в «иррациональных отношениях», то этого величайшего парадокса можно будет избежать: ведь такими единицами смогут быть измерены как рациональные, так и иррациональные величины, а потому существование иррациональных величин больше не будет казаться непостижимым или «иррациональным».
Платону было известно, что существуют и другие иррациональные величины, помимо √2 и √3. В «Теэтете» он говорит об открытии бесконечной последовательности иррациональных квадратных корней (в отрывке 148 b он говорит также и о том, что эти соображения могут быть применены «и для объемных тел», однако это не обязательно должно относиться к кубическим корням: возможно, здесь Платон имел в виду длину диагонали куба, кратную √3). В «Гиппии Большем» (303 b-с, см. также: Т. Heath, op. cit., p. 304) он упоминает о том, что путем сложения или применения других арифметических правил к иррациональным величинам могут быть получены другие иррациональные величины, а также рациональные числа. Платон, вероятно, имеет в виду, что, например, величина, задаваемая выражением 2 - √2 является иррациональной, а поэтому сложение этой величины с √2 будет давать, конечно, рациональное число). Очевидно, что если Платон хотел решить проблему иррациональности путем использования изобретенных им элементарных треугольников, то он должен был полагать, что все иррациональные величины (или, по крайней мере, кратные им числа) могут быть получены путем сложения и умножения (а) единиц, (b) √2 и (с) √3.
Конечно же, это было ошибочное утверждение, однако во времена Платона не могло еще существовать доказательства его ошибочности, а утверждение, что существуют только два вида атомарных иррациональных величин (а именно — длины диагоналей квадрата и куба с единичными сторонами) и что все другие иррациональные величины арифметически выводимы из (а) единиц (b) √2 и (с) √3 , могло казаться достаточно правдоподобным, если учесть относительный характер иррациональных величин. (Я имею в виду, что можно назвать иррациональной и диагональ квадрата с единичной стороной и сторону квадрата с единичной диагональю. Следует также помнить, что Евклид в книге X, определение 2, все еще характеризует все несоизмеримые квадратные корни «соизмеримостью их квадратов».) Поэтому Платон вполне мог верить в эту гипотезу, хотя у него не могло быть никаких ее доказательств. (Впервые ее опровержение было дано, по-видимому, Евклидом.) Существует одно несомненное упоминание о некоторой недоказанной гипотезе в том месте «Тимея», где Платон говорит о причинах предпочтения субэлементарных треугольников («Тимей», 53 c/d): «Все вообще треугольники восходят к двум, из которых каждый имеет по одному прямому углу и по два острых, но при этом у одного [полуквадрата] по обе стороны от прямого угла лежат равные углы величиной в одну и ту же долю прямого угла, ограниченные равными сторонами, а у другого [полуравностороннего] — неравные углы, ограниченные неравными сторонами. Здесь-то мы и полагаем начало огня и всех прочих тел, следуя в этом вероятности [или вероятной гипотезе], соединенной с необходимостью [доказательством]; те же начала, что лежат еще ближе к истоку, ведает бог, а из людей разве что тот, кто друг богу». И далее, сказав, что существует бесконечное множество неравнобедренных треугольников, из которых следует выбрать «наилучшие», и объяснив, почему наилучшими он считает половины равносторонних треугольников, Платон говорит («Тимей», 54 а-b; Корнфорд был вынужден смягчить этот отрывок, чтобы согласовать его со своей интерпретацией): «Обосновывать это было бы слишком долго (впрочем, если бы кто изобличил нас и доказал обратное, мы охотно признали бы его победителем)». Платон не объясняет, что он понимает под словом «это» — должно быть, он имеет в виду некоторое гипотетическое математическое свойство, оправдывающее при выборе одного треугольника, содержащего величину √2, выбор другого треугольника, содержащего √3. В свете изложенных мною соображений, я полагаю, что Платон говорит здесь о предполагаемой относительной рациональности остальных иррациональных чисел, т.е. о их соизмеримости с единицей, квадратным корнем из двух и квадратным корнем из трех.
(4) Еще одним подтверждением моей интерпретации — хотя я и не нахожу в его пользу никаких свидетельств в текстах Платона — могут послужить следующие соображения. Любопытно, что сумма √2 + √3 дает очень близкое приближение к числу π (см. Е. Воrel. Space and Time, 1926, 1960, p. 216; мое внимание к этому факту, правда, в другом контексте, привлек У. Маринелли). Поправка здесь не превышает 0.0047, т.е. составляет менее чем полторы тысячных от значения числа π. Едва ли во времена Платона было известно лучшее приближенное значение этого числа. Некоторое объяснение этому любопытному факту может состоять в том, что среднее арифметическое площадей описанного шестиугольника и вписанного восьмиугольника является хорошим приближением к площади круга. Вспомним теперь, во-первых, то, что Брайсон исследовал свойства вписанных и описанных многоугольников (см. Т. Heath, op. cit., p. 224), и, во-вторых, то, что Платон интересовался сложением иррациональных величин и поэтому должен был попытаться получить сумму √2+√3. Существуют два доступных Платону способа получения приблизительного равенства √2+√3 ≈ π, второго из которых Платон, по-видимому, не мог избежать. Весьма вероятно, что Платону было известно это соотношение, хотя он и не мог доказать, выражает ли оно строгое равенство или лишь хорошее приближение.
Если моя гипотеза подтвердится, то мы сможем ответить и на второй вопрос, о котором говорилось ранее в пункте (3) — на вопрос, почему Платон строил свой элементарный квадрат из четырех субэлементарных треугольников (полуквадратов) вместо двух, а элементарный равносторонний треугольник — из шести субэлементарных полу треугольников вместо двух. Если мы взглянем на рис. 1 и рис. 2, то увидим, что выделенной точкой на них оказывается центр описанной окружности и что на обоих рисунках представлены также ее радиусы. (На рис. 2 представлен еще и радиус вписанной окружности, однако Платон, по-видимому, имел в виду радиус именно описанной окружности, называя его при изложении метода построения равностороннего треугольника «диагональю» — см. «Тимей», 54 d-e и 54 b.)
Если мы теперь впишем элементарный квадрат и равносторонний треугольник в круг с радиусом r, то обнаружим, что сумма сторон этих двух фигур будет приближаться к π, т.е. чертеж Платона предлагает одно из простейших приблизительных решений проблемы квадратуры круга, как показано на трех наших рисунках. В свете всего сказанного можно предположить, что платоновская гипотеза и его готовность «признать победителем» того, кто сможет его опровергнуть, о чем мы говорили в пункте (3), относятся не только к общей проблеме несоизмеримости иррациональных величин, но и к частной проблеме выяснения того, выражает ли сумма √2+√3 площадь единичного круга.
Я должен еще раз подчеркнуть, что мне неизвестны непосредственные свидетельства, подтверждающие мою точку зрения на этот вопрос, однако если мы рассмотрим приведенные здесь косвенные свидетельства в ее пользу, то она может показаться не совсем невероятной. Я не думаю, что она менее вероятна, чем гипотеза Корнфорда, и если она верна, то с ее помощью мы могли бы объяснить смысл соответствующих фрагментов Платона.
(5) Если имеет какой-то смысл вывод, к которому мы пришли в пункте (2) настоящего примечания, согласно которому Платон провозгласил, что одной арифметики недостаточно, но, кроме нее, следует знать еще и геометрию, а также если верно наше предположение, что его внимание к этой науке было связано с открытием квадратных корней из двух и трех, то некоторый свет может быть пролит также на платоновскую теорию идей и на смысл широко известных замечаний Аристотеля по этому поводу. Эти соображения помогли бы нам объяснить, почему учение пифагорейцев, согласно которому вещи (или формы) являются числами, а этические идеи — числовыми отношениями, должно было исчезнуть, уступив место, как это случилось в «Тимее», доктрине, в соответствии с которой элементарные формы, пределы «περασ»— см. отрывок из «Менона», 75 d-76 а, о котором мы говорили ранее) или идеи вещей являются треугольниками. Кроме того, они объяснили бы нам также, почему следующее поколение академиков возродило учение пифагорейцев. Как только шок, вызванный открытием иррациональности, прошел, математики стали привыкать к идее, что, вопреки всему, иррациональные величины являются числами, поскольку их можно сравнивать по величине с другими (рациональными) числами. На этом этапе стало исчезать и предубеждение против пифагореизма, хотя теория, согласно которой формы являются числами или числовыми отношениями, после открытия иррациональных величин претерпела существенные видоизменения (что, по-видимому, не в полной мере осознавали сторонники новой теории). См. также «Дополнение I» в конце тома 1.
6.10
Известное изображение Фемиды с завязанными глазами, не обращающей внимание на состояние истца и держащей в руках весы — символ равенства и справедливого решения спорных проблем, символизирует эгалитаристскую идею справедливости. Это изображение, однако, не может служить аргументом в пользу того, что такая идея уже была известна современникам Платона. Как любезно сообщил мне профессор Гомбрих, такое изображение появилось в эпоху Возрождения под влиянием «Изиды и Озириса» Плутарха, а не сочинений писателей классической Греции. Вместе с тем, изображение Дике с весами является классическим (об этом изображении, автором которого является Тимократ, младший современник Платона, см. R. Eisler. The Royal Art of Astrology, 1946, pp. 100, 266 и рис. 5) и восходит, по-видимому, к Гесиоду. Гесиод отождествлял Дике с созвездием Девы, которое в Зодиаке расположено рядом с Весами. Таким образом, весы у Дике, по-видимому, играют ту же роль, что и весы, находящиеся в руках Фемиды.
6.11
«Государство», 440 c-d. Абзац заканчивается характерным сравнением со сторожевым псом: «Разве что его смирят доводы собственного рассудка, который отзовет его наподобие того, как пастух отзывает свою собаку». См. прим. 32 (2) к гл. 4.
6.12
Платон действительно подразумевает это, дважды показывая, что Сократ сомневался, где теперь следует искать справедливость. (См. 368 b и след., 432 b и след.).
6.13
Адам (под влиянием Платона) очевидно не заметил эгалитаристской теории в своем примечании к «Государству», 331 е и след., где он, скорее всего справедливо, утверждает, что «точка зрения, согласно которой Справедливость состоит в том, чтобы делать добро друзьям и зло врагам, хорошо отражает господствовавшую в Греции мораль». Однако, он не прав, когда утверждает, что эта точка зрения «была общепринятой», забывая о приведенном им самим свидетельстве (прим. к 561 е 28), показывающем, что равенство перед законом («изономия») «было гордым кличем демократии». См. также прим. 14 и 17 к настоящей главе.
Одним из первых (если не самым первым) упоминаний об «изономии» является фрагмент из сочинений врача Алкмеона (начало пятого века; см. Diels5, гл. 24, фр. 4 — Л 272): он называет «изономию» условием здоровья и противопоставляет ее «монархии», т.е. власти одного над многими. Здесь мы сталкиваемся с политической теорией тела или, точнее, с человеческой физиологией. См. также прим. 32 к гл. 5 и прим. 59 к гл. 10.
6.14
Главкон в своей речи в «Государстве», 359 с вскользь упоминает о равенстве (см. также «Горгий», 483 c-d, конец настоящего примечания и прим. 47 к этой главе), однако этот вопрос остается нерешенным. (Этот фрагмент обсуждается в прим. 50 к настоящей главе.)
Решительно атакуя демократию (см. текст к прим. 14-18 к гл. 4), Платон делает три ехидных замечания об эгалитаризме. Первое замечание касается того, что демократия предполагает «своеобразное равенство — уравнивающее равных и неравных» (558 с; см. прим. Адама к 558 с 16; см. также прим. 21 к настоящей главе), и оно носит иронический оттенок. (Равенство Платон связывал с демократическим устройством и раньше, а именно, при описании демократических революций; см. «Государство», 557 а, фрагмент, приведенный в тексте к прим. 13 к гл. 4.) Второе замечание («Государство», 561 е) характеризует «демократического человека» как такого, который удовлетворяет любое свое желание независимо от того, хорошее оно или плохое. Поэтому его называют «эгалитаристом» («изономистом»), намекая на идею «равных прав для всех» или «равенства перед законом» (об «изономии» см. прим. 13 и 17 к настоящей главе). Читатель подходит к этому отрывку достаточно подготовленным, поскольку слово «равный» встречалось в «Государстве», 561 b и с, уже три раза как характеристика человека, для которого все желания и прихоти «равны». Третий из этих дешевых трюков, который используется и в современной пропаганде такого рода, состоит в обращении к воображению читателей: «Мы едва не забыли сказать, какое равноправие и свобода существуют там у женщин по отношению к мужчинам и у мужчин по отношению к женщинам» («Государство», 563 b).
Помимо упомянутого здесь (и в тексте к прим. 9-10 к настоящей главе) свидетельства в пользу важности эгалитаризма, нам следует особо принять к сведению слова Платона в (1) «Горгии», где он пишет (488 е-489 а; см. также прим. 47, 48 и 50 к настоящей главе): «А разве большинство не держится того мнения, что справедливость — это равенство?», (2) «Менексене» (238 е-239 а; см. прим. 19 к настоящей главе и текст). Фрагменты о равенстве, имеющиеся в «Законах», поскольку они написаны позже «Государства», не могут служить доказательством того, что Платон осознавал важность этого вопроса во время работы над «Государством». См., однако, текст к прим. 9, 20 и 21 к настоящей главе.
6.15
Сам Платон утверждает в связи с третьим замечанием (563 b — см. последнее примечание): «мы скажем то, что на устах теперь». Очевидно, он желает таким образом показать, что шутки вполне уместны при обсуждении этого вопроса.
6.16
Я полагаю, что излагаемая Фукидидом (II, 37 и след.) версия речи Перикла заслуживает доверия. (В переводе речь Перикла цитируется по изданию: Фукидид. История. М., Наука, 1981 — Прим. перев.) Весьма вероятно, что Фукидид присутствовал при этой речи. В любом случае он должен был ее воссоздать с наибольшей возможной точностью. Есть немало оснований считать, что в те времена не было ничего удивительного в том, чтобы человек учил наизусть речь другого оратора (см. платоновского «Федра»), кроме того, точно воспроизвести речь Перикла не так трудно, как может показаться на первый взгляд. Платон знал эту речь, опираясь или на версию Фукидида, или на другой, во многом повторяющий ее источник. См. также прим. 31 и 34-35 к гл. 10. (Можно упомянуть о сомнительного рода уступках Перикла, сделанных им на заре его карьеры, — уступках родовым инстинктам и столь же популярному групповому эгоизму людей. Я имею в виду прежде всего законодательство 451 г. до н. э. о гражданстве. Однако позднее он пересмотрел свои установки, вероятно, под влиянием таких людей, как Протагор).
6.17
См. Геродот, III, 80 и особенно похвалу «изономии», т.е. равенству перед законом (III, 80, 6). См. также прим. 13 и 14 к настоящей главе. Этот отрывок из Геродота, в определенном смысле повлиявший на Платона (см. прим. 24 к гл. 4), высмеивается в «Государстве», так же как и речь Перикла. См. прим. 14 к гл. 4 и прим. 34 к гл. 10.
6.18
Даже натуралист Аристотель не всегда обращается к этому натуралистическому варианту эгалитаризма. Например, этот подход вовсе не заметен в формулируемых в «Политике» (1317 b) принципах демократии (см. прим. 9 к настоящей главе и, текст). Однако, может быть, еще интереснее то, что в «Горгии», где такое важное место занимает противопоставление природы и соглашения, Платон представляет эгалитаризм, не отягощая его сомнительной теорией естественного равенства всех людей (см. 488 е-489 а, процитированный в прим. 14 к настоящей главе, и 483 d, 484 а и 508 а).
6.19
См. «Менексен», 238 е-239 а. Этот фрагмент непосредственно следует за явным намеком на речь Перикла (а именно — на второе предложение, процитированное в тексте к прим. 17 к настоящей главе). Весьма вероятно, что повторение термина «равенство по рождению» в данном фрагменте — это насмешливый намек на «низкое» происхождение сыновей Перикла и Аспазии (лишь в соответствии со специальным законодательством 429 г. до н. э. их признали гражданами Афин). (См. Е. Meyer. Gesch. d. Altertums, vol. IV, p. 14, прим. к No. 392 и р. 323, No. 558.)
Некоторые исследователи полагают (в том числе даже Дж. Гроут, см. его книгу G. Grote. Plato, vol. III, p. 11), что Платон в «Менексене», «переходя к риторике… оставляет шутливый тон», т.е. что в середине «Менексена», откуда взят цитируемый отрывок, Платон высказывается всерьез, а не в ироническом духе. Однако принимая во внимание смысл процитированного отрывка, явную иронию Платона, выраженную в том месте «Государства», где он рассуждает об этом вопросе (см. прим. 14 к настоящей главе), мнение Гроута кажется мне неприемлемым. Равно необоснованными мне кажутся и сомнения в ироническом характере отрывка, непосредственно предшествующего тому, что был процитирован в тексте, где Платон говорит об Афинах (238 c-d): «Само наше государственное устройство… является аристократией… Одни называют ее демократией, другие еще как-нибудь — кто во что горазд, на самом же деле это правление лучших с одобрения народа». В свете известной платоновской ненависти к демократии это описание не требует дальнейших комментариев. Другим фрагментом, в ироническом характере которого не может быть сомнений, является отрывок из «Менексена», 245 c-d (см. прим. 48 к гл. 8), в котором «Сократ» восхваляет Афины за плохое отношение граждан этого города к чужеземцам и варварам. Поскольку в другом месте (отрывок из «Государства», 562 е и след., процитированный в прим. 48 к гл. 8), ругая демократию (и имея в виду именно афинскую демократию), Платон издевается над афинскими гражданами за их либеральное отношение к чужеземцам и поскольку афинский либерализм высмеивался проспартански настроенными деятелями, его хвала в «Менексене» может пониматься только в ироническом духе. (По законам Ликурга, чужеземцам запрещалось селиться в Спарте — см. Аристофан. Птицы, 1012.) В этой связи интересно отметить, что в «Менексене» (236 а, см. также прим. 15 (1) к гл. 10) Платон намекает на то, что персонаж этого диалога оратор «Сократ», критикующий Афины, — автор пародийной речи, записанной Фукидидом, который, по-видимому, был восторженным учеником оратора Антифонта, главы олигархической партии (уроженца Рамнунта — не путать с софистом Антифонтом, афинянином).
Подлинность «Менексена» обсуждается в прим. 35 к гл. 10.
6.20
«Законы», 757 а. Полностью этот отрывок содержится в 757 а-е. Большая часть из него была процитирована ранее в прим. 9 (1) к этой главе.
(1) По поводу того, что я называю стандартным возражением эгалитаризму, См. также «Законы», 744 b и след.: «Было бы прекрасно, если бы каждый… обладал… имуществом в равной доле со всеми. Но это невозможно…» и т. д. Этот отрывок приобретает особый интерес в свете того, что некоторые авторы, основываясь только на том, что говорится в «Государстве», называют Платона врагом плутократии. Однако в этом важном фрагменте «Законов» (744 b и след.) Платон говорит, что «в государстве надо установить неравный имущественный ценз. Стало быть, должности, подати, распределения и подобающий каждому почет устанавливаются не только по личной добродетели или по добродетели предков, не только по силе и красоте тела, но и по имущественному достатку или нужде. Должности и почести распределяются как можно более равномерно, сообразно этому имущественному неравенству…». Доктрина неравного распределения почестей и, можем мы предположить, обязанностей в соответствии с богатством и физической силой, скорее всего, сохранилась с героических времен завоевания. Богачи, обладавшие дорогостоящим тяжелым вооружением, а также физически крепкие воины вносили наибольший вклад в общую победу. (Этот принцип существовал во времена Гомера и, как было показано Р. Айслером, может быть обнаружен практически у всех военизированных племен.) В общих чертах идея, согласно которой несправедливо равным образом почитать неравных, вскользь упоминается уже в «Протагоре», 337 а (см. также фрагмент «Горгия», 508 а и след., о котором говорится в прим. 9 и 48 к настоящей главе), однако в полной мере она была разработана Платоном только в «Законах».
(2) Точка зрения Аристотеля на эти идеи изложена в «Политике», III, 9, 1, 1280а (см. также 1282b-1284b и 1301b 29), где он пишет: «Ведь все опираются на некую справедливость, но доходят при этом только до некоторой черты, и то, что они называют справедливостью, не есть собственно справедливость во всей ее совокупности. Так, например, справедливость, как кажется, есть равенство, и так оно и есть, но только не для всех, а для равных; и неравенство также представляется справедливостью, и так и есть на самом деле, но опять-таки не для всех, а лишь для неравных». См. также «Никомахову этику», 1131b 27, 1158b 30 и след.
(3) Возражая этому антиэгалитаризму, я придерживаюсь точки зрения Канта, согласно которой никому не следует считать себя ценнее других людей.
Я убежден, что этот принцип является единственно приемлемым, особенно если мы вспомним о всем известной невозможности вынесения о себе непредвзятых суждений. Поэтому я совершенно не могу понять высказывания, сделанного таким превосходным автором, как Дж. Кэтлин (С. Е. G. Catlin. Principles, p. 314), который утверждал: «Есть что-то глубоко аморальное в морали Канта, предлагавшего всех стричь под одну гребенку… и игнорировавшего предписание Аристотеля почитать равных равно, а неравных — неравно. Один человек не имеет столько же социальных прав, что и другой-Современный писатель едва ли станет отрицать, что… есть что-то и в "крови"». Теперь я задам вопрос: «Если в "крови" что-то есть, например, различия в талантах и т. д., и даже если кто-нибудь сочтет необходимым тратить свое время на оценку этих различий, и даже если их действительно можно оценить, — то почему эти различия должны служить аргументом в пользу получения больших прав, а не одних только больших обязанностей?». (См. текст к прим. 31-32 к гл. 4.) Я не вижу никакой аморальности в кантовском эгалитаризме. Я не вижу также, на чем основывает Кэтлин это свое моральное осуждение, если он считает моральные оценки делом вкуса? Почему «вкус» Канта должен быть глубоко аморальным? (Ведь это и христианский «вкус».) Единственный ответ на этот вопрос я вижу в том, что Кэтлин, судя со своей позитивистской точки зрения (см. прим. 18 (2) к гл. 5), полагает, что христиане и вместе с ними Кант аморальны, потому что их воззрения противоречат навязанным нам позитивистским ценностям современного общества.
(4) Один из лучших в истории ответов всем этим антиэгалитаристам был дан Ж.-Ж. Руссо. Я говорю это, несмотря на мою убежденность в том, что его романтизм оказал самое пагубное влияние на историю социальной философии. Он был, однако, и одним из наиболее блестящих писателей в этой области. Я хочу процитировать его непревзойденные рассуждения, содержащиеся в эссе «О происхождении неравенства» (см. J.-J. Rousseau. Social contract. Everyman ed., p. 174, курсив мой): «Я вижу в человеческом роде два вида неравенства: одно, которое я называю естественным или физическим, потому что оно установлено природою и состоит в различии возраста, здоровья, телесных сил и умственных или душевных качеств; другое, которое можно назвать неравенством условным или политическим, потому что оно зависит от некоторого рода соглашения и потому что оно устанавливается или, по меньшей мере, утверждается с согласия людей. Это последнее заключается в различных привилегиях, которыми некоторые пользуются… как то, что они более богаты, более почитаемы, более могущественны, чем другие… Не к чему спрашивать, каков источник естественного неравенства, потому что ответ содержится уже в простом определении смысла этих слов. Еще менее возможно установить, есть ли вообще между этими двумя видами неравенства какая-либо существенная связь. Ибо это означало бы, иными словами, спрашивать, обязательно ли те, кто повелевает, лучше, чем те, кто повинуется, и всегда ли пропорциональны у одних и тех же индивидуумов телесная или духовная сила, мудрость или добродетель их могуществу или богатству: вопрос этот пристало бы ставить разве что перед теми, кто признает себя рабами своих господ: он не возникает перед людьми разумными и свободными, которые ищут истину.» (Русское издание: Ж.-Ж. Руссо. Трактаты. М., Наука, 1969, с. 45).
6.21
«Государство», 558 с; см. прим. 14 к настоящей главе (второй абзац о нападках на демократию).
6.22
«Государство», 433 b. Адам, пытавшийся реконструировать этот аргумент (прим. к 433 b 11), был вынужден признать, что «Платон редко оставляет так много незавершенного в своих рассуждениях».
6.23
«Государство», 433 а/434 а. О продолжении этого фрагмента см. текст к прим. 40 к настоящей главе, о подготовке к нему в более ранних частях «Государства» см. прим. 6 к настоящей главе. Адам следующим образом комментирует фрагмент, который я называю «вторым аргументом» (прим. к 433 е 35): «Платон пытается найти связь между своим собственным подходом к справедливости и распространенным судебным пониманием этого слова…» (см. фрагмент, процитированный в следующем абзаце текста). Адам пытается защитить платоновские доводы от критика (А. Крона), увидевшего, хотя, вероятно, не очень ясно, что здесь что-то неладно.
6.24
Цитаты, приведенные в данном абзаце, взяты из «Государства», 430 d и след.
6.25
На этот крючок попался даже такой внимательный критик, как Т. Гомперц (ГЛ. Gomperz. Greek Thinkers, Book V, II, 10; Germ, ed., vol. II, pp. 378-379), не заметивший слабости этого аргумента. Характеризуя первые две книги «Государства» (op. cit., V, II, 5, р. 368), он пишет: «Далее следует отрывок, который можно было бы назвать образцом ясности, точности и подлинной научности…», и затем добавляет, что платоновские персонажи Главкон и Адимант, «движимые энтузиазмом… отбрасывают все поверхностные решения».
По поводу моих замечаний об умеренности, содержащихся в следующем абзаце текста, см. след. утверждения Дж. Дэвиса и Ч. Э. Воэна (J. L. Davies, С. Е. Vaughan. Analysis // Plato. Republic. Golden Treasury ed., p. XVIII, курсив мой): «Сущность умеренности состоит в самоограничении. Сущность политической умеренности состоит в признании права государственного органа на законопослушание и повиновение управляемых». Это показывает, что мою интерпретацию платоновской идеи умеренности разделяют сторонники Платона (хотя они и выражают ее в другой терминологии). Могу добавить, что «умеренность», т.е. удовлетворенность своим положением, является общей добродетелью для всех трех классов и единственной для класса работников. Добродетель, доступная классу работников — умеренность, классу помощников — умеренность и мужество, классу воспитателей — умеренность, мужество и мудрость.
«Длинное предисловие», которое цитируется также в следующем абзаце, взято из «Государства», 432 b и след.
6.26
Здесь можно сделать небольшое терминологическое замечание, касающееся термина «коллективизм». То, что называет «коллективизмом» Г. Уэллс не имеет ничего общего с тем, что понимаю под этим словом я. Уэллс, с моей точки зрения, является индивидуалистом, на что хорошо указывают его «Права человека» и «Здравый смысл войны и мира» (H. G. Wells. Rights of Man; Common Sense of War and Peace), содержащие правильное изложение требований эгалитаристского индивидуализма. Однако он также верит, и вполне справедливо, в возможность рационального планирования политических институтов с целью расширения свобод и укрепления благосостояния индивидуумов. Эту веру он называет «коллективизмом», хотя я для ее описания выбрал бы скорее выражение «рациональное планирование институтов в целях свободы». Быть может, это выражение кому-нибудь покажется длинным и неуклюжим, однако его невозможно интерпретировать в антииндивидуалистическом смысле, как это делают, и не только Г. Уэллс, с термином «коллективизм».
6.27
«Законы», 903 с; см. текст к прим. 35 к гл. 5. Упомянутая в тексте «преамбула» («Однако… он нуждается еще кое в каких зачаровывающих сказаниях» и т. д.) взята из «Законов», 903 b.
6.28
В «Государстве» и «Законах» Платон бесчисленное количество раз предостерегает против необузданного группового эгоизма. См., например, «Государство», 519 е, и фрагмент, упомянутый в прим. 41 к настоящей главе. Касаясь нередко предполагаемой тождественности между коллективизмом и альтруизмом, можно напомнить о весьма уместном в этой связи вопросе Ч. Шеррингтона: «Стая и стадо — это альтруизм?».
6.29
Об ошибочности презрительного отношения Ч. Диккенса к парламенту см. также прим. 23 к гл. 7.
6.30
Аристотель. «Политика», III, 12, 1 (1282b); см. текст к прим. 9 и 20 к настоящей главе. (См. также замечание Аристотеля в «Политике», III, 9, 3, 1280а о том, что справедливость имеет отношение как к людям, так и к вещам.) К цитате из Перикла далее в этом абзаце см. текст к прим. 16 к настоящей главе и прим. 31 к гл. 10.
6.31
Это замечание из фрагмента («Государство», 519 е и след.), процитированного в тексте к прим. 35 к гл. 5.
6.32
Важные фрагменты из «Законов», процитированные в настоящем (1) и следующем (2) абзаце, таковы:
(1) «Законы», 739 с и след. Платон здесь имеет в виду «Государство» и особенно «Государство», 462 а и след., 424 а и 449 е. (Перечень фрагментов о коллективизме и холизме можно найти в прим. 35 к гл. 5. О коммунизме в его понимании см. прим. 29 (2) к гл. 5 и другие упомянутые здесь отрывки.) Цитируемый здесь фрагмент начинается, что характерно, с максимы Пифагора «У друзей на самом деле все общее». См. прим. 36 и текст; см. также о «совместных трапезах», упомянутых в прим. 34.
(2) «Законы», 942 а и след.; см. след. прим. Оба фрагмента Гомперц характеризует как антииндивидуалистические (см. его ранее цитированную работу, т. II, 406). См. также «Законы», 807 d/e.
6.33
См. прим. 42 к гл. 4 и текст. Далее в данном абзаце процитирован фрагмент из «Законов», 942 а и след. (см. предыдущее примечание).
Не следует забывать о том, что военная подготовка в «Законах» (как и в «Государстве») обязательна для всех, кто имеет право носить оружие, т.е. для всех жителей, обладающих какими бы то ни было гражданскими правами (см. «Законы», 753 о). Все остальные — «наемники» («banausic»), если не рабы (см. «Законы», 741 е и 743 d, а также прим. 4 к гл. 11).
Интересно, что Э. Баркер, ненавидя милитаризм, верит, что Платон придерживался аналогичных взглядов (Е. Barker. Greek Political Theory, p. 298-301). Действительно, Платон никогда не восхвалял войну, однако верно и то, что он никогда не выступал против нее. Многие милитаристы, как хорошо известно, на словах проповедуют мир, а на деле воюют. Платоновским же государством правит каста военных, т.е. мудрецов, в прошлом солдат. Это замечание относится равно к «Законам» (см. 753 b) и к «Государству».
6.34
Суровые правила, регулирующие порядок приема пищи и напитков — в особенности, «общественных трапез», — играют существенную роль в диалогах Платона (см., например, «Государство», 416 е, 458 с, 547 d/e; «Законы», 625 е, 633 а (в котором введение обязательных общественных трапез объясняется военной угрозой), 726 b, 780-783, 806 с и след., 839 с,d). В соответствии с критскими и спартанскими обычаями, Платон придавал большое значение общественным трапезам. Интересно также, что этими вопросами занимался и дядя Платона — Критий (см. Diels2, Critias, fr. 33).
6.35
См. «Законы», изд. Э. Б. Ингленда, т. I, с. 514, прим. к 789 b 8 и след (Plato. Laws, ed. by E. В. England, vol. I, p. 514, note to 739 b 8). Эти цитаты Баркера взяты из ранее названной работы этого автора, с. 148 и с. 149. В работах большинства платоников можно найти большое множество подобных фрагментов. См., однако, замечание Ч. С. Шеррингтона (см. прим. 28 к настоящей главе) о том, что вряд ли верно приписывать альтруизм стае или стаду. Стадный инстинкт и родовой эгоизм, а также обращение к этим инстинктам не следует смешивать с отсутствием себялюбия.
6.36
См. «Государство», 424 а, 449 с; «Федр», 279 с; см. прим. 32 (1). (См. также «Лисид», 207 с и Еврипид. Орест, 725). О возможной связи этого принципа с коммунизмом в учении ранних христиан и в марксизме см. прим. 29 (2) к гл. 5.
Об индивидуалистической теории справедливости и несправедливости в «Горгии» см., например, «Горгий», 468 b и след., 508 d/e. В этих фрагментах, вероятно, еще сохраняется влияние Сократа (см. прим. 56 к гл. 10). Индивидуализм Сократа наиболее ясно выражен в его знаменитом учении о самодостаточности того, кто хорош. Платон упоминает об этом учении в «Государстве» (387 d/e) несмотря на то, что оно явно противоречит одному из главных постулатов «Государства», а именно тому, что лишь государство может быть самодостаточным (см. гл. 5, прим. 25 и текст к этому и следующему примечаниям).
6.37
«Государство», 368 b/с.
6.38
См. особенно «Государство», 344 а и след.
6.39
«Законы», 923 b.
6.40
«Государство», 434 а-с. См. также текст к прим. 6 и прим. 23 к настоящей главе и прим. 27 (3) и 31 к гл. 4.
6.41
«Государство», 466 b/с. См. также «Законы», 715 b/с и многие другие фрагменты, направленные против антихолистских злоупотреблений классовыми прерогативами. См. также прим. 28 к настоящей главе и прим. 25 (4) к гл. 7.
6.42
Здесь содержится намек на «парадокс свободы»; см.прим. 4 к гл. 7. О проблеме государственного управления образованием см. прим. 13 к гл. 7.
6.43
Аристотель. «Политика», III, 9, 6 и след. (1280b). См. Е. Burke. French Revolution, ed. 1815, vol. V, p. 184. Данную работу весьма кстати процитировал Б. Джовет в своих примечаниях к этому фрагменту Аристотеля; см. его издание аристотелевской «Политики» (Aristotle. Politics, ed. by В. Jowett, vol. II, p. 126).
Далее в этом абзаце цитируется фрагмент, взятый из «Политики», III, 9, 8 (1280b).
Дж. Филд предлагает аналогичную критику (G. С. Field. Plato and His Contemporaries, p. 117): «Невозможно, чтобы государство и его законы оказывали воспитательное воздействие на нравственные особенности граждан». Однако Т. Грин ясно показал (Т. Н. Green. Lectures on Political Obligation), что государство не может навязать мораль посредством законов. Без сомнения, он согласился бы с утверждением:«Мы хотим сделать моральной политику, а не политизировать мораль» (см. окончание данного абзаца в тексте). Взгляды Грина предвосхитил Спиноза: «Кто хочет все регулировать законами, тот скорее возбудит пороки, нежели исправит их» (Б. Спиноза. Богословско-политический трактат // Избранные произведения в двух томах. М., Гос. изд. полит, литературы, 1957, т. 2, с. 263).
6.44
Я считаю, что в основе любой попытки взять под контроль международные преступления должна лежать аналогия между гражданским миром и международным, между обычным преступлением и международным. Об этой аналогии и ее границах, а также о беспомощности историцизма при решении такого рода проблем см. прим. 7 к гл. 9.
Г. Моргентау — один из тех, кто считает, что рациональные методы установления международного мира — это всего лишь утопическая мечта (Н. J. Morgenthau. Scientific Man versus Power Politics. English ed., 1947). Взгляды Г. Моргентау выдают в нем разочаровавшегося историциста. Он понял, что исторические предсказания невозможны, однако, соглашаясь (вместе с марксистами, например), что сфера применения разума (или научного метода) ограничена сферой предсказуемого, он заключает, что поскольку исторические события непредсказуемы, то разум не применим к сфере международных отношений.
Однако этот вывод в действительности не следует, так как научное предсказание и предсказание в смысле исторического пророчества — это не одно и то же. (Ни одна из естественных наук, за исключением теории Солнечной системы, не берется за что-нибудь подобное историческому пророчеству.) Ни общественные, ни естественные науки не призваны предсказывать «направления» или «тенденции» развития. «Так называемые "общественные законы" и так называемые "естественные законы" способны на то, чтобы выявить определенные направления… Однако ни общественные, ни естественные науки не могут предсказать, как в действительности сложатся обстоятельства и какое конкретное направление благодаря этому воплотится в жизнь», — пишет Моргентау (р. 120 и след., курсив мой). Вместе с тем и естественные науки не пытаются предсказывать направления, и только историцист считает такое предсказание целью общественных наук. Соответственно, только историцист разочаруется, осознав это. «Многие… ученые, специализирующиеся на политических науках, тем не менее утверждают, что способны… действительно… предсказывать общественные события с высокой степенью точности. На деле они… лишь жертвы… заблуждений», — пишет Моргентау. Я, безусловно, согласен. Однако это означает только то, что от историцизма следует отказаться. Предположив, что отказ от историцизма означает отказ от рационализма в политике, мы вскроем фундаментальное историцистское предубеждение — а именно, предубеждение, что историческое пророчество — основа любой рациональной политики. В начале главы 1 я заметил, что этот взгляд характерен для историцизма.
Моргентау высмеивает попытки подчинить власть разуму и предотвратить войну, полагая, что их источник — в рационализме и сциентизме, неприменимых к обществу по самой его сути. Однако он, очевидно, доказывает слишком много. Во многих обществах устанавливался гражданский мир, хотя, согласно теории Моргентау, жажда власти должна была этому воспрепятствовать. Моргентау, конечно, признает этот факт, однако не замечает, что он разрушает теоретическую основу собственных утверждений.
6.45
Цитата взята из «Политики» Аристотеля, III, 9, 8 (1280).
(1) Я говорю в тексте «более того», потому что считаю, что фрагменты, к которым отсылает текст, т.е. Аристотель. «Политика», III, 9, 6 и III, 9, 12, скорее всего также представляют взгляды Ликофрона. Мое убеждение основывается на следующем. Начиная с III, 9, 6 и до III, 9, 12 Аристотель занят критикой того, что я называю протекционизмом. В III, 9, 8, фрагменте, процитированном в тексте, он явно приписывает Ликофрону четкое и ясное выражение этого учения. Опираясь на другие ссылки Аристотеля на Ликофрона (см. (2) этого примечания), можно предположить, что во времена Ликофрона именно он первым или одним из первых сформулировал теорию протекционизма. Поэтому можно не без оснований (хотя и не вполне определенно) допустить, что вся эта критика протекционизма, т.е. от III, 9, б до III, 9, 12, направлена против Ликофрона и что именно ему принадлежат различные, но совпадающие по содержанию формулировки протекционизма. (Можно также упомянуть, что Платон называет протекционизм «общепринятым» в «Государстве», 358 с).
Во всех своих возражениях Аристотель стремился показать, что протекционизм не способен объяснить ни территориального, ни внутреннего единства государства, так как не учитывает (III, 9, 6), что целью государства является благая жизнь, в которой не могут участвовать рабы и животные (т.е. благая жизнь добродетельных землевладельцев — ведь каждый, кто зарабатывает деньги, не обладает гражданством из-за низкого, механического («banausic») рода своих занятий). Протекционизм также упускает из виду родовое единство «подлинного» государства, которое (III, 9, 12) «представляет собой общение родов и селений ради достижения совершенного самодовлеющего существования… Такого рода общение, однако, может осуществиться лишь в том случае, если люди обитают в одной и той же местности и если они состоят между собой в эпигамии».
(2) Об эгалитаризме Ликофрона см. прим. 13 к гл. 5 — Б. Джовет (В. Jowett. Aristotle's Politics, II, 126) называет Ликофрона «непонятным ритором», однако Аристотель, должно быть, считал иначе, так как в дошедших до наших дней работах он упоминает Ликофрона (в «Политике», «Риторике», «Отрывках», «Метафизике», «Физике», «О софистических опровержениях»).
Вряд ли Ликофрон был намного моложе Алкидама, своего товарища по школе Горгия, так как его эгалитаризм не получил бы, вероятно, такой известности, если бы эта теория была сформулирована уже после того, как Алкидам сменил Горгия в качестве главы школы. Об этом же говорят и эпистемологические интересы Ликофрона (о них упоминает Аристотель в «Метафизике», 1045b 9 и «Физике», 185b 27), так как на их основе можно сделать вывод о том, что Ликофрон был учеником Горгия еще до того, как тот посвятил себя практически одной только риторике. Разумеется, любые мнения о Ликофроне мало достоверны, так как о нем сохранились лишь очень скудные сведения.
6.46
Е. Barker. Greek Political Theory, I, p. 160. О критике Юмом исторического варианта теории договора см. прим. 43 к гл. 4. Относительно дальнейшего утверждения Э. Баркера (р. 161) о том, что в противоположность теории договора платоновская справедливость — это не «что-то внешнее», но внутренне присущее душе, я могу напомнить читателю о часто встречающихся у Платона советах применять самые жестокие меры для достижения справедливости. Он всегда рекомендует использовать «убеждение и силу» (см. прим. 5, 10 и 18 к гл. 8). Вместе с тем, пример некоторых современных демократических государств показал, что либеральность и терпимость не обязательно приводят к возрастанию преступности.
О том, что Баркер (как и я) считает Ликофрона основоположником теории договора, см. Е. Barker, op. cit., p. 63: «Протагор не предвосхитил софиста Ликофрона в создании учения о договоре» (ср. с текстом к прим. 27 к гл. 5).
6.47
«Горгий», 483 b и след.
6.48
«Горгий», 488 е-489 b, см. также 527 b.
Из того, как Сократ отвечает здесь Каллихлу, можно, по-видимому, заключить, что исторический Сократ (см. прим. 56 к гл. 10) с сочувствием относился к доводам в поддержку биологического натурализма пиндаровского толка, рассуждая следующим образом: «Если власть сильных естественна, то естественно и равноправие, потому что большинство, являющее свою силу тем, что оно правит, требует равноправия». Другими словами, он мог показать пустоту и расплывчатость этого натуралистического требования, что, быть может, и вдохновило Платона выработать собственный вариант натурализма.
Я вовсе не утверждаю, что более позднее замечание Сократа (508 а) о «геометрическом равенстве» следует обязательно понимать как антиэгалитарное, так как неясно, почему оно должно означать то же, что и «равенство отношений» в «Законах», 744 b и след. и 757 а-е (см. прим. 9 и 20 (1) к настоящей главе). Однако именно это предполагает Дж. Адам во втором примечании к «Государству», 558 с 15. Но может быть, его предположение не лишено оснований — ведь «геометрическое» равенство в «Горгий», 508 а, по-видимому, намекает на пифагорейские проблемы (см. прим. 56 (6) к гл. 10, а также замечания относительно «Кратила» в том же примечании) и вполне может быть намеком на «геометрические пропорции».
6.49
«Государство», 358 е. Главкон отрекается от авторства в 358 с. Внимание человека, читающего этот фрагмент, легко отвлекается, обращаясь к вопросу «природа или соглашение», который играет важную роль как в этом отрывке, так и в речи Калликла в «Горгий». Однако, главная забота Платона в «Государстве» — не победа над конвенционализмом, а осуждение рационального протекционистского подхода как себялюбческого. (То, что главным врагом Платона была неконвенционалистская теория договора, видно из прим. 27-28 к гл. 5 и соответствующего текста.)
6.50
Если сравнить платоновское представление протекционизма в «Государстве» и в «Горгий», то обнаружится, что это действительно одна и та же теория, хотя в «Государстве» акцент на равенстве гораздо слабее. Впрочем, и здесь упомянуто, хотя и вскользь, равенство: когда Платон говорит о том, что природу «насильственно… заставляют соблюдать надлежащую меру» («Государство», 359 с). Это замечание усиливает сходство с речью Калликла (см. «Горгий», особенно 483 c/d). Однако в противоположность «Горгию», Платон немедленно оставляет равенство (вернее, даже не поднимает этого вопроса) и более к нему не возвращается, что вполне ясно показывает его стремление обойти эту проблему. Вместо этого Платон упивается описанием циничного эгоизма, который предстает единственным источником протекционизма. (О том, что Платон обходит молчанием эгалитаризм, см. особенно прим. 14 к настоящей главе и текст.) А. Тэйлор (А. Е. Taylor. Plato: The Man and His Work. 1926, p. 268) утверждает, что если Калликл начинает с «природы», то Главкон отталкивается от «соглашения».
6.51
«Государство», 359 а. Мои дальнейшие ссылки в тексте относятся к 359 b, 360 d и след., см. также 358 с. О «постоянном повторении» см. 359 а-362 с, а о подробном развитии протекционизма — вплоть до 367 е. Платоновское описание нигилистических тенденций протекционизма занимает девять страниц в «Государстве» (в изд. Everyman), что показывает, какое значение придавал ему Платон. (Аналогичный фрагмент имеется в «Законах», 800 а и след.)
6.52
Когда Главкон умолк, его место занял Адимант, бросая весьма уместный вызов Сократу подвергнуть критике утилитаризм, однако лишь после того, как Сократ заметил, что речь Главкона, по его мнению, безупречна (362 d). Адимант в своей речи поправляет Главкона, повторяя, что то, что я называю протекционизмом, выводится из нигилизма Фрасимаха (см. особенно 367 а и след.). После Адаманта заговорил сам Сократ, восхищаясь и Главконом, и Адимантом, так как их вера в справедливость неколебима, несмотря на то, что они так великолепно представили теорию несправедливости, т.е. теорию, согласно которой благо означает причинение несправедливости до тех пор, пока это возможно продолжать безнаказанно. Подчеркивая безупречность предлагаемых Главконом и Адимантом аргументов, «Сократ» (т.е. Платон) дает понять, что эти аргументы верно представляют обсуждаемую теорию. Затем он, наконец, формулирует свою собственную теорию, но не для того, чтобы показать, что изложение Главкона нуждается в исправлении, а для того, чтобы, как он подчеркивает, показать, что, в противоположность взглядам протекционистов, справедливость — благо, а несправедливость — зло. (Не следует забывать — см. прим. 49 к настоящей главе, — что нападки Платона направлены не против теории договора как таковой, а только против протекционизма, ведь теорию договора принимает вскоре («Государство», 369 b-с, см. текст к прим. 29 к гл. 5) и сам Платон, по крайней мере отчасти, — в том числе и теорию о том, что, «испытывая нужду во многом, многие люди собираются воедино, чтобы обитать сообща и оказывать друг другу помощь».)
Следует также заметить, что кульминацией этого фрагмента является впечатляющее утверждение «Сократа», процитированное в тексте к прим. 37 настоящей главы. Это показывает, что Платон борется с протекционизмом, представляя его аморальной и действительно бесчестной формой эгоизма.
И, наконец, оценивая предпринятый Платоном ход рассуждений, мы не должны забывать, что Платон любит спорить с риторами и софистами, и действительно, именно его нападки на «софистов» закрепили за этим словом дурные ассоциации. Поэтому, как мне кажется, у нас есть все основания разоблачать его в тех случаях, когда он заменяет доводы риторикой и софистикой. (См. также прим. 10 к гл. 8.)
6.53
Дж. Адам и Э. Баркер могут служить представителями упомянутых платоников. Адам говорит (прим. к 358 е и след.), что Главкон оживляет теорию Фрасимаха и что (прим. к 373 а и след.) теория Фрасимаха «в точности совпадает с той, что представил затем Главкон». Баркер утверждает (op. cit., p. 159), что теория, которую я называю протекционизмом, а он — «прагматизмом», «та же по духу, что и теория Фрасимаха».
6.54
О том, что великий скептик Карнеад действительно поверил изложению Платона, свидетельствует Цицерон (Cicero. De Republica, III, 8, 13, 23), который представил вариант Главкона почти без изменений как теорию, принимаемую Карнеадом.
В этой связи я хочу выразить свое мнение, что можно найти утешение в том факте, что антигуманисты всегда считали нужным обращаться к человеческим чувствам, а также в том факте, что им часто удавалось убедить нас в своей искренности. Это говорит о том, что они хорошо понимают, как глубоко укоренились во многих из нас эти чувства, и что презренные «многие» не слишком плохи, а напротив — слишком хороши, слишком чистосердечны и слишком простодушны и даже готовы выслушивать от часто неразборчивых в средствах «лучших», что они недостойные эгоисты, ограниченные материальными интересами и желающие только одного — «обжираться как скоты».
Примечания к главе 7
Эпиграф к данной главе взят из «Законов», 690 b (см. прим. 28 к гл. 5).
7.1
См. текст к прим. 2-3 к гл. 6.
7.2
Подобные же мысли высказывал Дж. Ст. Милль. Так, в своей «Логике» (J. S. Milt. Logic, 1st ed., p. 557 и след.) он пишет: «Хотя действия правителей никоим образом не определяются целиком их эгоистическими интересами, требуется конституционный контроль как средство оградиться от этих эгоистических интересов». Точно так же он пишет в работе «О подчиненном положении женщины» (J. S. MilL The Subjection of Women, Everyman edition, p. 251. — курсив мой): «Кто усомнится в том, что возможны великое благо и великое счастье и великая преданность под идеальным правлением добродетельных людей? В то же время законы и учреждения требуется применять не к хорошим людям, а к дурным». Насколько я согласен с утверждением, выделенным курсивом, настолько же сомневаюсь в целесообразности поставленной в начале оговорки. (См. особенно прим. 25 (3) к настоящей главе.) Подобные же мысли можно найти в блестящем фрагменте из «Представительной власти» (J. S. Mill. Representative Government, 1861, см. особенно р. 49), где Милль борется с платоновским идеалом философа-правителя, так как именно потому, что его правление будет великодушным, оно будет означать отречение обычных граждан от своей воли и от возможности судить о политике.
Следует заметить, что эта идея Дж. Ст. Милля служила попытке разрешить противоречие между «Рассуждением о правительстве» Джеймса Милля (fames Mill. Essay on Government) и «знаменитой атакой Маколея» на этот труд (так называет ее Дж. Ст. Милль; см. J. S. Mill Autobiography, chap. V, «One Stage Onward», 1st edition, 1873, pp. 157-161. Критика Маколея впервые была опубликована в «Edinburgh Review», March 1829, June 1829, October 1829). Этот конфликт в значительной степени повлиял на развитие Дж. Ст. Милля, а попытка его разрешить в действительности определила конечную цель и особенности «Логики». «Основные главы этой работы я затем опубликовал в "Логике моральных наук"», — писал Милль в своей «Автобиографии» (J. S. Mill. Autobiography).
Предлагаемое Дж. Ст. Миллем разрешение конфликта между его отцом и Маколеем состоит в следующем. Он говорит, что его отец справедливо считал политику дедуктивной наукой, однако ошибался, полагая, что «эта дедукция — та же, что в чистой геометрии». В то же время Маколей был прав в том, что эта дедукция в большей степени экспериментальна, но ошибался, сравнивая ее с «чисто экспериментальным методом химии». Согласно Дж. Ст. Миллю, правильное решение таково («Autobiography», р. 159 и след.): политике соответствует дедуктивный метод динамики — метод, который, как он полагает, характеризуется принципом сложения следствий, подобным «принципу сложения сил». (Эта идея Дж. Ст. Милля дожила по крайней мере до 1937 г., как я показал в работе «The Poverty of Historicism», p. 63.)
Я не думаю, что этот анализ очень содержателен (тем более, что он основан на неверном понимании динамики и химии). Однако многое в нем может показаться обоснованным.
Джеймс Милль, подобно многим его предшественникам и последователям, пытался, по словам Маколея (в конце первой из названных статей), «вывести науку о правлении из принципов человеческой природы». Я думаю, Маколей прав, охарактеризовав эту попытку как «совершенно невозможную». Метод Маколея можно назвать в какой-то мере эмпирическим, поскольку для опровержения догматических теорий Джеймса Милля он широко использовал исторические факты. Однако использованный им метод никак не был связан с химией или с тем, что Дж. Ст. Милль считал методом химии (или с бэконовским индуктивным методом, который Маколей восхвалял, будучи напуган силлогизмами Дж. Милля). Его метод состоял в неприятии неправомерных логических выводов в сфере, где ничто представляющее интерес не может быть доказано логически, в обсуждении теорий и возможных ситуаций в свете альтернативных теорий и альтернативных возможностей и в анализе фактуально истинных свидетельств. Одно из главных разногласий было связано с доказательством Дж. Милля, что монархия и аристократия с неизбежностью ведут к террору в правлении. Однако примеры легко опровергали этот тезис. Процитированные в начале данного примечания фрагменты из работ Дж. Ст. Милля показывают, как повлияло на него это опровержение.
Маколей всегда подчеркивал, что хотел лишь опровергнуть доказательства Милля и не ставил своей целью оценивать получаемые посредством них выводы как истинные или ложные. Одно это показывает, что он не пытался применить на практике восхваляемый им индуктивный метод.
7.3
См., к примеру, замечание Э. Майера о том, что «власть, по самой своей сути, неделима» (Е. Meyer. Gesch. d. Altertums, V, p. 4).
7.4
См. «Государство», 562 b-565 е. В тексте я подразумеваю, главным образом, 562 с: «…такое ненасытное стремление к одному» (к свободе) «и пренебрежение к остальному искажает этот строй и подготовляет нужду в тирании». См. далее 563 d-e: «А кончат они, как ты знаешь, тем, что перестанут считаться даже с законами — писаными или неписаными, — чтобы уже вообще ни у кого и ни в чем не было над ними власти… Именно из этого правления… и вырастает, как мне кажется, тирания». (Начало этого фрагмента цитируется в прим. 19 к гл. 4.)
У Платона имеются и другие замечания о парадоксах свободы и демократии («Государство», 564 а): «Ведь чрезмерная свобода, по-видимому, и для отдельного человека, и для государства обращается не во что иное, как в чрезмерное рабство… Так вот, тирания возникает, конечно, не из какого иного строя, как из демократии; иначе говоря, из крайней свободы возникает величайшее и жесточайшее рабство». См. также «Государство», 565 c-d: «A разве народ не привык особенно отличать кого-то одного, ухаживать за ним и его возвеличивать? — Конечно, привык. — Значит, уж это-то ясно, что, когда появляется тиран, он вырастает именно из этого корня, то есть как ставленник народа».
Так называемый парадокс свободы показывает, что свобода в смысле отсутствия какого бы то ни было ограничивающего ее контроля должна привести к значительному ее ограничению, так как дает возможность задире поработить кротких. Эту идею очень ясно выразил Платон, хотя несколько иначе и совершенно с иными целями.
Менее известен парадокс терпимости: неограниченная терпимость должна привести к исчезновению терпимости. Если мы безгранично терпимы даже к нетерпимым, если мы не готовы защищать терпимое общество от атак нетерпимых, терпимые будут разгромлены. В этой формулировке не подразумевается, например, что нам следует неизменно лишать слова нетерпимые философские направления. Подавление, конечно, нельзя было бы назвать самым мудрым действием, если бы мы могли противостоять этим течениям доводами разума и контролировать их посредством общественного мнения. Но мы должны провозгласить право подавлять их в случае необходимости даже силой: ведь вполне может оказаться, что они не готовы общаться с нами на уровне доводов разума и начнут с того, что отвергнут всякие доводы. Возможно, они запретят своим последователям прислушиваться к доводам разума и будут утверждать, что эти доводы обманчивы и для ответа на них надо использовать кулаки и пистолеты. Таким образом, во имя терпимости следует провозгласить право не быть терпимыми к нетерпимым. Мы должны объявить вне закона все движения, исповедующие нетерпимость, и признать подстрекательство к нетерпимости и гонениям таким же преступлением, как подстрекательство к убийству, похищению детей или возрождению работорговли.
Другой менее известный парадокс — это парадокс демократии, или, более точно, правления большинства, состоящий в возможности большинства решить, что править должен тиран. То, что платоновскую критику демократии можно применить и к этой возможности, и то, что принцип правления большинства самопротиворечив, впервые заметил, насколько мне известно, Леонард Нельсон (см. прим. 25 (2) к настоящей главе), который, будучи страстным защитником принципов гуманизма и пылким борцом за свободу, принимал многое из платоновской политической теории и особенно платоновский принцип лидерства. Однако я не думаю, что Нельсон осознавал тот факт, что подобные доводы могут быть приведены против всех вариантов теории суверенитета.
Всех этих парадоксов легко избежать, приведя наши политические требования в соответствие с тем, что предлагается в разделе II настоящей главы, или некоторым образом приблизив их к этому. Мы требуем, чтобы правительство правило, следуя принципам эгалитаризма и протекционизма, чтобы оно терпело всех, кто готов на ответную терпимость, чтобы его контролировали граждане, перед которыми оно должно отчитываться. Следует также добавить, что голосования для принятия решений большинством, а также учреждения, обеспечивающие хорошую информированность граждан, — это лучшие средства контроля за таким правительством, хотя и не непогрешимые. (Непогрешимых средств не существует.) См. также гл. 6, последние четыре абзаца текста, предшествующего прим. 42; текст к прим. 20 гл. 17; прим. 7 (4) к гл. 24; а также прим. б к настоящей главе.
7.5
Последующие замечания по этому вопросу см. в гл. 19.
7.6
Источник цитаты из Гераклита указан в прим. 4 к гл. 2, фрагмент (7). Может показаться, что следующие замечания относительно парадоксов свободы и суверенитета являются излишними. Однако поскольку обсуждаемые здесь аргументы носят, так сказать, формальный характер, возможно, было бы лучше укрепить их, хотя бы и проявив при этом некоторый педантизм. Кроме того, опыт, приобретенный мною, в такого рода спорах, подсказывает мне, что от защитников принципа лидерства, т.е. суверенитета лучших и мудрейших, можно в действительности ожидать следующего контраргумента: (a) если «мудрейший» решил бы, что править должно большинство, он не был бы на самом деле мудр. Затем они могут подкрепить этот довод следующим утверждением: (b) мудрый человек никогда бы не установил закон, который может повлечь за собой противоречия, например, закон о правлении большинства. На (b) я ответил бы, что достаточно лишь изменить это решение «мудреца» так, чтобы оно стало свободно от противоречий. (Например, он бы мог решить в пользу правительства, которое обязано править в соответствии с принципом эгалитаризма и протекционизма и быть подконтрольным голосованию большинства.) Это решение мудреца покончило бы с принципом суверенитета. А поскольку это решение было бы, таким образом, свободно от противоречий, оно могло бы принадлежать мудрецу. Однако это, конечно же, не избавило бы от собственных противоречий принцип, по которому править должен мудрейший. Другой довод, т.е. довод (а), иного рода. Он опасно близок к тому, чтобы определить «мудрость» и «доброту» политика как решимость не отдавать свою власть. И действительно, только та теория суверенитета избежала бы противоречий, которая потребовала бы, чтобы правителем мог быть только тот, кто полон решимости держаться за свою власть. Сторонникам принципа лидерства следует честно признать это логическое следствие своего кредо. Избавленное от противоречий, оно предполагает власть не лучшего и мудрейшего, а сильнейшего, т.е. человека власти. (См. также прим. 7 к гл. 24.)
7.7
См. мою лекцию «Towards a Rational Theory of Tradition» (The Rationalist Yearbook, 1949); позднее она была опубликована в моей книге «Conjectures and Refutations». В этой лекции я попытался показать, что традиции могут служить своего рода связующим звеном, посредником между личностями (и личными решениями) и институтами.
7.8
О поведении Сократа при Тридцати тиранах см. «Апологию Сократа», 7.32 с. Тираны пытались вовлечь Сократа в свои преступления, однако он оказал сопротивление. И если бы диктатура продержалась дольше, смертный приговор Сократу был бы неизбежен (см. также прим. 53 и 56 к гл. 10).
Относительно содержащегося далее в этом абзаце утверждения о том, что мудрость означает знание границ собственного знания, см. «Хармид», 167 а, 170 а, где значение «познай себя» объясняется именно в этом смысле; в «Апологии Сократа», 23 а-b наблюдаем подобную же тенденцию (отголоски которой все еще слышны в «Тимее», 72 а). О важном изменении понимания «познай себя», которое происходит в «Филебе», см. прим. 26 к настоящей главе. (См. также прим. 15 к гл. 8.)
7.9
См. платоновского «Федона», 96-99. Я полагаю, что «Федон», хотя отчасти и сократический диалог, все же в значительной степени отражает взгляды Платона. История философского развития Сократа, изложенная в «Федоне», много раз обсуждалась. Я полагаю, что в этом диалоге не представлена подлинная биография Сократа или Платона. По-моему, это — просто платоновская интерпретация развития Сократа. Сократовская установка относительно науки (установка, вобравшая в себя живой интерес к рациональному доказательству вместе со своего рода скромным агностицизмом) была непостижима для Платона. Он пытался объяснить ее отсталостью современной Сократу науки, противопоставляя последнюю пифагореизму. Таким образом, Платон показывает, что эта агностическая установка теряет смысл в свете вновь обретенного пифагореизма. (И он пытается показать, как понравились бы Сократу с его жгучим интересом к индивидуальности новые метафизические теории души; см. прим. 44 и 56 к гл. 10 и прим. 58 к гл. 8.)
7.10
Этот частный случай связан с вопросом о квадратном корне из двух и проблемой иррациональности, т.е. с той самой проблемой, которая ускорила распад пифагореизма. Опровержение пифагорейской арифметизации геометрии привело к появлению особых дедуктивно-геометрических методов, известных нам по трудам Евклида. (См. прим. 9 (2) к гл. 6.) Возможно, появление этой проблемы в «Меноне» связано с заметным и в других частях этого диалога желанием автора (вряд ли Сократа) порисоваться знаниями «новейших» философских достижений и методов.
7.11
«Горгий», 521 d и след.
7.12
См. R. Crossman. Plato Today, p. 118: «Осознав эти три главные ошибки афинской демократии…» Насколько верно Кроссман понимает Сократа, можно увидеть там же, р. 93: «Все лучшее в нашей западной культуре порождено этим духом — все, что мы находим в ученых, священниках, политиках или совершенно обычных мужчинах и женщинах, отказавшихся предпочесть политическую ложь просто правде… В конце концов, только их пример способен разрушить диктатуру силы и грубости… Сократ показал, что философия — это не что иное, как сознательное возражение пристрастности и неразумию».
7.13
R. Crossman. Plato Today, p. 117 и след. (первая часть курсива моя). Кажется, будто Кроссман на мгновение забыл, что в платоновском государстве существует классовая монополия на образование. Верно, что в «Государстве» наличие денег не является ключом к высшему образованию. Однако это совершенно не важно. Важно, что лишь представители правящего класса имеют доступ к образованию (см. прим. 33 к гл. 4). Кроме того, Платон, по крайней мере в конце жизни, вовсе не был противником плутократии, предпочитая ее бесклассовому или эгалитарному обществу — см. фрагмент из «Законов», 744 b и след., процитированный в прим. 20 (1) к гл. 6. О проблеме государственного контроля над образованием см. также прим. 42 к той же главе и прим. 39-41 к гл. 4.
7.14
Согласно Дж. Бернету (J. Burnet. Greek Philosophy, I, p. 178) «Государство» — чисто сократический диалог (или даже досократовский, что, быть может, ближе к истине — см. A. D. Winspear. The Genesis of Plato's Thought, 1940). Однако Бернет даже не пытается примирить это мнение с важной цитатой из платоновского «Седьмого письма» (326 а, см. также J. Burnet Greek Philosophy, I, p. 218), которое, по его мнению, является подлинным. См. прим. 56 (5, d) к гл. 10.
7.15
«Законы», 942 с. Более подробно этот фрагмент процитирован в тексте к прим. 33 гл. 6.
7.16
«Государство», 540 с.
7.17
См. цитату из «Государства», 473 с-е, процитированную в тексте к прим. 44 гл. 8.
7.18
«Государство», 498 b-с. См. также «Законы», 634 d-e, где Платон хвалит закон дорийцев, «запрещающий молодым людям исследовать, что в законах хорошо и что нет, и повелевающий всем единогласно и вполне единодушно соглашаться с тем, что в законах все хорошо». Лишь старым позволено критиковать закон, добавляет пожилой автор, но только не в присутствии юноши. См. также текст к прим. 21 к настоящей главе и прим. 17, 23 и 40 к гл. 4.
7.19
«Государство», 497 d.
7.20
Там же, 537 с. Следующие цитаты из фрагментов 537 d-e и 539 d. «Более поздний и лучше продуманный фрагмент» — это 540 b-с. Еще одно весьма интересное замечание содержится в 536 c-d, где Платон говорит, что люди, выбранные (как это описано в предыдущем фрагменте) для изучения диалектики, безусловно слишком стары для обучения их новым предметам.
7.21
См. Н. Cherniss. The Riddle of the Early Academy, p. 79, и «Парменид», 135 c-d. Дж. Гроут, великий демократ, жестко критикует позицию Платона по этому вопросу (высказываясь, например, по поводу более «мягкого» фрагмента из «Государства», 537 с-540): «Положение, запрещающее беседовать о диалектике с молодыми… является бесспорно антисократовским… В действительности, он повторяет обвинительный приговор Мелета и Анита в отношении Сократа… Они точно так же обвиняли его в развращении молодежи… И когда обнаруживается, что он (Платон) запрещает такие беседы людям, не достигшим тридцати, мы замечаем необычайное совпадение: ведь точно такое же обвинение Критий и Харикл предъявили самому Сократу во время недолгого господства Тридцати тиранов в Афинах» (J. Grote. Plato, and the Other Companions of Socrates, 1875, vol. III, p. 239).
7.22
Оспариваемая в тексте идея, что тот, кто послушен, может хорошо командовать, является платоновской. См. «Законы», 762 е. Тойнби прекрасно показал, как успешно может работать платоновская система образования в обществе, где задержаны перемены (A. Toynbee. A Study of History, III, особенно 33 и след.; см. также прим. 32 (3) и 45 (2) к гл. 4).
7.23
Вероятно, кто-то может спросить, как индивидуалист может требовать приверженности к какому-нибудь делу, а особенно к такому абстрактному, ках научное исследование. Но этот вопрос лишь обнаруживает старую ошибку (обсуждаемую в следующей главе) — ошибку отождествления индивидуализма и эгоизма. Индивидуалист может не быть эгоистом и посвятить себя не только помощи отдельным людям, но и развитию институциональных средств такой помощи. (Кстати, я считаю, что приверженности нельзя требовать, ее можно лишь поощрять.) Я полагаю, что приверженность определенным институтам, например существующим в демократическом государстве, и даже определенным традициям может вполне согласовываться с индивидуализмом при условии, что эти институты преследуют гуманитарные цели. Индивидуализм не следует отождествлять с антиинституциональным персонализмом. Индивидуалисты часто впадают в эту ошибку. Их враждебность коллективизму правомерна, однако они ошибочно рассматривают институты как коллективы (которые провозглашают себя конечной целью) и таким образом превращаются в антиинституциональных персоналистов. В результате они оказываются в опасной близости к принципу лидера. (Я полагаю, что этим отчасти объясняется враждебность Диккенса к британскому Парламенту.) О моем употреблении терминов «индивидуализм» и «коллективизм» см. текст к прим. 26-29 к гл. 6.
7.24
Samuel Butler. Erewhon. Everyman's ed., 1872, p. 135.
7.25
Об этих событиях см. Е. Meyer. Gesch. d. Altertums, V, pp. 522-525, 488 и след. См. также прим. 69 к гл. 10. Академия приобрела известность тем, что взращивала тиранов. Среди учеников Платона были Харонд, позднее тиран Пеллены, Эраст и Кориск, тираны Скепсиса, а также Гермий, позднее тиран Атарнея и Асса (см. Athenaios. Deipnosophistai, XI, p. 508 и Страбон, XIII, р. 610). Гермий, согласно некоторым источникам, был учеником самого Платона. Согласно же «Шестому письму» Платона, подлинность которого спорна, он, вероятно, был просто поклонником Платона, готовым принимать его советы. Гермий стал покровителем Аристотеля и третьего главы Академии, ученика Платона Ксенократа.
О Пердикке III и его отношениях с платоновским учеником Эвфреем см. Athenaios, XI, р. 508 и след., где Каллип также назван учеником Платона.
(1) Неудивительно, что Платон не имел успеха как воспитатель. Достаточно взглянуть на принципы образования и выбора, получившие развитие в первой книге его «Законов» (начиная с 637 d и особенно 643 а: «…определим, что такое воспитание и какова его сила» и до конца фрагм. 650 b). В этом длинном фрагменте он показывает, что существует одно великолепное орудие воспитания, или, вернее, выбора людей, на которых можно положиться. Это вино, опьянение, которое развяжет человеку язык и покажет, что он представляет собой на самом деле. «Можем ли мы назвать какое-нибудь другое удовольствие, кроме испытания вином и развлечениями, более приспособленное к тому, чтобы сперва только взять пробу, дешевую и безвредную, всех этих состояний, а уж затем чтобы в них упражняться?» (649 d-e). Насколько мне известно, ни один из теоретиков воспитания, восславляющих Платона, до сих пор не обсуждал метод опаивания. Странно, ведь этот метод все еще широко применяется, особенно в университетах, хотя он не так уж и дешев.
(2) В поддержку принципа лидера следует все же сказать, что другие были более удачливы в своем выборе, нежели Платон. Например, Леонард Нельсон (см. прим. 4 к настоящей главе), веривший в этот принцип, по-видимому, обладал уникальной способностью привлекать к себе и выбирать мужчин и женщин, остававшихся верными своему делу, невзирая на огромные испытания и искушения. Однако они были привержены доброму, в отличие от платоновского, делу: гуманной идее свободы и равной справедливости. (Некоторые статьи Нельсона опубликованы в английском переводе с очень интересной вводной статьей Юлиуса Крафта — см. L. Nelson. Socratic Method and Critical Philosophy. Yale Univ. Press, 1949.)
(3) Теория великодушного тирана, все еще процветающая иногда даже среди демократов, имеет существенный недостаток. В ней говорится о правящей личности, помыслы которой направлены на благо людей и которой можно доверять. Даже если эта теория была бы правильна и даже если мы верим, что данная личность способна в отсутствие контроля и проверки сохранять эту позицию, то можно ли предполагать, что выбранный ею преемник будет обладать такими же редкими совершенствами? (См. также прим. 3 и 4 к гл. 9, прим. 69 к гл. 10.)
(4) Что касается упомянутой в тексте проблемы власти, то интересно сравнить «Горгия» (525 e и след.) с «Государством» (615 d и след.). Эти фрагменты весьма схожи. Однако в «Горгии» утверждается, что величайшие преступники всегда «выходят из числа сильных и могущественных», простые же люди могут быть дурными, но не безнадежными. В «Государстве» это ясное предупреждение о развращающем действии власти исчезает. Большинство величайших грешников — это все еще тираны, однако утверждается, что среди злодеев имеются и «простые люди». (В «Государстве» Платон полагается на личный интерес стражей, который, он уверен, оградит стражей от злоупотребления своей властью. См. «Государство», 466 b-с — фрагмент, процитированный в тексте к прим. 41 к гл. 6. Неясно, почему личный интерес так благотворно влияет только на стражей, но не на тиранов.)
7.26
В ранних (сократических) диалогах (например, в «Апологии Сократа» или «Хармиде»; см. прим. 8 к настоящей главе, прим. 15 к гл. 8 и прим. 56 (5) к гл. 10) афоризм «познай самого себя» понимается как «узнай, как мало ты знаешь». Однако в позднем (платоновском) диалоге «Филеб» заметно небольшое, но очень важное изменение. Сначала это высказывание интерпретируется фактически так же (48 c-d и след.), так как обо всех тех, кто не познал самого себя, говорится, что они «лгут, заявляя, что мудры». Однако затем эта интерпретация развивается следующим образом. Платон разделяет людей на два класса — слабых и сильных. Невежество и безрассудство слабых достойны насмешки, в то время как невежество сильных «называют "гнусным" и "опасным"…». Здесь подразумевается платоновское учение о том, что тот, кто наделен властью, должен быть мудрым, а не невежественным (или только тот, кто мудр, может быть наделен властью). Это противоположно первоначальному сократовскому учению о том, что (все, а особенно) те, кто наделены властью, должны осознавать свое невежество. (Разумеется, в «Филебе» вовсе не предполагается, что «мудрость», в свою очередь, следует понимать как «осознание своей ограниченности». Напротив, здесь мудрость подразумевает знание пифагорейского учения на уровне эксперта и платоновской теории форм в том виде, как она изложена в «Софисте».)
Примечания к главе 8
Эпиграф к этой главе взят из «Государства», 540 c-d. См. также прим. 37 к этой главе и прим. 12 к гл. 9, где этот фрагмент представлен более полно.
8.1
«Государство», 475 е; см. также 485 с и след., 501 с.
8.2
Там же, 389 b и след.
8.3
Там же, 389 c-d, см. также «Законы», 730 b и след.
8.4
Эта и следующие три цитаты взяты из «Государства», 407 е и 406 с. См. также «Политик», 293 а и след., 295 b-296 е.
8.5
«Законы», 720 с. Интересно отметить, что в этом фрагменте (718 с - 722 b) Платон знакомит нас со своей идеей о том, что политик должен использовать как убеждение (persuasion), так и силу (722 b). Поскольку же под «убеждением» Платон подразумевает в основном пропагандистскую ложь (см. прим. 9 и 10 к этой главе и фрагмент из «Государства», 414 b-с, приведенный в тексте), то оказывается, что платоновские мысли, выраженные в рассматриваемом нами отрывке из «Законов», несмотря на их мягкость по сравнению с более ранними, все же сохраняют дух старой аналогии между ложью врача и ложью политика. Далее («Законы», 857 c-d) Платон с сожалением говорит о враче совершенно иного рода — таком, который слишком много философствует со своим пациентом, вместо того чтобы сконцентрироваться на лечении. Весьма возможно, что Платон сообщает здесь о своих собственных впечатлениях во время болезни, настигшей его как раз во время работы над «Законами».
8.6
«Государство», 389 b. Следующие короткие цитаты взяты из «Государства», 459 с.
8.7
I. Kant. On Eternal Peace, Appendix // Werke, ed. by E. Cassirer, 1914, vol. VI, p. 457; сравните с переводом М. Campbell Smith, 1903, pp. 162 и след. (русский перевод: И. Кант. К вечному миру // Сочинения в шести томах. Том 6. М., Мысль, 1966, с. 290).
8.8
R. Crossman. Plato Today, 1937, p. 130; см. также страницы, непосредственно предшествующие этому фрагменту. Создается впечатление, что Р. Кроссман все еще верит в то, что пропагандистская ложь предназначена для того, чтобы обманывать управляемых, и что правители, согласно Платону, должны в полной мере использовать свои способности к критическому суждению. Так, он пишет (The listener, vol. 27, p. 750): «Свобода речи и обсуждений, по Платону, предназначалась только для немногих избранных». Однако это не так. И в «Государстве», и в «Законах» (см. отрывки, цитируемые в прим. 18-21 к гл. 7, и соответствующий им текст) Платон выражает свои опасения, что кто-нибудь из еще не достигших старческого возраста будет сметь свободно думать и говорить, тем самым подвергая опасности существующие строгие установления и окаменелое задержанное общество. См. также следующие два примечания.
8.9
«Государство», 414 b-с. В 414 d Платон подтверждает, что он надеется внушить эту ложь «сперва самим правителям и воинам, а затем и остальным гражданам». Впоследствии он, по-видимому, пожалел о своей честности, так как в «Политике», 269 b и след. (см. особенно 271 b, а также прим. 6 (4) к гл. 3) из его слов можно сделать вывод о том, что он верит в миф о Земнородных, хотя в «Государстве» он не захотел его предложить (см. прим. 11 к этой главе) даже в качестве «царственной лжи».
То, что я перевожу как «царственная ложь», обычно переводится как «благородная ложь», «благородный обман» или даже как «одухотворенная выдумка».
Буквальный перевод слова «γενναιοσ» , которое я перевожу как «царственный», — это «высокий по рождению» или «благородный по происхождению». Таким образом, «царственная ложь» — столь же буквально переведенный термин, как и «благородная ложь». При этом мой перевод не допускает ассоциаций, которые могут возникнуть в связи с термином «благородная ложь» и которые совершенно не соответствуют рассматриваемой ситуации. «Благородную ложь» можно истолковать как ложь, которую человек благородно принимает на себя, хотя она и подвергает его опасности. Примером может послужить ложь Тома Сойера, когда он принимает на себя вину Бекки, — ложь, которую судья Тэтчер (в главе XXXV) называет «благородной, щедрой, великодушной ложью». Такое понимание «царственной лжи» едва ли здесь уместно. Поэтому перевод этого термина как «благородная ложь» является одной из типичных попыток идеализации Платона. Ф. Корнфорд предлагает перевод «великий взлет изобретательности» и в своей сноске протестует против перевода «благородная ложь», приводя в пример фрагмент, где «γενναιοσ» означает «великодушный». Действительно, термины «большая ложь» или «великая ложь» вполне подошли бы в качестве перевода. Однако Корнфорд в то же время протестует против использования термина «ложь». Он характеризует этот миф как «безобидную платоновскую аллегорию» и не соглашается с идеей о том, что Платон «поддержал бы ложь, большей частью низкую, которую ныне называют пропагандой». В следующей сноске он говорит: «Заметьте, Платон надеется, что и стражи, возможно, будут принимать эту аллегорию. Это не пропаганда, навязываемая массам правителями». Однако все эти попытки идеализации Платона безуспешны. Платон сам ясно дает понять, что ложь — это нечто, чего надо стыдиться — см. последнюю цитату в прим. 11 к настоящей главе. (В первом издании этой книги я перевел этот термин как «вдохновенная ложь», намекая на «ее высокое происхождение», а в качестве альтернативы предложил термин «бесхитростная (простодушная) ложь». Некоторые мои друзья-платоники критиковали этот перевод и как слишком вольный, и как чрезмерно тенденциозный. Однако «великий взлет изобретательности» Корнфорда означает трактовку в том же самом смысле.)
См. также прим. 10 и 18 к этой главе.
8.10
«Государство», 519 е и след. Более подробно этот фрагмент цитируется в тексте к прим. 35 к гл. 5. Об убеждении и силе см. также фрагмент «Государства», 365 d, обсуждаемый в настоящем примечании далее, и отрывки, на которые я ссылаюсь в прим. 5 и 18 к данной главе.
Греческое слово «πειθω» (персонификацией этого термина является соблазнительная богиня, прислуживающая Афродите), которое обычно переводится как «убеждение», может означать (а) «убеждение благими методами» и (b) «убеждение нечестными методами», т.е. «заставить поверить» (см. настоящее примечание, раздел (D), а также «Государство», 414 с), иногда даже «убеждение с помощью подарков», т.е. взяточничество (см. раздел (D), «Государство», 390 е). В выражении «то убеждением, то силой» («Государство», 548 d) термин «убеждение» также часто интерпретируется в смысле (а), а само выражение часто (и нередко обоснованно) переводят как «благими и дурными средствами» (сравните перевод фрагмента (С), т.е. «Государство», 365 d, предложенный Дж. Дэвисом и Ч. Воэном, как «благими средствами или дурными»; этот фрагмент цитируется далее). Однако, как мне представляется, Платон, предлагая «убеждение и силу» как инструменты политической деятельности, использует эти слова в буквальном смысле и советует использовать риторическую пропаганду наряду с насилием (см. «Законы», 661 с, 711 с, 722 b, 753 а).
Следующие фрагменты важны для понимания того, как Платон использует термин «убеждение» в смысле (b) и особенно в связи с политической пропагандой.
(А) «Горгий», 453 а-466 а, особенно 454 b-455 а; «Федр», 260 b и след.; «Теэтет», 201 а; «Софист», 222 с; «Политик», 296 b и след., 304 c-d; «Филеб», 58 а. Во всех этих отрывках убеждение («искусство убеждения» в противоположность «искусству передачи истинного знания») ассоциируется с риторикой, умением заставить поверить и с пропагандой. В «Государстве» заслуживают внимания фрагменты 364 b и след., особенно 364 е-365 d (см. также «Законы», 909 b).
(В) В «Государстве», 364 е («они уверяют», т.е. вводят в заблуждение, заставляя поверить «не только отдельных лиц, но даже целые народы») этот термин используется почти в том же смысле, что и в 414 b-с (процитированном в тексте к прим. 9 этой главы), т.е. в отрывке о «царственной лжи».
(C) Отрывок 365 d вызывает интерес потому, что в нем используется термин, который А. Линдсей весьма удачно переводит словом «обман» в качестве синонима «убеждению». («Существуют и наставники в искусстве убеждать… Таким образом, мы будем прибегать то к убеждению, то к насилию, так, чтобы всегда брать верх и не подвергаться наказанию. Но от богов-то невозможно ни утаиться, ни применить к ним насилие…»).
(D) Далее в «Государстве», 390 е и след., термин «убеждение» используется в смысле подкупа. (Должно быть, это его устаревшее использование, так как предполагается, что данный фрагмент — цитата из Гесиода. Интересно, что Платон, нередко высказывая возражения против идеи о том, что люди могут «убедить» или подкупить богов, все же допускает такую возможность в фрагменте 399 а-b.)
Перейдем теперь к 414 b-с, к фрагменту о «царственной лжи». Сразу после этого фрагмента, в 414 с (см. также следующее примечание к этой главе), «Сократ» цинично замечает (E): «и, чтобы заставить этому верить, требуются очень убедительные доводы».
И, наконец, можно упомянуть (F) — «Государство», 511 d и 533 е, где Платон говорит об убеждении, или вере (корень греческого слова, соответствующего термину «убеждение», тот же, что и корень слова, соответствующего термину «вера») как низшей познавательной способности души, т.е. способности приобретения ошибочного мнения относительно изменчивых вещей (см. прим. 21 к гл. 3 и особенно использование термина «убеждение» в «Тимее», 51 е). Эта способность души противоположна рациональному знанию о неизменных формах. Относительно проблемы «морального» убеждения см. также гл. 6, прим. 52-54 и текст, и гл. 10, текст к прим. 56 и 65 и прим. 69.
8.11
«Государство», 415 а. Следующая цитата из 415 с (см. также «Кратил», 398 а). См. прим. 12-14 к настоящей главе и текст, а также прим. 27 (3), 29 и 31 к гл. 4.
(1) По поводу моего замечания в тексте, приведенного ранее в данном абзаце и касающегося платоновской тревоги, см. «Государство», 414 c-d, и предыдущее примечание, пункт (Е): «Чтобы заставить этому верить, требуются очень убедительные доводы», — говорит Сократ. — «Ты, видимо, не решаешься сказать», — отвечает Главкон. — «Моя нерешительность покажется тебе вполне естественной, когда я скажу», — говорит Сократ. — «Говори, не бойся», — говорит Главкон. В этом диалоге вводится то, что я называю первой идеей мифа о Расизме (в «Политике» он выдается за истинную историю — см. прим. 9 к данной главе; см. также «Законы», 740 а). Как замечено в тексте, Платон высказывает предположение, что именно эта «первая идея» является причиной его колебаний, так как Главкон отвечает на это: «Недаром ты так долго стеснялся изложить этот вымысел». После того, как Сократ рассказал «остальную часть сказания», т.е. миф о Расизме, подобных риторических замечаний не было высказано.
(2) Что касается стражей-автохтонов, то мы должны помнить, что родовитыми могли быть признаны только те из афинян (в противоположность дорийцам), которые были коренными жителями своей страны, рожденные землей, «как кузнечики» (как говорит Платон в «Пире», 191 b; см. также конец прим. 52 к настоящей главе). Один дружески относящийся ко мне критик предположил, что беспокойство Сократа и упомянутое в пункте (1) замечание Главкона о том, что Сократ стыдится не напрасно, могут быть интерпретированы как платоновский ироничный намек на афинян, которые, утверждая, что они, коренные жители, не защищали свою страну так, как стали бы защищать мать. Однако это остроумное замечание представляется мне нелогичным. Платон, известный открытым предпочтением Спарты, вряд ли стал бы обвинять афинян в отсутствии патриотизма. Такое обвинение было бы несправедливым, так как в Пелопоннесской войне афинские демократы не сдались Спарте (как я покажу в гл. 10), в то время как Критий, возлюбленный дядя Платона, сдался и стал главой марионеточного правительства, пользовавшегося поддержкой спартанцев. Если Платон намеревался иронически намекнуть на недостаточную защиту Афин, то это мог быть только намек на Пелопоннесскую войну, а, следовательно, критика Крития, которого Платон едва ли хотел бы задевать.
(3) Платон называет свой миф «финикийским вымыслом». Попытку объяснить это предпринял Р. Айслер. Он обращает внимание на то, что эфиопов, греков (серебряные рудники), суданцев и сирийцев (Дамаск) на Востоке называли, соответственно, золотой, серебряной, бронзовой и железной расами и что эти названия в Египте применялись для целей политической пропаганды (см. также Даниил, II, 31-45). Айслер предполагает, что эта история о четырех расах попала в Грецию во времена Гесиода через финикийцев (что весьма вероятно) и что Платон намекает на этот факт.
8.12
«Государство», 546 а и след.; см. текст к примечаниям 36-40 к гл. 5. О запрещении смешанных браков см. также 434 с, прим. 27 (3), 31 и 34 к гл. 4 и прим. 40 к гл. 6.
Фрагмент из «Законов» (930 d-e) содержит требование, чтобы ребенок, родившийся в смешанном браке, причислялся к касте того из родителей, кто ниже по своему статусу.
8.13
«Государство», 547 а. (О теории наследования примесей см. также текст к прим. 39-40 к гл. 5, особенно 40 (2), и прим. 39-43, 52 к настоящей главе.)
8.14
Там же, 415 с.
8.15
См. примечание Адама к «Государству», 414 b и след., курсив мой. Замечательным исключением является Дж. Гроут (J. Grote. Plato and the Other Companions of Socrates, London, 1875, III, p. 240), который подводит итоги «Государства», противопоставляя его «Апологии Сократа»: «В "Апологии" Сократ, как мы видим, признается в своем невежестве… Но в "Государстве" он представлен в новом облике… Он сам на троне короля Номоса: непререкаемый авторитет, как во временном, так и в духовном смысле, от которого распространяются все общественные настроения и который определяет ортодоксию… Теперь он ожидает, что каждый индивид займет свое собственное место и подчинится предписанным авторитетом мнениям. В число этих мнений входят определенные этические и политические фикции, такие, например, как земнородные… Ни Сократу из "Апологии", ни его оппоненту Диалектику не было разрешено существовать в платоновской республике». (Курсив мой; см.также J. Grote, там же, р. 188).
Представление о религии как опиуме для народа, хотя и в несколько иной формулировке, оказывается одним из догматов, принимаемых Платоном и платониками. (См. также прим. 17 и текст, и особенно прим. 18 к данной главе.) Очевидно, что это представление является одним из наиболее эзотерических представлений названной школы, т.е. таким, которое могли обсуждать лишь старейшие члены высшего класса (см. прим. 18 к гл. 7). Однако тех, кто раскрывает этот секрет, идеалисты обвиняют в атеизме.
8.16
Например, Дж. Адам, Э. Баркер, Дж. Филд.
8.17
См. Diels5. Vorsokratiker, фрагм. Крития 25. (Я выбрал 11 характерных строк из более чем сорока.) Стоит заметить, что данный отрывок начинается с наброска общественного договора, чем-то даже напоминающего эгалитаризм Ликофрона; см. прим. 45 к гл. 6. О Критии см. прим. 48 к гл. 10. Поскольку Дж. Вернет предположил, что поэтические и драматические фрагменты, автором которых считается Критий, можно приписать Дропиду, деду главы Тридцати тиранов, следует упомянуть о том, что в «Хармиде», 157 е, Платон упоминает о поэтическом даре последнего; там же, 162 d, он даже намекает, что Критий был драматургом. (См. также Ксенофонт. Memorabilia, I, iv, 18.)
8.18
«Законы», 909 е. Создается впечатление, что впоследствии точка зрения Крития стала частью традиции школы Платона, о чем свидетельствует один отрывок из «Метафизики» Аристотеля (1074b 3). В этом отрывке, кроме того, имеется еще один пример использования термина «убеждение» в смысле «пропаганда» (см. прим. 5 и 10 к настоящей главе). «А все остальное… уже добавлено в виде мифа для внушения толпе, для соблюдения законов и для выгоды…» См. также аргументы Платона в «Политике», 271 а и след., в пользу истинности мифа, в который он, конечно же, не верил (см. прим. 9 и 15 к настоящей главе).
8.19
«Законы», 908 b.
8.20
Там же, 909 а.
8.21
О конфликте блага и зла см. там же, 904-906. См. также 906 а-b (справедливость в противовес несправедливости; «справедливость» означает здесь все ту же коллективистскую справедливость «Государства»). Этому фрагменту непосредственно предшествует 903 с, который мы уже цитировали в прим. 35 к гл. 5 и прим. 27 к гл. 6. См. также прим. 32 к настоящей главе.
8.22
Там же, 905 d-907 b.
8.23
Абзац, к которому добавлено это примечание, показывает мою приверженность к «абсолютной» теории истины, которая согласуется с общепринятой идеей о том, что утверждение истинно, если (и только если) оно соответствует описываемым им фактам. Эта «абсолютная», или «корреспондентная» теория истины (начало которой положил Аристотель) была впервые ясно представлена А. Тарским (A. Tarski. Der Wahrheitsbegriff in den formalisierten Sprachen; польское изд. 1933, немецкий перевод 1936), и является основой логической теории, называемой им семантикой (см. прим. 29 к гл. 3 и прим. 5 (2) к гл. 5). См. также R. Саrпар. Introduction to Semantics, 1942, где эта теория истины получила детальное развитие. Вот что говорит Карнап на с. 28 этой работы: «Следует специально отметить, что понятие истины в только что объясненном смысле — мы можем назвать его семантическим понятием истины — в основе своей отличается от таких понятий, как "считается", "установлена истинность", "получено подтверждение" и т. д.». Подобную позицию, хотя развитую лишь в общих чертах, можно найти в моей работе «Logic der Forschung» (англ. перевод: «The Logic of Scientific Discovery», 1959), раздел 84. Некоторые недостатки этого раздела объясняются тем, что он был написан до того, как я познакомился с семантикой Тарского. Прагматическую теорию истины (идущую от гегельянства) Бертран Рассел критиковал с позиций абсолютной теории уже в 1907 г. Недавно он показал связь между релятивистской теорией истины и догматами фашизма. См. В. Russell. Let the People Think, pp. 77, 79.
8.24
«Государство», 474 c-502 d. Следующая цитата из «Государства», 475 е.
8.25
Семь приведенных далее цитат см.: (1) и (2) «Государство», 476 b; (3), (4), (5) там же, 500 d-e; (6) и (7) там же, 501 а-b. С (7) сравните также аналогичный фрагмент — там же, 484 с. См. также «Софист», 253 d-e; «Законы», 964 а-966 а (особенно 965 b-с).
8.26
«Государство», 501 с.
8.27
«Государство», 509 а и след. См. также 509 b: «Солнце дает всему, что мы видим, не только возможность быть видимым, но и рождение, рост, а также питание, хотя само оно не есть становление»; аналогично: «Считай, что и познаваемые вещи могут познаваться лишь благодаря благу; оно же дает им и бытие, и существование, хотя само благо не есть существование, оно — за пределами существования, превышая его достоинством и силой». (С 509 b сравните Аристотель. О возникновении и уничтожении, 336а 15, 31, и «Физика», 194b 13.). В 510 b благо описано как абсолютный источник (а не просто постулируемый или предполагаемый), а в 511 b как «изначальное».
8.28
«Государство», 508 b и след. См. также 508 b-с: «ведь благо произвело его» (т.е. Солнце или истину) «подобным самому себе: чем будет благо в умопостигаемой области по отношению к уму и умопостигаемому» (т.е. идеям), «тем же в области зримого будет Солнце» (т.е. свет, являющийся порождением солнца) «по отношению к зрению и зрительно постигаемым вещам» (т.е. к чувственным вещам).
8.29
Там же, 505 а; 534 b, и след.
8.30
Там же, 505 d.
8.31
«Филеб», 66 а.
8.32
«Государство», 506 d и след. и 509-511. Цитируемое здесь определение блага как «класса определенностей, рассматриваемых как единство», я полагаю, понять не трудно, и оно полностью согласуется с остальными замечаниями Платона. Класс определенностей — это класс форм или идей, рассматриваемых как мужские принципы, или класс основателей рода в противоположность женскому, неограниченному пространству (см. прим. 15 (2) к гл. 3). Эти формы или прародители, конечно же, благи постольку, поскольку являются древними и неизменяемыми образцами и поскольку каждая из них является единой в противоположность множеству порождаемых ею чувственных вещей. Если мы понимаем класс или расу основателей рода как множество, то они не являются абсолютно благими. Таким образом, абсолютное благо может быть мысленно представлено только в том случае, если мы понимаем эту расу как единство, как Одно — как праединство (см. также Аристотель. Метафизика, 988а 10).
Платоновская идея Блага практически пуста. Она совсем не показывает нам, что есть благо в моральном смысле, т.е. что мы должны делать. Как можно понять из прим. 27 и 28 к настоящей главе, мы можем узнать лишь то, что Благо — высшая из форм или идей, своего рода сверхидея, которая служит источником других идей и от которой они получают свое существование. Из этого можно вывести одно: Благо — неизменное и первичное, или первоначальное, а следовательно, древнее других идей (см. прим. 3 к гл. 4), будучи Единым Целым. Это значит, что холизм благ (см. прим. 21 к настоящей главе) и что Благу причастны те вещи, которые не меняются, т.е. благо — это то, что сохраняет (см. прим. 23 к гл. 4), и то, что является древним, в особенности, древние законы (см. прим. 23 к гл. 4, прим. 7, абзац о платонизме, к гл. 5 и прим. 18 к гл. 7). Таким образом, Платон вновь отбрасывает нас к тоталитарной морали (см. текст к прим. 40-41 к гл. 6).
Если «Седьмое письмо» подлинно, то в нем (314 b-с) мы находим еще одно утверждение Платона о том, что его учение о благе не может быть сформулировано, так как оно «не может быть выражено в словах, как остальные науки». (См. также прим. 57 к гл. 10.)
И снова надо упомянуть Дж. Гроута, который хорошо понял и подверг критике пустоту платоновской идеи или формы Блага. Задавшись вопросом, что есть благо, он пишет (G. Grote. Plato, III, p. 241 и след.): «Этот вопрос поставлен… Однако, к несчастью, он не получил ответа… Описывая состояние разума других людей, т.е. говоря, что они предугадывают Действительное Благо,… делают все, чтобы обрести его, но напрасно пытаются постичь и определить его, — говоря так, он» (Платон) «неосознанно описал состояние своего собственного разума». Поразительно, как мало внимания уделяют блестящей критике Гроута современные авторы.
Цитаты следующего абзаца взяты из «Государства», 500 b-с и 485 а-b. Второй фрагмент очень интересен. Как подчеркивает Адам (прим. к 485 b 9), в этом фрагменте понятия «поколение» и «вырождение» впервые применяются в этом полутехническом смысле. В нем говорится о текучести и неизменных сущностях в смысле Парменида, и в нем же предлагается основной довод в пользу правления философов. См. также прим. 26 (1) к гл. 3 и прим. 2 (2) к гл. 4. В «Законах», 689 c-d, обсуждая «вырождение» (688 с) царства дорийцев, к которому привело «величайшее неведение» (а именно невежество, заключавшееся в незнании того, как повиноваться правителям «по природе», см. 689 b), Платон объясняет, как он понимает мудрость: только та мудрость, которая нацелена на достижение величайшего единства или «согласованности» дает человеку право на власть. Термин «согласованность» объяснен в «Государстве», 591 b и d как гармония идей Справедливости (т.е. сохранения своего места) и Умеренности (удовлетворенности от этого). Таким образом, мы вернулись к тому, с чего начали.
8.33
Этот фрагмент подвергся критике на том основании, что у Платона будто бы нельзя найти следов страха перед независимым мышлением. Однако мы должны помнить, что Платон настаивал на необходимости цензуры (см. прим. 40 и 41 к гл. 4) и запрещения «высшего диалектического образования» для лиц, не достигших 50 лет, в «Государстве» (см. прим. 19-21 к гл. 7), не говоря уже о «Законах» (см. прим. 18 к гл. 7 и многие другие фрагменты).
8.34
Вопрос о касте жрецов рассматривается в «Тимее», 24 а. В отрывке, явно намекающем на описанное в «Государстве» лучшее или «древнее» государство, «сословие философов» заменяется сословием жрецов. См. также о нападках на жрецов (даже на египетских жрецов), предсказателей и шаманов в «Политике», 290 с и след.; см. также прим. 57 (2) к гл. 8 и прим. 29 к гл. 4.
Замечание Дж. Адама, процитированное в следующем абзаце, взято из его примечания к «Государству», 547 а 3 (этот фрагмент цитировался ранее в тексте к прим. 43 к гл. 5).
8.35
См., например, «Государство», 484 с, 500 е и след.
8.36
«Государство», 535 а-b. Все, что Дж. Адам говорит (см. его прим. к 535 b 8) о термине, который я перевел как «строгий» (awe-inspiring), подкрепляет обычную точку зрения, согласно которой этот термин означает «суровый» и «ужасный», особенно в смысле «ужасающий». Адам предлагает переводить его как «мужественный» или «зрелый», следуя, таким образом, общей тенденции смягчать высказывания Платона — тенденции, которая на удивление расходится с тем, что говорится в «Теэтете», 149 а. А. Линдсей переводит: «крепкой морали».
8.37
Там же, 540 с; см. также 500 c-d: «философ также становится… божественным» и прим. 12 к гл. 9, где 540 с и след. процитирован более полно. Чрезвычайно интересно проследить, как Платон преобразует Единое Парменида, когда он приводит доводы в пользу аристократической иерархии. Оппозиция «одно — многое» не сохраняется, но как бы порождает шкалу степеней: одна идея — немногие, подошедшие к ней близко, — большое количество их помощников — многие, т.е. чернь. (В «Политике» это разделение является фундаментальным.) Напротив, в монотеизме Антисфена сохранено первоначальное элеатское противопоставление Единого (Бога) и Многого (последнее он, вероятно, рассматривал как братьев, так как они находятся на равном расстоянии от Бога). Учение Парменида повлияло на Антисфена через Горгия, подвергшегося влиянию Зенона. Возможно, имелось также влияние Демокрита, который учил: «Для мудреца открыта вся земля, ибо весь мир — родина для высокого духа».
8.38
«Государство», 500 b.
8.39
Эта цитата из «Государства», 459 b, а следующая — 459 е. См. также три сравнения из «Политика», где правитель уподобляется (1) пастуху; (2) врачу; (3) ткачу, работа которых аналогична работе человека, искусно соединяющего людей для рождения детей (310 b и след.).
8.40
«Государство», 460 а. Мое утверждение о том, что Платон считает этот закон очень важным, основано на том факте, что Платон упоминает о нем в «Тимее», 18 d-e, в месте, где он кратко излагает содержание «Государства».
8.41
Там же, 460 b. Это предположение подхвачено в 468 с; см. след. прим.
8.42
Там же, 468 с. Несмотря на то, что мой перевод был подвергнут критике, он правилен, так же как и мое замечание относительно «двойной выгоды». Шори называет этот фрагмент «прискорбным».
8.43
Относительно мифа о Числе и Упадке см. прим. 13 и 52 к настоящей главе, прим. 39-40 к гл. 5 и соответствующий текст.
8.44
«Государство», 473 с-е. Обратите внимание на противопоставление (божественного) покоя злу, т.е. изменению в виде гниения или вырождения. Что касается термина, переведенного здесь как «владыки», см. конец прим. 57 к настоящей главе. Он тождествен термину «наследственная аристократия».
Фраза, поставленная мною в скобки из стилистических соображений, важна, так как в ней Платон требует подавлять всех «чистых» философов и политиков-философов. Более буквальный перевод этой фразы таков: «в то время, как многие из тех, кто в настоящее время в соответствии со своим характером (предрасположены или наделены способностью) продвигаться в одном из этих двух направлений, устраняются силой». Адам признает, что значение платоновской фразы таково: «Платон отказывается разрешить заниматься одним лишь поиском знания». Однако его предположение, что мы смягчаем значение последних слов этой фразы, переводя: «силой лишаются права на занятия лишь чем-то одним из этого» (курсив Адама; см. прим. к 473 d 24, том I, с. 330 «Государства» под его редакцией), основывается не на подлиннике, а на стремлении Адама идеализировать Платона. То же верно относительно перевода А. Линдсея («силой лишаются права на такое поведение»). — Кого хочет подавить Платон? Я полагаю, что «многие», чьим ограниченным и несовершенным талантам или «характерам» Платон здесь выносит приговор, тождественны (что касается философов) «тем многим людям, несовершенным по своей природе», которые упомянуты в «Государстве», 495 d, а также тому «большинству» (мнимых философов), которое «неизбежно порочно» и которое Платон упоминает в 489 е (см. также 490 е/491 а); см. прим. 47, 56 и 59 к настоящей главе (и прим. 23 к гл. 5). Таким образом, Платон нападает, с одной стороны, на «необразованных» политиков-демократов, а с другой стороны, вероятно, в основном на полуфракийца Антисфена, «необразованного незаконнорожденного», эгалитарного философа; см. прим. 47 к настоящей главе.
8.45
I. Kant. On Eternal Peace, Second Supplement //Werke, ed. by E. Cassirer, 1914, vol. VI, p. 456; курсив мой (русский перевод: И. Кант. К вечному миру // Сочинения в шести томах. Том 6. М., Мысль, 1966, с. 289). «Обладание властью», вполне возможно, намекает на Фридриха II Прусского.
8.46
См., например, Th. Comperz. Greek Thinkers, V, 12, 2 (German ed., vol. II2, S. 382) или «Государство» в переводе А. Линдсея. (Критику этой интерпретации см. в прим. 50 и далее.)
8.47
Следует признать, что выяснение отношения Платона к Антисфену является достаточно сложной проблемой, потому что об Антисфене очень мало известно из первоисточников. Даже старая традиция стоиков прослеживать историю школы или движения киников от Антисфена в настоящее время подвергается сомнениям (см., например, G. С. Field. Plato, 1930 или D. R. Dudley. A History of Cynicism, 1937), хотя, быть может, для этого нет достаточных оснований (см. обзор Фрица только что упомянутой книги, помещенный в «Mind», vol. 47, p. 390). Мне представляется весьма вероятным с точки зрения того, что мы знаем об Антисфене, особенно от Аристотеля, что в работах Платона содержится много намеков на Антисфена. Даже одного того, что Антисфен был единственным из кружка Сократа, кроме Платона, кто преподавал философию в Афинах, было бы достаточно, чтобы оправдать попытки найти такие намеки в платоновских работах. Теперь я полагаю вполне вероятным, что ряд содержащихся в работах Платона нападок, на которые впервые указал Ф. Дюммлер (см. особенно «Государство», 495 d-e — фрагмент, упомянутый далее в прим. 56 к настоящей главе; «Государство», 535 е и след., «Софист», 251 b-е), отражают эти намеки. Между этими фрагментами и пренебрежительными выпадами Аристотеля против Антисфена имеется определенное сходство (по крайней мере, на мой взгляд). Аристотель, упоминая имя Антисфена, отзывается о нем как о простаке и говорит об «Антисфене и других столь же мало сведущих людях» (см. прим. 54 к гл. 11). Платон в указанных фрагментах высказывает почти то же самое, но гораздо резче. Первым мне на память приходит фрагмент из «Софиста», 251 b и след., который хорошо согласуется с первым отрывком из Аристотеля. Рассматривая два фрагмента из «Государства», мы должны помнить, что, в соответствии с традицией, Антисфен был «незаконнорожденным» (его мать происходила из варварской Фракии) и что он преподавал в афинском гимнасии, предназначавшемся для «незаконнорожденных». Далее, в «Государстве», 535 с и след. (см. конец прим. 52 к настоящей главе) мы находим выпад столь определенный, что его направленность на конкретного человека несомненна. Платон говорит: «В том-то и состоит ошибка нашего времени и потому-то недооценивают философию, что за нее берутся не так, как она того заслуживает», и заявляет, что «не подлым надо бы людям за нее браться, а благородным». Он называет этих людей «неуравновешенными» (или «косыми», или «хромыми») в их любви к труду и отдыху. Переходя на личности, Платон намекает на кого-то с «покалеченной душой», кто хотя и любит истину (как настоящий сократик), но не находит ее, так как «выпачкался в невежестве» (потому, вероятно, что не принял теорию форм). Платон предостерегает город-государство от веры таким «людям, хромающим на одну ногу и подлым». Я думаю, что объектом этого, несомненно, личного выпада был Антисфен. Признание того, что враг любит истину, представляется мне особенно сильным аргументом, приведенным в этом крайне гневном критическом пассаже. Однако если в этом фрагменте говорится об Антисфене, то вполне возможно, что к нему относится и другой похожий фрагмент — «Государство», 495 d-e, где Платон вновь описывает свою жертву как человека, у которого душа сломлена и покалечена так же, как и тело. В этом фрагменте он настаивает, что объект его презрения, несмотря на стремление быть философом, настолько развращен, что не стесняется заниматься отупляющим («механическим», см. прим. 4 к гл. 11) ручным трудом. Мы знаем, что именно Антисфен советовал трудиться, высоко ценя ручной труд (об установке Сократа по этому, поводу см. Хеnоphon. Mem., II, 7, 10), и что он сам делал то, чему учил, — еще один весомый аргумент в пользу того, что человек с покалеченной душой — Антисфен.
Далее, в том же фрагменте «Государства», 495 d, имеется замечание о людях, «несовершенных по своей природе» и тем не менее стремящихся к философии. По-видимому, это относится к той же группе («последователям Антисфена», по Аристотелю) «многих», которых Платон требует подавлять в «Государстве», 473 с-е, и которые обсуждаются в прим. 44 к настоящей главе. — См. также «Государство», фрагмент 489 е, упомянутый в прим. 59 и 56 к настоящей главе.
8.48
Мы знаем (от Цицерона (Cicero. De Natura deorum) и Филодема (Philodemus. De Pielate)), что Антисфен был монотеистом. То, как он выразил свой монотеизм (существует только Один Бог «в соответствии с природой», т.е. истиной, и в то же время существует много богов «в соответствии с соглашением»), показывает, что он подразумевал противопоставление природы и соглашения, а такое противопоставление для бывшего члена школы Горгия и современника Алкидама и Ликофрона (см. прим. 13 к гл. 5) должно было связываться с эгалитаризмом.
Разумеется, само по себе это не приводит к выводу о том, что полуварвар Антисфен верил в братство греков и варваров. Все же, как мне кажется, это весьма вероятно.
У. Тарн (W. W. Tarn. Alexander the Great and the Unity of Mankind; см. прим. 13 (2) к гл. 5) попытался показать — одно время эта попытка казалась мне успешной, — что мысль о единстве человечества может быть прослежена, по крайней мере, до Александра Великого. Я думаю, что, рассуждая таким образом, можно обнаружить эту идею гораздо раньше: у Диогена, Антисфена и даже у Сократа и у «Великого Поколения» времени Перикла (см. прим. 27 к гл. 10 и текст). Это кажется достаточно правдоподобным, даже если не рассматривать более детальных свидетельств. Ведь можно ожидать, что идея космополитизма имплицитно содержится в империалистских тенденциях, подобных той, которая характерна для века Перикла. Это утверждение кажется еще более правдоподобным, если существуют другие эгалитаристские тенденции. Я не хочу преуменьшить значение подвигов Александра, однако приписываемые ему Тарном мысли, как мне кажется, в некотором смысле возрождают некоторые лучшие идеи афинского империализма V века. См. также «Дополнение III» к тому 1, с. 407 и след.
Обращаясь к деталям, я могу прежде всего сказать, что имеются серьезные свидетельства, что по крайней мере во времена Платона (и Аристотеля) ясно понимали — проблема эгалитаризма касается двух совершенно аналогичных различений: греков и варваров, с одной стороны, и господ (или свободных) и рабов, с другой стороны. См. прим. 13 к гл. 5. Далее, имеются серьезные свидетельства в пользу того, что существовавшее в Афинах в V в. движение против рабства не ограничивалось несколькими интеллектуалами, такими, как Еврипид, Алкидам, Ликофрон, Антифон, Гиппий и т. д., но имело значительный практический успех. Это свидетельство мы находим в единодушных сообщениях врагов афинской демократии (особенно Старого олигарха, Платона, Аристотеля; см. прим. 17, 18 и 29 к гл. 4 и прим. 36 к гл. 10).
Теперь, если мы рассмотрим с этой точки зрения скудные, по общему признанию, свидетельства в пользу существования космополитизма, окажется, что эти свидетельства достаточно серьезны — при условии, что в число свидетельств мы включим нападки врагов этого движения. Другими словами, если мы хотим оценить действительное значение гуманистического движения, нам следует полностью учитывать нападки на него Старого олигарха, Платона и Аристотеля. Так, Старый олигарх (2, 7) критикует Афины за эклектический космополитический образ жизни. Особенно ценны, хотя и не часты, выпады Платона против космополитизма и других сходных движений. (Я имею в виду тахие фрагменты, как в «Государстве», 494 c-d и 562 е-563 а — «переселенец уравняется с коренным гражданином, а гражданин — с переселенцем; то же самое будет происходить и с чужеземцами». Последний фрагмент следует сравнить с ироническим описанием в «Менексене», 245 c/d, в котором Платон саркастически восхваляет Афины за их стойкую ненависть к варварам. Разумеется, фрагмент «Государства», 469 b-471 с также должен быть рассмотрен в данном контексте. См. также конец прим. 19 к гл. 6.) Даже если Тарн прав относительно Александра, вряд ли он вполне справедлив в отношении различных сохранившихся об этом движении утверждений, например Антисфена (см. с. 149, прим. 6 к его статье), или Еврипида, или Гиппия, или Демокрита (см. прим. 29 к гл. 10), или Диогена (с. 150, прим. 12), или Антифонта. Я не думаю, что Антифонт желал подчеркнуть лишь биологическое подобие людей, ведь он несомненно был общественным реформатором и «по природе» значило для него «по правде». Поэтому я уверен, что на практике он выступал против, с его точки зрения, мнимого различения греков и варваров. Фрагмент Еврипида, в котором тот утверждает, что благородный человек может странствовать по миру, как орел в небесах, Тарн комментирует, замечая, что «он знал, что у орла есть постоянный дом-скала». Однако это замечание не вполне точно отражает содержание фрагмента: ведь для того, чтобы быть космополитом, не обязательно расставаться с собственным постоянным домом. Учитывая это, я не понимаю, почему значение Диогена было чисто «отрицательным», если на вопрос: «Откуда ты?» он ответил, что он космополит, гражданин целого мира, особенно если подобные ответы давали и Сократ («Я гражданин мира»), и Демокрит («Для мудреца открыта вся земля, ибо весь мир — родина для высокого духа» — см. Дильс5, фр. 247, подлинность которого Тарн и Дильс подвергают сомнению).
В свете этого свидетельства следует рассматривать и монотеизм Антисфена. Ясно, что этот монотеизм отличается от племенного и исключительного монотеизма иудеев. (Если рассказ Диогена Лаэртского истинен и Антисфен действительно преподавал в Киносарге, гимнасии для «незаконнорожденных» (VI, 13), то это означает, что Антисфен намеренно подчеркивал свое смешанное и варварское происхождение.) Тарн, конечно же, прав, указывая (с. 145) на то, что монотеизм Александра связан с его идеей единства человечества. Однако то же самое следует сказать об идеях киников, на которые, я полагаю (см. последнее примечание), повлиял Антисфен и, через него, Сократ. (Ср. особенно свидетельство Цицерона, Tuscul, V., 37, и Эпиктета, I, 9, 1, с Диог. Л., VI, 2, 63-71; а также фрагмент из «Горгия», 492 е, с Диог. Л., VI, 105. См. также Эпиктет, III, 22 и 24.)
Вместе с тем мне не кажется столь уж невероятным, что, как принято считать, Александр был по-настоящему вдохновлен идеями Диогена, а следовательно, и эгалитаристской традицией. Однако теперь, учитывая критику Тарна Бадианом (Е. Badian. Hisloria, 7, 1958, с. 425 и след.), я склонен отвергнуть утверждения Тарна, хотя, разумеется, сохраняю свои взгляды на имевшееся в V в. движение против рабства.
8.49
См. «Государство», 469 b-471 с, особенно 470 b-d и 469 b-с. Здесь мы действительно (см. след. прим.) находим след чего-то подобного введению в новое этическое целое, более широкое, чем город-государство, а именно: превосходство эллинов. Как и следовало ожидать (см. след. прим. (1) (b)), Платон разрабатывает некоторые детали этого взгляда. (Корнфорд верно суммирует содержание этого фрагмента, когда говорит, что Платон «не выражает никаких гуманистических симпатий, выходящих за пределы Эллады»; см. J. Adam. «Plato's Republic», 1941, p. 165.)
8.50
В этом примечании я собрал дополнительные аргументы по поводу данной интерпретации «Государства», 473 е, и проблемы платоновского гуманизма. Я хочу выразить благодарность своему коллеге, проф. Г. Бродхеду, чья критика помогла мне завершить и уточнить мою аргументацию.
(1) Одна из обычных тем Платона (см. методологические замечания в «Государстве», 368 е, 445 с, 577 с и прим. 32 к гл. 5) — это противопоставление и сравнение индивидуального и целого, т.е. города. Для холиста было бы важным шагом ввести новое целое, еще более обширное, чем город — человечество. Это потребовало бы (а) подготовки и (b) развития, (а) Вместо подготовки мы находим упомянутый ранее фрагмент о противопоставлении греков варварам («Государство», 469 b-471 с). (b) Вместо развития мы обнаруживаем, самое большее, устранение неясного выражения «раса людей». Во-первых, сразу после рассматриваемого ключевого фрагмента, т.е. фрагмента о правителе-философе («Государство», 473 d-e), это сомнительное выражение встречается в иной формулировке, в виде итога или заключения всей речи. В этом параграфе противопоставление город — человеческая раса заменяется обычным платоновским противопоставлением город — личность: «иначе невозможно ни личное их, ни общественное благополучие». Во-вторых, мы придем к аналогичному результату, если проанализируем шесть повторов или вариантов (т.е. 487 е, 499 b, 500 е, 501 е, 536 а-b, рассмотренных в прим. 52 далее, и итоги, подводимые в 540 d/e, с добавлением 541 b) рассматриваемого ключевого фрагмента («Государство», 473 d/e). В двух из них (487 е, 500 е) упоминается только город, во всех остальных противопоставление город — человеческая раса вновь заменено обычным для Платона противопоставлением город — личность. Нигде больше мы не находим намека на якобы платоновскую идею о том, что лишь софократия может спасти не только страдающие города, но и страдающее человечество. В свете всего сказанного становится ясно, что во всех перечисленных случаях Платон придерживался своего обычного противопоставления (не желая, впрочем, как-нибудь выделять его в этой связи), вероятно, в том смысле, что только софократия может достичь стабильности и счастья — божественного покоя — в каждом государстве, так же, как и для каждого его отдельного гражданина и его потомства (в котором, в противном случае, возрастет зло — зло вырождения).
(2) Термин «ανθρωπινοσ» («человеческий») используется Платоном, как правило, или в противоположность «божественному» (и, соответственно, иногда в несколько пренебрежительном смысле, особенно в тех случаях, когда требуется подчеркнуть ограниченность человеческого познания или человеческого искусства — см. «Тимея», 29 c-d, 77 а, или «Софиста», 266 с, 268 d, или «Законы», 691 е и след., 854 а), или в зоологическом смысле, в противопоставлении животным, например орлам, или в отношении к ним. Нигде, за исключением ранних сократических диалогов (о еще одном исключении см. прим. (6) ниже) я не нахожу этого термина (или термина «человек») в гуманистическом смысле, т.е. указывающем на нечто, преодолевающее национальные, расовые или классовые различия. Термин «человеческий» используется редко даже в «менталистском» смысле. (Я имею в виду такое использование, как в «Законах», 737 b — «нечеловеческое невежество».) В действительности, крайне националистические взгляды Фихте и Шпенглера, высказывания которых приведены в гл. 12, текст к прим. 79, точно передают платоновское использование термина «человеческий» как выражающего зоологическую, а не моральную категорию. К числу фрагментов Платона, в которых этот термин так (или почти так) используется, могут быть отнесены следующие: «Государство», 365 d, 486 а, 459 b-с, 514 b, 522 с, 606 е и след. (где Гомер, напутствующий людей в их делах, противопоставляется Гомеру, слагающему гимны богам), 620 b; «Федон», 82 b; «Кратил», 392 b; «Парменид», 134 е; «Теэтет», 107 b; «Критон», 46 е; «Протагор», 344 с; «Политик», 274 d (пастырь человеческого стада, являющийся богом, а не человеком); «Законы», 673 d, 688 d, 737 b (890 b, пожалуй, еще один пример пренебрежительного оттенка использования — «человек» здесь, по-видимому, почти тождествен «толпе»).
(3) Конечно, верно, что Платон допускает форму или идею Человека, однако это не значит, что такая форма представляет нечто общее для всех людей, скорее, это аристократический идеал гордого сверхгрека. На этом-то и основана вера не в братство людей, а в иерархию «характеров» (natures) — аристократических или рабских — в соответствии с их большим или меньшим подобием оригиналу, древнему прародителю человеческой расы. (Греки схожи с ним больше, чем всякая другая раса.) Таким образом, «ум… есть достояние богов и лишь малой горстки людей» («Тимей», 51 е; ср. с Аристотелем в тексте к прим. 3, гл. 11).
(4) «Государство на небе» («Государство», 592 b) и его граждане, как правильно заметил Адам, — не греческие, однако это не значит, что они принадлежат «человечеству», как он полагает (прим. к 470 е 30 и др.), скорее, они сверхисключительные, сверхгреческие (они «выше» греческого города из фрагмента 470 е и след.), — в наибольшей степени удаленные от варваров. (Это замечание не означает, что идея Города на небе — подобно, например, идее Небесного Льва и других созвездий — не могла прийти с Востока.)
(5) И, наконец, можно упомянуть о фрагменте 499 c/d, в котором различие между греками и варварами отменяется в той же степени, что и различие между прошлым, настоящим и будущим. Здесь Платон пытается представить широкое обобщение, распространив его во времени и пространстве. Он хочет сказать лишь следующее: «Если когда бы то ни было и где бы то ни было» (мы могли бы добавить: даже в таком маловероятном месте, как некоторое варварское государство) «такое случится, то…». Замечание из «Государства», 494 c-d, выражает подобное, хотя и более сильное чувство — чувство, что вы сталкиваетесь с чем-то близким к абсурду. Это чувство в данном случае вызвано надеждами Алкивиада на всеобщую империю греков и чужеземцев. (Я согласен с позицией, выраженной Филдом в работе G. С. Field. Plato and His Contemporaries, p. 130, прим. 1, и Тарном — см. прим. 13 (2) к гл. 5.)
Итак, я не могу обнаружить у Платона ничего, кроме враждебности по отношению к гуманистической идее единства человечества — единства, преодолевающего расовые и классовые различия, и я полагаю, что тот, кто это все же находит, идеализирует Платона (см. прим. 3 к гл. 6 и текст) и не может понять связи между его исключительными аристократизмом и антигуманизмом и его теорией идей (см. также прим. 51, 52 и 57 к настоящей главе, далее).
(6) Насколько мне известно, существует лишь одно настоящее исключение, один фрагмент, находящийся в вопиющем противоречии со всем сказанным здесь. В отрывке («Теэтет», 174 е и след.), который призван проиллюстрировать терпимость и широту взгляда этого философа, мы читаем, что «у каждого были несметные тысячи дедов и прадедов, среди которых не раз случались богачи и нищие, цари и рабы, варвары и эллины». Я не знаю, как примирить этот интересный и определенно гуманистический фрагмент с другими взглядами Платона (сделанный в этом отрывке акцент на параллели: хозяин или раб и грек или варвар напоминает о всех тех теориях, которым противостоит Платон). Вероятно, это, как многое в «Горгии», сохраняет дух Сократа, а «Теэтет», возможно (в противоречие обычному допущению), был создан раньше, чем «Государство». См. также «Дополнение II» в конце тома 1.
8.51
Это, я полагаю, намек на два отрывка из истории о Числе, где Платон (говоря о «вашей расе») имеет в виду расу людей: «то, что на ней [земле] обитает» (546 а/b; см. прим. 39 к гл. 5 и текст) и «испытывать Гесиодовы поколения» (546 d/e и след.; см. прим. 39 и 40 к гл. 5 и следующий фрагмент). См. также доводы, приведенные в прим. 52 к данной главе, касающиеся «моста» между двумя этими фрагментами, т.е. между ключевым фрагментом о правителе-философе и историей о Числе.
8.52
«Государство», 546 d/e и след. Процитированный здесь отрывок — это часть истории о Числе и Упадке Человека, 546 а-547 а, процитированной в тексте к прим. 39/40 к гл. 5; см. также прим. 13 и 43 к настоящей главе. Мое утверждение (см. текст к последнему примечанию), что замечание в ключевом фрагменте о правителе-философе, «Государство», 473 е (см. прим. 44 и 50 к настоящей главе), предвещает историю о Числе, подтверждается наблюдением, что на самом деле существует мост между этими двумя фрагментами. Нет сомнения, что историю о Числе предвещает «Государство», 536 а/b, отрывок, который, с другой стороны, может быть описан как обращение (или вариант) фрагмента о правителе-философе. Ведь в действительности в нем говорится о том, что, если правители выбраны неверно, может произойти самое худшее, и кроме того, он заканчивается прямым напоминанием о великой волне: «если мы возьмем неподходящих для этого людей, то все у нас выйдет наоборот и еще больше насмешек обрушится на философию». Я полагаю, это ясное напоминание показывает, что Платон осознавал особенность данного фрагмента (который на самом деле развивается с конца 473 с-е к началу), в котором показано, что должно произойти, если предлагаемым в данном фрагменте советом пренебрегут. Далее, фрагмент-«обращение» (536 а/b) может быть описан как мост между ключевым фрагментом (473 е) и фрагментом о Числе (546 а, и след.), так как он содержит недвусмысленные ссылки на расизм, предвещающие посвященный тому же самому фрагмент (546 d и след.), к которому относится данное примечание. (Это можно расценить как дополнительное свидетельство в пользу того, что Платон подразумевал расизм и намекал на него, когда писал фрагмент о правителе-философе.) Теперь я процитирую начало фрагмента-«обращения» (536 а/b): «Не умеющий это различать — будь то частное лицо или государство, — сам того не замечая, привлечет для тех или иных надобностей — в качестве друзей ли или правителей — людей, хромающих на одну ногу и подлых». (См. также прим. 47 к настоящей главе.)
Интерес Платона к проблемам расового вырождения и расового «взращивания» в какой-то степени объяснен в тексте к прим. 6, 7 и 63 к гл. 10, в связи с прим. 39 (3) и 40 (2) к гл. 5.
К процитированному в следующем абзаце текста фрагменту о мученике Кодре см. «Пир», 208 d, более полно процитированный в прим. 4 к гл. 3. Айслер (R. Eisler. Caucasica, 5, 1928, p. 129, note 237) утверждает, что «Кодр» — это доэллинское слово, означающее «король». Благодаря этому афинская традиция автохтонного происхождения знати предстает более выпукло. (См. прим. 11 (2) к настоящей главе; 52 к гл. 8; «Государство», 368 а и 580 b/с.)
8.53
А. Е. Taylor. Plato, 1908, 1914, p. 122 и след. Я согласен с этим интересным фрагментом постольку, поскольку он процитирован в данном тексте. Однако я опустил слово «патриот» после слова «афинянин», так как я не полностью согласен с этой характеристикой Платона в том смысле, в котором ее использует Тейлор. О платоновском патриотизме см. текст к прим. 14-18 к гл. 4. О словах «патриот» и «отечество» см. прим. 23-26 и 45 к гл. 10.
8.54
«Государство», 494 о: «Такой человек с малых лет будет первым среди всех, особенно если и телом он уродился таким, как душой».
8.55
Там же, 496 с: «о моем собственном случае — божественном знамении — не стоит и упоминать».
8.56
Ср. с тем, что говорит Адам в своем издании «Государства» в прим. к 495 d 23 и 495 d 31, а также с моим прим. 47 к настоящей главе. (См. также прим. 59 к настоящей главе.)
8.57
«Государство», 496 c-d; ср. с «Седьмым письмом», 325 d. Я думаю, что Э. Баркер (Е. Barker. Greek Political Theory, I, p. 107, n. 2) вряд ли прав, когда он говорит о процитированном здесь фрагменте: «возможно, что Платон имеет в виду киников». Этот фрагмент, конечно же, не относится к Антисфену, а Диоген, которого, должно быть, имеет в виду Баркер, вряд ли был знаменит в ту пору, не говоря уже о том, что Платон не стал бы ссылаться на него именно так.
(1) Немного раньше в этом же фрагменте содержится еще одно замечание, в котором, возможно, Платон говорит о себе. Говоря о малом числе людей, достойным образом общающихся с философией, он упоминает о тех, кто «подвергшись изгнанию, сохранил как человек, получивший хорошее воспитание, благородство своей натуры» (т.е. спасся, избежав судьбы Алкивиада, павшего жертвой лести и осиротившего философию). Адам полагает (прим. к 469 b 9), что «вряд ли Платон был изгнан», однако отъезд учеников Сократа в Мегару после смерти учителя, возможно, сохранился в памяти Платона как один из поворотных пунктов в его жизни. Маловероятно, что эти слова относятся к Диону, т.к. Диону было примерно 40 лет, когда его сослали, и поэтому он к тому времени уже вышел из переломного юного возраста. Кроме того, здесь нет, как в случае с Платоном, параллели с младшим товарищем Сократа Алкивиадом (не говоря уже о том, что Платон препятствовал высылке Диона и пытался добиться ее отмены). Если мы признаем, что в этом фрагменте говорится о Платоне, придется признать то же в отношении фрагмента 502 а: «Но кто же станет оспаривать следующее: ведь может случиться, что среди потомков царей и властителей встретятся философские натуры…», т.к. окончание этого фрагмента так сильно напоминает предыдущий, что оба они, по-видимому, говорят об одной и той же «благородной натуре». Такое понимание 502 а само по себе допустимо, т.к. мы должны помнить, что Платон всегда демонстрировал свою фамильную гордость, например, в похвалах отцу и братьям, которых он называл «божественными» («Государство», 368 а; не могу согласиться с Адамом, который полагает, что это ироническое замечание; см. также замечание о мнимом предке Платона Кодре в «Пире», 208 d, а также его мнимом происхождении от родовых царей Аттики). Если принять такую интерпретацию, то ссылку на сыновей нынешних властителей и царей либо на них самих (499 b-с), которая целиком соответствует Платону (он был не только потомком Кодра, но к тому же еще и вел свою родословную от правителя Дропида), следовало бы рассматривать в том же самом свете, т.е. как подготовку к 502 а. Однако это бы разрешило еще одну загадку. Я имею в виду 499 b и 502 а. Трудно, и даже невозможно, расценивать эти фрагменты как попытки польстить младшему Дионисию, так как такое понимание вряд ли согласовалось бы с неслабеющей яростью и явно (576 а) личной подоплекой платоновских нападок (572-580) на старшего Дионисия. Важно отметить, что во всех трех фрагментах (473 а, 499 b, 502 а) Платон говорит о наследственных царствах (которые он так настойчиво противопоставляет тираниям) и о династиях. Однако из «Политики» Аристотеля 1292b 2 (см. Е. Meyer. Gesch. d. Altertums, V, p. 56) и 1292 11 известно, что династии — это наследственные олигархические семьи, а, значит, вовсе не такие семьи, как семья тирана Дионисия, а аристократические семьи, такие, как семья самого Платона. Утверждение Аристотеля поддерживают Фукидид, IV, 78 и Ксенофонт. Hellenica, V, 4, 46. (Эти доводы направлены против второго примечания Адама к 499 b 13.) См. также прим. 4 к гл. 3.
(2) Еще один важный фрагмент, в котором Платон явно говорит о себе, находим в «Политике». Здесь в качестве основной особенности царственного политика названо его знание, или наука. В результате — еще одно оправдание софократии: «И из государственных устройств то необходимо будет единственно правильным, в котором можно будет обнаружить истинно знающих правителей» (293 с). Платон доказывает, что «мы должны в соответствии с прежним рассуждением наречь царем того, кто обладает царским знанием, — правит ли он на самом деле или нет» (292 е/293 а). Платон, конечно, утверждал, что он сам обладает царским знанием, и соответственно, из этого фрагмента несомненно следует, что он считал себя человеком, которого следует «наречь царем». Пытаясь понять «Государство», ни в коем случае не следует пренебрегать этим показательным фрагментом. (Царская наука — это, конечно, все та же наука романтичного педагога и воспитателя класса господ, который обеспечит структуру, ограждающую и удерживающую в единстве все остальные классы, описанные в 289 с и след. (рабов, ремесленников, слуг и т. д.). Таким образом, предполагается, что задача царской науки состоит в переплетении, смешивании наиболее сдержанных и мужественных характеров, когда они сведены воедино посредством царской власти для жизни в единодушии и дружбе. См. также прим. к 40 (2) к гл. 5, прим. 29 к гл. 4 и прим. 34 к настоящей главе.)
8.58
В знаменитом отрывке из «Федона» (89 d) Сократ предостерегает против мизантропии, или человеконенавистничества (он сравнивает это с ненавистью к слову или недоверием к доводам разума). См. также прим. 28 и 56 к гл. 10 и прим. к гл. 7. Следующая цитата этого абзаца взята из «Государства», 489 b/с. Связь ее с предыдущими фрагментами станет более очевидной, если мы рассмотрим отрывок 488-489 целиком, а особенно выпад (489 е) против «неизбежной порочности большинства» философов, т.е. тех же «людей, несовершенных по своей природе», о подавлении которых уже говорилось в прим. 44 и 47 к настоящей главе.
Знак того, что Платон однажды мечтал стать правителем-философом и спасителем Афин, может быть найден, я полагаю, в «Законах», 704 а-707 с, где Платон пытается указать, как опасны море, мореплавание, торговля и империализм с точки зрения морали. (См. Аристотель «Политика», 1326b-1327а, а также мои прим. 9-22 и 36 к гл. 10 и текст.)
См. особенно «Законы», 704 d: «если бы оно [государство] было приморским, с прекрасными гаванями… ему понадобились бы великий спаситель и божественные законодатели, чтобы воспрепятствовать развитию всевозможных дурных наклонностей» Не хотел ли Платон сказать этим, что его неудача в Афинах была вызвана «сверхчеловеческими» трудностями, связанными с географией места? (Но несмотря на все разочарования, см. прим. 25 к гл. 7, Платон все еще верит в этот способ победы над тираном; см. «Законы», 710 c/d, процитированный в тексте к прим. 24 к гл. 4.)
8.59
В одном месте (начинающемся с фрагмента 498 d/e в «Государстве»; см. прим. 12 к гл. 9) Платон даже выражает надежду на то, что «это большинство», быть может, заставит их передумать и согласиться с тем, чтобы философы стали правителями: ведь они научатся (вероятно, из «Государства»?) отличать подлинного философа от мнимого. С двумя последними строками см. «Государство», 473 е-474 а и 517 а/b.
8.60
Иногда в этих мечтах признаются открыто. Ф. Ницше, «Воля к власти», аф. 958, ссылаясь на «Феага» (125 е/126 а), пишет: «В платоновском "Феаге" говорится: "Думаю, я мог бы пожелать стать тираном, и лучше всего над всеми людьми, а если это невозможно, то над их большинством. Да ведь, пожалуй, и ты, и все остальные хотели бы этого, а еще более — стать богами…". Это — дух, который должен вернуться». Нет необходимости комментировать политические взгляды Ницше, однако есть и другие философы, платоники, которые наивно давали понять, что если бы какой-нибудь счастливый случай привел к власти в современном государстве платоника, он продвинулся бы к платоновскому идеалу, оставив все в гораздо лучшем состоянии, чем то, которое он застал в начале. «…Люди, рожденные в "олигархическом" или "демократическом" государстве», — читаем мы (в этом контексте это вполне может служить намеком на Англию 1939 года), — «с идеалами платоновских философов, и оказавшиеся, по какому-то счастливому стечению обстоятельств, у кормила верховной власти, конечно же, попытались бы воплотить в жизнь платоновское государство. И даже если бы они не достигли полного успеха, после них государство оказалось бы гораздо ближе к идеалу, чем вначале» (цитата взята из работы Тейлора: А. Е. Taylor. The decline and Fall of the State in «Republic», VIII, Mind, New Series, 48, 1939, p. 31). В следующей главе я критикую подобные романтические мечты.
Пытливый анализ платоновского стремления к власти можно найти у X. Кельзена в его блестящей статье: Н. Kelsen. Platonic Love // The American Imago, vol. III, 1942, pp. 1 и след.)
8.61
Там же, 520 а-521 с, цитата приведена из 520 d.
8.62
См. G. В. Stern. The Ugly Dachshund, 1938.
Примечания к главе 9
Эпиграф к главе взят из «Семьи Тибо» Роже Мартен дю Гара (Roger Martin du Gard. Les Thibaults. London, 1940, p. 575; русский перевод: Роже Мартен дю Гар. Семья Тибо. М., Художественная литература, 1972).
9.1
Мое описание утопической социальной инженерии, по-видимому, совпадает с той ее формой, которую защищает М. Истмен в работе «Марксизм — это наука?» (М. Eastman. Marxism: is it Science?), см. особенно р. 22 и далее. Создается впечатление, что взгляды Истмена представляют резкий переход от историцизма к утопической инженерии. Однако, может быть, я заблуждаюсь, и Истмен в действительности подразумевает что-то более похожее на то, что я называю постепенной или поэтапной инженерией. Концепция «социальной инженерии» Роско Паунда явно является «постепенной или поэтапной» (ср. прим. 9 к гл. 3; см. также прим. 18 (3) к гл. 5).
9.2
Я полагаю, что с этической точки зрения страдание и счастье, боль и удовольствие не симметричны. И утилитаристский принцип величайшего счастья, и принцип Канта «Содействуйте счастью других людей…», по-моему, не верны с этой точки зрения (по крайней мере в таких их формулировках), однако вряд ли это может быть доказано с помощью рациональных доводов. (Об иррациональной стороне этических убеждений см. прим. 11 к настоящей главе. О рациональной их стороне см. раздел II и особенно раздел III гл. 24.) По моему мнению (см. прим. 6 (2) к гл. 5), человеческое страдание с моральной точки зрения непосредственно взывает к помощи, в то время как возрастание счастья людей, которым и так хорошо, не подразумевает подобного призыва. (Для дальнейшей критики утилитаристской формулы «максимизации удовольствия» необходимо учесть, что эта формула предполагает существование непрерывной шкалы «удовольствие — боль», т.е. шкалы, которая позволяет нам рассматривать степени боли как отрицательные степени удовольствия. Однако, с точки зрения морали, удовольствие не может перевесить боль, и особенно удовольствие одного человека — боль другого. Вместо того, чтобы требовать величайшего счастья для огромного большинства, следует более скромно попросить, чтобы у всех стало меньше тех страданий, которых можно избежать. Что касается неизбежных страданий — например, голода в те времена, когда нехватка продуктов неизбежна, то их следует разделить поровну, насколько это возможно.) Имеется некоторая аналогия между сформулированной этической позицией и тем подходом к научной методологии, который я защищаю в работе «The Logic of Scientific Discovery». Такой методологический подход позволяет нам лучше понять сферу этики, где значительно правильнее формулировать наши требования отрицательно, т.е. требовать устранения страданий, а не содействия счастью. Аналогичным образом существенно правильнее формулировать в качестве задачи научного метода устранение ложных теорий (из ряда предлагаемых гипотез), а не получение точно установленных истин.
9.3
Очень хорошим примером постепенной, поэтапной инженерии или соответствующей поэтапной технологии являются две статьи К. Симкина о бюджетной реформе (С. Simkin. Budgetary Reform // Australian Economic Record, 1941, pp. 192 и след.; 1942, pp. 16 и след.). Я рад, что могу сослаться на эти две статьи, поскольку в них осознанно применяются защищаемые мною методологические принципы: ведь это показывает, что данные принципы полезны в практике технологии социального исследования.
Я не думаю, что постепенная или поэтапная инженерия не может быть дерзкой и должна ограничиваться лишь решением «мельчайших» проблем. Однако я полагаю, что степень сложности, на которую мы можем претендовать, определяется объемом нашего опыта, приобретенного в процессе сознательного и систематического применения частных методов социальной инженерии.
9.4
К этой точке зрения недавно привлек внимание фон Хайек в ряде интересных статей (см. например, F. A. von Hayek. Freedom and the Economic System // Public Policy Pamphlets, Chicago, 1939). Я полагаю, что моя «утопическая инженерия» в значительной степени соответствует тому, что Хайек называет «централизованным» или «коллективистским» планированием. Сам Хайек предлагает то, что он называет «планирование ради свободы». По-моему, он согласился бы с тем, что такое планирование приобрело бы черты «постепенной инженерии». Как мне кажется, возражения Хайека против коллективистского планирования можно было бы сформулировать примерно так. Если мы попытаемся построить общество в соответствии с нашей схемой, может оказаться, что в нашей схеме нет места индивидуальной свободе. Если мы все же включим ее в нашу схему, сама схема может оказаться нереализуемой. Причина состоит в том, что централизованное экономическое планирование устраняет из экономической жизни одну из важнейших функций индивида, а именно, его функцию свободного потребителя, т.е. человека, выбирающего продукт. Другими словами, критика Хайека относится к сфере социальной технологии. Он указывает на определенную технологическую невозможность — невозможность создать план общества, которое одновременно экономически централизованно и индивидуалистично.
Тех, кто знаком с книгой Хайека «Дорога к рабству» (F. Hayek. The Road to Serfdom, 1944; русский перевод: Ф. Хайек. Дорога к рабству // Вопросы философии, 1990, NN 10-12), возможно, удивит это замечание, ведь установка, которой Хайек придерживается в этой книге, настолько отчетлива, что мои комментарии совершенно излишни. Однако мое примечание было опубликовано задолго до книги Хайека, и хотя в его ранних работах были предвосхищены многие из его позднейших идей, явное выражение они получили лишь в «Дороге к рабству». Кроме того, когда я писал это примечание, мне не были известны многие мысли, связываемые в настоящее время с именем Хайека.
Но и теперь мое описание позиции Хайека не кажется мне ошибочным, хотя, безусловно, в то время я преуменьшал ее значение. Возможно, следующие изменения помогут восстановить справедливость.
(а) Сам Хайек не стал бы использовать термин «социальная инженерия» в отношении какой-нибудь политической деятельности, которую он готов был бы защищать. Хайек возражает против этого термина, поскольку связывает его с общей тенденцией, которую он назвал «сциентизмом» — наивной верой в то, что методы естественных наук, или, вернее, то, что многие люди считают методами естественных наук, должны привести к таким же впечатляющим результатам и в социальной сфере, к каким они привели в области наук о природе. (См. серии статей Хайека в «Экономике» (Economica): «Сциентизм и изучение общества» (Scientism and the Study of Society), IX-XI, 1942-44, «Контрреволюция в науке» (The Counter-revolution of Science), VIII, 1941.)
Если, говоря «сциентизм», мы подразумеваем тенденцию перенести в сферу общественных наук то, что считается методом естественных наук, то историцизм может быть назван одной из форм сциентизма. Типичный и влиятельный аргумент в пользу историцизма в общих чертах состоит в следующем: «Мы можем предсказывать затмения, почему же тогда мы не можем предсказывать революции?». В более продуманном виде этот довод выглядит так: «Задачей науки является предсказание. Таким образом, задачей общественных наук должны быть предсказания относительно общества, т.е. истории». Я попытался опровергнуть этот довод (см. мои работы «Нищета историцизма» («The Poverty of Historicism»), «Предсказание и предвидение и их значение для социальной теории» («Prediction and Prophecy, and their Significance for Social Theory» // Proceedings of the Xth International Congress of Philosophy, Amsterdam, 1948), а также «Conjectures and Refutations»), и в этом смысле я противник сциентизма.
Но если под «сциентизмом» мы будем понимать позицию, в соответствии с которой методы общественных наук в весьма значительной степени те же, что и методы естественных наук, то я буду принужден сознаться в своей преступной приверженности «сциентизму». Действительно, я верю, что существующее между общественными и естественными науками сходство может быть использовано даже для исправления неверных идей относительно естественных наук, так как может быть показано, что эти науки гораздо ближе к общественным, чем принято считать.
Вот почему я продолжал использовать термин Роско Паунда «социальная инженерия» в смысле,который придал ему сам Роско Паунд и который, насколько я могу судить, свободен от той формы «сциентизма», от которой, я думаю, следует отказаться.
Оставив в стороне терминологию, можно сделать вывод о том, что взгляды Хайека можно согласовать с тем, что я называю «постепенной, поэтапной инженерией». С другой стороны, Хайек выразил свои мысли гораздо яснее, чем можно предположить на основе моего старого обзора. Его взгляды, соответствующие тому, что я бы назвал «социальной инженерией» (в смысле Паунда), отчасти выражены в предположении, что в свободном обществе имеется настоятельная потребность в перестройке того, что он обозначает как «рамки закона».
9.5
Брайен Маги привлек мое внимание к тому, что он верно называет «превосходно выраженный довод де Токвиля» (см. de Tocqueville. L'ancien regime).
9.6
Вопрос о том, оправдывает ли благая цель дурные средства, по-видимому, впервые возник в форме вопроса о том, следует ли лгать больному с тем, чтобы его успокоить, или следует ли держать людей в неведении, чтобы они были счастливы, или вопроса, следует ли начинать длительную и кровавую гражданскую войну, чтобы установить царство мира и красоты.
Во всех этих случаях предполагаемое действие должно сначала привести к первому результату (называемому «средства»), который считается злом, с тем чтобы затем мог быть достигнут второй результат (называемый «целью»), который считается благом.
Я думаю, что во всех этих случаях возникают вопросы трех разных видов.
(а) В какой степени мы можем рассчитывать, что данные средства действительно приведут к ожидаемой цели? Поскольку средства достигаются скорее, они являются более определенным результатом предполагаемого действия, а цель, будучи более отдаленной, определена в меньшей степени.
Встающий в связи с этим вопрос является вопросом фактическим, а не вопросом моральной оценки. Это, на самом деле, вопрос о том, можно ли полагаться на предполагаемую каузальную связь между средствами и целью, и поэтому на него можно ответить, что если предполагаемая каузальная связь не проявилась, то в данном случае нельзя было говорить о средствах и цели.
Однако даже если это и верно, на практике рассматриваемая здесь проблема является наиболее важной именно с точки зрения морали. Ведь хотя вопрос о том, приведут ли предполагаемые средства к предполагаемой цели, — фактический, наша установка в отношении этого вопроса поднимает одну из фундаментальных моральных проблем: можем ли мы в таких случаях полагаться на нашу убежденность в том, что такие каузальные связи имеют место. Другими словами, можем ли мы догматически полагаться на каузальные теории или нам следует занять по отношению к ним скептическую позицию, особенно если непосредственный результат нашего действия сам по себе считается злом.
Если этот вопрос и не так важен применительно к первому из наших примеров, он важен в применении к двум другим. Некоторые люди могут быть совершенно уверены в том, что в этих двух случаях существует предполагаемая каузальная связь. Однако эта связь может быть весьма опосредованной. Кроме того, не исключено, что эмоциональность, с которой эти люди выражают свою уверенность, является лишь следствием их попыток подавить свои сомнения. (Иначе говоря, здесь скрыто разногласие между фанатиком и рационалистом в сократовском смысле, т.е. человеком, пытающимся определить границы своего интеллекта.) Чем большим злом являются «средства», тем важнее исход этого спора. Без сомнения, научиться придерживаться скептицизма в отношении каузальных теорий и сохранять интеллектуальную скромность — это одна из важнейших нравственных обязанностей.
Допустим, однако, что предполагаемая каузальная связь существует, или, иначе говоря, существует ситуация, в которой можно говорить о средствах и целях. В таком случае нам следует различать два следующих вопроса.
(b) Если предположить, что имеет место каузальная связь, и что мы обладаем достаточными основаниями, чтобы верить в нее, то рассматриваемая проблема приобретает форму вопроса о выборе из двух зол, т.е. что приведет к худшим последствиям — принятие предполагаемых средств или отказ от них. Другими словами, наилучшая цель не оправдывает как таковая дурные средства, но попытка избежать дурных результатов может оправдать действия, имеющие дурные результаты. (Большинство не сомневается, что допустимо отрезать человеку ногу, если это необходимо для сохранения его жизни.)
В этой связи может приобрести особую важность то, что в действительности мы не способны определить размеры рассматриваемого зла. Например, некоторые марксисты (см. прим. 9 к гл. 19), полагают, что насильственная социальная революция приведет к гораздо меньшим страданиям, чем постоянное зло, заключенное в том, что они называют «капитализмом». Однако даже если предположить, что революция ведет к лучшему положению дел, остается вопрос: как они могут оценивать страдания в каждом из этих двух состояний? Здесь вновь встает фактический вопрос и мы обязаны не переоценивать наше фактическое знание. Кроме того, даже если предположить, что данные средства в целом улучшат ситуацию, — разве мы можем быть уверены, что применяя другие средства, нельзя было бы достичь лучших результатов и меньшей ценой?
Но тот же пример поднимает еще один очень важный вопрос. Вновь предположим, что общая сумма страданий, причиняемых «капитализмом» на протяжении жизни нескольких поколений, перевесила бы страдания, причиненные гражданской войной, но можно ли осуждать на страдания одно поколение во имя другого? (Существует большая разница между принесением себя в жертву во имя остальных и принесением в жертву остальных — или себя и остальных — во имя какой-нибудь подобной цели.)
(с) Еще один важный момент состоит в том, что мы не должны думать, что так называемая «цель» как конечный результат более важна, чем промежуточный результат — «средства». Эта мысль, выражаемая такими поговорками, как «Все хорошо, что хорошо кончается», — величайшее заблуждение. Во-первых, с достижением так называемой «цели» никогда ничего не заканчивается. Во-вторых, средства как таковые не исчезают, как только достигнута цель. Например, «дурные» средства, такие, как новое мощное оружие, используемое в войне во имя победы, может привести к новым бедствиям тогда, когда «цель» будет достигнута. Другими словами, то, что может быть справедливо названо средствами для достижения некоторой цели, очень часто не сводится просто к средствам, приводя к результатам, выходящим за пределы данной цели. Мы должны в действительности учитывать не средства (бывшие или будущие) по отношению к цели (будущей), а общие результаты, насколько их можно предвидеть, одного образа действий по отношению к другому. Эти результаты распространяются на период времени, включающий в себя и более отдаленные последствия предпринятых действий, и момент достижения предполагаемой «цели» не следует считать моментом конца нашего анализа.
9.7
(I) Я полагаю, что очень важен параллелизм между институциональными проблемами гражданского и международного мира. Каждая международная организация, имеющая законодательные, административные и судебные институты, а также вооруженную, готовую действовать исполнительную власть, должна поддерживать международный мир столь же успешно, как и аналогичные институты внутри государства. Однако, на мой взгляд, не следует требовать от них большего. Мы сумели свести количество преступлений внутри государств к сравнительно незначительному числу, однако не смогли полностью их устранить. Поэтому мы еще долгое время будем нуждаться в полиции, готовой нанести удар и иногда действительно применяющей силу. Точно так же, я полагаю, мы должны быть готовы к тому, что международные преступления могут оказаться неискоренимыми. Возможно, мы возьмем на себя слишком много, если заявим, что наша цель — раз и навсегда исключить возможность войны: в результате, если эти надежды не оправдаются, может оказаться, что мы не располагаем силами, готовыми к нанесению удара. Тот факт, что Лига Наций не могла принять меры против агрессоров, по крайней мере в случае атаки на Маньчжоу-Го, в значительной степени объясняется бытовавшим тогда общим мнением, что Лига Наций была учреждена для того, чтобы положить конец всем войнам, а не вести их. Это показывает, что пропаганда в пользу окончания всех войн является самообезоруживающей. Мы должны покончить с международной анархией и быть готовы объявить войну любому международному преступлению. По этому поводу см. особенно «Война и преступление» Г. Манхейма (H. Mannheim. War and Crime, 1941), а также «Война ради прекращения войн» А. Линдсея (A. Lindsay. War to End War // Background and Issues, 1940).
Однако не менее важно было бы выяснить, в чем слабость аналогии между гражданским и международным миром, т.е. найти, где эта аналогия неверна. Целью поддерживаемого государством гражданского мира является защита государством отдельного гражданина. Гражданин — это, так сказать, «естественная» единица или атом (хотя даже в условиях гражданства имеется определенный «конвенциональный» элемент). С другой стороны, членами или единицами или атомами нашего международного порядка будут государства. Однако государство в принципе не может быть таким же «естественным» элементом, как гражданин: ведь не существует естественных границ государства Границы государства меняются и могут быть определены только посредством применения принципа status quo, а поскольку этот принцип всегда указывает на некоторую произвольно выбранную дату, то определение границ государства — чисто конвенциональная процедура.
Попытка отыскать некоторые «естественные» границы государств и, соответственно, рассматривать государство как «естественный» элемент, приводит к принципу национального государства и романтическим фикциям национализма, расизма и трибализма. Однако этот принцип не является «естественным» и мысль о том, что существуют такие естественные элементы, как нации, лингвистические или расовые группы, — чистый вымысел. Хотя бы это мы должны уяснить из истории: ведь с начала времен люди непрестанно перемешивались, объединялись, расходились и вновь перемешивались. Это не может прекратиться, даже если мы того пожелаем.
Есть и второй пункт, в котором аналогия между гражданским и международным миром не срабатывает. Государство должно защищать отдельного гражданина, т.е. элементы, атомы, но и международная организация должна в конечном счете защищать отдельных представителей человечества, а не его элементы или атомы, т.е. государства или нации.
Полный отказ от принципа национального государства (принципа, популярность которого объясняется только тем, что он обращается к племенным инстинктам, а также тем, что это самый дешевый и надежный способ, с помощью которого может продвинуться политик, которому нечего больше предложить) и осознание того, что границы всех государств с необходимостью конвенциональны, а также следующее за этим понимание того, что даже международные организации должны в конечном счете заботиться об отдельных представителях человечества, а не о государствах или нациях, — все это поможет нам ясно понять и преодолеть трудности, к которым приводит провал нашей фундаментальной аналогии. (См. также гл. 12, прим. 51-64 и соответствующий текст, и прим. 2 гл. 13.)
(2) Я полагаю, что замечание о том, что благо представителей человеческого рода следует считать главной заботой не только международных организаций, но и всей политики, как международной, так и «национальной» или локальной, имеет важные применения. Мы должны осознать, что к индивидам следует относиться справедливо, даже если принято решение разрушить властные организации агрессивного государства или «нации», к которой принадлежат эти индивиды. Широко распространено предубеждение, что разрушение или контроль за военной, политической и даже экономической мощью государства или «нации» предполагает нищету и угнетение отдельных граждан. Однако это предубеждение является в равной степени ненадежным и опасным.
Оно ненадежно, так как международная организация защищает граждан ослабленного таким образом государства от использования в корыстных целях их политической и военной слабости. Нельзя избежать ущерба только в одном отношении — в отношении их национальной гордости. Если же допустить, что имеются в виду граждане страны-агрессора, то этот ущерб неизбежен в любом случае при условии, что агрессия была отражена.
Также чрезвычайно опасно предубеждение, что невозможно отличить отношение к государству от отношения к отдельному его гражданину: ведь когда возникает проблема, как поступить со страной-агрессором, в странах-победительницах неизбежно появляются две группировки, а именно, фракция тех, кто требует суровости, и тех, кто требует снисходительности. Как правило, и те и другие не замечают третьей возможности: сурово отнестись к государству и, в то же время, проявить мягкость к его гражданам.
Но если этой возможности не замечают, случается следующее. Сразу после победы к государству-агрессору и его гражданам относятся сравнительно жестоко. Однако само государство, властные структуры, возможно, избегут того жестокого отношения, которого они заслужили, из-за нежелания жестоко обращаться с невинными гражданами, т.е. благодаря влиянию, каким-то образом оказываемому фракцией, ратующей за милосердие. Несмотря на это нежелание, граждане, вероятно, будут страдать больше, чем они того заслужили. Поэтому через некоторое время в победоносных странах, возможно, возникнет реакция. Тенденции эгалитаризма и гуманизма усилят фракцию, выступающую за терпимость и, наконец, встанут на место жестокой политики. Однако это все не только может предоставить шанс государству-агрессору начать новую агрессию — это также наделит его оружием морального негодования, как человека, с которым обошлись дурно. В то же время государства-победители, вероятно, будут страдать робостью, как человек, который чувствует, что поступил дурно.
Это весьма нежелательное развитие должно в конечном счете привести к новой агрессии. Ее можно избежать, если и только если с самого начала четко разграничить государство-агрессор (и тех, кто несет ответственность за его действия), с одной стороны, и граждан, с другой стороны. Жестокое отношение к государству-агрессору и даже радикальное разрушение его властных структур не получит такого нравственного отклика гуманистических чувств в победоносных странах, если оно соединено со справедливой политикой по отношению к отдельным гражданам.
Но возможно ли разрушить политическую силу государства, не нанося в то же время вреда его гражданам? Чтобы доказать, что это вполне возможно, я предложу пример политики, разрушающей политическую и военную мощь государства-агрессора, но не затрагивающей интересы отдельных граждан.
Окраины государства, в том числе морское побережье, а также основные (не все) гидростанции, месторождения угля и металлургические заводы должны быть отделены от государства и управляться как международные объекты, которые никогда не будут возвращены стране. Порты и сырье должны быть доступны гражданам государства, чтобы они могли продолжать экономическую деятельность в рамках закона, не страдая от каких бы то ни было экономических санкций, при условии, что они пригласили международные комиссии следить за тем, что эти средства используются по назначению. Запрещено любое их использование, способное помочь созданию нового военного потенциала, и если есть основания для подозрения, что международное оборудование и сырье используются для этих целей, их эксплуатация немедленно приостанавливается. В этом случае подозреваемые должны пригласить комиссию для тщательного расследования и предоставить удовлетворительные гарантии надлежащего использования ресурсов.
Эта процедура не устранила бы возможности нового нападения, но государство-агрессор в этом случае было бы вынуждено совершить нападение на международные территории, прежде чем создать новый военный потенциал. Поэтому новая агрессия была бы безнадежной при условии, что остальные страны сохранили и развили свой военный потенциал. В такой ситуации государство-агрессор было бы вынуждено в корне изменить свою установку и склониться к сотрудничеству. Оно будет вынуждено просить о международном контроле за его промышленностью и содействовать работе международного контролирующего органа (вместо того, чтобы препятствовать ей), так как только это послужит гарантией предоставления необходимых для промышленности средств. По-видимому, такое развитие не потребует больше никакого вмешательства во внутреннюю политику данного государства.
Опасность использования процедуры превращения ряда объектов в международные для эксплуатации или унижения населения побежденной страны может быть устранена путем международных правовых контрмер — например, могут быть предусмотрены апелляционные суды.
Этот пример показывает, как возможно, чтобы с государством обращались жестоко, а с его гражданами — милосердно.
(Я сохранил части (1) и (2) этого примечания в том виде, как они были написаны в 1942 году. Лишь к части (3), ставшей неактуальной, я сделал добавление после первых двух абзацев.)
(3) Однако является ли такой инженерный подход к проблеме мира научным? Уверен, многие будут утверждать, что подлинно научная установка по отношению к проблемам войны и мира должна быть иной. Они скажут, что прежде всего мы должны исследовать причины войны. Мы должны изучить силы, ведущие к войне, а также силы, ведущие к миру. Например, недавно кто-то заявил, что «длительный мир» может наступить только в том случае, если мы полностью рассмотрим «внутренние динамические силы» общества, способные привести к войне или миру. С тем чтобы выяснить, что это за силы, мы должны, разумеется, изучить историю. Иначе говоря, мы должны применить историцистский, а не технологический метод к проблеме мира. Это и называют единственно научным подходом.
Опираясь на историю, историцист может показать, что причины войны кроются в столкновении экономических интересов, в классовом или идеологическом конфликте, например в конфликте между свободой и тиранией, в расовых или национальных противоречиях, в столкновении имперских интересов или военных систем, в ненависти или в страхе, в зависти или в реваншизме или во всех этих и бесчисленных других факторах. Таким образом, он покажет, как сложно устранить эти причины. Он покажет, что нет смысла создавать международные организации, раз мы не можем устранить причины войны, — например, экономические и т. п.
Подобно этому психологист может доказывать, что причины войны кроются в «человеческой природе» или, точнее, в ее агрессивности и что единственный способ сохранить мир — это готовиться к следующим вспышкам агрессии. (Некоторые умники совершенно серьезно предлагают читать триллеры, несмотря на то, что их обожали многие диктаторы последнего времени.)
Я не думаю, что эти способы решения проблемы перспективны. Вернее, я не считаю правдоподобным довод, согласно которому для установления мира следует выяснить причину или причины войны.
Не исключено, что в некоторых случаях поиск причин некоторого зла и их устранение ведет к успеху. Если у меня болит нога и выясняется, что в туфле камешек, я могу его выкинуть. Однако это недостаточное основание для обобщений. Метод устранения камешков срабатывает далеко не во всех случаях, когда у меня болит нога. Временами я не могу определить «причину», временами я не могу ее устранить.
В общем, метод устранения причины нежелательного события применим только при условии, что нам известен короткий перечень необходимых условий (т.е. такой, что рассматриваемое событие может произойти лишь тогда, когда соблюдено хотя бы одно из перечисленных в этом списке условий) и если все эти условия поддаются контролю, вернее, могут быть предотвращены. (Следует заметить, что необходимые условия — это не то же самое, что иногда обозначают расплывчатым термином «причина» — скорее, это то, что обычно называют «сопутствующими причинами». Как правило, говоря о «причинах», мы имеем в виду множество достаточных условий.) Однако я не думаю, что может быть составлен такой список необходимых условий войны. Войны начинались в самых разных обстоятельствах. Войны — это не простое явление, подобное, скажем, грозам. Нет оснований считать, что если мы называем словом «война» множество разнообразных явлений, то они поэтому вызываются одинаковыми «причинами».
Это все показывает, что явно непредубежденный и несомненно научный подход, изучение «причин войны», в действительности не только подчинен предубеждениям, но и способен закрыть путь к обоснованному решению проблемы, т.е. является псевдонаучным.
Далеко ли мы продвинемся, если вместо введения законов и полиции станем решать «научно» проблему преступности, т.е. попытаемся точно выяснить, каковы причины преступления? Это не значит, что мы не можем время от времени обнаруживать важные факторы, сопутствующие преступлению или войне, или что мы не можем таким путем предотвращать значительный ущерб, однако всем этим можно заняться после того, как установлен контроль над преступлениями, т.е. после того, как введена наделенная силой полиция. С другой стороны, изучение экономических, психологических, наследственных, нравственных и других «причин» преступления и попытка их устранить вряд ли привело бы нас к мысли о том, что полиция (не устраняющая причину) может взять под контроль преступность. Мало того, что такие термины, как «причины войны» расплывчаты, — весь этот подход совершенно ненаучен. С тем же успехом можно было бы настаивать на том, что ненаучно носить пальто, когда холодно, и что требуется выяснить причины холодной погоды и устранить их. Или, может быть, заявить о ненаучности смазки, предложив вместо этого выяснить причины трения и устранить их. Я полагаю, что последний пример показывает всю абсурдность этой на первый взгляд научной критики: ведь так же, как смазка уменьшает «причины» трения, международная полиция (или другое вооруженное соединение подобного рода) может уменьшить важную «причину» войны, а именно надежду «удрать с добычей».
9.8
Я попытался показать это в моей работе «The Logic of Scientific Discovery». В соответствии с представленной здесь методологией я полагаю, что систематическое применение частичной инженерии поможет нам создать эмпирическую социальную технологию, которая достигается методом проб и ошибок. Только так, по-моему, и можно приступить к созданию эмпирической общественной науки. Тот факт, что такой общественной науки все еще нет и что историцистский метод не способен нас к ней приблизить — это один из самых сильных аргументов против возможности широкомасштабной или утопической оциальной инженерии. См. также мою работу «The Poverty of Historicism».
9.9
Очень похожая формулировка содержится в лекции Джона Каррузерса «Социализм и радикализм», опубликованной отдельной брошюрой (J. Саr ruthers. Socialism & Radicalism, publ. by Hammersmith Socialist Society, London, 1894). Его аргументы против постепенных реформ типичны: «Каждая полумера приводит к дурным результатам, причем обычно это зло превышает то, против которого она была направлена. Пока мы не решимся приобрести новую одежду, мы должны быть готовы ходить в тряпье: ведь заплаты не улучшат обноски». (Следует заметить, что термин «радикализм», использованный в заголовке лекции Каррузерса, означает нечто совершенно противоположное тому, как понимаю его я. Каррузерс защищает бескомпромиссную программу очистки холста и критикует «радикализм», т.е. программу «прогрессивных» реформ, защищаемых «радикальными либералами». Конечно, это употребление термина «радикальный» привычнее моего. Тем не менее, первоначально этот термин означал «углубление к корням» зла, или «искоренение зла», и ему нет адекватной замены.)
Цитаты, приведенные в следующем абзаце текста (о «божественном образце», которому должен подражать художник-политик) взяты из «Государства», 500 е-501 а. См. также прим. 25 и 26 к гл. 8.
Я полагаю, что в платоновской теории форм содержатся элементы, чрезвычайно важные для понимания теории искусства. Этот аспект платонизма рассмотрен Дж. Стюартом в книге «Платоновское учение об идеях» (J. Stewart. Plato's doctrine of Ideas, 1909, p. 128 и след.). Однако, как мне кажется, он уделяет слишком много внимания предмету чистого созерцания (как противоположному «образцу», который художник не только мысленно представляет себе, но и пытается воссоздать на холсте).
9.10
«Государство», 520 с. О «царском искусстве» см. «Политик» и прим. 57 (2) к гл. 8.
9.11
Часто говорят, что этика — часть эстетики, так как этические проблемы в конечном счете дело вкуса (см., например, G. Catlin. The Science and Methods of Politics, p. 315 и след.) Я не против этого, если здесь имеется в виду только то, что этические проблемы нельзя решить с помощью рациональных методов науки. Однако не следует недооценивать огромную разницу между моральным «делом вкуса» и вкусом в эстетике. Если мне не нравится роман, музыкальная пьеса или, например, картина, я не обязан их читать, слушать или рассматривать. Эстетические проблемы (за исключением, быть может, архитектуры) — личностные проблемы, в то время как этические проблемы затрагивают людей и их жизни. В этом отношении они принципиально различны.
9.12
Эта и предыдущая цитаты взяты из «Государства», 500 d-501 а (курсив мой). См. также прим. 29 (окончание) к гл. 4 и прим. 25, 26, 37 и 38 (особенно 25 и 38) к гл. 8.
Две цитаты, приведенные в следующем абзаце, из «Государства», 541 а, и из «Политика» 293 с-е.
Интересно (поскольку, по-моему, характерно для истерии романтического радикализма с его заносчивостью, спесью (греч. «νβρια») и тщеславной претензией на подобие божеству), что обоим рассмотренным нами фрагментам из «Государства» — об очистке холста (500 d-501 а) и о изгнании (541 а) предшествует упоминание божественности философов: «философ… становится… божественным» (500 c-d) и «Государство на общественный счет соорудит им памятники и будет приносить жертвы как божествам, если это подтвердит Пифия, а если нет, то как счастливым и божественным людям» (540 c-d; см. также прим. 37 к гл. 83 и текст).
Интересно также (по той же самой причине), что первому из этих фрагментов предшествует фрагмент (498 d-e и след.; см. прим. 59 к гл. 8), в котором Платон выражает надежду на то, что философы в качестве правителей могут оказаться приемлемыми даже для «многих».
Что касается термина «ликвидировать», можно процитировать следующий современный всплеск радикализма: «Разве не очевидно, что если мы стремимся к социализму — настоящему и постоянному, — то следует "ликвидировать" всю основную оппозицию, т.е. лишать гражданских прав, а при необходимости заточать в тюрьму всех, кто политически бездеятелен?». Этот замечательный риторический вопрос напечатан на с. 18 еще более замечательного памфлета Джильберта Коупа «Христиане в классовой борьбе», которому предпослано «Предисловие» епископа Брэдфордского (Gilbert Cope. Christians in the Class Struggle, 1942). В своем предисловии епископ уличает «нашу нынешнюю экономическую систему» в «аморальности и несоответствии христианству». Он говорит, что «когда совершенно ясно, что это — дело рук дьявола… никто не освободит слугу церкви от обязанности это разрушить». Поэтому епископ рекомендует памфлет как «ясный и проницательный анализ».
Можно процитировать еще несколько предложений этого памфлета. «Две партии могут обеспечить частичную демократию, в то время как полная демократия может быть установлена только единственной партией…» (с. 17). «В переходный период… рабочих… должна вести и организовывать единственная партия, не допускающая существования ни одной другой фундаментально ей противоположной…» (с. 19). «В социалистическом государстве свобода означает, что никому не разрешено посягать на принцип общественной собственности, но при этом каждого поощряют трудиться ради более действенного воплощения и функционирования этого принципа… Ответ на важный вопрос о том, как уничтожить оппозицию, определяется тем, какие методы использует сама оппозиция» (с. 18).
Но, по-видимому, интереснее всего следующий аргумент, который также находится на с. 18 и заслуживает внимательного прочтения: «Почему в капиталистической стране может быть социалистическая партия, а в социалистическом государстве не может быть капиталистической партии? Ответить легко: первая — это движение, включающее в себя все производительные силы огромного большинства и противостоящее крохотному меньшинству, в то время как вторая — это попытка меньшинства вернуть правящее положение и привилегии, возобновив эксплуатацию большинства». Иными словами, правящее «крохотное меньшинство» может позволить себе быть терпимым, а «огромное большинство» не может стерпеть «крохотное меньшинство». Этот простой пример — настоящий образец «ясного и проницательного анализа», как выразился епископ.
9.13
Об этом процессе см. также гл. 13, особенно прим. 7 и текст.
9.14
По-видимому, романтизм как в литературе, так и в философии может быть прослежен с Платона. Хорошо известно, что Руссо испытал его непосредственное влияние (см. прим. 1 к гл. 6) и знал платоновского «Политика» (см. «Общественный договор», книга II, гл. VII и книга III, гл. VI), в котором восхваляются пастухи древности. Вероятно, помимо этого прямого влияния, Платон послужил косвенным источником характерных для Руссо пасторального романтизма и его любви к простоте: ведь на Руссо, безусловно, повлияло итальянское Возрождение, представители которого заново открыли Платона, и особенно его натурализм и мечты о совершенном обществе простых пастухов (см. прим. 11 (3) и 32 к гл. 4 и прим. 1 к гл. 6). Интересно, что Вольтер сразу заметил опасность романтического обскурантизма Руссо. Заметил ее и восхищавшийся Руссо Кант, когда столкнулся с гердеровскими «Идеями» (см. также прим. 56 к гл. 12 и текст).
Примечания к главе 10
Эпиграф к этой главе заимствован из «Пира», 193 d.
10.1
См. «Государство», 419 а и след., 421 b, 465 с и след. и 519 е, см. также главу 6, в частности, разделы II и IV.
10.2
Я имею в виду не только средневековые попытки остановить развитие общества — попытки, которые были основаны на платоновской теории, согласно которой правители ответственны за души, за духовное здоровье управляемых (и на многих практических советах, разработанных Платоном в «Государстве» и «Законах»), но также и многие позднейшие движения в этом же направлении.
10.3
Я попытался применить к этой проблеме, насколько это возможно, метод, который я описал в моей «The Logic of Scientific Discovery».
10.4
См., в частности, «Государство», 566 е, см. также далее прим. 63 к этой главе.
10.5
В моей истории не должно быть «негодяев… Преступление… не представляет интереса… Все, что нас интересует, — это то, что лучшие люди делают с лучшими намерениями…» Я попытался, насколько это возможно, применить этот методологический принцип к моей интерпретации Платона. Формулировка процитированного в этом примечании принципа заимствована из предисловия Бернарда Шоу к «Святой Ианне» — см. первые предложения раздела «Трагедия, а не мелодрама» (Б. Шоу. Полное собрание пьес в шести томах. М., Искусство, т. 5, 1980, с. 355).
10.6
О Гераклите см. главу 2. По поводу созданных Алкмеоном и Геродотом теорий равенства перед законом см. прим. 13, 14 и 17 к гл. 6. Относительно экономического эгалитаризма Фалея Халкедонского см. «Политику» Аристотеля, 1266а и Diels5, гл. 39 (там же насчет и Гипподама из Милета). Относительно Гипподама см. также «Политику» Аристотеля, 1267b 22 и прим. 9 к гл. 3. Среди первых теоретиков политики мы должны, конечно, назвать софистов Протагора, Антифонта, Гиппия, Алкидама, Ликофрона и вместе с ними — Крития (см. Diels5, фрагменты 6, 30-38, а также прим. 17 к гл. 8) и Старого олигарха (если это два разных человека), а также Демокрита.
По поводу терминов «закрытое общество» и «открытое общество» и их использования в сходном смысле А. Бергсоном см. «Примечание к Введению». Моя характеристика закрытого общества как магического и открытого общества как рационального и критического, конечно, не позволяет применять эти термины без определенной идеализации общества. Магическая установка ни в коем случае не исчезает из нашей жизни, даже из самых «открытых» построенных до сих пор обществ, и, я думаю, маловероятно, что она вообще когда-либо исчезнет совсем. Несмотря на это, я считаю, что возможно сформулировать некоторый полезный критерий перехода от закрытого общества к открытому. Такой переход имеет место тогда, когда социальные институты впервые сознательно признаются продуктами человеческого творчества и когда их сознательное изменение обсуждается в терминах их пригодности для достижения человеческих целей и намерений. Если выразить то же самое менее абстрактно, можно сказать, что закрытое общество терпит крах, когда благоговение, с которым воспринимается социальный порядок, сменяется активным вмешательством в этот порядок и сознательным стремлением реализовать собственные или групповые интересы. Очевидно, что к такому социальному краху могут приводить культурные контакты в рамках роста цивилизации и, в еще большей степени, появление обнищавшей, т.е. безземельной части правящего класса.
Должен признаться, что мне не очень нравится использовать понятие «социальный крах» в общем случае. Мне кажется, что только что охарактеризованный крах закрытого общества был событием благотворным. В общем же случае термин «социальный крах», по-видимому, говорит только о том, что наблюдателю не нравится ход событий, который он описывает. Я думаю, что этот термин используется часто неправильно. Однако я полагаю, что с основанием или без него член определенного общества может иметь чувство того, что «все терпит крах». Нет сомнений, что для представителей ancien regime или русской знати Французская или Русская революции должны были представляться полным социальным крахом, но новые правители все это понимали, конечно, совсем по-другому.
А. Тойнби (см. A. J. Toynbee. A Study of History, vol. V, pp. 23-35, 338) описывает «появление схизмы в теле общества» как симптом того, что общество терпит крах. Поскольку схизма в форме разделения классов безусловно имела место в древнегреческом обществе задолго до Пелопоннесской войны, не ясно, почему Тойнби утверждает, что именно эта война (а не крах племенного строя) привела к краху эллинской цивилизации. (См. также прим. 45 (2) к гл. 4 и прим. 8 к настоящей главе.)
Некоторые замечания о сходстве между греками и маори можно обнаружить в J. Burnet. Early Greek Philosophy, 2nd ed., в частности на с. 2 и 9.
10.7
Я обязан этой критикой органической теории государства, а также многими другими интересными предложениями И. Попперу-Линкою. В одной из своих книг (J. Popper-Lynkeus. Die Allgemeine Naehrpfiicht, 2nd ed., 1923, pp. 71 и след.) он, в частности, пишет: «Превосходный Менений Агриппа… убедил восставший плебс вернуться» (в Рим), «поведав им сравнение с членами тела, которые взбунтовались против желудка… Почему же никто из них не сказал ему: "Хорошо, Агриппа. Если должен быть желудок, то мы, плебс, отныне сами хотим быть им, а вы… можете играть роль членов тела"». (По поводу этого сравнения см. Ливии. «История Рима от основания города», II, 32, и Шекспир. «Кориолан», Акт I, сцена I.) Будет небезынтересным отметить, что даже такие современные и, по-видимому, прогрессивные движения, как «Mass Observation», пропагандируют органическую теорию общества (в частности, на обложке их брошюры First Year's Work, 1937-38). См. также прим. 31 к гл. 5.
Следует вместе с тем признать, что племенное «закрытое общество» имеет в известном смысле «органический» характер именно по причине отсутствия в нем социального напряжения. Тот факт, что такое общество может быть основано на рабстве (как это и было в случае древних греков), сам по себе не создает социального напряжения, потому что нередко рабы, так же как и скот, не составляли часть общества. Поэтому интересы рабов и их проблемы не обязательно создавали ситуацию, которая ощущалась бы правителями как серьезная проблема внутри их общества. Однако рост населения действительно создает такую проблему. В Спарте, которая не выселяла своих граждан в колонии, это привело прежде всего к подчинению соседних племен ради завоевания их территории, а затем к сознательной попытке остановить всякое изменение при помощи мер, которые включали контроль за ростом населения при помощи института инфантицида, контроля за рождаемостью и гомосексуализма. Все это было прекрасно замечено уже Платоном, который всегда настаивал (возможно, под влиянием Гипподама) на необходимости фиксированного числа граждан в городе-государстве и который в «Законах» рекомендовал колонизацию и контроль за рождаемостью, а ранее — и гомосексуализм (такого же рода рассуждения можно обнаружить и в «Политике» Аристотеля, 1272а 23) как средство для поддержания постоянства населения (см. «Законы», 740 d-741 а и 838 е). (По поводу платоновской рекомендации инфантицида в «Государстве» и подобных проблем см., в частности, прим. 34 к гл. 4, прим. 22 и 63 к гл. 10 и прим. 39 (3) к гл. 5.) Конечно, всей этой практике вряд ли можно дать рациональное объяснение. Дорийская гомосексуальность, в частности, тесно связана с практикой войны и с попыткой возродить в жизни военной орды эмоциональное удовлетворение, которое в основном было разрушено с крахом племенного строя. Можно вспомнить, в частности, «войско, образованное из влюбленных», воспетое Платоном в «Пире», 178 е. Вместе с тем в «Законах», 636 b и след., 836 b/с Платон резко осуждает гомосексуальность (ср., однако, 838 е).
10.8
Я полагаю, то, что я называю «напряжением цивилизации», сходно с феноменом, который подразумевал 3. Фрейд, когда писал «Civilisation and its Discontent». А. Тойнби говорит о «чувстве сдвига» (A Study of History, V, p. 412 и след.), но ограничивает его «эпохами разложения», тогда как я нахожу социальное напряжение совершенно ясно выраженным уже у Гераклита (фактически, его следы можно обнаружить даже у Гесиода) — задолго до того времени, когда, по Тойнби, «эллинское общество» в его понимании начинает «разлагаться». Э. Майер говорит об исчезновении «статуса рождения, которое определяло место каждого человека в жизни, его гражданские и социальные права и обязанности, а также уверенность в возможности обеспечить свою жизнь» (Е. Meyer. Geschichte des Altertums, III, p. 542). Это дает нам ясное описание напряжения в греческом обществе V века до н.э.
10.9
Другой профессией такого рода, которая давала сравнительную интеллектуальную независимость, была профессия странствующего певца. Я в основном имею здесь в виду Ксенофана (см., в частности, о «протагореизме» в прим. 7 к гл. 5). Гомер также может служить таким примером. Очевидно, что эта профессия была доступна только очень немногим людям.
Получилось так, что у меня нет никакой личной заинтересованности в коммерции или в людях, мыслящих коммерчески. Однако влияние коммерческой предприимчивости на жизнь общества мне кажется весьма важным. Вряд ли случайно то, что древнейшая из известных нам цивилизаций — шумерская — была, насколько мы знаем, торговой цивилизацией с сильными демократическими чертами. Вряд ли случайно также то, что искусство письма, арифметика и начала науки оказались тесно связанными с торговой жизнью (см. также текст к прим. 24 к этой главе.)
10.10
Фукидид, I, 93. (Я в основном следую переводу Фукидида, выполнен ному Б. Джоветом.) По поводу политических симпатий Фукидида см. прим. 15 (1) к этой главе.
10.11
Эта и следующая цитаты заимствованы из Фукидид, I, 107. Фукидидовскую историю об олигархах-изменниках с трудом можно узнать в апологетическом варианте Э. Майера (Gesch. d. Altertums, III, S. 594), несмотря на то, что у него не было каких-либо других, более надежных источников. Она просто искажена до неузнаваемости. (По поводу пристрастности Майера см. прим. 15 (2) к настоящей главе.) — По поводу подобной же измены (в 479 г. до н.э. в разгар битвы при Платеях) см. Плутарх. «Аристид», 13.
10.12
фукидид, III, 82-84. Заключение приводимого далее отрывка характеризует элемент индивидуализма и гуманизма, который, несомненно, был присущ Фукидиду как представителю Великого поколения (см. далее текст и прим. 27 к этой главе), принадлежавшему, как упоминалось ранее, к его умеренному крылу: «Но когда дело идет о мести, то люди не задумываются о будущем и без колебаний попирают все общечеловеческие законы, в которых заключена надежда на собственное спасение человека в случае какой-нибудь беды». Дальнейшее обсуждение симпатий Фукидида см. в прим. 15 (1) к этой главе.
10.13
Аристотель. «Политика», VIII, (V), 9, 10/11, 1310а. Аристотель не согласен с такой явной враждебностью. Он считает, что мудрые «олигархи должны были бы радеть об интересах народа», и пытается дать им добрый совет: «Следовало бы держаться противоположных взглядов, и, выставляя их напоказ, олигархи должны были бы указывать в своих клятвенных обещаниях: "Я не буду обижать простой народ"» (курсив мой).
10.14
Фукидид, II, 9.
10.15
См. Е. Meyer. Geschichte des Altertums, IV, 1915, S. 368.
(1) Для того, чтобы оценить якобы беспристрастность Фукидида или, скорее, его бессознательную предубежденность, следует сравнить его трактовку важнейшей битвы при Платеях, которая привела к развязыванию первой части Пелопоннесской войны (Э. Майер, следуя Лисию, называет эту часть «Архидамовой войной» — см. Е. Meyer. Gesch. d. Altertums, IV, S. 307; V, S. VII), с его трактовкой мелийского конфликта — первого агрессивного действия Афин во второй части войны (войны Алкивиада). Архидамова война началась с нападения на демократическую Платею — стремительного нападения, сделанного без всякого объявления войны со стороны Фив, союзника тоталитарной Спарты, друзья которых внутри Платеи — олигархическая пятая колонна — ночью открыли двери Платеи врагу. Несмотря на важность этого эпизода — ведь он послужил непосредственной причиной войны, — Фукидид сообщает о нем весьма кратко (II, 1-7). Он ничего не говорит о моральном аспекте, за исключением упоминания о том, что «платейское дело было, конечно, явным нарушением мирного договора». Однако он осуждает (II, 5) демократов Платеи за их жестокое обращение с захватчиками и даже выражает подозрение — не преступили ли они клятвы. Такое описание резко контрастирует с известным и подробно изложенным, хотя, конечно, и выдуманным, Мелийским диалогом (Фукидид, V, 85-113), в котором Фукидид пытается заклеймить афинский империализм. Будучи, по-видимому, шокированными мелийским делом (ответственность за которое, возможно, несет Алкивиад — см. Плутарх. «Алкивиад», 16), афиняне не напали на своих противников без предупреждения и попытались вступить в переговоры, прежде чем приступить к использованию силы.
Другой случай судить о позиции Фукидида представляет его восхваление (VIII, 68) лидера олигархической партии оратора Антифонта (который упоминается у Платона в «Менексене», 236 а, см. также конец прим. 19 к гл. 6).
(2) Э. Майер — один из крупнейших современных авторитетов по рассматриваемому историческому периоду. Чтобы оценить его общую позицию, следует прочесть следующие принадлежащие ему презрительные замечания о демократических правительствах (существует много подобных пассажей): «Значительно более важным» (важнее, чем вооружаться) «было для них продолжать увлекательную игру партийных распрей и гарантировать неограниченную свободу, понимаемую каждым в соответствии со своим частным интересом» (Е. Meyer. Gesch. d. Altertums, V, S. 61). Однако, что же это, если не «понимание в соответствии со своим частным интересом», когда Майер пишет: «Замечательная свобода демократии и ее лидеров явно доказала свою неэффективность» (op. cit., S. 69). Об афинских демократических лидерах, которые в 403 г. до н. э. отказались сдаться Спарте (и отказ которых был позднее даже оправдан их успехом — хотя никакого оправдания этому не требовалось), Майер говорит: «Некоторые из этих лидеров, возможно, были искренними фанатиками,… они, по-видимому, были настолько неспособными к какому-либо трезвому суждению, что действительно верили» (в то, что они говорили, а именно), «что Афины никогда не должны капитулировать» (op. cit., IV, S. 659). Э. Майер строго осуждает других историков за их предубежденность (см., к примеру, прим. в op. cit., V, SS. 89 и 102, где он защищает тирана Дионисия Старшего от, по его мнению, пристрастных нападок, и S. 113 внизу и S. 114 вверху, где он также выходит из себя по поводу некоторых настроенных против Дионисия «попугайствующих историков»). Так, он называет Дж. Гроута «английским радикальным лидером», а его работу «не историей, а апологией Афин» и гордо противопоставляет себя таким людям: «Вряд ли возможно отрицать, что мы стали более беспристрастными в вопросах политики и что мы, тем самым, пришли к более правильным и более содержательным историческим суждениям» (все эти цитаты из op. cit., III, S. 239).
За точкой зрения Майера скрывается Гегель. Этим все и объясняется (надеюсь, читатели согласятся со мною в этом после чтения главы 12). Гегельянство Майера становится особенно очевидным в следующем его замечании, которое представляет собой неосознанную, но почти буквальную цитату из Гегеля. Это замечание находится в op. cit., III, S. 256, где Майер говорит о «плоских и морализирующих оценках, которые подходят к великим политическим мероприятиям с меркой гражданской морали» (Гегель говорит о мерках «личных добродетелей»), «игнорируя тем самым более глубокие истинно моральные факторы государства и исторической ответственности». Это в точности соответствует отрывкам из Гегеля, цитируемым в главе 12, см. прим. 75 к гл. 12. Я хотел бы еще раз воспользоваться возможностью подчеркнуть, что я не претендую на беспристрастность моих исторических оценок. Конечно, я делаю все, что могу, чтобы установить необходимые факты. Однако я сознаю, что мои оценки (подобно оценкам любого другого человека) должны полностью зависеть от моей точки зрения. Это я признаю, хотя я и полностью уверен в моей точке зрения, т.е. в том, что мои оценки правильны.
10.16
Meyer, op. cit., IV, S. 367.
10.17
Meyer, op. cit., IV, S. 464.
10.18
Следует, однако, иметь в виду, что, как свидетельствуют жалобы реакционеров, рабство в Афинах находилось на грани разложения. См. свидетельства, приведенные в прим. 17, 18 и 29 к гл. 4, а также прим. 13 к гл. 5, прим. 48 к гл. 8 и прим. 27-37 к настоящей главе.
10.19
См. Meyer, op. cit., IV, S. 659.
Майер замечает по поводу мотивов афинских демократов: «Теперь, когда было уже слишком поздно, они сделали шаг по направлению к политическому устройству, которое впоследствии помогло Риму… заложить основы своего величия». Другими словами, вместо признания за Афинами заслуги конституционного усовершенствования первостепенной важности, он упрекает их, и эта заслуга приписывается Риму, чей консерватизм больше пришелся по вкусу Майеру.
Случай в римской истории, на который намекает Майер, связан с установлением Римом альянса или федерации с Габией. Однако сразу перед этим на той же самой странице, на которой Майер описывает эту федерацию (в V, S. 135), мы можем также прочитать: «Все эти города, связавшись с Римом, потеряли свое существование… даже не получив политической организации типа аттических "демов"». Несколько позже (в V, S. 147) опять упоминается Габия, и Рим в своей благородной «либеральности» снова противопоставляется Афинам, но на следующей странице Майер сообщает без всякого критического отношения о предпринятом Римом разграблении и уничтожении города Вейи, которое положило конец цивилизации этрусков.
Пожалуй, самым варварским примером из всех этих римских разрушений было разрушение Карфагена. Оно произошло в тот момент, когда Карфаген больше не представлял опасности для Рима, и лишило и Рим, и нас ценнейшего вклада, который Карфаген мог бы внести в цивилизацию. Я упомяну только погибшие там величайшие сокровища географической информации. (История завоевания Карфагена не слишком отличается от падения Афин в 404 г. до н. э., обсуждаемого далее в этой главе — см. прим. 48. Олигархи Карфагена предпочли падение своего города победе демократии.)
Позднее, под влиянием стоицизма, выведенного косвенным образом из философии Антисфена, Рим начал развивать весьма либеральные и гуманистические взгляды. Он достиг вершины своего развития в течение нескольких веков мирного существования после эпохи Августа (см., например, A. Toynbee. A Study of History, V, pp. 343-346), но именно в этом некоторые романтические историки видят начало его упадка.
Конечно, было бы наивным и романтическим заблуждением верить, как это делают многие, что упадок Рима был вызван вырождением, проистекающим из длительного мира, демократизацией или превосходством более молодых варварских народов и т. п., короче — перееданием (см. прим. 45 (3) к гл. 4). Опустошающее действие сильнейших эпидемий (см. N. Zinsser. Rats, Dee, and History, 1937, pp. 131 и след.), неконтролируемое и прогрессирующее истощение почвы, а вместе с ним и крах сельскохозяйственной основы римской экономической системы (см. V. G. Simkhovitch. «Hay and History» и «Rome's Fall Reconsidered. In: Towards the Understanding of Jesus, 1927) были, по-видимому, главными причинами упадка Рима. См. также W. Hegemann. Entlarvte Geschichte (1934).
10.20
Фукидид, VII, 28; ср. Meyer, op. cit., IV, S. 535. Важное замечание о том, что «афиняне надеялись увеличить свои доходы», позволяет нам зафиксировать приблизительную верхнюю границу пропорции между предварительно наложенными податями и объемом торговли.
10.21
Это ссылка на мрачный каламбур, который я нашел у П. Милфорда: «Плутократия предпочтительнее лутократии».
10.22
Платон. «Государство», 423 b. По поводу проблемы стабилизации численности населения см. прим. 7 к этой главе.
10.23
Meyer. Geschichte des Altertums, IV, S. 577.
10.24
Meyer, op. cit., V, S. 27. См. также прим. 9 к этой главе и текст к прим. 30 к гл. 4.
В «Законах», 742 а-с, Платон совершенствует спартанский подход к этой проблеме. Он устанавливает «следующий закон. Никто из частных лиц не имеет права владеть золотом или серебром. Однако для повседневного обмена должна быть монета,… но она будет ценной лишь внутри страны, для остальных же людей не будет иметь никакого значения… Для оплаты военных походов или путешествий в иные государства — посольств, либо… всевозможных вестников… государству необходимо… обладать действительной по всей Элладе монетой. Если частному лицу понадобится выехать за пределы родины, оно может это сделать лишь с разрешения властей; по возвращении домой оно должно сдать государству имеющиеся у него чужеземные деньги, получив взамен местные деньги, согласно расчету. Если обнаружится, что кто-либо присвоил чужеземные деньги, они забираются в пользу казны; знавший же об этом и не сообщивший подвергается вместе с тем, кто ввез эти деньги, порицанию и проклятию, а также и пене в размере не менее количества ввезенных чужеземных денег». Читая этот отрывок, хочется спросить, не клевещут ли на Платона, называя его реакционером, копировавшим законы тоталитарного полиса Спарты? Ведь он здесь предвосхищает более чем за 2000 лет принципы и практику, которые в наши дни почти повсюду приняты в качестве здравой политики большинством прогрессивных западноевропейских демократических правительств (которые, подобно Платону, надеются, что какие-нибудь другие правительства будут заботиться о «действительной по всей Элладе монете»).
Следующий отрывок («Законы», 950 d-951 а) имеет, однако, уже меньше общего с политикой современных либеральных правящих западных кругов: «Прежде всего, кто не достиг сорока лет, тому вовсе не разрешается путешествовать куда бы то ни было. Затем вообще не разрешается никому путешествовать по частным надобностям, а только по общегосударственным: речь идет о глашатаях, послах и феорах… Вернувшись на родину, эти люди укажут молодым, что законы, определяющие государственный строй иных государств, уступают нашим» (курсив мой).
Подобные же законы устанавливаются Платоном для приема иностранцев. Дело в том, что «сношения государств с другими государствами обычно ведут к разнообразному смешению нравов, так как чужеземцы внушают местным жителям различные новшества. Это принесло бы величайший вред гражданам, обладающим благодаря правильным законам, хорошим государственным устройством» (949 е-950 а).
10.25
Это принимается Э. Майером (op. cit., IV, S. 433 и след.), который в очень интересном отрывке говорит о двух партиях: «каждая из них заявляла, что защищает "государство отцов"… и что оппонент заражен современным духом эгоизма и революционного насилия. В действительности, заражены были обе… Традиционные обычаи и религия были глубже укоренены в демократической партии; ее аристократические противники, боровшиеся под флагом реставрации прежних времен, были… полностью осовременены». См. также op. cit., V, SS. 4 и след., S. 14, а также следующее примечание.
10.26
Из аристотелевской «Афинской политии», гл. 34, § 3, мы узнаем, что Тридцать тиранов первоначально исповедовали то, что представляется Аристотелю «умеренной» программой, а именно — программу «государства отцов» или «отеческого государства». По поводу нигилизма и умеренности Крития см. его теорию религии, обсуждаемую в главе 8 (см., в частности, прим. 17 к этой главе) и прим. 48 к настоящей главе.
10.27
Очень интересно сравнить отношение Софокла к новой вере с отношением к ней Еврипида. Софокл сожалеет (см. Meyer, op. cit., IV, S. III): «Несправедливо, что… низкорожденные должны процветать, в то время как достойные и высокорожденные несчастны». Еврипид отвечает (вместе с Антифонтом — см. прим. 13 к гл. 5), что различие между благородными и низкорожденными (в частности, рабами) только словесно: «У раба позорно только имя». По поводу гуманистических элементов в воззрениях Фукидида см. цитату в прим. 12 к этой главе. Относительно вопроса, насколько тесно Великое поколение было связано с космополитическими тенденциями, см. свидетельства, приведенные в прим. 48 к гл. 8, — в частности, враждебных свидетелей, т.е. Старого олигарха, Платона и Аристотеля.
10.28
«Мисологи» — ненавистники рационального рассуждения — сравниваются Сократом с «мизантропами», или человеконенавистниками (см.«Федон», 89 с). Для контраста сравните платоновское мизантропическое замечание в «Государстве», 496 c-d (см. также прим. 57 и 58 к гл. 8).
10.29
Цитаты в этом абзаце заимствованы из фрагментов Демокрита, приведенных в H. Diels. Vorsokratiker5, фрагм. 41, 179, 34, 261, 62, 55, 251, 247 (подлинность фрагмента 247 подвергнута сомнению Г. Дильсом и У. Тарном — см. прим. 48 к гл. 8), 118. (Русские переводы фрагментов Демокрита приведены по книге: С. Я. Лурье. Демокрит. Тексты. Перевод. Исследования. М., Наука, 1970, с. 361, 362, 210, 363, 361, 367, 372, 372.)
10.30
См. текст к прим. 16 к гл. 6.
10.31
См. Фукидид, II, 37-41. См. также замечания, содержащиеся в прим. 16 к гл. 6.
10.32
См. Th. Gomperz. Greek Thinkers, Book V, ch. 13, 3 (Germ, ed., II, S. 407).
10.33
«История» Геродота с ее продемократической ориентацией (см., например, III, 80) появилась через год или два после речи Перикла (см. Meyer, op. cit., IV, S. 369).
10.34
Это отмечалось, к примеру, Т. Гомперцем (Тh. Gomperz. Greek Thinkers, Book V, ch. 13, 2 (Germ. Ed., II, SS. 406 и след.). Он обращает внимание на следующие отрывки из «Государства»: 557 d и 561 с и след. Отмеченное Гомперцем сходство не вызывает сомнений. См. также издание «Государства» Дж. Адама (vol. II, р. 235, примечание к 557 d 26). См. также «Законы», 699 d/e и след. и 704 d-707 d. По поводу подобного же наблюдения относительно Геродота (III, 80) см. прим. 17 к гл. 6.
10.35
Некоторые оспаривают принадлежность «Менексена» Платону, но я полагаю, что это показывает только их тенденцию к идеализации Платона. За подлинность «Менексена» ручается Аристотель, который цитирует из него замечание, принадлежащее, по его утверждению, «Сократу в его надгробной речи» («Риторика», I, 9, 30 = 1367 b 8, и III, 14, 11 = 1415 b 30 — Аристотель. Риторика // Античные риторики. М., Изд-во МГУ, 1978, с. 154). См. также конец прим. 19 к гл. 6, прим. 48 к гл. 8 и прим. 15 (1) и 61 к настоящей главе.
10.36
«Афинская полития» Старого олигарха (или Псевдо-Ксенофонта) была опубликована в 424 г. до н. э. (по И. Кирхгофу, цитируемому Гомперцем в Greek Thinkers. Germ, ed., I, S. 477). По поводу приписывания этой работы Критию см. J. Е. Sandys. Aristotle's Constitution of Athens. Introduction, IX, в частности, прим. 3. См. также прим. 18 и 48 к этой главе. Влияние «Афинской политии» на Фукидида, как мне кажется, заметно в отрывках, процитированных в прим. 10 и 11 к этой главе. По поводу влияния этого памфлета на Платона см., в частности, прим. 59 к гл. 8 и «Законы», 704 а/707 d. (См. также Аристотель. Политика, 1326b-1327a; Cicero. De Rebublica, II, 3, 4.)
10.37
Я имею в виду книгу: М. М. Rader. No Comprimise — The Conflict between Two Worlds, 1939, содержащую превосходную критику идеологии фашизма. В связи с упоминаемым далее в этом абзаце предупреждением Сократа против мизантропии и мисологии см. прим. 28 к этой главе.
10.38
(1) По поводу концепции, согласно которой то, что можно назвать «изобретением критического мышления», закладывает основу новой традиции — традиции критического обсуждения мифов и теорий — см. мою статью: К. Popper. Towards a Rational Theory of Tradition // The Rationalist Annual, 1949, перепечатанную в «Conjectures and Refutations». (Только возникновение новой традиции может объяснить тот факт, что в ионийской школе три первых поколения философов создали три различных философских учения.)
(2) Школы (в особенности, университеты) до сих пор сохранили некоторые черты племенного духа. Однако я имею в виду не только эмблемы или дух товарищества со всеми его социальными последствиями кастовости и т. п., но также патриархальный и авторитарный характер очень многих школ. Не случайно, что Платон, когда он не преуспел в восстановлении племенного строя, основал вместо этого школу. Не случайно и то, что школы так часто оказываются бастионами реакции, а школьные учителя — диктаторами в карманном издании.
Для иллюстрации племенного характера этих древних школ я перечислю здесь некоторые из табу ранних пифагорейцев. (Список заимствован из J. Burnet. Early Greek Philosophy, p. 106, который сам он взял из Н. Diels. Vorsokratiker3, vol. I., pp. 97 и след., см. также свидетельство Аристоксена в Н. Diels3, p. 101.) Дж. Вернет говорит о «настоящих табу весьма примитивного типа»: Воздерживаться от бобов. — Упавшего не поднимать. — Не прикасаться к белому петуху. — Хлеб не разламывать. — Через ярмо не перешагивать. — Не ворошить огонь ножом. — От целого хлеба не откусывать. — Венок не ощипывать. — На хлебной мере не сидеть. — Не есть сердца. — По большим дорогам не ходить. — Ласточек в дом не допускать. — След горшка на золе стирай. — Не глядись в зеркало при светильнике. — Встав с постели, сверни ее и разгладь место, где спал. — (Л, 488, 490, 491).
10.39
Интересную параллель этому развитию представляет разрушение племенного строя во время персидских завоеваний. Эта социальная революция привела, как отмечает Э. Майер (E. Meyer. Geschichte des Altertums, III, S. 167 и след.) к появлению некоторого числа профетических, т.е. в нашей терминологии историцистских религий судьбы, упадка и спасения, среди них — религии «избранного народа» (см. главу 1).
Для некоторых из этих религий была также характерна доктрина, согласно которой сотворение мира не закончено, оно все еще продолжается. Это следует сравнить с ранней греческой концепцией мира как сооружения и с гераклитовским отвержением этой концепции, описанным в главе 2 (см. прим. 1 к этой главе). Здесь можно упомянуть, что даже Анаксимандр испытывал некоторые затруднения в связи с этой концепцией. Подчеркивание им неограниченности, недетерминированности или неопределенности характера строительного материала, из которого создан мир, могло быть выражением чувства, что это сооружение или здание может не обладать никакой определенной структурой, т.е. что оно находится в состоянии потока (ср. след. прим.).
Развитие дионисийской и орфической мистерий в Греции, вероятно, зависит от религиозного развития Востока (см. Herodotus, II, 81). Пифагорейство, как хорошо известно, имело много общего с орфическим учением, особенно в части теории души (см. также прим. 44 к этой главе). Однако пифагорейство определенно имело «аристократический» оттенок в противоположность орфическому учению, которое представляло своего рода «пролетарский» вариант движения. Э. Майер (op. cit., III, p. 428, § 246), вероятно, прав, когда он описывает начало философии как рациональное противодействие движению мистерий. См. отношение Гераклита к этим вопросам (фрагм. 5, 14, 15, 40, 129 в Diels5; 124-129 и 16-17 в Bywater). Гераклит ненавидел мистерии и Пифагора. Пифагореец Платон презирал мистерии — «Государство», 364 е и след.; см., однако, добавление IV Дж. Адама к книге IX «Государства» (vol. II, р. 378 и след.).
10.40
По поводу Анаксимандра (см. предшествующее примечание) см. Diels5, фрагм. 9: «Этим началом он считает… некую бесконечную природу,… а из каких начал вещам рожденье, в те же самые гибель совершается по роковой задолженности, ибо они выплачивают друг другу правозаконное возмещение неправды… в назначенный срок времени» (Л, 117, 127). То, что индивидуальное представлялось Анаксимандру несправедливостью, было интерпретацией, предложенной Т. Гомперцем (Greek Thinkers, German ed., vol. I, S. 46; отметьте сходство с платоновской теорией справедливости), однако эта интерпретация поверглась серьезной критике.
10.41
Парменид первым попытался искать спасения от этого напряжения при помощи интерпретации своего видения остановленного мира как выражения истинной реальности и текучего мира, в котором он жил, как иллюзии. Истинное бытие «неделимо, ибо оно все одинаково, а вот тут его ничуть не больше, а вот там ничуть не меньше» (Dieis5, фрагм. 4; Л, 290). По поводу Парменида см. также прим. 22 к гл. 3 и соответствующий текст.
10.42
См. прим. 9 к настоящей главе, а также прим. 7 к гл. 5.
10.43
См. Е. Meyer. Geschichte des Altertums, III, S. 443 и IV, S. 120 и след.
10.44
См. J. Burnet. The Socratic Doctrine of the Soul // Proceedings of the British Academy, vol. VIII, 1915/16, p. 235 и след. Я стремлюсь подчеркнуть это частичное согласие, потому что не могу согласиться с большинством других теорий Бернета, особенно с теми, которые затрагивают отношения Сократа и Платона. В частности, его мнение, согласно которому Сократ политически реакционнее Платона (Greek Philosophy, I, p. 210), представляется мне несостоятельным (см. прим. 56 к этой главе).
Рассматривая сократовскую теорию души, я полагаю, что Бернет прав, настаивая на том, что поговорка «заботьтесь о своих душах» принадлежит Сократу. Эта поговорка выражает нравственную установку Сократа. Однако я считаю очень маловероятным, чтобы Сократ придерживался какой-либо метафизической теории души. Теории, развитые Платоном в «Федоне», «Государстве» и других диалогах, кажутся мне безусловно пифагорейскими. (По поводу орфическо-пифагорейской теории, согласно которой тело является гробницей души — см. J. Adam. Добавление IV к книге IX «Государства»; см. также прим. 39 к этой главе.) И, принимая во внимание ясное заявление Сократа в «Апологии Сократа», 19 с, вопрошавшего: «слышал ли кто из вас когда-либо, чтобы я хоть сколько-нибудь рассуждал о подобных вещах» (т.е. о спекуляциях по поводу природы — см. прим. 56 (5) к этой главе), я полностью не согласен с мнением Бернета, согласно которому Сократ был пифагорейцем, как и с его мнением о том, что Сократ придерживался определенной метафизической доктрины «природы» души.
Я считаю, что сократовская поговорка «заботьтесь о своих душах» — это выражение его морального (и интеллектуального) индивидуализма. Думается, что индивидуалистическая теория моральной самодостаточности добродетельного человека — одно из немногих учений, принадлежность которых Сократу не подлежит сомнению (см. свидетельство, упомянутое в прим. 25 к гл. 5 и прим. 36 к гл. 6). Причем это учение весьма тесно связано с идеей, выраженной в поговорке «заботьтесь о своих душах». Своим подчеркиванием самодостаточности Сократ хотел сказать: они могут уничтожить твое тело, но они не могут разрушить твою моральную целостность. Если последняя есть твоя главная забота, они не могут причинить тебе никакого реального вреда.
Думается, что Платон, когда он ознакомился с пифагорейской метафизической теорией души, почувствовал, что нравственная установка Сократа нуждается в метафизическом обосновании, в частности, в теории бессмертия души. Следовательно, Платон вместо сократовского «они не могут разрушить твою нравственную целостность» подставляет идею неразрушимости души (см. также прим. 9 и след. к гл. 7).
Мою интерпретацию могут оспаривать сразу и метафизики, и позитивисты. Они будут утверждать, что нравственная и неметафизическая теория души типа той, которую я приписываю Сократу, невозможна, поскольку любой разговор о душе является метафизическим. Я не думаю, что у меня много шансов переубедить метафизиков платоновского типа, однако я попытаюсь доказать позитивистам (материалистам и т.п.), что они также верят в «душу» в смысле, очень похожем на тот, который я приписываю Сократу, и что большинство из них ценят эту «душу» выше, чем тело.
Прежде всего, даже позитивисты согласятся, что можно провести вполне эмпирическое и «осмысленное», хотя и несколько неточное, различие между «физическими» и «психическими» расстройствами. Действительно, это различение имеет важное практическое значение для медицины. (Вполне вероятно, что со временем оно может быть превзойдено более точным различением, однако, это другой вопрос.) Большинство из нас, даже позитивисты, если бы можно было выбирать, предпочли бы умеренную физическую болезнь умеренной форме безумия. Даже позитивисты, вероятно, предпочли бы продолжительную и, в конце концов, неизлечимую физическую болезнь (при условии, что она не приносит слишком сильные страдания) неизлечимому безумию, которое длилось бы столь же долго, и, скорее всего, излечимому безумию на какое-то время. Таким образом, я полагаю, мы можем, не используя никаких метафизических терминов, сказать, что заботимся о своей «душе» больше, чем о своем «теле». (Ср. «Федон», 82 d — замечание о тех, «кто заботится о своей душе, а не холит тело», см. также «Апологию Сократа», 29 d/30 b.) Изложенный способ рассуждения совершенно независим от любой теории «души». Сказанное верно, даже если утверждать, что в конечном счете душа — только часть тела, а всякое безумие — только физическое расстройство. (В этом случае мы могли бы сказать так: они ценят свой мозг выше, чем другие части тела.)
Вместе с тем можно ввести еще одно понятие «души», которое еще ближе к сократовой идее. Многие из нас готовы подвергнуться серьезным физическим испытаниям ради чисто интеллектуальных целей. Мы, например, готовы страдать ради прогресса научного знания или ради прогресса интеллектуального развития, т.е. ради приобретения «мудрости». (Об интеллектуализме Сократа см., например, «Критон», 44 d/e и 47 о.) Нечто похожее можно сказать и о достижении моральных целей, например, эгалитарной справедливости, мира и т. п. (см. «Критон», 47 е/48 а, где Сократ объясняет, что под «душой» он имеет в виду ту часть нашего существа, которой «несправедливость вредит, а справедливость бывает на пользу»). И многие из нас сказали бы вместе с Сократом, что для нас интеллектуальные, моральные и т. п. цели важнее даже здоровья, хотя мы и предпочитаем быть в добром здравии. Многие, по-видимому, согласились бы с Сократом, что если у нас и есть причина гордиться тем, что мы люди, а не животные, то она состоит в том, что мы можем принять такую установку.
Обо всем этом, я полагаю, можно говорить, вовсе не обращаясь к метафизической теории «природы души». И я не вижу никаких оснований, почему мы должны приписывать такую теорию Сократу, несмотря на его ясное заявление о том, что он вообще не рассуждал о подобных вещах.
10.45
В «Горгии», который, как мне кажется, все же частично носит сократический характер (хотя пифагорейские элементы, на которые обратил внимание Т. Гомперц, делают его, я думаю, в основном платоническим — см. прим. 56 к этой главе), Платон вкладывает в уста Сократа нападки на «гавани, верфи, стены» Афин и на податные сборы или налоги, наложенные Афинами на союзников. Эти нападки, в том виде, как они приведены в диалоге, безусловно принадлежат Платону. Отсюда ясно, почему они так похожи на нападки олигархов. Однако я нахожу вполне возможным, что Сократ мог сделать подобные замечания, стремясь обратить внимание на такие предметы, которые, по его мнению, имели большое значение. Я убежден, что ему была чужда идея превращения его нравственной критики в предательскую олигархическую пропаганду против открытого общества и, в особенности, против представителя такого общества — Афин. (По поводу вопроса о лояльности Сократа см., в частности, прим. 53 к этой главе и соответствующий текст.)
10.46
Типичные персонажи платоновских диалогов — Калликл и Фрасимах. Их историческими ближайшими прототипами являются, по-видимому, Ферамен и Критий, а также Алкивиад, чей характер и чьи дела с большим трудом поддаются оценке.
10.47
То, что я собираюсь сказать в этом примечании, носит весьма спекулятивный характер и не влияет на мои основные аргументы.
Я считаю вполне возможным, что в «Алкивиаде I» излагается реальное событие — как Сократ обратил Платона в свою веру, т.е. что в этом диалоге Платон выбрал фигуру Алкивиада для представления самого себя. Думается, у него были серьезные основания рассказать историю своего обращения. Дело в том, что Сократ, когда на него возложили ответственность за злодеяния Алкивиада, Крития и Хармида (см. далее), сослался в своей защитительной речи перед судом на Платона как на живой пример, т.е. как на свидетельство его действительного воспитательного влияния. Вполне вероятно, что Платон с его страстью к точным свидетельствам считал, что он обязан рассказать историю своих отношений с Сократом — историю, которую он не мог рассказать в суде (см. А. Е. Taylor. Socrates, прим. 1 к с. 105). Используя имя Алкивиада и связанные с ним особые обстоятельства (например, его амбициозные политические мечтания, которые, возможно, были схожи с мечтами самого Платона до его обращения), он мог достичь своей апологетической цели (см. текст к прим. 49-50), если бы показал, что нравственное влияние Сократа — в целом и в частности на Алкивиада — весьма отличалось от того, о котором говорили обвинители Сократа. Я считаю возможным, что и «Хармид» также в основном является платоновским автопортретом. (Небезынтересно отметить, что сам Платон предпринимал подобные попытки обращения, но, насколько мы можем судить, совсем другого типа. Они были не столько следствием его личного нравственного влияния, сколько совершались с помощью институционального учения пифагорейской математики как предпосылки для диалектической интуиции идеи Блага. См., в частности, историю его попытки обратить Дионисия Младшего.) По поводу «Алкивиада I» и связанных с ним проблем см. также G. Grote. Plato, I, особенно pp. 351-355.
10.48
См. Е. Meyer. Geschichte des Altertums, V, S. 38 (а также Ксенофонт. Греческая история, II, 4, 22). В том же самом томе V исследования Э. Майера на с. 19-23 и 36-44 (см., например, с. 36) можно найти ряд свидетельств в пользу предложенной в тексте интерпретации рассматриваемых событий. «The Cambridge Ancient History» (1927, vol. V, см., в частности, р. 369 и след.) дает весьма сходную интерпретацию этих событий.
Можно добавить, что число свободных граждан, убитых Тридцатью тиранами за восемь месяцев их террора, приближалось, вероятно, к 1500 человек, что составляло, насколько мы знаем, немногим меньше одной десятой (приблизительно 8 процентов) общего числа полноправных граждан Афин, оставшихся после Пелопоннесской войны, иначе говоря, погибало по 1 проценту афинских граждан в месяц — достижение, вряд ли превзойденное даже в наши дни.
А. Тейлор пишет о Тридцати тиранах: «Отдавая дань справедливости, следует заметить, что эти люди, вероятно, просто "потеряли голову" под влиянием искушения, вызванного сложившейся ситуацией. Критий до этого был известен как человек широкой культуры, политические склонности которого были определенно демократическими» (А. Е. Taylor. Socrates. Short Biographies, 1937, p. 100, прим. 1). Я полагаю, что эта попытка преуменьшить ответственность марионеточного правительства и, в частности, любимого дяди Платона, является несостоятельной. Мы достаточно хорошо знаем, как следует оценивать неглубокие демократические чувства, которые в то время нередко выражались по всякому удобному поводу молодыми аристократами. Кроме того, отец Крития (см. Meyer, op. cit., vol. IV, p. 579 и Lysias, 12, 43 и 12, 66) и, вероятно, сам Критий принадлежали к олигархии Четырехсот. А пространные писания Крития показывают как его предательские проспартанские склонности, так и его олигархические взгляды (см., например, Diels5, 45), как его неприкрытый нигилизм (см. прим. 17 к гл. 8), так и его амбиции (см. Diels5, 15; см. также Ксенофонт. Воспоминания о Сократе, 1, 2, 24 и его же. Греческая история, II, 3, 36 и 47). Однако наше решающее возражение против позиции А. Тейлора заключается в том, что Критий просто пытался последовательно воплотить программу «Старого олигарха», автора псевдоксенофонтовской «Афинской политии» (см. прим. 36 к настоящей главе). Смысл этой программы состоял в искоренении демократии, прибегая при этом к помощи Спарты, если бы Афины потерпели поражение. Степень использованного Критием насилия есть не что иное, как логическое следствие этой ситуации. Разве это говорит о том, что Критий «потерял голову»? Скорее, он просто очень хорошо сознавал трудности, т.е. все еще труднопреодолимую силу сопротивления демократов.
Э. Майер, чьи симпатии к Дионисию Старшему доказывают, что у него, по крайней мере, не было предубеждения против тиранов, говорит о Критий (op. cit., V, р. 17) — после краткого очерка его впечатляюще оппортунистической карьеры, — что «он был столь же нещепетилен, как и спартанский победитель Лисандр», и, следовательно, Критий был подходящим главой созданного Лисандром марионеточного правительства.
Мне кажется, что существует поразительное сходство между характерами Крития, солдата, эстета, поэта и скептического приятеля Сократа, и Фридриха II Прусского, прозванного «Великим», который также был солдатом, эстетом, поэтом и скептическим последователем Вольтера, а также одним из самых страшных тиранов и наиболее безжалостных угнетателей в современной истории. (О Фридрихе II см. W. Hegemann. Entlarvte Geschichte, 1934; см., в частности, р. 90 по поводу его отношения к религии, весьма напоминавшее отношение к ней Крития.)
10.49
Это положение прекрасно объяснено А. Тейлором (А. Е. Taylor. Socrates. Short Biographies, 1937, p. 103), который следует здесь примечанию Дж. Бернета к платоновскому «Евтифрону», 4 с, 4. Единственный пункт, в котором я не совсем согласен с прекрасным изложением Тейлором суда над Сократом (op. cit., pp. 103, 120), — это интерпретация намерений обвинителей, особенно касающихся изобретения «новых религиозных обрядов» (op. cit, pp. 109, 111 и след.).
10.50
Подтверждающее этот факт свидетельство можно найти у А. Тейлора (А. Е. Taylor. Socrates, pp. 113-115, см., в особенности, р. 115, прим. 1, где цитируется Эсхин, I, 173: «Вы приговорили софиста Сократа к смерти, потому что было доказано, что он воспитал Крития»).
10.51
В намерения Тридцати тиранов входило вовлечь в свои акты терроризма как можно больше народа — см. прекрасные замечания по этому поводу Тейлора в Socrates, pp. 101 и след. (особенно, прим. 3 к р. 101). О Херефонте см. прим. 56 (5) е к настоящей главе.
10.52
Как верят Р. Кроссман и другие — см. R. Crossman. Plato Today, pp. 91-92. Я согласен в этом пункте с А. Тейлором — см. Socrates, p. 116, а также его примечания 1 и 2 к этой странице.
То, что в план обвинения не входила смертная казнь Сократа, что судебного разбирательства можно было избежать или провести его по-иному, если бы Сократ был готов пойти на компромисс, т.е. похинуть Афины или даже просто пообещать вести себя тихо, — все это кажется достаточно очевидным из платоновских (или сократовских) намеков в «Апологии Сократа», а также в «Критоне» (см. «Критон», 45 е и особенно, 52 b/с, где Сократ говорит, что ему разрешили бы удалиться в изгнание, если бы он попросил об этом на суде).
10.53
См., в частности, «Критон», 53 b/с, где Сократ объясняет, что, если бы он воспользовался возможностью бежать, он подтвердил бы правильность своего приговора, поскольку тот, кто нарушает закон, вероятно, может разлагать и юношей.
«Апология Сократа» и «Критон», по-видимому, были написаны вскоре после смерти Сократа. «Критон» (вероятно, созданный ранее «Апологии Сократа») был, возможно, написан по просьбе Сократа с целью познакомить людей с мотивами его отказа от бегства. Такое пожелание, кстати, могло оказаться первым побуждением Платона к созданию сократических диалогов. Т. Гомперц (77г. Gomperz. Greek Thinkers, V, II, I; Germ, ed., II, p. 358) полагает, что «Критон» относится к более позднему времени, и объясняет основную линию этого диалога тем, что именно Платон был заинтересован в доказательстве лояльности Сократа. «Мы не знаем, — пишет Т. Гомперц, — непосредственно той ситуации, которой этот маленький диалог обязан своим существованием. Однако, читая его, нельзя отделаться от впечатления, что Платон в этом диалоге больше всего заинтересован в защите самого себя и своей группы против подозрений в тайных революционных симпатиях». Хотя предположение Гомперца хорошо согласуется с моей общей интерпретацией взглядов Платона, я все же полагаю, что «Критон», по всей вероятности, является защитой скорее Сократа, чем Платона. Я согласен с данной Гомперцем интерпретацией основной тенденции этого диалога. Сократ, конечно, был очень заинтересован в том, чтобы защитить себя от подозрений, которые угрожали делу всей его жизни. Рассматривая эту интерпретацию содержания «Критона», я снова полностью согласен с А. Тейлором (Socrates, 124 и след.). Однако лояльность «Критона» в сравнении с полной нелояльностью «Государства», в котором Платон вполне определенно занял сторону Спарты против Афин, по-видимому, опровергает общий взгляд и Дж. Бернета, и А. Тейлора, согласно которому «Государство» представляет собой сократический диалог, а Сократ в этом диалоге еще более непримирим к демократии, чем Платон (см. прим. 56 к настоящей главе).
О подтверждении Сократом лояльности демократии см., в частности, следующие отрывки из «Критона»: 51 d/e, где подчеркивается демократический характер законов, т.е. наличие у граждан возможности изменять законы без насилия и при помощи рациональных аргументов (как указывает Сократ, гражданин может попытаться изменить законы путем убеждения), 52b/f, где Сократ настаивает, что он не ссорился с Афинским государством, 53e/d, где он описывает не только добродетель и справедливость, но также институты и законы (именно, афинские) как наилучшие из доступных людям, 54 с, где Сократ говорит, что он, возможно, является жертвой людей, но настаивает на том, что не является жертвой законов.
Принимая во внимание эти отрывки (а также из «Апологии Сократа», 32 с — см. прим. 8 к гл. 7), нам не следует, я полагаю, принимать на веру один платоновский фрагмент, который весьма отличается от приведенных, а именно — 52 е («Критон»), из которого следует, что Сократ восхваляет государственные устройства Спарты и Крита. Действительно, во фрагменте 52 b/с Сократ говорит, что его не интересуют другие государства или их законы. Из этого можно предположить, что замечание о Спарте и Крите в 52 е является более поздней вставкой, сделанной тем, кто пытался согласовать «Критона» с позднейшими сочинениями Платона, особенно с «Государством». Так ли это или этот отрывок добавил сам Платон, но крайне мало вероятно, что он принадлежит Сократу. Достаточно только вспомнить стремление Сократа не делать ничего, что могло бы быть истолковано как проспартанское поведение, о чем мы знаем из ксенофонтовского «Анабасиса», III, X, 5. Там мы читаем, что Сократ опасался, «что дружба с Киром может повредить Ксенофонту» (его другу, другой молодой «паршивой овце» в афинском стаде) «в глазах государства, так как считалось, что Кир усердно помогал лакедемонянам в войне против Афин» (цит. по русскому переводу: Ксенофонт. Анабасис. М., Изд-во АН СССР, 1951, с. 69). (Этот отрывок определенно вызывает меньше сомнений, чем «Воспоминания о Сократе»; здесь отсутствует влияние Платона и по смыслу Ксенофонт действительно обвиняет самого себя в слишком легком отношении к обязательствам к своей стране и соглашается с заслуженностью наказания, упомянутого Т. Гомперцем в op. cit., V, 3, 7 и VII, 7, 57.)
10.54
«Апология Сократа», 30 е/31 а.
10.55
Платоники, конечно, согласятся с А. Тейлором, который говорит в последнем предложении своего «Socrates»: «У Сократа был только один "последователь" — Платон». Среди исследователей творчества Платона только Дж. Гроут иногда высказывает взгляды, сходные с теми, которые сформулированы в моем тексте. Действительно, отрывок из его книги «Plato and the Other Companions of Socrates», процитированный в прим. 21 к гл. 7 (см. также прим. 15 к гл. 8), можно интерпретировать как осторожное выражение сомнения, не предал ли действительно Платон Сократа. Гроут совершенно ясно заявляет, что «Государство» (а не только «Законы») могло бы подвести теоретическую основу под осуждение Сократа (из «Апологии Сократа») и что к такому Сократу никогда бы не относились терпимо в платоновском идеальном государстве. Он даже считает, что платоновская теория согласуется с практическими мерами, принятыми по отношению к Сократу Тридцатью тиранами. (Пример, показывающий, что извращение учения учителя учеником — дело, которое вполне может иметь успех, даже если учитель еще жив, известен и публично протестует, можно найти в прим. 58 к гл. 12.)
По поводу замечаний о «Законах», сделанных далее в этом абзаце, см., в частности, отрывки из «Законов», на которые я ссылался в прим. 19-23 к гл. 8. Даже Тейлор, чьи мнения по этому вопросу диаметрально противоположны моим взглядам (см. также след. прим.), признает: «Лицом, которое впервые предложило считать ложное мнение в теологии преступлением против государства, был сам Платон в книге X "Законов"». (Taylor, op. cit., p. 108, прим. 1.)
В тексте я специально противопоставляю платоновские «Апологию Сократа» и «Критона» его же «Законам». Основанием для этого является то, что почти каждый, даже Дж. Бернет и А. Тейлор (см. след. прим.), согласится с тем, что «Апология Сократа» и «Критон» представляют сократическое учение, а «Законы» следует характеризовать как выражающие собственные взгляды Платона. Поэтому мне трудно понять, каким образом Бернет и Тейлор могут защитить свое мнение, согласно которому Сократово отношение к демократии более враждебно, чем платоновское. (Это мнение выражается в J. Burnet. Greek Philosophy, I, pp. 209 и след., и в A Taylor. Socrates, pp. 150 и след., и pp. 170 и след.) Я не встречал ни одной попытки защитить такой взгляд на Сократа, который ведь действительно боролся за свободу (см. особенно прим. 53 к этой главе) и умер за нее, и на Платона, который, как мы знаем, написал «Законы».
Странная концепция Бернета и Тейлора, по-видимому, обусловлена тем, что они относят «Государство» к числу сократических, а не собственно платоновских диалогов, а «Государство» несколько менее антидемократично, чем платоновские «Политик» и «Законы».
Однако различия между «Государством» и «Политиком», с одной стороны, и «Законами», с другой, на самом деле очень малы, особенно, если рассматривать не только первые, но и последние книги «Законов». В действительности сходство излагаемых здесь учений даже больше, чем можно было бы ожидать от двух книг, время написания которых отделено друг от друга, по крайней мере, десятью годами, а, вероятнее всего, тремя или более десятилетиями, и которые к тому же весьма различны по темпераменту и стилю (см. прим. 6 к гл. 4 и многие другие места в этой книге, где показано сходство, если не тождество, между доктринами «Законов» и «Государства»). Нет никакой внутренней непоследовательности в допущении, что и «Государство», и «Законы» выражают собственные взгляды Платона. Вместе с тем собственное признание Бернета и Тейлора, согласно которому их теория приводит к заключению, что Сократ был не только врагом демократии, но врагом большим, чем Платон, на самом деле показывает проблематичность, если не абсурдность, их взгляда о том, что не только «Апология Сократа» и «Критон» имеют сократический характер, но и «Государство» также должно быть отнесено к сократическим сочинениям Платона. Обо всех этих вопросах см. также следующее примечание и «Дополнение III», В (2), к тому 1.
10.56
Вряд ли необходимо упоминать о том, что это утверждение представляет собой попытку резюмировать мою интерпретацию исторической роли платоновской теории справедливости (о моральном падении Тридцати тиранов см. Ксенофонт. Греческая история, II, 4, 40-42) и, в частности, главных политических доктрин «Государства» — ту интерпретацию, которая пытается объяснить противоречия между ранними диалогами, в частности, «Горгием», с одной стороны, и «Государством» — с другой, при помощи указания на то, что они возникают из фундаментального различия между взглядами Сократа и взглядами позднего Платона. Кардинальная важность этого вопроса, который обычно называют «сократической проблемой», служит оправданием моего вмешательства в этот длительный и частично методологический спор.
(1) Первоначальное решение сократической проблемы предполагало, что определенная группа платоновских диалогов, в частности, «Апология Сократа» и «Критон», являются сократическими (т.е. что они в основном исторически верны и задуманы как таковые), тогда как большинство других диалогов, включая прежде всего те, в которых Сократ является главным собеседником, как, например, «Федон» и «Государство», отражают взгляды самого Платона. Прежние авторитеты часто оправдывали это мнение ссылками не только на «независимого свидетеля» — Ксенофонта, и на сходство между ксенофонтовским Сократом и Сократом «сократической» группы диалогов, но также и на расхождения между ксенофонтовским «Сократом» и «Сократом» группы диалогов, в которую входят «Государство» и «Законы». Метафизическая теория форм или идей, в частности, обычно рассматривалась как собственно платоновская.
(2) Кампания против этих взглядов была развязана Дж. Бернетом, которого поддержал А. Тейлор. Бернет отверг аргумент, на котором основывалось «первоначальное решение» (как я его обозначил), как неубедительный и даже содержащий порочный круг. Неверно, утверждал он, сначала отбирать группу диалогов тольхо потому, что теория форм в ней выражена менее четко, и называть их сократическими, а затем говорить, что теория форм была изобретением не Сократа, а Платона. Неверно также и обращение к Ксенофонту как к независимому свидетелю, поскольку у нас вообще нет никаких причин верить в его независимость, но есть веские основания считать, что он должен был знать некоторые платоновские диалоги, когда приступил к написанию «Воспоминаний о Сократе». Бернет решил исходить из предположения о том, что Платон действительно имел в виду именно то, что он сказал, и что когда он заставляет Сократа высказывать определенные взгляды, он сам верил и хотел, чтобы его читатели поверили в принадлежность этих взглядов учению самого Сократа.
(3) Хотя взгляды Бернета на сократическую проблему представляются мне неверными, они, тем не менее, в высшей степени ценны и плодотворны. Смелая теория такого рода, даже если она ложна, всегда продвигает нас вперед. А книга Бернета полна смелых и нетрадиционных взглядов на рассматриваемый в ней предмет. Это следует ценить тем более, что исторические изыскания всегда имеют тенденцию к превращению в банальности. Вместе с тем, хотя я глубоко уважаю Бернета за его блестящие и смелые теории и ценю их благотворное действие, я, принимая во внимание доступные мне свидетельства, не способен убедить себя в состоятельности его теорий. В своем бесценном энтузиазме Бернет был, я полагаю, не всегда достаточно критичен к своим собственным идеям. Именно поэтому другие ученые сочли необходимым не принимать, а критиковать их.
В отношении сократической проблемы я, вместе со многими другими исследователями, полагаю, что взгляд, который я охарактеризовал как «первоначальное решение» в основном правилен. От атак Бернета и Тейлора этот взгляд удачно защищали в последнее время, в частности, Дж. К. Филд (G. С. Field. Plato and His Contemporaries, 1930) и А. К. Роджерс (А. К. Rogers. The Socratic Problem, 1933). Этого взгляда придерживаются также и многие другие ученые. Хотя приведенные до сих пор аргументы представляются мне достаточно убедительными, позволю себе кое-что добавить к ним, используя некоторые результаты, полученные в настоящей книге. Однако прежде чем приступить к критике взглядов Бернета, я хочу заявить, что именно Бернету мы обязаны нашим пониманием следующего методологического принципа. Свидетельства Платона — это единственные доступные нам свидетельства из первых рук. Все остальные свидетельства — вторичны. (Бернет применил этот принцип к Ксенофонту, однако он мог бы применить его также к Аристофану, чьи свидетельства были отвергнуты самим Сократом в «Апологии Сократа», см. пункт (5) далее.)
(4) Бернет объясняет, что его метод состоит в предположений, согласно которому «Платон действительно имел в виду именно то, что он сказал». В соответствии с этим методологическим принципом платоновский «Сократ» был задуман как портрет исторического Сократа (см. Greek Philosophy, I, pp. 128, 212 и след. и прим. на pp. 349-50; см. Taylor. Socrates, pp. 14 и след., 32 и след., 153). Я допускаю, что методологический принцип Бернета представляет собой правильный исходный пункт. Однако я попытаюсь показать, что факты таковы, что они вскоре заставляют любого исследователя, включая и Бернета, и Тейлора, отбросить его. Они вынуждены, как и все остальные, интерпретировать то, что сказал Платон. Но в то время, когда остальные осознают этот факт и, следовательно, стараются подходить к своим интерпретациям осторожно и критически, исследователи, убежденные в том, что они не интерпретируют Платона, а просто принимают все, что он сказал, тем самым закрывают себе путь к критическому исследованию своей интерпретации.
(5) Факты, которые делают методологию Бернета неприменимой и заставляют его, как и всех остальных, кто следует ему, строить интерпретации тому, что сказал Платон, — это противоречия в предлагаемом Платоном портрете Сократа. Даже если мы примем принцип, согласно которому у нас нет лучшего свидетеля, чем Платон, мы все равно в силу наличия в его работах внутренних противоречий не сможем принять каждое его слово, и нам придется отбросить предпосылку о том, что он «действительно имел в виду именно то, что сказал». Если свидетель путается в противоречиях, то мы не можем принимать его показания, не интерпретируя их, даже если это лучший из возможных свидетелей. Я сейчас приведу только три примера таких внутренних противоречий.
(а) Сократ из «Апологии Сократа» три раза подчеркнуто повторяет (18 b-с; 19 c-d; 23 d), что он не интересуется философией природы (и, следовательно, не является пифагорейцем): «Я ничего не смыслю» в этом, говорит Сократ (19 с); «Только ведь это, о мужи афиняне, нисколько меня не касается» (о размышлениях о природе). Сократ утверждает, что многие из тех, кто присутствует на суде, могли бы засвидетельствовать истинность этого заявления. Они слышали его беседы, но не могли слышать от него ни мало, ни много о предметах философии природы («Апология Сократа», 19 c-d.). С другой стороны, у нас есть (d) «Федон» (ср., в особенности, 108 d, f., с процитированными отрывками из «Апологии Сократа») и «Государство». В этих диалогах Сократ выступает как пифагорейский философ «природы». Это настолько очевидно, что и Бернет, и Тейлор смогли заявить, что он фактически был ведущим представителем пифагорейской школы мысли. (Ср. с Аристотелем, который говорит о пифагорейцах, что «они постоянно рассуждают о природе» — см. «Метафизика», конец 989b.)
Я утверждаю, что (а) и (d) противоречат друг другу. И эта ситуация усугубляется тем фактом, что в самих диалогах «Государство» датировано раньше, а «Федон» позже, чем «Апология Сократа». Это не позволяет согласовать (а) и (d), предположив, что Сократ или в последние годы своей жизни (между «Государством» и «Апологией Сократа») отбросил пифагореизм, или что он был обращен в пифагореизм в последние месяцы его жизни.
Я не претендую на то, что это противоречие нельзя устранить, приняв некоторое предположение или некоторую интерпретацию. Бернет и Тейлор, возможно, имели основания, и очень веские основания, чтобы верить, скорее, «Федону» и «Государству», чем «Апологии Сократа». (Однако они должны были осознать, что, предполагая правильность платоновского портрета, любое сомнение в искренности Сократа в «Апологии Сократа» причисляет его к тем людям, которые лгут, чтобы спасти свою шкуру.) Однако сейчас меня занимают не такие вопросы. Моей целью было показать, что, принимая свидетельство (а) и отвергая (d), Бернет и Тейлор вынуждены отбросить свое фундаментальное методологическое допущение о том, что Платон действительно имел в виду именно то, что он сказал», т.е. им приходится давать интерпретацию.
Но интерпретация, которую выполняют бессознательно, остается вне критики. Это наглядно видно на примере использования Бернетом и Тейлором свидетельства Аристофана. Они утверждают, что острота Аристофана была бы бессмысленна, если бы Сократ не занимался философией природы. Однако случилось так, что Сократ (я всегда вместе с Бернетом и Тейлором предполагаю, что «Апология Сократа» исторически верна) предусмотрел появление этого аргумента. В своей защитительной речи он как раз и предостерегал своих судей против такой интерпретации Аристофана, последовательно настаивая («Апология Сократа», 19 с и след.; см. также 20 с-е) на том, что не стоит спорить о том, много он занимался философией природы или мало, поскольку он просто вообще ею не занимался. Сократ ощущал себя так, как будто он боролся в этом деле против теней прошлого («Апология Сократа», 18 d-e). Однако мы теперь можем сказать, что он боролся и против теней будущего. Ведь когда он призвал своих сограждан — тех, кто верил Аристофану и осмеливался назвать Сократа лжецом, — выйти вперед, то никто не вышел. Прошло 2300 лет прежде, чем платоники собрались с мыслями и ответили на его вызов.
В связи с этим можно заметить, что Аристофан, умеренный антидемократ, атаковал Сократа как софиста и что большинство софистов были демократами.
(b) В «Апологии Сократа» (40 с и след.) Сократ принимает агностическую установку по отношению к проблеме продолжения существования; (b) «Федон» состоит в основном из тщательно отшлифованных доказательств бессмертия души. Эта трудность обсуждается Бернетом (в его издании «Федона», 1911, pp. XLVIII и след.), правда, его трактовка нисколько меня не убеждает (см. прим. 9 к гл. 7 и 44 к настоящей главе). Однако прав он или нет, это обсуждение доказывает, что ему пришлось отбросить свой собственный методологический принцип и интерпретировать то, что сказал Платон.
(с) Сократ из «Апологии Сократа» утверждает, что мудрость даже самых мудрейших состоит в осознании того, как мало ты знаешь, и что в соответствии с этим изречение дельфийского оракула «познай самого себя» следует понимать как «познай свои ограничения», а отсюда следует, что правители еще более, чем кто-либо другой, должны знать свои ограничения. Подобные взгляды можно обнаружить и в других ранних диалогах. Однако главные собеседники «Политика» и «Законов» предлагают воззрение, согласно которому имеющие власть должны быть мудрыми. А под мудростью они более не имеют в виду знание своих собственных ограничений, но, скорее, подразумевают посвящение в глубокие мистерии диалектической философии — созерцание мира форм или идей или обучение царской науке политики. То же воззрение изложено в «Филебе» в ходе обсуждения именно этого изречения дельфийского оракула (см. прим. 26 к гл. 7).
(d) Кроме этих трех вопиющих противоречий, я могу упомянуть еще два других. Тот, кто не верит в подлинность «Седьмого письма», может их и не принимать во внимание, но для Бернета, настаивающего на аутентичности «Седьмого письма», эти противоречия представляются мне фатальными.
Концепция Бернета (несостоятельная, даже если мы не будем принимать во внимание это письмо; в целом этот вопрос разбирается в прим. 26 (5) к гл. 3), согласно которой Сократ, но не Платон, придерживался теории форм, наталкивается на противоречащее свидетельство в 342 а и след. этого письма. А его взгляд, согласно которому «Государство», в частности, представляет собой сократическое сочинение, рассматривается в 326 а (см. прим. 14 к гл. 7). Конечно, все эти трудности можно устранить, но только при помощи интерпретации.
(е) Существуют также еще некоторые подобные, правда, более тонкие, но и более важные, противоречия, которые обсуждались более подробно в предшествующих главах, особенно в главах 6, 7 и 8. Я попытаюсь резюмировать самые важные из них.
(е1) Отношение к людям, в особенности к молодежи, меняется в платоновском портрете. Так что это изменение не может быть представлено как развитие Сократа. Сократ умер за право свободно говорить с молодежью, которую он любил. Однако в «Государстве» мы обнаруживаем, что он предпочитает установку снисходительности и недоверия, которая напоминает сердитую установку «Афинянина» (явно самого Платона) в «Законах», и общего недоверия к человечеству, так часто выражаемого в его работах (см. текст к прим. 17-18 к гл. 4; 18-21 к гл. 7; 57-58 к гл. 8).
(е2) То же самое можно сказать и о сократовском отношении к истине и свободе слова. Он умер за них. Однако в «Государстве» «Сократ» защищает ложь. В «Политике», определенно выражающем взгляды самого Платона, ложь выдается за истину, а в «Законах» свобода мысли подавляется при помощи установления инквизиции (см. те же самые ссылки, что и в предыдущем примечании, а также прим. 1-23 и 40-41 к гл. 8; прим. 55 к настоящей главе).
(e3) Сократ в «Апологии Сократа» и некоторых других диалогах проявляет интеллектуальную скромность. В «Федоне» он превращается в человека, который убежден в истинности своих метафизических спекуляций. В «Государстве» он предстает догматиком, принимающим установку, вовсе не отброшенную в окаменевшем авторитаризме «Политика» и «Законов». (См. текст к прим. 8-14 и 26 к гл. 7; 15 и 33 к гл. 8; (с) в настоящем примечании.)
(е4) Сократ в «Апологии Сократа» предстает индивидуалистом, он верит в самодостаточность человеческого индивидуума. В «Горгии» он все еще индивидуалист. В «Государстве» он предстает радикальным коллективистом, занимающим позицию, похожую на позицию Платона в «Законах» (см. прим. 25 и 35 к гл. 5; текст к прим. 26, 32, 36 и 48-54 к гл. 6; прим. 45 к настоящей главе).
(e5) И снова мы можем сказать почти то же самое о сократовском эгалитаризме. В «Меноне» он признает, что рабы причастны к общему интеллекту всех человеческих существ и что раба можно научить даже чистой математике. В «Горгии» он защищает эгалитарную теорию справедливости. Однако в «Государстве» он с презрением говорит о рабочих и рабах и столь же далек от эгалитаризма, как Платон в «Тимее» и «Законах». Ср. отрывки, упоминавшиеся в (е4); а также прим. 18 и 29 к гл. 4; прим. 10 к гл. 7 и прим. 50(3) к гл. 8, где цитируется «Тимей» 51 е.
(е6) Сократ из «Апологии Сократа» и «Критона» лоялен к афинской демократии. В «Меноне» и «Горгии» (ср. прим. 45 к этой главе) имеются примеры враждебной критики. В «Государстве» (и, я считаю, в «Менексене») он предстает открытым врагом демократии. И хотя Платон осторожнее выражается в «Политике» и в начале «Законов», его политические склонности в последней части «Законов» (см. текст к прим. 32 к гл. 6) явно тождественны со склонностями «Сократа» из «Государства» (см. прим. 53 и 55 к настоящей главе; прим. 7 и 14-18 к гл. 4).
Последнее положение можно подкрепить при помощи следующих аргументов. По-видимому, Сократ в «Апологии Сократа» не только лоялен к афинской демократии, но он прямо обращается к демократической партии, указав, что Херефонт, один из наиболее ярких его учеников, принадлежит к ее верхушке. Херефонт играет в «Апологии Сократа» решающую роль, поскольку именно он, обратившись к оракулу, помог Сократу осознать свое призвание в жизни и, тем самым, оказал влияние на окончательный отказ Сократа вступить в компромисс с демосом. Сократ упоминает это важное лицо с тем, чтобы подчеркнуть тот факт («Апология Сократа», 20 е/21 а), что Херефонт был не только его друг, но и друг тех людей, чье изгнание он разделил и вместе с которыми он возвратился (предположительно, он участвовал в борьбе против Тридцати тиранов). Иначе говоря, Сократ выбирает в качестве главного свидетеля своей защиты ярко выраженного демократа. (Существуют и некоторые независимые свидетельства симпатий Херефонта, такие, как аристофановские «Облака», 104, 501 и след. Появление Херефонта в «Хармиде», возможно, имело целью создать некоторого рода равновесие. Иначе особое положение Крития и Хармида создало бы впечатление манифеста в защиту Тридцати тиранов.) Почему же Сократ подчеркивает свою близость с воинствующим членом демократической партии? Мы не можем предположить, что это было только особого рода ходатайством, предназначенным склонить его судей к большему милосердию: весь дух его апологии противоречит этому предположению. Наиболее вероятной выглядит гипотеза, согласно которой Сократ, ухазывая, что у него есть ученики и в демократическом лагере, хотел неявно опровергнуть обвинение (которое также только подразумевалось) в том, что он был последователем аристократической партии и учителем тиранов. Дух «Апологии Сократа» исключает предположение о том, что Сократ взывал к дружбе с демократическим лидером, не питая истинных симпатий к делу демократии. Такой же вывод следует из отрывка («Апология Сократа», 32 b-d), в котором он подчеркивает свою веру в демократическую законность и осуждает Тридцать в терминах, не оставляющих никакого сомнения.
(f) Из самих по себе платоновских диалогов вытекает, что мы не можем принять предположения об их характере. Мы поэтому должны попытаться интерпретировать приводимые в них свидетельства, предлагая теории, которые можно критически сравнивать с этими свидетельствами, используя метод проб и ошибок. Итак, у нас есть достаточно убедительные основания считать, что «Апология Сократа» в основном соответствует исторической действительности, поскольку это единственный диалог, который описывает общественное событие значительной важности и хорошо известное значительному кругу людей. С другой стороны, мы знаем, что «Законы» являются последней работой Платона, не считая сомнительного «Послезакония», и что они открыто «отражают взгляды самого Платона». Следовательно, самой простой гипотезой будет предположение, согласно которому диалоги следует считать историческими или сократическими в той мере, в какой они согласуются с тенденциями «Апологии Сократа», и отражающими взгляды Платона там, где они противоречат этим тенденциям. (Это предположение практически возвращает нас к положению, которое я ранее охарактеризовал как «первоначальное решение» сократической проблемы.)
Если мы рассмотрим тенденции, упомянутые выше в (е1) — (е6), то обнаружится, что наиболее важные диалоги легко упорядочиваются таким образом, что для каждой отдельной из этих тенденций сходство с сократической «Апологией Сократа» уменьшается, а сходство с платоновскими «Законами» увеличивается. Эта последовательность такова: «Апология Сократа» и «Критон» — «Менон» — «Горгий» — «Федон» — «Государство» — «Политик» — «Тимей» — «Законы».
Уже тот факт, что эта последовательность упорядочивает диалоги в соответствии со всеми тенденциями (e1) — (е6), сам по себе представляет подкрепление теории, согласно которой мы имеем здесь дело с развитием мысли Платона. Однако мы можем получить и совершенно независимые свидетельства. «Стилометрические» исследования показывают, что наша последовательность согласуется с хронологическим порядком, в котором Платон писал диалоги. В конце концов, эта последовательность, по крайней мере вплоть до «Тимея», демонстрирует также непрерывно повышающийся интерес к пифагорейству (элеатству). Это, следовательно, еще одна тенденция в развитии мысли Платона.
Еще один аргумент — совсем другого рода — таков. Мы знаем из собственного свидетельства Платона в «Федоне», что Антисфен был одним из самых близких друзей Сократа. Мы также знаем, что Антисфен претендовал на сохранение истинно сократовского духа. Трудно поверить, что Антисфен мог бы быть другом Сократа из «Государства». Таким образом, нам следует обнаружить общую точку, от которой расходятся пути Антисфена и Платона, и этот общий пункт мы находим в Сократе из «Апологии Сократа» и «Критона» и в некоторых учениях, вложенных в уста «Сократа» в «Меноне», «Горгий» и в «Федоне».
Эти аргументы совершенно независимы от любых работ Платона, относительно которых были высказаны серьезные сомнения (как, например, «Алкивиад I» или «Феаг», или «Письма»). Они также независимы от свидетельств Ксенофонта. Они основаны исключительно на внутренних свидетельствах некоторых из наиболее известных платоновских диалогов. Однако они согласуются с этими вторичными свидетельствами, в частности, с «Седьмым письмом», где в очерке своего собственного духовного развития (325 и след.) Платон безошибочно ссылается на ключевые отрывки из «Государства» как его собственного главного открытия: «Я был принужден сказать… человеческий род не избавится от зла до тех пор, пока истинные и правильно мыслящие философы не займут государственные должности или властители в государствах по какому-то божественному определению не станут подлинными философами» (326 а; см. прим. 14 к гл. 7 и (d) в этом примечании выше). Я не могу понять, как возможно вместе с Бернетом признавать это письмо подлинным, не признавая при этом, что главное учение в «Государстве» принадлежит Платону, а не Сократу, иначе говоря, не отбросив фикцию, согласно которой платоновский портрет Сократа в «Государстве» является историческим. (Дальнейшие свидетельства см., например, у Аристотеля «О Софистических опровержениях», 183b 7: «Сократ ставил вопросы, но не давал ответов, ибо признавал, что он [их] не знает». Это согласуется с «Апологией Сократа», однако вряд ли согласуется с «Горгием», и определенно не согласуется с «Федоном» и «Государством». См. к тому же известное сообщение Аристотеля об истории теории идей, прекрасно проанализированное Дж. Филдом, op. cit.; см. также прим. 26 к гл. 3.)
(7) По сравнению с приведенными мною свидетельствами тот тип свидетельств, который используют Бернет и Тейлор, не может иметь большого значения. Следующие замечания призваны проиллюстрировать это. Как свидетельство в пользу своего мнения, согласно которому Платон был в политическом отношении более умеренным, чем Сократ, и что семья Платона была скорее «либеральной», Бернет ссылается на то, что один из членов платоновской семьи получил имя «Демос». (Ср. «Горгий», 481 d, 513 b. — Однако то, что отец Демоса Пирламп, упомянутый в этом диалоге, действительно тождествен с платоновским дядей и отчимом, упомянутым в «Хармиде» 158 а и «Пармениде», 126 b, т. е. что Демос был родственником Платона, не вполне достоверно, хотя и вероятно. Какое это может иметь значение, спрашиваю я, в сравнении с исторически достоверным свидетельством о двух платоновских дядях-тиранах, с обширными политическими фрагментами Крития (которые остаются принадлежностью этой семьи даже в том маловероятном случае, если Бернет прав, приписывая их его деду — см. Greek Philosophy., I, 338, прим. 1; «Хармид», 157 е и 162 d, где говорится о поэтических дарованиях тирана Крития), в сравнении с тем фактом, что отец Крития принадлежал к олигархии четырехсот (Lysias, 12, 66), и в сравнении с собственными работами Платона, в которых фамильная гордость сочетается не только с антидемократическими, но даже и с антиафинскими тенденциями? (См. в «Тимее», 20 а, восхваление такого врага Афин, как Гермократа Сицилийского, отчима Дионисия Старшего.) Цель аргумента Бернета, конечно, состоит в усилении теории, согласно которой «Государство» имеет сократический характер. Другой пример несостоятельного метода можно встретить у Тейлора, который приводит аргументы (Socrates, прим. 2 на р. 148 и след., см. также р. 162) в защиту взгляда, согласно которому «Федон» носит сократический характер (см. мое прим. 9 к гл. 7): «В «Федоне» [72е]… теория, согласно которой "обучение — это припоминание", темпераментно отстаивается Симмием» (ошибка Тейлора, на самом деле это говорит Кебет), «который говорит Сократу, что это тот самый довод, который "ты так часто, бывало, повторял". Если мы не хотим рассматривать «Федона» как гигантскую и беспардонную мистификацию, то это представляется мне доказательством того, что эта теория действительно принадлежит Сократу». (Подобный же аргумент см. у Бернета в его издании «Федона», р. XII, конец гл. II.) По этому поводу я хотел бы сделать следующие замечания: (а) Здесь предполагается, что, когда Платон писал этот пассаж, он считал себя историком, поскольку иначе его высказывание ни в коем случае нельзя было бы считать «гигантской и беспардонной мистификацией»; другими словами, самое сомнительное и самое главное положение теории просто предполагается. (b) Однако, даже если сам Платон и считал себя историком (я не думаю, что это было так на самом деле), выражение «гигантской… и т. п.» представляется слишком сильным. Тейлор, а не Платон выделил «ты» курсивом. Платон, возможно, только хотел указать, что он основывается на предположении о знакомстве читателей диалога с его теорией. Или, возможно, он намеревался сослаться на «Менона» и, таким образом, на самого себя. (Последнее объяснение, на мой взгляд, почти достоверно истинно, если сравнить его с «Федоном» 73 а и след. с обращением к диаграммам.) Или по каким-то причинам он допустил простую описку. Такие вещи часто случаются даже с историками. Бернету, например, пришлось объяснять сократовский пифагореизм, но, чтобы сделать это, он превращает Парменида скорее в пифагорейца, чем в ученика Ксенофана, о котором пишет (Greek Philosophy, I, p. 64) следующее: «История о том, что он основал элеатскую школу, по-видимому, выведена из шутливого замечания Платона, основываясь на котором можно было бы также доказать, что Гомер был гераклитовцем». К этому Бернет добавляет примечание: «Plato. Soph., 242 d. See E. Gr. Ph., p. 140». Я полагаю, что это высказывание историка явно влечет за собой четыре положения: (1) что отрывок Платона, который относится к Ксенофану, имеет шуточный характер, т.е. задуман не всерьез, (2) что этот шуточный характер проявляется и в отношении Гомера, т.е. (3) о нем утверждается, что он был гераклитовцем, что, конечно, было бы весьма шутливым замечанием, поскольку Гомер жил задолго до Гераклита, и (4) что не существует других серьезных свидетельств, связывающих Ксенофана с элеатской школой. Но ни одно из этих четырех следствий не может быть подтверждено. Однако мы обнаруживаем, (1) что отрывок из «Софиста» (242 d), который относится к Ксенофану, не имеет шуточного характера, но что его рекомендует сам Бернет в методологическом приложении к своей «Early Greek Philosophy» как важное и полное ценной исторической информации свидетельство; (2) что он вообще не содержит никакой ссылки на Гомера и (3) что другой отрывок, который содержит такую ссылку («Теэтет», 179 d/e; ср. 152 d/e, 160 d) и с которым Бернет ошибочно идентифицирует в Greek Philosophy, I отрывок из «Софиста», 242 d (эта ошибка отсутствует в его Early Greek Philosophy), не содержит ссылки на Ксенофана и не называет Гомера гераклитовцем, но говорит совершенно противоположное, а именно, что некоторые гераклитовские идеи не менее древни, чем Гомер (что, конечно, имеет не столь шуточный характер), и (4) что существует недвусмысленный и важный отрывок из Теофраста (Phys. op., фрагм. 8 = Simplicius, Phys., 28, 4), приписывающий Ксенофану некоторые мнения, которые, как нам известно, разделял с ним и Парменид — если даже не упоминать о свидетельствах, приведенных у Диогена Лаэртского, IX, 21-23 или в «Тимее» Климента Александрийского — см. «Строматы»,1, 64, 2. Такую вот кучу недоразумений, неправильных интерпретаций, неправильных цитат и вводящих в заблуждение пропусков (о созданном таким образом мифе см. G. Kirk and /. Raven. The Presocratic Philosophers. Cambridge Univ. Press, 1960, p. 265) можно найти всего лишь в одном историческом замечании даже такого поистине выдающегося историка, как Бернет. На этом примере мы должны убедиться, что такое случается даже с лучшими историками: все люди грешны. (Более серьезным примером этого вида погрешимости может служить случай, обсуждаемый в прим. 26 (5) к гл. 3.)
(8) Хронологический порядок этих платоновских диалогов, который играет существенную роль в приводимых аргументах, принимается почти таким же, что и в стилометрическом списке Лютославского (The Origin and Growth of Plato's Logic, 1897). Список тех диалогов, которые играют существенную роль в этой книге, можно найти в прим. 5 к гл. 3. Он составлен таким образом, что неопределенность в дате их создания внутри групп больше, чем между группами. Небольшим отклонением от стилометрического списка является положение «Евтифрона», который по характеру своего содержания (обсуждаемого в тексте к прим. 60 к этой главе) кажется мне, по всей вероятности, созданным позже «Критона». Однако это не имеет существенного значения. (См. также прим. 47 к этой главе.)
10.57
Есть еще знаменитый и достаточно загадочный отрывок во «Втором письме» (314 с): «На свете нет и не будет никакой Платоновой записи; а то, что теперь читают, — это речи Сократа, когда он, еще молодой, был прекрасен». Наиболее вероятным ответом на эту загадку должно быть признание этого отрывка, а может быть, и всего письма в целом, спорным. (См. С. Field. Plato and His Contemporaries, 200 и след., где он дает замечательное резюме оснований, ставящих это письмо, и в особенности отрывки «312 d/313 с и, возможно, далее до 314 с», под сомнение; еще одно основание, возможно, заключается в том, что лицо, совершившее подделку, видимо, намеревалось сослаться на сходное замечание в «Седьмом письме», 341 b/с, процитированное в прим. 32 к гл. 8, или дать ему свою интерпретацию.) Однако если на минуту мы признаем вместе с Бернетом (Greek Philosophy, I, 212), что отрывок подлинный, то слова «он, еще молодой, был прекрасен» определенно вызывают некоторые затруднения, в частности, потому, что они, естественно, не могут быть поняты буквально, поскольку Сократ во всех платоновских диалогах выступает в виде старого и уродливого человека (за единственным исключением «Парменида», где он вряд ли прекрасен, хотя еще молод). Если признать этот отрывок подлинным, то процитированное загадочное замечание означало бы, что Платон преднамеренно дал идеализированный и неисторический портрет Сократа. Кстати, то, что Платон сознательно изображал Сократа в виде молодого и прекрасного аристократа, который, естественно, и есть сам Платон, хорошо согласуется с нашей интерпретацией. (См. также прим. 11 (2) к гл. 4, прим. 20 (1) к гл. 6 и прим. 50 (3) к гл. 8.)
10.58
Это цитата из первого абзаца введения Дэвиса и Воэна к их переводу «Государства». См. R. Grossman. Plato Today, p. 96.
10.59
(I) «Разделение» или «расщепление» в душе Платона — это одно из самых мощных впечатлений от его работ и, особенно, от «Государства». Только человек, которому приходится тяжко бороться, чтобы сохранить самоконтроль или власть разума над влечением, может так подчеркивать этот пункт, как делает это Платон, ср. отрывки, на которые я ссылаюсь в прим. 34 к гл. 5, в частности на историю о животном внутри человека («Государство», 588 с), имеющую, вероятно, орфическое происхождение, и в прим. 15 (1)-(4), 17 и 19 к гл. 3 и которые не только обнаруживают удивительнейшее сходство с психоаналитическими учениями, но также могут рассматриваться как свидетельство сильных симптомов подавления. (См. также начало IX книги, 571 d и 575 а, которое звучит как изложение доктрины эдипова комплекса. На отношение Платона к своей матери некоторый свет, возможно, проливается в «Государстве» 548 е/549 d, в частности, при рассмотрении того факта, что в 548 е его брат Главкон отождествляется с сыном, о котором идет речь.) Прекрасное описание внутреннего конфликта Платона и попытки психологического анализа его воли к власти сделаны X. Кельзеном (Н. Kelsen. The American Imago, vol. 3, 1942, pp. 1-110) и Вернером Файтом (W. Fite. The Platonic Legend. 1939).
Тем платонистам, которые не готовы признать, что из платоновской жажды и настойчивых требований единства, гармонии и единообразия мы можем заключить, что он сам был разделен и дисгармоничен, можно напомнить, что этот способ аргументации был изобретен самим Платоном. (См. «Пир», 200 а и след., где Сократ доказывает, что утверждение о том, будто любящий или желающий не обладает тем, что он любит или желает, является необходимым, а не вероятным выводом.)
То, что я назвал платоновской политической теорией души (см. также текст к прим. 32 к гл. 5), т.е. деление души в соответствии со структурой классово разделенного общества, долго оставалось основанием любой психологии. Это также лежит в основе психоанализа. По теории Фрейда, та часть души которую Платон называл правящей, пытается поддержать свою тиранию при помощи «цензуры», тогда как мятежные пролетарские животные инстинкты, которые соответствуют низам общества, в действительности осуществляют скрытую диктатуру, ибо они определяют политику видимых правителей. Со времен гераклитовских «потока» и «войны» сфера социального опыта оказала сильное влияние на теории, метафоры и символы, посредством которых мы интерпретируем физический мир вокруг нас (и нас самих) для самих себя. Я упомяну только принятую Дарвином под влиянием Мальтуса теорию социальной конкуренции.
(2) Здесь можно добавить замечание о мистике в ее отношении к закрытому и открытому обществу и к напряжению цивилизации.
Как показал Дж. Мак-Таггарт в своем замечательном труде «Мистика» («Mysticism») (см. его «Philosophical Studies». Ed. by S. V. Keeling, 1934, особенно, pp. 47 и след.), в основе мистики лежат две фундаментальные идеи: (а) доктрина мистического единства, т.е. утверждение, согласно которому в мире реальностей существует большая степень единства, чем та, которую мы распознаем в мире обычного опыта, и (b) доктрина мистической интуиции, т.е. утверждение, согласно которому существует способ познания, который «ставит познающего в более тесное и более непосредственное отношение к тому, что познается», чем отношение между познающим субъектом и познаваемым объектом в обычном опыте. Мак-Таггарт правильно говорит (р. 48), что «из двух этих характеристик наиболее фундаментальной оказывается мистическое единстве», поскольку мистическая интуиция является «примером мистического единства». Мы могли бы добавить, что третьей характеристикой, правда менее фундаментальной, является (с) мистическая любовь, которая представляет собой пример мистического единства и мистической интуиции.
Интересно (хотя и не отмечено Мак-Таггартом), что в истории греческой философии доктрина мистического единства была впервые ясно заявлена Парменидом в его холистической доктрине Единого (см. прим. 41 к настоящей главе); затем Платоном, который добавил к ней разработанную теорию мистической интуиции и общения с божественным (см. гл. 8) — учение Парменида составляет только самое начало этой теории; затем Аристотелем, например, в его трактате «О душе», 425b 30 и след.: «В одно и то же время получается слух в действии и звук в действии…»; ср. «Государство», 507 с и след., 430а 20, 431а 1: «Действительно, знание тождественно с его объектом» (см. также «О душе», 404b 16 и «Метафизика», 1072b 20 и 1075а 2 и ср. платоновский «Тимей», 45 b-с, 47 а-b; «Менон», 81 а и след.; «Федон», 79 d) и затем неоплатониками, которые разработали теорию мистической любви. У Платона можно найти только самые начала этой теории (к примеру, в его учении в «Государстве», 475 и след., согласно которому философ любит истину и которое тесно связано с доктриной холизма и общения философа с божественной истиной). С точки зрения этих фактов и нашего исторического анализа нам приходится интерпретировать мистику как одну из типических реакций на крах закрытого общества, по своему происхождению направленную против открытого общества. Эта реакция может быть охарактеризована как бегство в мечту о рае, в котором племенное единство раскрывается как неизменная реальность.
Эта интерпретация прямо противоречит интерпретации Бергсона в его работе «Два источника моральности и религии» (Two Sources of Morality and Religion), поскольку Бергсон утверждает, что именно мистика совершает скачок из закрытого в открытое общество.
Все же следует признать (на что мне любезно указал в письме Джакоб Винер), что мистика достаточно разнообразна, чтобы работать в различных политических направлениях. Мистики и мистика имеют своих представителей даже среди апостолов открытого общества. Именно мистическая интуиция лучшего, менее разделенного мира безусловно вдохновляла не только Платона, но также и Сократа.
Можно заметить, что в девятнадцатом веке, особенно у Гегеля и Бергсона, мы находим эволюционную мистику, которая в своем поклонении изменению, по-видимому, прямо противостоит ненависти к изменению, культивируемой Платоном и Аристотелем. И все же глубинный опыт этих двух форм мистики един. Им обеим свойственна сверхчувствительность к изменению. И тот, и другой вид мистики представляют собой реакцию на страшный опыт социального изменения: опыт, который у одних мог сочетаться с надеждой на остановку изменения, у других — с несколько истерическим (и, безусловно, двусмысленным) принятием изменения как реального, существенного и желательного. — См. также прим. 32-33 к гл. 11, 36 к гл. 12 и 4, 6, 29, 32 и 58 к гл. 24.
10.60
«Евтифрон», один из самых ранних диалогов, обычно интерпретируется как безуспешная попытка Сократа определить благочестие. Евтифрон представляет собой карикатуру на обыденного «пиетиста», который точно знает, чего желают боги. На вопрос Сократа «Что именно ты называешь благочестивым и нечестивым?» у него готов ответ: «Благочестиво то, что я сейчас делаю, а именно, благочестиво преследовать по суду преступника, совершившего убийство, либо ограбившего храм, либо учинившего еще какое-нибудь подобное нарушение, будь этим преступником отец, мать… не преследовать же по суду в таких случаях — нечестиво» (5 d/e). Евтифрон представлен как преследующий по суду своего отца за убийство поденщика. (По свидетельству, цитируемому в Grote. Plato, I, прим. к р. 312, каждый гражданин в таких случаях был обязан по аттическому закону возбуждать преследование.)
10.61
«Менексен», 235 b. Ср. прим. 35 к этой главе и конец прим. 19 к гл. 6.
10.62
«Если вы хотите безопасности, то вы должны проститься со свободой» — эта фраза стала оплотом бунта против свободы. Однако эта фраза явно ложна. Конечно, в жизни вообще не существует абсолютной безопасности. Однако степень безопасности, которой мы сможем добиться, зависит от нашей бдительности, усиленной институтами, которые помогают нам быть бдительными, т.е. демократическими институтами. Эти институты специально придуманы (если говорить платоновским языком), чтобы стадо могло наблюдать за своими пастырями и судить их.
10.63
О «несоответствиях» и «нелепых отклонениях» см. «Государство», 547 а, цитированное в тексте к прим. 39 и 40 к гл. 5. Привязанность Платона к проблемам размножения и контроля за рождаемостью, возможно, следует частично объяснять тем фактом, что он вполне понимал последствия роста населения. Действительно (см. текст к прим. 7 к этой главе), «падение», потеря племенного рая была обусловлена «естественной» или «первоначальной» виной человека, так сказать, неотрегулированностью его естественного способа размножения. См. также прим. 39 (3) к гл. 5, и прим. 34 к гл. 4. По поводу следующей далее цитаты в этом же абзаце см. «Государство», 566 е, и текст к прим. 20 к гл. 4. Р. Кроссман, который превосходно рассмотрел период тирании в греческой истории (см. Plato Today, pp. 27-30), пишет: «Именно тираны в действительности создали греческое государство. Они разрушили старую племенную организацию первоначальной аристократии…» (op. cit., p. 29). Это объясняет, почему Платон ненавидел тиранию, причем, возможно, даже больше, чем свободу, — см. «Государство», 577 с (см., однако, прим. 69 к этой главе). Его высказывания о тирании, особенно в «Государстве», 565-568, дают блестящий социологический анализ последовательной политики силы. Я бы назвал ее первой попыткой построения логики силы. (Я выбрал этот термин по аналогии с использованием Ф. А. фон Хайеком термина логика выбора для чистой экономической теории.) Логика силы очень проста и часто используется весьма мастерски. Противоположный тип политики значительно более сложен, частично потому, что логика политики, не опирающейся на силу, т.е. логика свободы вряд ли еще осознана.
10.64
Широко известно, что большинство политических установлений Платона, включая и предполагаемую общность жен и детей, витали «в воздухе» в перикловский период. См. прекрасное резюме в издании «Государства» Дж. Адамом, vol. I, р. 354 и след. и A. D. Winspear. The Genesis of Plato's Thought, 1940.
10.65
Cm. V. Pareto. Treatise on General Sociology, § 1843 (Английский перевод: The Mind and Society, 1935, vol. III, p. 1281); см. прим. 1 к гл. 13, где это высказывание цитируется полнее.
10.66
См. действие, которое произвело изложение Главконом теории Ликофрона на Карнеада (см. прим. 54 к гл. 6) и позже на Гоббса. Профессиональная «аморальность» большинства марксистов также связана с этим. Левые часто верят в то, что они находятся за пределами морали. (Хотя это к делу и не относится, но тем не менее такая позиция иногда оказывается скромнее и благороднее, чем догматическая самоуверенность многих реакционных моралистов.)
10.67
Деньги — это один из символов, а также и одна из проблем открытого общества. Нет сомнений, что мы еще не овладели методами рационального контроля за их использованием. Величайшим злоупотреблением ими является то, что за них можно купить политическую власть. (Наиболее непосредственной формой такого злоупотребления является институт рынка рабов, однако именно этот институт защищается в «Государстве» 563 b; см. прим. 17 к гл. 4; да и в «Законах» Платон не возражает против политического влияния богатства, см. прим. 20 (1) к гл. 6.) С точки зрения индивидуалистического общества деньги крайне важны. Это — часть института (частично) свободного рынка, который дает потребителю некоторые средства контроля над производством. Без такого института производитель может контролировать рынок до такой степени, что прекращает производить ради потребления, а потребитель начинает потреблять в основном ради производства. Случающиеся разительные злоупотребления деньгами сделали нас весьма чувствительными к ним, и платоновское противоположение денег и дружбы представляет собой только первую из многих сознательных и бессознательных попыток извлечь выгоду из этих чувств с целью политической пропаганды.
10.68
Групповой племенной дух, конечно, не совсем еще потерян. Он проявляет себя, например, в ценнейшем опыте дружбы и товарищества, а также в молодежных племенных движениях типа бойскаутов (или движения немецкой молодежи), и в некоторых клубах и сообществах взрослых, типа описанных, например, Синклером Льюисом в «Бэббите». Значительность таких, возможно, самых всеобщих из всех эмоциональных и эстетических чувств не следует недооценивать. Почти все социальные движения, как тоталитарные, так и гуманистические, находятся под их влиянием. Они играют значительную роль в войне и служат одним из самых мощных видов оружия в бунте против свободы; но важны также и в мирное время, когда используются в бунте против тирании, но в этих случаях угрозу их гуманистическим целям часто составляют их романтические тенденции. Сознательной и небезуспешной попыткой возродить такие чувства ради остановки общества и увековечивания классового правления, по-видимому, была английская система «общественных школ». (Человек «никогда не станет добродетельным… если с малолетства — в играх и в своих занятиях — он не соприкасается с прекрасным» — таков их девиз, заимствованный из «Государства», 558 b.)
Другим продуктом и симптомом потери племенного группового духа является, безусловно, платоновский упор на аналогию между политикой и медициной (см. гл. 8, в частности прим. 4), которая выражает чувство болезненного состояния общественного тела, т.е. чувство напряжения, сдвига. «Со времен Платона и до наших дней умы политических философов постоянно возвращались к этому сравнению между медициной и политикой», — говорит Дж. Э. Дж. Кэтлин (G. E. Catlin. A Study of the Principles of Politics, 1930, прим. к р. 458, где в поддержку этого высказывания цитируются Фома Аквинский, Дж. Сантаяна и У. Инг; см. также цитаты в op. cit., прим. к р. 37 из «Логики» Милля). Кэтлин также весьма характерно говорит (op. cit., 459) о «гармонии» и «стремлении к защите, обеспечиваемой либо матерью, либо обществом» (см. также прим. 18 к гл. 5).
10.69
См. гл. 7 (прим. 24 и соответствующий текст; см. Athen. XI, 508) по поводу имен девяти таких учеников Платона (включая молодых Дионисия и Диона). Я полагаю, что повторяющиеся призывы Платона к использованию не только силы, но «убеждения и силы» (см. «Законы», 722 b и прим. 5, 10 и 18 к гл. 8), задумывались как критика тактики Тридцати тиранов, пропаганда которых действительно была примитивной. Однако это означало бы, что Платон прекрасно осознавал рецепт В. Парето, рекомендующий извлекать выгоду из чувств вместо борьбы с ними. То, что друг Платона Дион (см. прим. 25 к гл. 7) правил Сиракузами как тиран, признано даже защищающим Диона Э. Майером. Несмотря на свое восхищение Платоном как политиком, он объясняет судьбу Диона, указывая на «пропасть между» (платоновскими) «теорией и практикой» (op. cit., V, S. 999). Майер говорит о Дионе (doc. cit.): «Идеальный правитель стал внешне неотличим от презренного тирана». Однако он полагает, что, так сказать, внутренне Дион оставался идеалистом и что он глубоко страдал, когда политическая необходимость вынуждала его к убийствам (в частности, своего союзника Герахлида) и тому подобным мерам. Я, тем не менее, полагаю, что Дион действовал по теории Платона, — теории, которая в соответствии с логикой силы привела Платона в «Законах» к признанию блага тирании (709 е и след.; в том же самом месте, возможно, содержится предположение, что поражение Тридцати тиранов было связано с тем, что их было слишком много, а если бы Критий был один, то все было бы в порядке).
10.70
Племенной рай, конечно, есть не что иное, как миф (хотя некоторые первобытные народы, больше всех эскимосы, по-видимому, вполне счастливы). В закрытом обществе, возможно, не существует чувства сдвига, однако существуют явные свидетельства других форм страха — страха демонических сил по ту сторону природы. Для многих позднейших проявлений бунта против свободы характерна попытка возродить этот страх и использовать его против интеллектуалов, ученых и т. п. В заслугу Платону, ученику Сократа, может быть поставлено то, что он никогда не пытался представить своих врагов порождениями злых демонов тьмы. В этом отношении он оставался на стороне просвещения. У него почти не было склонности к идеализации зла, которое было для него просто испорченным, выродившимся или обнищавшим благом. (Только в одном отрывке из «Законов», 896 е и 898 с, можно различить нечто похожее на склонность к абстрактной идеализации зла.)
10.71
В связи с моим замечанием о возвращении к животным следует добавить последнее примечание. Со времени вторжения дарвинизма в область человеческих проблем (вторжения, за которое сам Дарвин не отвечает) появилось много «социальных зоологов», которые доказали, что человеческий род обязательно будет физически вырождаться, поскольку среди его членов недостаточна физическая конкуренция, а возможность защиты тела при помощи усилий ума не дает естественному отбору действовать на наши тела. Первый, кто сформулировал эту идею (но сам не придерживался ее), был Сэмюэл Батлер, который писал: «Единственная серьезная опасность, которую предчувствовал этот писатель» (едгинский писатель) «заключалась в том, что машины» (а мы можем добавить, цивилизация вообще) «настолько… снизила бы жесткость конкуренции, что многие лица со слабой физической организацией не были бы обнаружены и передали бы свою слабость потомкам» (Erewhon, 1872; см. Everyman Edition, p. 161). Насколько я знаю, первым, кто написал на эту тему объемистый том, был В. Шальмайер (см. прим. 65 к гл. 12), один из основателей современного расизма. В действительности теорию С. Батлера постоянно открывали вновь (особенно «биологические натуралисты» в смысле главы 5). Согласно многим современным писателям (см., например, G. M. Estabrooks. Man: The Mechanical Misfit, 1941), человек сделал решающую ошибку, став цивилизованным и, в частности, начав помогать слабым. До этого он был почти совершенным человекозверем. Однако цивилизация с ее искусственными методами защиты слабых привела к вырождению и, следовательно, должна, в конце концов, разрушить себя. Отвечая на такие аргументы, мы должны признать, что человек, возможно, однажды исчезнет из этого мира. Однако мы должны к этому добавить, что это верно и для самых совершенных зверей, не говоря уж о тех, кто «почти совершенен». Теория, согласно которой человеческий род мог бы прожить несколько дольше, если бы не впал в фатальную ошибку — помогать слабым, — весьма сомнительна. Однако, если бы даже она была верна, действительно ли простая продолжительность выживания вида — это все, чего мы добиваемся? Или почти совершенный человекозверь имеет столь выдающуюся ценность, что мы должны предпочесть продление его существования (он и так существует уже довольно длительное время) нашему эксперименту по помощи слабым?
Я верю, что человечество не совершило фатальной ошибки. Несмотря на измену некоторых интеллектуальных лидеров, несмотря на оглупляющее воздействие методов Платона в сфере образования и разрушительные результаты пропаганды, все же налицо значительные успехи. Помогли многим слабым людям. Вот уже почти сто лет рабство практически отменено. Некоторые убеждены, что оно вскоре будет вновь введено. Я настроен более оптимистически, ведь это, в конце концов, будет зависеть от нас самих. Однако, даже если все это будет снова потеряно и даже если нам придется вернуться к почти совершенному человекозверю, это не изменит того факта, что однажды, хотя бы на короткое время, рабство действительно исчезло с лица земли. Я верю, что это достижение и память о нем может компенсировать некоторым из нас все наши неудачи. Оно, возможно, даже компенсирует некоторым из нас фатальную ошибку, сделанную нашими предками, когда они упустили золотую возможность остановки всех изменений — возврата в клетку закрытого общества и установления на века совершенного зоопарка почти совершенных обезьян.
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления