Онлайн чтение книги
Ожерелье королевы
The Queen's Necklace
II. ЛАПЕРУЗ
В эту самую минуту глухой, смягченный выпавшим снегом стук колес нескольких карет известил маршала о прибытии других приглашенных, и вскоре благодаря распорядительности дворецкого девять человек усаживались вокруг овального стола в обеденном зале. Им прислуживали девять лакеев, молчаливых, как тени, проворных без суетливости и предупредительных без надоедливости; они бесшумно скользили по коврам и обходили обедавших, даже слегка не задевая руками ни их самих, ни их кресел с грудой мехов, в которых тонули до колен ноги сидевших за столом.
Гости маршала наслаждались нежным теплом, веявшим от печей, ароматами мяса, букетом вин. А после супа завязались и первые разговоры.
Извне до них не долетало ни одного звука, так как массивные ставни были закрыты наглухо. Внутри также царила полная тишина, прерываемая только легким гулом голосов обедавших. Тарелки менялись совершенно бесшумно, серебро переходило с буфета на стол, даже не звякнув; дворецкий распоряжался всем, не позволяя себе даже легкого шепота: он отдавал приказания глазами.
Вот почему минут через десять гости почувствовали себя так, точно они были одни в столовой. В самом деле, такие немые слуги, такие как бы бестелесные рабы должны быть и глухи.
Господин де Ришелье первый нарушил торжественное молчание, царившее за супом.
— Вы ничего не пьете, господин граф? — сказал он, обращаясь к своему соседу справа.
Тот, к кому были обращены эти слова, был человек лет тридцати восьми, белокурый, маленького роста, с довольно высоко поднятыми плечами. Взгляд его светло-голубых глаз порою оживлялся, но чаще был полон меланхолии. Открытый красивый лоб свидетельствовал о знатном происхождении гостя.
— Я пью только воду, маршал, — отвечал он.
— Вы делали исключение для короля Людовика Пятнадцатого, — продолжал герцог. — Я имел честь обедать у него вместе с господином графом, и в тот раз вы соблаговолили пить вино.
— Вы пробуждаете во мне очень приятное воспоминание, господин маршал. Да, это было в тысячу семьсот семьдесят первом году, и я пил тогда токайское из императорских погребов.
— То самое, что мой дворецкий имеет честь наливать вам в эту минуту, господин граф, — отвечал Ришелье с поклоном.
Граф де Хага поднял стакан к глазам и стал рассматривать вино на свет.
Оно сверкало в стакане, как жидкий рубин.
— Действительно, — сказал он, — благодарю вас, господин маршал.
Граф произнес это слово «благодарю» с таким величавым и приветливым выражением, что наэлектризованные присутствующие единодушно вскочили со своих мест с возгласом:
— Да здравствует его величество!
— Да, — отвечал граф де Хага, — да здравствует его величество король Франции! Не так ли, господин де Лаперуз?
— Граф, — сказал капитан любезным и вместе с тем почтительным тоном человека, привыкшего говорить с коронованными особами, — я только час назад оставил короля, и он был так милостив ко мне, что никто громче меня не крикнет «Да здравствует король!» Но так как через час я уже буду скакать на почтовых к морскому берегу, где меня ожидают два судна, которые король предоставил в мое распоряжение, то, выходя отсюда, я попрошу у вас позволения возгласить приветствие другому королю, которому я был бы счастлив служить, если бы не имел такого прекрасного господина.
И, подняв стакан, г-н де Лаперуз отдал графу де Хага глубокий поклон.
— Вы правы, сударь, и мы все готовы поддержать вас и выпить за здоровье графа, — произнесла г-жа Дюбарри, сидевшая слева от маршала, — но пусть тост провозгласит старейший среди нас, как сказали бы в парламенте.
— К тебе относятся эти слова, Таверне, или же ко мне? — спросил маршал со смехом, взглянув на своего старого друга.
— Не думаю, — заметил гость, сидевший напротив маршала Ришелье.
— С чем вы не согласны, господин де Калиостро? — спросил граф де Хага, устремляя на него свой зоркий взгляд.
— Я не думаю, господин граф, — начал с поклоном Калиостро, — чтобы господин де Ришелье был старейшим меж нами.
— А! Тем лучше, — произнес маршал, — значит, старейший — ты, Таверне.
— Полно, я на восемь лет моложе тебя. Я родился в тысяча семьсот четвертом, — возразил тот.
— Злодей! — сказал маршал. — Ты выдаешь мои восемьдесят восемь лет.
— Неужели, герцог, вам восемьдесят восемь лет? — спросил господин де Кондорсе.
— Бог мой, да! Этот расчет произвести очень легко, особенно такому выдающемуся математику, как вы, маркиз. Ведь я принадлежу к прошлому веку, к великому веку, как его называют; тысяча шестьсот девяносто шестой год — это дата!
— Не может быть, — сказал де Лонэ.
— О! Будь здесь ваш отец, комендант Бастилии, он не сказал бы, что этого не может быть, он, имевший меня своим пансионером в тысяча семьсот четырнадцатом году.
— Старейшим между нами я объявляю вино, которое господин граф де Хага наливает себе в эту минуту, — произнес г-н де Фаврас.
— Этому токайскому сто двадцать лет; вы совершенно правы, господин де Фаврас, — отозвался граф. — Ему должна принадлежать честь быть выпитым за здоровье короля.
— Одну минуту, господа, — сказал Калиостро, поднимая свою большую голову, обличавшую его энергию и ум, — я протестую.
— Вы протестуете против права старшинства этого токайского? — воскликнули все в один голос.
— Конечно, — спокойно ответил граф, — так как я сам запечатывал бутылки этого вина.
— Вы?!
— Да, я, в день победы, одержанной Монтекукколи над турками, в тысяча шестьсот шестьдесят четвертом году.
Громкий взрыв хохота раздался после этих слов, произнесенных Калиостро с невозмутимой серьезностью.
— Но, таким образом, — начала г-жа Дюбарри, — вам должно быть что-то около ста тридцати лет, потому что надо же считать, что вам было не менее десяти лет, когда вы разливали это доброе вино в бутылки.
— Мне было больше десяти лет, когда я занимался этим делом, сударыня, так как через два дня после того я имел честь получить от его величества австрийского императора поручение поздравить Монтекукколи, который своей победой при Сенготхарде отомстил за поражение при Эсеке в Словении, когда неверные в тысяча пятьсот тридцать шестом году так жестоко поколотили имперцев, моих друзей и товарищей по оружию.
— А! — произнес граф де Хага так же невозмутимо, как и Калиостро. — И вам в то время было также, по крайней мере, десять лет, так как вы лично присутствовали при этой достопамятной битве.
— Это было ужасное поражение, господин граф, — отвечал Калиостро с поклоном.
— Но все же менее жестокое, чем поражение при Креси, — заметил с улыбкой Кондорсе.
— Правда, сударь, — согласился Калиостро, — поражение при Креси было потому так страшно, что там было разбито не одно только войско, а сама Франция. Но вместе с тем надо сознаться, что это была не совсем честно одержанная победа англичан. У короля Эдуарда были пушки, а это обстоятельство оставалось совершенно неизвестно Филиппу де Валуа, или скорее Филипп де Валуа не захотел этому поверить, хотя я и предупреждал его и говорил, что видел собственными глазами те четыре артиллерийских орудия, которые Эдуард купил у венецианцев.
— А-а! — сказала г-жа Дюбарри. — Вы знали Филиппа де Валуа?
— Сударыня, я имел честь быть одним из пяти сеньоров, составлявших его свиту, когда он покидал поле боя, — ответил Калиостро. — Я приехал во Францию с бедным, старым, слепым королем Богемии, который велел убить себя в ту минуту, когда ему объявили, что все погибло.
— Бог мой, сударь, — сказал Лаперуз, — вы не можете себе представить, как я сожалею, что, вместо того чтобы присутствовать при Креси, вы не наблюдали за сражением при Акции.
— Почему же, сударь?
— А потому, что вы могли бы сообщить некоторые подробности о маневрах кораблей, которые, несмотря на прекрасное описание Плутарха, все же остались для меня непонятными.
— Какие же именно, сударь? Я был бы счастлив, если бы мог оказаться вам полезным в этом.
— Так вы были там?
— Нет, сударь, я в то время находился в Египте. Царица Клеопатра поручила мне восстановить Александрийскую библиотеку. Я это мог выполнить лучше всякого другого, так как лично знавал знаменитейших писателей древности.
— И вы видели царицу Клеопатру, господин де Калиостро? — воскликнула графиня Дюбарри.
— Как вижу вас, сударыня.
— Была ли она действительно так хороша, как говорят?
— Госпожа графиня, красота, как вам известно, понятие относительное. Клеопатра, очаровательная царица в Египте, в Париже была бы только прелестной гризеткой.
— Не говорите дурно про гризеток, господин граф.
— Боже меня сохрани от этого…
— Итак, Клеопатра была…
— Маленького роста, худенькая, живая, остроумная, с большими миндалевидными глазами, греческим носиком, с зубами как жемчуг и ручкой вроде вашей, созданной для того, чтобы держать скипетр. Вот взгляните, она дала мне этот бриллиант, доставшийся ей от брата Птолемея. Она носила его на большом пальце.
— На большом пальце! — воскликнула г-жа Дюбарри.
— Да, такова была мода в Египте. А я, как вы видите, едва могу надеть его на мизинец.
И, сняв кольцо, он подал его г-же Дюбарри.
Это был великолепный бриллиант, который мог стоить тридцать или сорок тысяч франков: такой он был изумительный воды, такой искусной шлифовки.
Бриллиант обошел вокруг стола и снова вернулся к Калиостро, который спокойно надел его на палец.
— Ах! Я вижу, — начал он, — что вы не верите мне. С этим роковым недоверием мне приходится бороться всю жизнь. Филипп де Валуа не захотел мне поверить, когда я советовал начать отступление перед Эдуардом; Клеопатра — когда я ей предсказывал, что Антоний будет разбит. Троянцы точно так же не поверили мне, когда я им сказал по поводу деревянного коня: «Кассандра вдохновлена свыше, слушайте Кассандру».
— О! Но это просто поразительно! — воскликнула г-жа Дюбарри, покатываясь со смеху. — Право, я никогда не встречала человека такого серьезного и одновременно такого забавного, как вы.
— Уверяю вас, — сказал с поклоном Калиостро, — что Ионафан был много занимательнее, чем я! О, какой это был очаровательный собеседник! Право, когда он был убит Саулом, я едва не лишился рассудка.
— Знаете, граф, — заметил герцог де Ришелье, — если вы будете продолжать, вы сведете с ума бедного Таверне, который так боится смерти, что смотрит на вас совершенно остолбеневшим взглядом, считая вас бессмертным. А что, говоря откровенно, вы бессмертны или нет?
— Бессмертен ли я?
— Да.
— Я сам этого не знаю, но зато могу утверждать одно…
— Что именно? — спросил Таверне, особенно жадно слушавший графа.
— … что я видел все те события и имел дело со всеми теми лицами, которые я вам только что называл.
— Вы знали Монтекукколи?
— Как знаю вас, господин де Фаврас, и даже ближе, так как я имею честь видеть вас всего во второй или в третий раз, между тем как я прожил около года в одной палатке с искусным стратегом, о котором идет речь.
— Вы знавали Филиппа де Валуа?
— Да, как я уже сказал вам, господин де Кондорсе. Но когда он возвратился в Париж, я покинул Францию и вернулся в Богемию.
— А Клеопатру?
— Да, графиня, и Клеопатру. Я вам сказал, что у нее были такие же черные глаза, как у вас, и почти такая же дивная грудь, как у вас.
— Но откуда вы знаете, граф, какая у меня грудь?
— Ваша грудь мне напоминает, сударыня, бюст Кассандры, и в довершение сходства у нее была, как у вас, или у вас есть, как у нее, маленькая родинка около шестого левого ребра.
— Но, граф, вы положительно чародей!
— Э, нет, графиня, — со смехом заметил маршал Ришелье, — это я ему сообщил.
— А вы откуда знаете?
Маршал вытянул вперед губы.
— Ха! Это фамильная тайна, — сказал он.
— Хорошо, хорошо, — произнесла г-жа Дюбарри. — Право, маршал, когда отправляешься к вам, то не лишнее накладывать двойной слой румян. Но, сударь, — продолжала она, снова повернувшись к Калиостро, — вы, вероятно, владеете секретом возвращения молодости, так как, имея от роду три или четыре тысячи лет, вы выглядите сорокалетним.
— Да, сударыня, я владею секретом возвращения молодости.
— О, в таком случае омолодите меня.
— Это для вас ни к чему: чудо совершилось и без этого. Нам столько лет, сколько показывает наша наружность, и вам не более тридцати.
— Это только любезность.
— Нет, сударыня, это правда.
— Объяснитесь!
— Это очень легко. Вы пользовались моим средством.
— Как?
— Вы принимали мой эликсир.
— Я?!
— Да, вы, графиня. О, вы не забыли этого.
— Однако!
— Графиня, помните дом на улице Сен-Клод? Помните, как вы приходили в этот дом по одному делу, касавшемуся господина де Сартина? Помните, что вы оказали услугу одному из моих друзей, по имени Джузеппе Бальзамо? Помните, как он вам подарил флакон эликсира, посоветовав выпивать каждое утро по три капли? Помните, как вы исполняли это предписание до прошлого года, когда эликсир кончился? Если вы не помните всего этого, графиня, то, право, это уже была бы не забывчивость, а неблагодарность.
— О господин де Калиостро, вы мне говорите такие вещи…
— Которые известны вам одной, я знаю это. В чем же заключалась бы тогда заслуга быть чародеем, если бы не становились известными чужие тайны?
— Но, значит, у Джузеппе Бальзамо был, как у вас, рецепт этого чудодейственного эликсира?
— Нет, сударыня; но так как это был один из моих лучших друзей, то я ему подарил три или четыре флакона.
— А осталось ли у него еще сколько-нибудь?
— Этого я не знаю. Вот уже три года, как бедный Бальзамо исчез. В последний раз я видел его в Америке, на берегах Огайо; он отправлялся в экспедицию в Скалистые горы, и до меня дошли слухи, что он умер.
— Ну, довольно любезничать, граф! — воскликнул маршал. — Сделайте милость, откройте секрет, граф, секрет!
— Вы говорите серьезно, сударь? — спросил граф де Хага.
— Совершенно серьезно, ваше величество… я хочу сказать, господин граф… — ответил Калиостро и поклонился особенным образом, желая показать, что его обмолвка была случайной.
— Итак, — сказал маршал, — графиня не настолько стара, чтобы помолодеть?
— Нет, по чистой совести.
— В таком случае я вам предложу другого пациента. Вот мой друг Таверне. Что вы о нем скажете? Не выглядит ли он современником Понтия Пилата? Или, может быть, это опять крайность и он слишком стар?
Калиостро взглянул на барона.
— Нет, не слишком, — сказал он.
— Ах, дорогой граф, — воскликнул Ришелье, — если вы его омолодите, то я вас признаю учеником Медеи.
— Вы хотите этого? — спросил Калиостро у хозяина дома и обвел взглядом всех присутствующих.
Все изъявили желание.
— И вы тоже, господин де Таверне?
— О, я-то больше всех, черт возьми! — сказал барон.
— Ну что же, это очень легко, — произнес Калиостро.
И он опустил два пальца в карман, из которого достал маленькую восьмигранную бутылочку.
Затем он взял чистый хрустальный стакан, влил в него несколько капель жидкости, содержавшейся в бутылочке, прибавил к ним полстакана ледяного шампанского и передал барону приготовленный напиток.
Все следили за малейшими его движениями, от удивления раскрыв рты.
Барон взял стакан, хотел поднести его ко рту, но заколебался.
Все присутствующие разразились при виде этой нерешительности таким громким хохотом, что Калиостро почувствовал нетерпение.
— Торопитесь, барон, — сказал он, — иначе пропадет даром жидкость, каждая капля которой стоит сто луидоров.
— Черт возьми, — заметил Ришелье, стараясь принять шутливый тон, — это еще почище токайского.
— Так надо выпить? — спросил барон с некоторым испугом.
— Или передать стакан кому-нибудь другому, чтобы эликсир принес хотя бы кому-нибудь пользу.
— Давай, — сказал герцог Ришелье, протягивая руку.
Барон понюхал содержимое стакана и, вероятно ободренный свежим, душистым запахом питья и прелестной розоватой окраской, которую придали шампанскому несколько капель эликсира, проглотил чудодейственную жидкость.
В ту же минуту ему показалось, что по нему пробежал трепет, что вся его старая, медленно двигавшаяся и точно дремавшая в жилах кровь разом дрогнула и разлилась по всему телу бурным потоком. Его вялая кожа стала гладкой, морщины расправились; полузакрытые дряблыми веками глаза непроизвольно широко раскрылись, зрачки расширились и загорелись живым огнем; старческая слабость и дрожь в руках исчезли; голос окреп, и колени, снова получив упругость прежних лет, лучшей поры его молодости, выпрямились. Казалось, выпитая им жидкость, постепенно спускаясь все ниже и ниже, оживила все его тело от верхних конечностей до нижних.
Возгласы удивления, недоумения и, главное, восхищения огласили столовую. Таверне, едва притрагивавшийся до того к кушаньям, вдруг почувствовал голод. Он сильной рукой схватил тарелку и нож, положил себе рагу, стоявшее слева от него, и легко разгрыз косточку от куропатки, воскликнув при этом, что зубы у него снова как у двадцатилетнего.
Он ел, смеялся, пил и издавал радостные возгласы в продолжение получаса; и все это время остальные гости, онемев от удивления, не спускали с него глаз. Затем воодушевление его стало мало-помалу уменьшаться, как свет лампы, в которой недостает масла. Грустная перемена началась со лба, на котором снова показались исчезнувшие было морщины. Затем глаза стали меньше и потускнели; он перестал чувствовать вкус пищи, аппетит исчез; спина его согнулась, а колени стали снова дрожать.
— О! — простонал он.
— Что такое? — спросили все.
— Что? Ушла молодость!
Он глубоко вздохнул, и две слезы показались у него на глазах.
При виде печального зрелища, которое представлял этот старик, на короткое время помолодевший и затем разом как бы еще более одряхлевший вследствие этого мимолетнего возврата молодости, одновременно со вздохом, который испустил Таверне, невольный вздох вырвался и у всех присутствовавших.
— Дело объясняется очень просто, господа, — сказал Калиостро, — я дал барону выпить только тридцать пять капель жизненного эликсира, и он помолодел всего только на тридцать пять минут.
— О, еще, еще! — жадно пробормотал старик.
— Нет, сударь: вторичный опыт может стоить вам жизни, — отвечал Калиостро.
Из всех присутствовавших с наибольшим интересом следила за всеми подробностями этой сцены г-жа Дюбарри, которой были известны волшебные свойства этого эликсира.
По мере того как весь организм старого Таверне крепнул и молодел, а кровь его, забурлив, стала быстро двигаться по вздувшимся жилам, глаза графини, не отрываясь, следили за постепенным возрастанием его жизненных сил и за процессом его сказочного перевоплощения. Она смеялась, рукоплескала и, казалось, сама перерождалась при этом зрелище.
Когда полученные результаты достигли своего апогея, графиня едва могла удержаться, чтобы не выхватить из руки Калиостро флакон жизни. Но в эту минуту Таверне уже старился быстрее, чем раньше молодел…
— Увы, — печально заметила графиня, — я вижу, что это одни пустые химеры. Чудесное действие этого таинственного эликсира продолжалось только тридцать пять минут.
— Из чего следует, — заметил граф де Хага, — что надо выпить целую реку этой жидкости, чтобы обрести молодость и сохранить ее в течение двух лет.
Все засмеялись.
— Нет, — возразил Кондорсе, — расчет произвести нетрудно. Если тридцати пяти капель хватает на тридцать пять минут, то тому, кто пожелает сохранить молодость в продолжение года, потребуется всего-навсего выпить три миллиона сто пятьдесят три тысячи шесть капель.
— Да это целое наводнение! — воскликнул Лаперуз.
— А между тем, сударь, со мной было несколько иначе, так как, для того чтобы остановить на десять лет течение времени, мне хватило маленькой, вчетверо больше вашего флакона бутылочки, данной мне вашим другом, Джузеппе Бальзамо, — сказала графиня.
— Совершенно верно, сударыня, и вы одна, кто понял это таинственное явление. Человеку состарившемуся, и сильно состарившемуся, нужно значительное количество этого эликсира для того, чтобы увидеть немедленное и могущественное его действие. Но женщине тридцатилетней, как вы, сударыня, или сорокалетнему мужчине, каковым был я, когда мы начали пить эликсир жизни, такой женщине и такому мужчине, еще полным жизни и молодости, нужно выпивать только по десяти капель этого напитка в каждый из периодов упадка, и благодаря этим десяти каплям тот или та, кто будет их выпивать, навеки сохранят молодость и будут жить дальше такими же привлекательными и энергичными.
— Что вы называете периодами упадка? — спросил граф де Хага.
— Естественные периоды в жизни человека, господин граф. По законам природы силы человека развиваются до тридцати пяти лет. По достижении этого возраста человек остается в одном и том же состоянии до сорока лет, а с этого момента начинается его упадок, постепенный ход которого до пятидесяти лет малозаметен. А затем эти периоды все более сближаются и чаще следуют друг за другом до дня смерти. В эпоху цивилизации, когда тело человека скорее изнашивается от разных излишеств, забот и болезней, развитие сил кончается в тридцать лет, а упадок их начинается с тридцати пяти. Следовательно, как живущим на лоне природы, так и жителям городов нужно захватить организм как раз в тот промежуток времени, пока он находится в состоянии покоя и неизменяемости, с той целью, чтобы помешать ему вступить в период упадка, когда настанет положенный час. Тот, кто, подобно мне, знаком с таинственным свойством этого эликсира, сумеет приготовиться к этому нападению, искусно отразить его и помешает природе начать процесс разрушения нашего организма, тот будет жить так, как я: вечно молодым или, по крайней мере, достаточно молодым для того, чтобы проделывать все, что требуется от нас на этом свете.
— Но, Боже мой, почему же, господин де Калиостро, — воскликнула графиня, — вы в таком случае не выбрали для себя двадцатилетний возраст вместо сорокалетнего, раз в ваших руках был выбор?
— Оттого, госпожа графиня, — сказал с улыбкой Калиостро, — что мне больше нравится быть вечно сорокалетним, чем недоразвившимся двадцатилетним юношей.
— О-о! — произнесла графиня.
— Конечно, сударыня, — продолжал Калиостро, — в двадцать лет человек нравится тридцатилетним женщинам, а в сорок он повелевает двадцатилетними женщинами и шестидесятилетними мужчинами.
— Я сдаюсь, сударь, — сказала графиня. — Разве можно спорить, имея перед глазами живое доказательство?
— В таком случае, — жалобно заметил Таверне, — я осужден: я взялся за омоложение слишком поздно.
— Господин де Ришелье был ловчее вас, — наивно сказал г-н Лаперуз со свойственной морякам прямотой, — я слышал, что у маршала есть один рецепт…
— Это женщины распространили такой слух, — заметил со смехом граф де Хага.
— А разве это может служить основанием для того, чтобы не верить ему, герцог? — спросила г-жа Дюбарри.
Старый маршал, никогда не красневший, залился румянцем и тут же сказал:
— А хотите знать, господа, что это за рецепт?
— Конечно, хотим.
— Весь рецепт заключается в том, чтобы беречь свои силы.
— О-о! — раздались голоса.
— Только в этом одном, — продолжал маршал.
— Я стала бы оспаривать достоинство этого средства, — заметила графиня, — если бы не видела только что действие рецепта господина де Калиостро. Поэтому держитесь, господин волшебник, я еще не покончила со своими вопросами.
— Я к вашим услугам, сударыня.
— Вы сказали, что вам было сорок лет, когда вы впервые стали употреблять этот жизненный эликсир?
— Да, сударыня.
— И что с того времени, то есть со времени осады Трои…
— Несколько ранее, сударыня…
— Вам всего сорок лет?
— Как видите.
— Но в таком случае, сударь, — заметил Кондорсе, — вы нам доказываете больше, чем содержит в себе ваша теорема…
— Что же именно я доказываю, маркиз?
— Вы доказываете нам на своем примере не только неувядающую молодость, но и вечное сохранение жизни. Ведь если вам со времени осады Трои всего сорок лет, значит, вы никогда не умирали?
— Совершенная правда, господин маркиз, я не умирал, смиренно сознаюсь в этом.
— А между тем вы ведь не столь неуязвимы, как Ахилл? Да и сам Ахилл-то, собственно, не был неуязвим, так как Парис убил его, всадив ему стрелу в пятку.
— Нет, я не обладаю неуязвимостью, к моему сожалению, — подтвердил Калиостро.
— Так что вы можете быть убитым, умереть насильственной смертью?
— Увы, да, могу.
— Каким же образом вы смогли избежать всяких случайностей в продолжение трех с половиной тысяч лет?
— Счастье, господин граф… Прошу вас немного проследить за моими объяснениями.
— Слежу.
— Да, да! Следим, — повторили все присутствующие.
И, высказывая признаки несомненного интереса, все облокотились на стол и приготовились слушать.
Голос Калиостро нарушил молчание.
— Какое первое условие для жизни? — спросил он, разводя легко и грациозно свои красивые белые руки с пальцами, унизанными перстнями, между которыми кольцо Клеопатры сияло, как Полярная звезда. — Здоровье, не правда ли?
— Конечно, — отвечали все в один голос.
— А условие для здоровья — это…
— …известный режим, — заметил граф де Хага.
— Вы правы, господин граф, определенный жизненный режим дает здоровье. Так почему бы этим каплям моего эликсира не быть самым лучшим режимом, какой возможен?
— Кто это знает?
— Вы, граф.
— Да, конечно, но…
— Но никакого другого… — начала г-жа Дюбарри.
— Об этом вопросе, сударыня, мы поговорим потом. Итак, я постоянно держался режима моих капель, и так как они представляют осуществление вечной мечты людей всех времен, так как они и есть именно то, что древние искали под именем воды юности, а современные люди — под именем эликсира жизни, то я и сохранял неизменной молодость, значит, здоровье и, следовательно, жизнь. Это ясно.
— Но ведь все изнашивается, граф, и самое прекрасное тело тоже.
— И тело Париса, как и тело Вулкана, — заметила графиня. — Вы, верно, знавали Париса, господин де Калиостро?
— Очень хорошо, сударыня: это был весьма красивый малый, но, в общем, он вовсе не заслуживал всего того, что о нем говорит Гомер и что о нем думают женщины. К тому же он был рыжий.
— Рыжий! Ах, какой ужас! — воскликнула графиня.
— К несчастью, — заметил Калиостро, — Елена была другого мнения, графиня. Но вернемся к нашему эликсиру.
— Да, да, — послышалось со всех сторон.
— Итак, вы полагаете, господин де Таверне, что все изнашивается? Пусть будет так. Но вам известно также, что в природе все возрождается, обновляется или восстанавливается, — называйте, как хотите. Знаменитый нож святого Губерта, видевший смену стольких своих лезвий и рукояток, может служить хорошим примером для только что сказанного мной, так как, невзирая ни на что, он все же оставался ножом святого Губерта. Вино, хранимое в погребах хайдельбергских монахов, остается все тем же, хотя в громадную бочку вливается каждый год новое — последнего сбора винограда. Благодаря этому-то вино хайдельбергских монахов прозрачно, имеет остроту и букет, между тем как вино, запечатанное Опимием и мною в глиняные амфоры, обратилось через сто лет, когда я хотел попробовать его, в густую грязь, которую еще можно было, пожалуй есть, но пить — совершенно невозможно.
Так вот, вместо того чтобы следовать примеру Опимия, я отгадал, каков мог быть урок, который дают нам хайдельбергские монахи. Я поддерживал свое тело, вливая в него каждый год новые элементы, предназначавшиеся для обновления старых. Каждое утро — хотя бы одна молодая, свежая частичка. Один новый атом обязательно замещал собой в моей крови, в моей плоти и костях соответствующую старую, изношенную и бездействовавшую молекулу.
Я оживлял все те омертвевшие отложения, все те продукты трения или перегорания, которым обыкновенные смертные позволяют незаметно захватывать все больше места в своем организме; я принудил всех борцов, данных Господом натуре человека для ведения войны с разрушительными началами, борцов, которых заурядные люди заставляют изменять своему предназначению — или же парализуют их силы бездействием, — итак, я принудил их к постоянной работе, которую облегчало, даже более того, которой требовалось постоянное введение в организм новых и новых возбуждающих элементов. Результатом такого неусыпного и неизменного изучения жизненных законов явилось то, что мой мозг, мои нервы, сердце и душа не имели возможности разучиться выполнять свои функции. А так как в мире существует известная зависимость, известное сцепление обстоятельств и так как лучше всего успевают в каком-нибудь деле те, кто только и занимается им одним, то вполне естественно, я оказался искуснее любого другого и избежал всяких опасностей во время моего трехтысячелетнего существования. Это произошло оттого, что я приобрел во всем такую опытность, что предвижу все невзгоды, предчувствую опасность того или другого положения. Так, вы не заставите меня войти в дом, который может рухнуть. О нет! Я видел слишком много домов, чтобы не отличить с первого взгляда надежный от ненадежного. Вы не заставите меня охотиться с неловким человеком, не умеющим обращаться как следует с ружьем. Начиная с Кефала, убившего свою жену Прокриду, и кончая регентом, который попортил глаз принцу, я видел слишком много неловких людей. На войне вы ни за что не заставите меня занять ту или другую позицию, которую всякий другой охотно занял бы; я в одну минуту мысленно представил бы себе все те прямые и те параболы, по которым смерть может настигнуть человека, находящегося в данной точке. Вы мне можете возразить, что нельзя предвидеть всякой случайной пули. Я вам отвечу на это, что человеку, избежавшему миллиона ружейных выстрелов, было бы непростительно дать себя убить какой-нибудь шальной пуле. Ах! Не выражайте жестами недоверие к моим словам, потому что ведь, наконец, я здесь перед вами в качестве живого доказательства. Я не говорю, что я бессмертен; я говорю только, что я умею то, чего никто не умеет: избегать случайной смерти. Так, например, я ни за что на свете не остался бы здесь на четверть часа с глазу на глаз с господином де Лонэ, который в эту минуту думает, что, держи он меня в одной из камер своей Бастилии, он произвел бы над моим бессмертием опыт при помощи голода. Я точно так же не остался бы с господином де Кондорсе, так как в эту минуту он задумал выпустить в мой стакан содержимое перстня, который он носит на указательном пальце левой руки, а содержимое это — яд. Все, конечно, замышляется без всякого злого умысла, просто из-за научной любознательности, чтобы посмотреть, умру ли я.
Оба лица, названные графом Калиостро, хотели было протестовать жестом.
— Не бойтесь: признайтесь смело, господин де Лонэ, ведь мы не судьи… Да к тому же за намерения не судят. Ну же, думали ли вы то, о чем я сказал? А у вас, господин де Кондорсе, действительно ли в перстне заключен яд, которым вы желали бы угостить меня во имя нежно любимой вами дамы сердца — науки?
— Клянусь честью, — сказал г-н де Лонэ, улыбаясь и покраснев, — я сознаюсь, что вы сказали правду, граф. Это была безумная мысль, но она мелькнула у меня в мозгу как раз в ту минуту, как вы высказали ее вслух.
— Я, — заметил Кондорсе, — буду тоже искренен, как господин де Лонэ. Я действительно подумал, что, отведай вы того, что заключено в моем перстне, я не дал бы и обола за ваше бессмертие.
У всех присутствовавших вырвался одновременно возглас изумления и восхищения. Эти признания свидетельствовали пусть не о бессмертии, но о проницательности графа де Калиостро.
— Вы видите, — спокойно заметил Калиостро, — вы видите, что я угадал. Так бывает со всем тем, что должно случиться. Жизненный опыт открывает мне при первом же взгляде на людей их прошлое и будущее. Моя непогрешимость в данном отношении такова, что простирается даже на животных и на неодушевленные предметы. Садясь в карету, я угадываю по виду лошадей, что они понесут, по внешнему облику кучера, что он или меня вывалит, или зацепит за чей-нибудь экипаж; перед тем как взойти на корабль, я заранее угадываю, что капитан или неопытен, или упрям и вследствие этого не сможет или не захочет выполнить необходимый маневр. В этом случае я избегаю и такого кучера и такого капитана; я оставляю в покое и лошадей и корабль. Я не отрицаю случайности: я только ослабляю возможность ее. Вместо того чтобы предоставлять ей сто шансов, как делают другие, я у нее отнимаю девяносто девять и остерегаюсь сотого шанса. Вот что позволило мне прожить три тысячи лет.
— В таком случае, — заметил со смехом Лаперуз среди общего восхищения и вместе с тем разочарования, вызванного словами Калиостро, — вы, милый пророк, должны бы сопровождать меня до кораблей, на которых я собираюсь плыть вокруг света. Вы оказали бы мне этим огромную услугу.
Калиостро ничего не ответил.
— Господин маршал, — продолжал со смехом мореплаватель, — так как господин граф де Калиостро не хочет, что я вполне понимаю, покидать такое приятное общество, позвольте мне сделать это. Извините меня, господин граф де Хага, извините меня, сударыня, но вот бьет семь часов, а я обещал королю сесть в экипаж в четверть восьмого. А теперь, так как господин граф де Калиостро не чувствует желания взглянуть на два моих флейта, то пусть он мне, по крайней мере, скажет, что со мной случится от Версаля до Бреста. От Бреста до полюса — это уже будет мое дело, но, черт возьми, что произойдет от Версаля до Бреста, это он должен предсказать мне.
Калиостро еще раз взглянул на Лаперуза с таким грустным выражением, с такой кротостью во взгляде, что большинство присутствующих были поражены. Но мореплаватель ничего не заметил. Он прощался с сидевшими за столом; его слуги надевали на него тяжелое меховое верхнее платье, а г-жа Дюбарри тем временем для подкрепления сил в пути заботливо сунула ему в карман несколько конфет, о которых путешественник никогда не подумал бы сам и которые напоминают о далеких друзьях дорогой, в долгие ночи, в сильную стужу.
Лаперуз, не переставая улыбаться, почтительно склонился перед графом де Хага и протянул руку старому маршалу.
— Прощайте, милый Лаперуз, — сказал ему герцог де Ришелье.
— Нет, нет, господин герцог, до свидания, — отвечал Лаперуз. — Право, можно подумать, что я уезжаю навеки. Мне предстоит совершить кругосветное путешествие, вот и все. Я буду отсутствовать четыре или пять лет — не больше. Из-за этого не стоит говорить друг другу «прощайте».
— Четыре или пять лет! — воскликнул маршал. — Э, сударь, почему бы вам в таком случае не сказать «четыре или пять веков»? Дни равняются годам в моем возрасте. Прощайте, говорю я вам.
— Ба, спросите у колдуна, — со смехом заметил Лаперуз, — он вам обещает еще двадцать лет жизни. Не правда ли, господин де Калиостро? Ах, граф, что бы вам раньше сказать мне про ваши чудодейственные капли! Уж я, чего бы мне это ни стоило, погрузил бы целую бочку этого напитка с собой на «Астролябию». Это название моего корабля, господа. Сударыня, позвольте мне запечатлеть последний поцелуй на этой прелестной ручке: прекраснее ее мне, конечно, не удастся увидеть до самого моего возвращения. До свидания!
И он вышел.
Калиостро по-прежнему хранил зловещее молчание.
Вскоре на гулких ступенях крыльца раздались шаги капитана, со двора донеслись его веселый голос и последние приветствия, обращенные к провожавшим. Затем лошади тряхнули головами, бубенцы звякнули, дверцы кареты захлопнулись с резким стуком и колеса застучали по мостовой.
Лаперуз сделал первый шаг в том роковом путешествии, из которого ему не суждено было возвратиться.
Все прислушивались.
Когда все смолкло, все глаза, точно притянутые магнитом, снова устремились на Калиостро.
На лице его в эту минуту было какое-то вдохновенное выражение, точно у древней пифии; это роковое выражение заставило всех вздрогнуть.
Несколько минут длилось молчание.
Граф де Хага нарушил его первым.
— Почему вы ничего не ответили ему, сударь?
В этом вопросе он высказал мысль, тревожившую всех.
Калиостро вздрогнул, точно обращенные к нему слова разом вывели его из глубокой задумчивости.
— Потому что я должен был или солгать, или сказать жестокую правду.
— Как так?
— Мне надо было бы сказать ему: «Господин де Лаперуз, герцог де Ришелье прав, говоря вам «прощайте», а не «до свидания».
— Черт возьми! — воскликнул, бледнея, Ришелье. — Что вы хотите сказать, господин Калиостро?
— Успокойтесь, господин маршал, — с живостью возразил Калиостро, — это печальное пророчество касается не вас.
— Как, — воскликнула г-жа Дюбарри, — этот бедный Лаперуз, только что целовавший мне руку…
— Не только никогда более не будет целовать ее, но никогда не увидит тех, с кем он только что расстался, — сказал Калиостро, внимательно вглядываясь в бокал с водой, повернутый к свету таким образом, что на ее поверхность, казалось, набегали какие-то светлые волны, отливавшие опаловым цветом, а тени ближайших предметов отражались в ней, рассекая ее поперечными линиями.
Со всех уст сорвался удивленный возглас.
С каждой минутой возбуждаемый разговором интерес к услышанному становился все более захватывающим; судя по лицам — серьезным, торжественным, почти тревожным — присутствовавших, которые кто словами, кто взглядом допрашивали Калиостро, можно было подумать, что дело шло о непогрешимом пророчестве, изрекаемом одним из античных оракулов.
Между тем г-н де Фаврас встал, сделал знак всем сидевшим за столом и, как бы угадав общую мысль, подошел на цыпочках к двери в переднюю, желая убедиться, что лакеи не подслушивают их беседы.
Но, как мы уже говорили, дом г-на маршала де Ришелье отличался образцовым и строгим порядком, и потому г-н де Фаврас нашел в передней только старого управляющего, который, как часовой на передовом посту, строго охранял доступ в столовую во время десерта.
Де Фаврас вернулся на свое место и знаком дал понять, что они совершенно одни.
— В таком случае, — начала г-жа Дюбарри, отвечая на заверение г-на де Фавраса, как если бы оно прозвучало вслух, — в таком случае, расскажите нам, что ожидает этого бедного Лаперуза.
Калиостро, не соглашаясь, покачал головой.
— Ну же, пожалуйста, господин де Калиостро, — сказали все мужчины, — мы все просим вас.
— Господин де Лаперуз, как он и сообщил вам, едет с намерением совершить кругосветное плавание и продолжить путешествие, предпринятое Куком, бедным Куком, который, как вам известно, был убит на Сандвичевых островах.
— Да, да, знаем! — воскликнуло несколько человек; другие удовольствовались кивком головы.
— Все сулит счастливый исход предприятия. Господин де Лаперуз — прекрасный моряк, и к тому же король Людовик XVI очень умело составил для него полный маршрут.
— Да, — перебил граф де Хага, — французский король — искусный географ. Не правда ли, господин де Кондорсе?
— Даже слишком хороший для короля, — отвечал маркиз. — Королям следовало бы знать все только поверхностно. Тогда они, быть может, позволили бы людям, вполне изучившим ту или другую науку, руководить ими.
— Это урок, господин маркиз, — с улыбкой заметил граф де Хага.
Кондорсе покраснел.
— О нет, господин граф, — отвечал он, — это простое размышление, философское рассуждение.
— Итак, он едет? — сказала г-жа Дюбарри, желая поскорее прервать посторонний разговор, который мог бы отклониться от главной темы.
— Итак, он едет, — продолжал Калиостро. — Но не думайте, что он немедленно пустится в плавание, хотя он, по-видимому, и очень спешит… Нет, я вижу, что он потеряет много времени в Бресте.
— Очень жаль, — заметил Кондорсе, — теперь самое время для отплытия. Пожалуй, он и без того уже запоздал; будь теперь февраль или март, было бы лучше.
— О, не попрекайте его этими двумя-тремя месяцами, господин де Кондорсе: он, по крайней мере, будет жить в продолжение этого времени, жить и надеяться.
— У него, надеюсь, хорошая команда? — спросил Ришелье.
— Да, — отвечал Калиостро, — командир второго корабля — выдающийся офицер. Я его вижу еще молодым, предприимчивым и, к несчастью, храбрым.
— Как к несчастью?
— Да, я ищу этого друга год спустя и не вижу его, — сказал с беспокойством Калиостро, вглядываясь пристально в бокал. — Между вами нет никого, кто бы был родственником или близким господина де Лангля?
— Нет.
— Никто его не знает?
— Нет.
— Итак, смерть начнет с него. Я его не вижу более.
Вздох ужаса вырвался из груди присутствующих.
— А он… он… Лаперуз? — спросило несколько человек прерывающимся голосом.
— Он продолжает плавание, высаживается на берег, снова всходит на корабль. Год, два года плавание его счастливо. От него приходят известия[2]Офицером, доставившим последние известия о Лаперузе, был г-н де Лессепс, единственный человек из экспедиции, который вернулся во Францию. (Примеч. автора.) . А затем…
— Затем?
— Годы проходят.
— И что же?
— Океан велик, небо мрачно. То здесь, то там показываются неисследованные земли, появляются уродливые существа, напоминающие чудовищ Греческого архипелага. Они подстерегают корабль, который несется в тумане между подводными камнями, увлекаемый течением; затем надвигается буря, более милостивая и гостеприимная, чем берег… потом зловещие огни. О, Лаперуз, Лаперуз! Если бы ты мог меня слышать, я сказал бы тебе: «Ты отправляешься, как Христофор Колумб, открывать Новый Свет; Лаперуз, остерегайся неведомых островов!»
Он замолчал. Ледяной холод пробежал по присутствующим в ту минуту, как последние слова Калиостро еще звучали над столом.
— Но почему вы не предупредили его? — воскликнул граф де Хага, невольно подчиняясь вместе со всеми влиянию этого необыкновенного человека, умевшего по своей прихоти волновать сердца.
— Да, да, — подхватила г-жа Дюбарри. — Почему бы не побежать за ним, не догнать его? Жизнь такого человека, как Лаперуз, надеюсь, стоит того, чтобы послать к нему курьера, дорогой маршал.
Маршал понял и приподнялся, чтобы позвонить. Калиостро протянул руку.
Маршал снова опустился в кресло.
— Увы! — продолжал Калиостро. — Все советы были бы бесполезны: человек, предвидящий судьбу, не может изменить ее. Господин Лаперуз засмеялся бы, если бы услышал мои слова, как смеялись сыновья Приама, когда пророчествовала Кассандра. Да вот, вы сами смеетесь, господин граф де Хага, и вашим смехом скоро заразятся и все остальные. Не старайтесь сдерживаться, господин де Фаврас: я еще никогда не встречал слушателя, который поверил бы мне.
— О, мы верим! — воскликнули г-жа Дюбарри и старый герцог де Ришелье.
— Я верю, — пробормотал Таверне.
— Я также, — вежливо вставил граф де Хага.
— Да, — продолжал Калиостро, — вы верите потому, что речь идет о Лаперузе, но если бы речь шла о вас, вы не поверили бы.
— О!
— Я не сомневаюсь в этом.
— Признаюсь, я поверил бы, — заметил граф де Хага, — если бы господин де Калиостро сказал господину де Лаперузу: «Остерегайтесь неведомых островов». Он был бы тогда настороже, и это все же было бы для него шансом спастись.
— Уверяю вас, нет, граф. Но если бы он и поверил мне, то подумайте, как ужасно было бы для него такое открытие! Перед лицом опасностей несчастный, поверь он моему предсказанию, чувствовал бы при виде неведомых ему островов, которым суждено стать роковыми для него, приближение таинственной, угрожающей ему смерти и вместе с тем не имел бы возможности убежать от нее. Он выстрадал бы таким образом не одну, а тысячу смертей: ведь идти во мраке, имея своим спутником отчаяние, — значит вынести тысячу смертей. Подумайте же: надежда, которой я лишил бы его, — последнее утешение, не покидающее несчастного даже перед самым ножом, когда тот уже касается его, когда он ощущает острие лезвия и кровь его уже течет… Жизнь гаснет, а человек все еще надеется.
— Это правда, — тихо послышалось несколько голосов.
— Да, — заметил Кондорсе, — завеса, скрывающая от нас конец нашей жизни, — единственное действительное благодеяние, оказанное Богом человеку на земле.
— Как бы то ни было, — начал граф де Хага, — но, случись мне услышать от такого человека, как вы, предупреждение: «Остерегайтесь такого-то человека или такой-то вещи» — я посчитал бы это за хороший совет и поблагодарил бы советчика.
Калиостро тихо покачал головой, сопровождая этот жест грустной улыбкой.
— Право, господин де Калиостро, — продолжал граф де Хага, — предостерегите меня, и я буду вам очень благодарен.
— Вы желали бы, чтобы я сказал вам то, чего не захотел сказать господину Лаперузу?
— Да, желал бы.
Калиостро собирался уже заговорить, но тотчас остановился.
— О нет, — сказал он, — нет, господин граф.
— Умоляю вас.
Калиостро отвернул голову.
— Ни за что! — пробормотал он.
— Берегитесь, — заметил с улыбкой граф, — я могу в вас разувериться.
— Неверие лучше муки.
— Господин де Калиостро, — серьезным тоном произнес граф, — вы забываете об одном.
— О чем же именно? — почтительно спросил пророк.
— Что если есть люди, которые могут позволить себе оставаться в неведении относительно своей судьбы, то есть и другие, которым нужно было бы знать будущее, так как оно важно не для них одних, но для миллионов людей!
— Тогда, — сказал Калиостро, — приказание. Я не соглашусь говорить без него.
— Что вы хотите сказать?
— Пусть ваше величество приказывает, — сказал тихо Калиостро, — я буду повиноваться.
— Я вам повелеваю открыть мне мою судьбу, господин де Калиостро, — произнес король величественно и вместе с тем приветливо.
Между тем, так как граф де Хага позволил обращаться с собой как с королем и нарушил свое инкогнито, отдав это приказание, герцог де Ришелье поднялся и приблизился к нему с почтительным поклоном.
— Позвольте, ваше величество, принести вам мою признательность за честь, которую король Швеции оказал моему дому, — сказал он. — Пусть ваше величество соблаговолит занять почетное место. С этой минуты оно может принадлежать только вам.
— Нет, останемся на своих местах, господин маршал, и постараемся не проронить ни одного слова из того, что будет говорить господин граф де Калиостро.
— Королям не говорят правды, ваше величество.
— Ба, я не у себя в королевстве. Садитесь на свое прежнее место, господин герцог. Говорите, господин де Калиостро, убедительно прошу вас об этом.
Калиостро взглянул на свой бокал: со дна его поднимались на поверхность пузырьки, как в шампанском. Казалось, под влиянием магнетического взгляда прорицателя вода начинает бурлить.
— Скажите мне, что вы желаете знать, ваше величество, — начал Калиостро, — я готов отвечать вам.
— Откройте мне, какой смертью я умру?
— От выстрела, ваше величество.
Чело Густава прояснилось.
— А, в сражении! — сказал он. — Смертью солдата. Благодарю вас, господин де Калиостро, тысячу раз благодарю! О, я предвижу сражения, а Густав Адольф и Карл XII показали мне, как должен умирать шведский король.
Калиостро молча опустил голову.
Граф де Хага нахмурил брови.
— О-о, — сказал он, — разве этот выстрел будет произведен не в сражении?
— Нет, ваше величество.
— Во время бунта? Да, это также возможно.
— Нет, не во время бунта.
— Так где же?
— На балу, ваше величество.
Король погрузился в раздумье.
Калиостро, который говорил стоя, опустился на свое место и закрыл лицо руками.
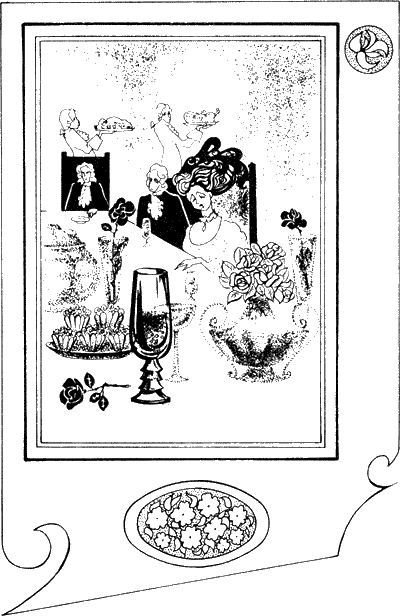
Все, кто окружал прорицателя и того, кому было сказано пророчество, побледнев, хранили молчание.
Господин де Кондорсе взял бокал воды, в котором Калиостро прочел свое зловещее предсказание, приподнял его за ножку, поднес к глазам и внимательно осмотрел его сверкавшую грань и таинственное содержимое.
Его умный взгляд, взгляд старого исследователя, казалось, искал в этом хрустальном теле и в этой хрустальной жидкости разрешение задачи, которую его разум низводил до уровня чисто физического явления.
Действительно, ученый мысленно вычислял глубину воды, преломление световых лучей и микроскопические колебания водной поверхности. Привыкнув доискиваться сути всегда и во всем, он спрашивал себя, какова была причина и основание этого шарлатанства, что в присутствии лиц с таким положением проделывал этот человек, которому нельзя было отказать в необыкновенных способностях.
Но, без сомнения, он не нашел разрешения этого вопроса, так как перестал разглядывать бокал и поставил его на стол.
— Со своей стороны, — обратился он к Калиостро среди общего молчания, вызванного последним предсказанием, — я также попрошу нашего славного пророка спросить свое волшебное зеркало относительно меня. К несчастью, — прибавил он, — я не могущественный властелин, никем не повелеваю, и моя ничтожная жизнь не принадлежит миллионам людей.
— Сударь, — заметил граф де Хага, — вы повелеваете во имя науки, и ваша жизнь важна не для одного какого-нибудь народа, а для всего человечества.
— Благодарю вас, господин граф; но, может быть, господин де Калиостро не разделяет вашего мнения.
Калиостро поднял голову, как скакун, почувствовавший шпоры.
— Как же, маркиз, — сказал он с закипавшей в нем нервной раздражительностью, которую в древние времена приписали бы действию волновавшего его божества, — вы, несомненно, могущественный повелитель в царстве мышления. Взгляните мне в глаза… Вы серьезно желаете услышать от меня предсказание?
— Совершенно серьезно, господин граф, клянусь честью! — отвечал Кондорсе. — Невозможно желать этого серьезнее.
— Хорошо! Маркиз, — начал Калиостро глухим голосом, полузакрыв глаза, неподвижно устремленные в одну точку, — вы умрете от яда, заключенного в кольце, которое вы носите на руке. Вы умрете…
— А если я его выброшу? — прервал Кондорсе.
— Выбросьте.
— Но ведь вы признаете, что это очень легко сделать?
— Так выбросьте ж его, говорю вам.
— Да, да, маркиз, — воскликнула г-жа Дюбарри, — ради Бога, выбросьте этот гадкий яд, выбросьте его хотя бы ради того только, чтобы уличить во лжи этого зловещего пророка, который нас всех огорчает своими предсказаниями! Ведь если вы его выбросите, то несомненно вы будете отравлены не им; а так как господин де Калиостро уверяет, что вам грозит смерть именно от этого яда, то поневоле господин де Калиостро окажется солгавшим.
— Графиня права, — сказал граф де Хага.
— Браво, графиня, — заметил Ришелье. — Ну же, маркиз, выбросьте этот яд, а не то теперь, когда я знаю, что вы носите на руке смерть человека, я буду дрожать всякий раз, как мне придется чокаться с вами. Кольцо может открыться само… Э-э!..
— А стаканы, когда чокаешься, так близки друг от друга, — продолжал Таверне. — Выбросьте, маркиз, выбросьте.
— Это бесполезно, — спокойно заметил Калиостро, — господин де Кондорсе не выбросит его.
— Нет, — сказал маркиз. — Я не расстанусь с ним, это правда; но не потому, чтобы я хотел помогать судьбе, а потому, что Кабанис приготовил для меня этот единственный в своем роде яд, представляющий затвердевшую благодаря игре случая субстанцию, а этот случай, может быть, не повторится. Вот почему я не выброшу этот яд. Торжествуйте, если хотите, господин де Калиостро.
— Судьба, — заметил тот, — всегда находит верных пособников, помогающих приводить в исполнение ее приговоры.
— Итак, я умру отравленным, — сказал маркиз. — Ну что же, да будет так. Не всякий, кто хочет, может умереть таким образом. Вы мне предсказываете исключительную смерть: немного яду на кончике языка, и я перестану существовать. Это уже не смерть, это — минус жизнь, как говорится у нас в алгебре.
— Мне вовсе не нужно, чтобы вы страдали, сударь, — холодно отвечал Калиостро.
И он знаком показал, что не хочет пускаться в дальнейшие подробности, по крайней мере, относительно г-на де Кондорсе.
— Сударь, — сказал тогда маркиз де Фаврас, перегибаясь всем туловищем через стол и точно желая сделать шаг вперед навстречу Калиостро, — кораблекрушение, выстрел и отравление — у меня от этого даже слюнки текут. Не сделаете ли вы одолжение предсказать и мне какой-нибудь миленький конец в таком же роде?
— О господин маркиз, — сказал Калиостро, который начинал волноваться под влиянием иронии, — вы напрасно стали бы завидовать эти господам, так как, клянусь честью дворянина, вам предстоит кое-что получше…
— Получше! — воскликнул со смехом г-н де Фаврас. — Берегитесь, вы берете на себя слишком много: что может быть хуже моря, выстрела и яда! Это трудно.
— Еще остается веревка, — любезно заметил Калиостро.
— Веревка! О, что вы такое говорите!
— Я говорю, что вы будете повешены, — отвечал Калиостро в припадке какого-то пророческого экстаза, с которым он не мог более совладать.
— Повешен! — повторили все присутствующие. — Черт возьми!
— Вы забываете, сударь, что я дворянин, — сказал несколько охлажденный от своего пыла де Фаврас. — И если вы случайно говорите о самоубийстве, то я предупреждаю вас, что надеюсь до последней минуты настолько сохранить самоуважение, чтобы не пользоваться веревкой, пока у меня будет шпага.
— Я говорю не о самоубийстве, сударь.
— Значит, о казни?
— Да.
— Вы иностранец, сударь, и потому я извиняю вас.
— За что?
— За ваше неведение. Во Франции дворянам отрубают голову.
— Вы об этом договоритесь с палачом, сударь, — отвечал Калиостро, уничтожив своего собеседника этим резким ответом.
Все присутствующие замолчали; казалось, ими овладела некоторая нерешительность.
— Знаете, я трепещу, — сказал г-н де Лонэ, — мои предшественники вытянули такой печальный жребий, что я не жду для себя ничего хорошего, если начну шарить в том же мешке, что и они.
— В таком случае, вы благоразумнее их, если не хотите знать тайну будущего. Вы правы; хороша ли она или дурна, будем чтить тайну Создателя.
— О господин де Лонэ, — заметила г-жа Дюбарри, — я надеюсь, что вы будете не менее мужественны, чем эти господа.
— Я также надеюсь, — склоняясь перед графиней, сказал де Лонэ. — Итак, сударь, — продолжал он, обращаясь к Калиостро, — прошу вас одарить и меня гороскопом.
— Это не трудно, — отвечал Калиостро, — удар топором по голове, и все будет кончено.
Столовую огласил крик ужаса. Де Ришелье и Таверне умоляли Калиостро не продолжать, но женское любопытство одержало верх.
— Право, если послушать вас, граф, — сказала г-жа Дюбарри, — все человечество должно окончить жизнь насильственной смертью. Нас здесь восемь человек, и из восьми уже пятеро осуждены вами!
— О, как же вы не понимаете, что это делается умышленно; мы все посмеиваемся, — сказал г-н де Фаврас, действительно силясь рассмеяться.
— Конечно, смеемся, — подтвердил граф де Хага, — будь то правда или ложь.
— Я тоже желала бы посмеяться, — сказала г-жа Дюбарри, — так как мне не хотелось бы своей трусостью опозорить все наше общество. Но, увы, я только женщина и не могу надеяться на честь сравняться с вами трагичностью жизненного конца. Женщины умирают в своей постели. Увы, моя смерть, смерть старой женщины, печальной, всеми забытой, будет худшей из всех, не правда ли, господин де Калиостро?
Она произнесла эти слова с колебанием, желая не только словами, но всем своим внешним видом дать пророку повод возразить; но Калиостро не спешил успокоить ее.
Любопытство оказалось сильнее беспокойства, и она уступила ему.
— Ну же, господин де Калиостро, — продолжала г-жа Дюбарри, — отвечайте мне.
— Как же вы хотите, чтобы я отвечал вам, сударыня, когда вы не спрашиваете меня?
Графиня с минуту колебалась.
— Но… — начала она.
— Что же, — прервал ее Калиостро, — вы спрашиваете или нет?
Графиня сделала над собой усилие и, почерпнув храбрости в улыбках, которые она заметила на всех устах, воскликнула:
— Ну что же, рискну! Скажите мне, каков будет конец Жанны де Вобернье, графини Дюбарри?
— Эшафот, сударыня, — отвечал зловещий предсказатель.
— Это шутка, не правда ли, сударь? — пробормотала графиня, устремляя на Калиостро умоляющий взор.
Но Калиостро был доведен до крайности и не заметил этого взгляда.
— А почему это должно быть шуткой? — спросил он.
— Потому, что для того, чтобы взойти на эшафот, надо убить, зарезать кого-нибудь, вообще совершить какое-нибудь преступление, а я, по всей вероятности, никогда никакого преступления не совершу. Так это шутка, не правда ли?
— Э, Боже мой, да, — сказал Калиостро, — это шутка, как и все предсказанное мною.
Графиня разразилась смехом, который опытному наблюдателю показался бы слишком громким и резким для искреннего.
— Ну, господин де Фаврас, — сказала она, — закажем себе траурные кареты.
— О, это было бы для вас бесполезно, графиня, — заметил Калиостро.
— Почему?
— Потому, что вы поедете на эшафот в повозке.
— Фи, какой ужас! — воскликнула г-жа Дюбарри. — О, страшный человек! Маршал, другой раз выбирайте себе других гостей, или вы больше не увидите меня здесь.
— Извините меня, сударыня, — сказал Калиостро. — Вы сами, как и другие, пожелали этого.
— Да, как и все другие. Но, по крайней мере, вы дадите мне время выбрать себе духовника?
— Это был бы излишний труд, графиня, — сказал Калиостро.
— Как так?
— Последний, кто взойдет на эшафот с духовником, будет…
— Будет?.. — спросили все присутствующие.
— … король Франции.
И Калиостро произнес последние слова таким глухим и зловещим голосом, что присутствующие точно почувствовали над собой дуновение смерти, оледенившее все сердца.
Несколько минут длилось молчание.
В это время Калиостро поднес к губам бокал воды, в котором прочел все эти кровавые предсказания; но, едва прикоснувшись к нему губами, он оттолкнул его с непреодолимым отвращением, точно в него была налита горечь.
В эту самую минуту глаза Калиостро остановились на Таверне.
— О! — воскликнул последний, подумав, что Калиостро хочет говорить. — Не говорите мне, что со мной будет. Я у вас этого не спрашиваю.
— Ну, а я спрашиваю о себе, — сказал Ришелье.
— Успокойтесь, господин маршал, — отвечал Калиостро, — вы, единственный из здесь находящихся, умрете в своей постели.
— Кофе, господа! — воскликнул старый маршал в восторге от предсказания. — Кофе!
Все встали.
Но, прежде чем перейти в гостиную, граф де Хага подошел к Калиостро.
— Сударь, — сказал он, — я не собираюсь бежать от своей судьбы, но скажите мне, чего мне надо остерегаться?
— Муфты, ваше величество, — отвечал Калиостро.
Граф де Хага отошел.
— А мне? — спросил Кондорсе.
— Омлета.
— Хорошо, я отказываюсь от яиц.
И он присоединился к графу.
— А мне, — спросил Фаврас, — чего нужно опасаться?
— Письма.
— Хорошо, благодарю вас.
— А мне? — спросил де Лонэ.
— Взятия Бастилии.
— О, в таком случае я спокоен.
И он отошел со смехом.
— Теперь моя очередь, сударь, — сказала графиня, дрожа всем телом.
— Вам, прелестная графиня, надо остерегаться площади Людовика XV.
— Увы, — отвечала графиня, — я уже раз заблудилась на ней и очень мучилась. В тот день я совсем потеряла голову.
— Ну, на этот раз вы опять потеряете ее, графиня, но уже не найдете снова.
Госпожа Дюбарри вскрикнула и убежала к остальным гостям.
Калиостро собирался присоединиться ко всем.
— Одну минуту, — сказал Ришелье. — Нас осталось только двое — Таверне да я, — которым вы ничего не сказали, мой милый колдун.
— Господин де Таверне просил меня ничего не говорить ему, а вы, маршал, ничего не спрашивали у меня.
— О, я опять повторяю свою просьбу! — воскликнул Таверне, умоляюще складывая руки.
— Ну вот что: чтобы доказать свою удивительную силу, не могли бы вы сказать одну вещь, которая известна только нам двоим?
— Какую? — спросил с улыбкой Калиостро.
— Зачем этот бравый Таверне приехал в Версаль, вместо того чтобы спокойно жить себе в своих прекрасных землях Мезон-Ружа, выкупленных для него королем три года назад?
— Ничего не может быть проще, господин маршал, — отвечал Калиостро. — Десять лет тому назад господин де Таверне хотел отдать свою дочь, мадемуазель Андре, королю Людовику XV, но ему это не удалось.
— О-о, — сердито проворчал Таверне.
— А теперь он хочет отдать своего сына, Филиппа де Таверне, королеве Марии Антуанетте. Спросите у него, лгу ли я?
— Клянусь честью, — сказал, весь дрожа, Таверне, — этот человек колдун, или пусть меня черт возьмет!
— О, — сказал маршал, — не поминай так неосторожно черта, старый дружище!
— Ужасно, ужасно! — бормотал Таверне.
И он повернулся, чтобы еще раз попросить Калиостро хранить молчание; но тот исчез.
— Пойдем в гостиную, Таверне, пойдем, — сказал маршал, — кофе выпьют без нас, или нам придется пить его холодным, что будет еще хуже.
И он поспешно пошел в гостиную.
Но она была пуста: ни один из гостей не нашел в себе достаточно мужества, чтобы встретиться лицом к лицу с автором таких ужасных предсказаний.
Свечи горели в канделябрах; кофе дымился в кофейнике; в камине горел огонь. И все это никому уже не было нужно.
— Ей-Богу, дружище, нам, по-видимому, придется выпить кофе наедине… Э, да куда же он пропал?
Ришелье огляделся, но маленький старичок исчез, как и все остальные.
— Как бы то ни было, — сказал маршал со злобной ухмылкой, напоминавшей усмешку Вольтера, потирая одну о другую свои высохшие белые руки, унизанные кольцами, — я единственный из всех моих сегодняшних гостей умру в своей постели! В своей постели! Граф де Калиостро, я не принадлежу к людям, не верящим вам. В своей постели, и, насколько возможно, позднее… Эй, камердинер, а мои капли?
Камердинер вошел с флаконом в руке, и маршал прошел вместе с ним в свою спальню.
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления