Онлайн чтение книги
Ожерелье королевы
The Queen's Necklace
Часть первая
I
ДВЕ НЕЗНАКОМКИ
Зиму 1784 года, это чудовище, пожравшее шестую часть Франции, мы не смогли — хоть она рычала у каждой двери — увидеть в доме г-на герцога де Ришелье, укрытые в его теплой и благоуханной столовой.
Морозные узоры на окнах — это роскошь природы рядом с роскошью человека. У зимы есть свои бриллианты, пудра и серебряные вышивки для увеселения глаз богача, закутанного в меха. Он едет в закрытой карете, защищающей его от холода, или сидит в теплом, уютном, как гнездышко, увешанном бархатными драпировками помещении. Холод — это роскошная забава, непогода — простая смена декораций, и богатый наблюдает ее из окон, следя за действиями великого и вечного машиниста, которого зовут Богом.
Действительно, тот, кому тепло, может любоваться почерневшими деревьями и находить прелесть в развертывающейся перед ним печальной панораме одетых зимним покровом равнин.
Тот, чье обоняние щекочут ароматные испарения ожидающего его обеда, может время от времени вдохнуть через полуоткрытое окно освежающий мысли резкий запах морозного воздуха и ледяное дыхание снега.
Тот человек, наконец, который после дня, проведенного им в покое и довольстве (а миллионами его сограждан — в страданиях и лишениях), ложится под стеганое одеяло, на тонкое белье в теплую постель, — такой человек, как тот эгоист, о котором говорит Лукреций и которого восхваляет Вольтер, может находить, что все прекрасно в этом лучшем из возможных миров.
Но тот, кому холодно, не замечает великолепия природы, равно пышной и в белом, и в зеленом одеянии.
Тот, кто голоден, опускает свои взоры на землю и отвращает их от неба, не озаренного солнцем и, следовательно, не дарящего улыбки несчастному.
В то время, о котором мы говорим, то есть приблизительно в половине апреля, триста тысяч несчастных, умиравших от холода и голода, стенали в одном только Париже, в котором, под предлогом, что ни в одном городе не живет столько богатых людей, не было принято никаких мер, чтобы не дать бедным умереть от холода и лишений.
За четыре месяца зимы морозы заставляли бедняков стекаться из деревень в города, как зима обыкновенно выгоняет волков из лесов в деревни.
Вышел весь хлеб, все топливо.
Не было хлеба для тех, кто еще мог терпеть стужу; не было дров, чтобы печь хлеб.
Париж уничтожил в один месяц все заготовленные запасы; купеческий старшина, человек непредусмотрительный и неспособный, не находил возможности доставить во вверенный его попечению город двести тысяч корд дров из окрестностей столицы, находившихся от нее на расстоянии десяти льё.
Когда стояли морозы, он ссылался на то, что лошади не могут идти по льду; когда наступала оттепель, он отговаривался недостатком телег и лошадей. Людовик XVI, как всегда добрый и человеколюбивый, как всегда первым замечавший и принимавший к сердцу материальные нужды народа (социальные нужды легче ускользали от его внимания), ассигновал двести тысяч ливров на наем повозок и лошадей и наконец вменил парижанам в обязанность позаботиться самим об удовлетворении насущной потребности в топливе.
Но спрос продолжал превышать подвоз. Пришлось установить норму покупки. Никто не имел права брать с дровяных складов больше вуа, а затем — больше полвуа дров. Тогда у ворот складов, как позднее у дверей булочных, стали тесниться покупатели, образуя длинные хвосты очередей.
Король истратил все деньги своей личной казны на раздачу пособий. Он взял три миллиона из таможенных доходов и употребил их на оказание помощи несчастным, объявив, что все другие заботы должны отступить перед этой неотложной нуждой — голодом и холодом!
Королева, со своей стороны, пожертвовала из своих личных сбережений пятьсот луидоров. Монастыри, больницы, общественные здания были превращены в убежища для бедных; все дома, начиная с королевских замков, открыли по приказанию владельцев свои ворота, чтобы дать беднякам доступ во дворы, где они укрывались, греясь около больших костров.
Все надеялись на скорую оттепель
Но небеса были неумолимы: солнце каждый вечер закатывалось окутанное розоватым туманом; звезды сияли на небе холодным, резким блеском, точно похоронные факелы, и ночные морозы опять сковывали льдом снег, растаявший было ненадолго под солнечными лучами.
Днем тысячи рабочих, вооруженных кирками и лопатами, скалывали лед, сгребали снег и складывали вдоль домов, и эти двойные холодные валы, возвышаясь по обеим сторонам мостовой, делали и без того по большей части слишком узкие улицы еще более тесными. Колеса тяжелых карет скользили во все стороны, лошади спотыкались и падали на каждом шагу, заставляя жаться к этим ледяным стенам прохожих, которым угрожали три опасности — возможные обвалы, вероятность угодить под экипаж и, наконец, риск упасть.
Вскоре груды снега и льда достигли такой вышины, что заслонили собой лавки и закрыли проходы. Кроме того, пришлось отказаться от скалывания льда, так как на это не хватало ни рабочих сил, ни лошадей.
Наконец Париж признал себя побежденным и предоставил зиме свободу действий. В таком положении дел прошел декабрь, январь, февраль и март. Изредка двух-, трехдневная оттепель обращала Париж в целое море, так как в городе не было ни сточных труб, ни идущих под уклон улиц.
По некоторым улицам в такие дни нельзя было пробраться иначе как вплавь. Лошади тонули в воде. Кареты не рисковали проезжать по таким улицам даже шагом, так как им пришлось бы стать лодками.
Но Париж, верный своему характеру, смеялся над смертью, распевая про оттепель, как раньше пел про голод. Парижане отправлялись толпами на рынки любоваться, как торговки рыбой расхваливали свой товар и бегали за покупателями по воде, обутые в громадные кожаные сапоги, в заправленных в сапоги панталонах и подоткнутых до пояса юбках, обрызгивая друг друга, смеясь и возбужденно жестикулируя. Но так как оттепель продолжалась очень недолго, а лед становился все толще и прочнее, отчего вчерашние лужи превращались назавтра в скользкий, блестящий ледяной паркет, то кареты пришлось заменить санями, которые передвигали по льду конькобежцы или везли лошади, имевшие подковы с острыми шипами. Сена, замерзшая на несколько футов в глубину, служила местом свиданий праздных людей, упражнявшихся на ней в беге, катании на коньках, — вообще во всевозможных играх. Разгоряченные этой гимнастикой, они бежали затем, как только чувствовали потребность в отдыхе, к ближайшим кострам, чтобы не давать испарине на теле застывать.
Многие предвидели, что уже наступает такое время, когда сообщение по воде кончится, а так как и сухопутное станет невозможным, то, следовательно, прекратится подвоз съестных припасов, и Париж, это гигантское тело, подобно тем чудовищным китам, которые, поселив вокруг себя смерть и опустошение, остаются затертыми полярными льдами и гибнут от голода, не имея возможности, как то делают служившие им добычей маленькие рыбки, проскользнуть в щели между льдинами и проникнуть в места с более умеренным климатом, в более обильные пищей воды.
Ввиду такого крайнего положения дел король созвал свой совет. На нем было решено выслать из Парижа (то есть предложить вернуться в свои провинции) епископов, аббатов и монахов, беззаботно позабывших о своем местожительстве; губернаторов и провинциальных интендантов, сделавших Париж ареной своей служебной деятельности, и, наконец, судейских, предпочитавших Оперу и светское общество своим украшенным лилиями креслам.
Действительно, все эти господа сжигали пропасть дров в своих богатых особняках и истребляли массу провизии в своих огромных кухнях.
В Париже было также немало дворян-землевладельцев из провинции, которым решено было посоветовать вернуться в свои замки. Но начальник полиции господин Ленуар заметил королю, что так как все эти люди не обвиняются ни в каких преступлениях, то нельзя принудить их выехать из Парижа на другой же день после полученного ими предложения; следовательно, они могут проявить с отъездом известную медлительность, которая будет отчасти проистекать от их нежелания, а отчасти от плохого состояния дорог. Таким образом, оттепель наступит прежде, чем можно будет воспользоваться выгодами предлагаемой меры, а между тем все неудобства ее скажутся раньше.
Сострадание, выказанное королем, который опустошил свои сундуки, и милосердие королевы, потратившей все свои сбережения, возбудили своеобразную благодарность в народе, который увековечил памятниками, столь же преходящими, как зло и добро, воспоминание о тех щедротах, которые изливали на бедняков Людовик XVI и королева. Как некогда солдаты воздвигали триумфальные арки победоносному генералу из оружия врагов, от которых их спас полководец, так и парижане воздвигали королю и королеве обелиски из снега и льда на самом поле битвы, где шла борьба с зимой. Все приняли участие в этом созидании: рабочие приложили свой труд и умение, художники — свой талант, и изящные, гордые, прочные обелиски появились на углах главных улиц, а бедняк-поэт, которого щедроты государя застали в мансарде, принес в дар сочиненную им от полноты сердца надпись на обелисках.
В конце марта началась оттепель, но не полная, а чередовавшаяся с морозами, которые усугубляли среди парижского населения обнищание, страдания и голод и вместе с тем сохраняли в целости снежные памятники.
Никогда еще нищета не достигала таких размеров, как в этот последний период, когда при показывавшемся временами и уже пригревавшем солнце холодные ночи казались еще более тяжелыми. Толстый слой льда растаял, и обильные ручьи потекли в Сену, выступившую из берегов. Но в первых числах апреля снова наступили холода, и полуразвалившиеся обелиски, на поверхности которых выступила было вода, предвещавшая их скорую гибель, снова затвердели, хотя утратили прежнюю правильную форму и стали ниже. Толстый слой снега покрыл землю на бульварах и набережных, на которых снова появились сани, запряженные резвыми лошадьми. Но все это было хорошо только на набережных и бульварах. На улицах же кареты и быстро мчащиеся кабриолеты возбуждали панический ужас у пешеходов, которые не слышали их приближения и не могли спастись от них, будучи стеснены в своих движениях высившимися с обеих сторон ледяными стенами, так что часто попадали под колеса экипажей, тщетно пытаясь ускользнуть от них.
В считанные дни Париж наполнился ранеными и умирающими. Здесь один лежал со сломанной ногой, разбившись о лед при падении; там у другого была пробита грудь оглоблями кабриолета, который, раскатившись по льду, не мог разом остановиться. Тогда полиция начала принимать меры для спасения от экипажей тех, кто уцелел от холода, голода и наводнений. Богатых, давивших бедных, заставили платить штрафы. В те времена, времена владычества аристократии, существовала своего рода иерархия и в езде: принцев крови возили очень быстро, причем кучер даже не кричал прохожим: «Берегись!»; герцогов и пэров, дворян и девиц из Оперы возили крупной рысью; президентов и финансистов — обыкновенной рысью; франты обычно ездили в кабриолетах и сами правили лошадью, а жокей, стоя сзади, кричал «Берегись!» всякий раз, как его господин задевал или давил какого-нибудь несчастного.
А затем, как говорит Мерсье, кто мог, вставал. Но, в конечном счете, если парижанин видел нарядные сани с красиво выгнутой спинкой, вроде лебединой шеи, скользящие по бульварам; если он мог любоваться прекрасными придворными дамами в куньих и горностаевых шубках, как метеоры проносившимися мимо по блестящему ледяному паркету; если, наконец, золоченые бубенцы, красные сетки и перья на головах лошадей забавляли детей, стоявших рядами там, где можно было видеть все эти прелести, — парижские обыватели забывали про нерадивость полиции, про грубость кучеров, а бедняки забывали, по крайней мере на минуту, о своих горестях, так как в то время в них еще сильна была привычка подчиняться богатым людям или тем, кто желал казаться таковыми.
При таких-то обстоятельствах, неделю спустя после обеда, данного г-ном Ришелье в Версале, в один прекрасный, солнечный, но холодный день в Париж въехало четверо изящных саней, быстро скользивших по заледеневшему снегу, покрывавшему мостовую набережной Кур-ла-Рен и конец Бульваров, начиная с Елисейских полей. За городом снег мог долго сохранять свою девственную белизну, но в Париже сотни тысяч шагов, которые прохожие делают за час, быстро портят и грязнят роскошный зимний покров.
Сани, свободно скользившие по снегу, остановились было у бульваров, где сухой снег сменился грязью; на солнце стало теплее, и началась непродолжительная оттепель. (Мы говорим «непродолжительная», потому что удивительная прозрачность и чистота воздуха предвещали ночной мороз, который зачастую губит в апреле первые листья и цветы.)
В первых санях сидело двое мужчин, в дорожных плащах из коричневого сукна, со стоячими отложными воротниками. Единственная разница, которую можно было подметить между одеждой того и другого, состояла в том, что у одного пуговицы и петлицы были обшиты золотом, а у другого — шелком.
Этих двух мужчин везла вороная лошадь, из ноздрей которой так и валил пар; они ехали впереди вторых саней и время от времени оглядывались, точно охраняя их.
Во вторых санях сидели две женщины, так тщательно закутанные в меха, что нельзя было разглядеть их лица. Можно даже сказать, что было бы трудно определить, к какому полу принадлежали эти два существа, если бы высокие прически, увенчанные маленькими шляпами с развевающимися перьями, не указывали на то, что это были женщины.
От гигантских сооружений, которые представляли эти прически, убранные лентами и разными украшениями, поднималось целое облако белой пудры, подобно тому, как зимой ветер встряхивает снежную пыль с ветвей деревьев.
Обе дамы, сидя рядом и тесно прижимаясь одна к другой, вели между собой беседу, не обращая внимания, что множество любопытных на бульварах разглядывали их.
Мы забыли сказать, что после минутной остановки они продолжили свой путь.
Одна из двух дам, которая была выше ростом и имела более величественный вид, прижимала к губам тонкий вышитый батистовый платок и держала голову высоко, несмотря на сильный ветер, обдававший их обеих вследствие быстрой езды. Колокола церкви Святого Креста на Шоссе д’Антен только что пробили пять часов, и над Парижем начала спускаться ночь, а вместе с ночью усиливался и холод.
В это время экипажи почти доехали до ворот Сен-Дени.
Дама в санях, прижимавшая к губам платок, сделала знак мужчинам, ехавшим впереди, и те, погнав свою вороную лошадь, стали удаляться. Затем она повернулась к двум другим саням, составлявшим арьергард. Ими правили возничие без ливрей, которые, повинуясь данному им знаку, исчезли в улице Сен-Дени.
Сани с двумя мужчинами, как мы уже сказали, значительно опередили те, в которых сидели дамы, и наконец скрылись в вечернем сумраке, начинавшем сгущаться вокруг исполинских строений Бастилии.
Вторые сани остановились, доехав до бульвара Менильмонтан. В этой части города прохожих было мало: наступающая ночь заставила их разойтись. К тому же редко кто из обитателей этого отдаленного квартала решался выходить на улицу без факелов и провожатых с того времени, как зима отточила зубы трем или четырем тысячам сомнительных нищих, постепенно превратившихся в воров.
Дама, которая отдавала приказания и которая, как поняли уже наши читатели, была здесь главной, дотронулась пальцем до плеча своего кучера.
Сани остановились.
— Вебер, — сказала она, — сколько времени вам нужно, чтобы привезти кабриолет сами знаете куда?
— Фам уготно ехать ф каприолете, матам? — спросил возница с очень заметным акцентом.
— Да, я хочу на обратном пути проехать по улицам, чтобы взглянуть на костры. А так как на улицах еще грязнее, чем на бульварах, то в санях было бы трудно ехать. Кроме того, мне стало немного холодно. Вам также, милая? — спросила дама, обращаясь к своей спутнице.
— Да, мадам, — отвечала та.
— Итак, вы слышите, Вебер? Везите кабриолет сами знаете куда.
— Карашо, матам.
— Сколько времени вам на это потребуется?
— Польчаса.
— Хорошо. Взгляните, который час, милая моя.
Дама помоложе достала из-под шубы часы и стала разглядывать циферблат, что ей удалось не без труда, так как становилось темно.
— Без четверти шесть, — сказала она.
— Итак, в три четверти седьмого, Вебер.
И с этими словами дама легко выпрыгнула из саней, взяла под руку свою подругу и пошла вперед, между тем как кучер с жестом, выражавшим отчаяние, но тем не менее почтительным, пробормотал достаточно громко, для того чтобы его госпожа могла расслышать:
— Неосторошность, ах, mein Gott[3]Боже мой (нем.). , какая неосторошность!
Обе молодые женщины рассмеялись, закутались плотнее в свои шубы, воротники которых закрывали им уши, и пересекли поперечную аллею бульвара, забавляясь тем, как хрустит снег под их маленькими ножками, обутыми в тонкие меховые сапожки.
— У вас такие хорошие глаза, Андре, — сказала дама, казавшаяся старше, хотя ей тем не менее не должно было быть больше тридцати двух лет, — постарайтесь прочесть на этом углу название улицы.
— Это улица Капустного Моста, — отвечала с улыбкой молодая женщина.
— Какая улица? Капустного Моста? Боже мой, мы заблудились? Улица Капустного Моста! А мне сказали, вторая улица направо! Но слышите, Андре, как вкусно пахнет горячим хлебом?
— Это неудивительно, — отвечала ее спутница, — мы у двери булочной.
— Ну так спросим у булочника, где улица Сен-Клод.
И с этими словами дама сделала шаг к двери.
— О, не входите, мадам! — с живостью сказала другая дама. — Позвольте мне.
— Улица Сен-Клод, мои прелестные дамочки, — сказал чей-то веселый голос, — вы хотите знать, где улица Сен-Клод?
Обе женщины одновременно обернулись в ту сторону, откуда раздался голос, и увидели стоявшего у двери булочной пекаря, в куртке, с открытой грудью и голыми ногами, несмотря на сильный холод.
— Ах, голый мужчина! — воскликнула дама помоложе. — Разве мы в Океании?
И, отступив на шаг, она спряталась за свою спутницу.
— Вы разыскиваете улицу Сен-Клод? — продолжал пекарь, не понимая, что должно было означать поведение этой дамы, так как, привыкнув к своему костюму, он был далек от предположения, что мог в нем кого-нибудь заставить обратиться в бегство.
— Да, друг мой, улицу Сен-Клод, — отвечала дама постарше, с трудом удерживаясь от смеха.
— О, ее нетрудно найти… Да, кроме того, я вас провожу туда, — продолжал жизнерадостный малый, весь в муке, и, перейдя от слов к делу, он зашагал своими длинными худыми ногами, обутыми в широкие, как лодки, деревянные башмаки.
— Нет, нет! — сказала дама постарше, которой, вероятно, вовсе не хотелось, чтобы ее кто-нибудь видел с таким провожатым. — Укажите нам улицу и не беспокойтесь сами: мы постараемся последовать вашим указаниям.
— Первая улица направо, сударыня, — отвечал провожатый, скромно удаляясь.
— Благодарю, — сказали в один голос обе дамы и двинулись в указанном направлении, пряча лица в муфты, чтобы заглушить смех.
II
ОБСТАНОВКА ОДНОЙ КВАРТИРЫ
Если мы не требуем слишком многого от памяти читателей, то смеем надеяться, что им уже знакома улица Сен-Клод, примыкающая восточной своей частью к бульвару, а западной — к улице Сен-Луи. Действительно, многие из лиц, которые или играли, или еще будут играть роль в этой истории, не раз бывали на ней в прежние дни, то есть когда тут жил великий доктор Джузеппе Бальзамо со своей сивиллой Лоренцой и своим наставником Альтотасом.
В 1784 году, как и в 1770-м, когда мы впервые водили по ней наших читателей, Сен-Клод была приличной улицей, правда несколько темноватой, не особенно опрятной и людной, малозастроенной и малоизвестной. Но так как она носила имя святого и имела все свойства улицы в Маре, то в трех-четырех составлявших ее домах жило несколько бедных рантье, бедных торговцев и просто бедняков, позабытых даже в церковных книгах здешнего прихода.
Кроме этих трех-четырех домов, на углу бульвара возвышался особняк довольно величественного вида, которым улица Сен-Клод могла бы гордиться как аристократической постройкой. Но это здание с окнами, расположенными выше ограды двора, которые, если бы зажечь по случаю какого-нибудь торжества канделябры и люстры в доме, осветили бы всю улицу, — это здание было самым темным, самым немым и самым глухим в этом квартале.
Дверь никогда не открывалась; на окнах, заложенных кожаными подушками, на пластинках жалюзи и на ставнях лежал слой пыли, возраст которой физиологи или геологи должны были бы оценить как, по крайней мере, десятилетний.
Изредка какой-нибудь прохожий — прогуливающийся от нечего делать, любопытствующий или просто сосед — подходил к воротам и принимался разглядывать двор этого особняка через большую замочную скважину.
Он мог увидеть густую траву, выросшую между плитами мощеного двора, которые поросли мхом и позеленели от плесени. Иногда огромная крыса, повелительница этого покинутого владения, спокойно проходила по двору и скрывалась в погребах, что с ее стороны было излишней скромностью, так как она имела в своем исключительном и полном распоряжении гостиные и очень удобные помещения, где кошки не могли ее потревожить.
Если это был случайный прохожий, то, удостоверившись в полнейшем безлюдье дома, он продолжал свой путь; но если это был сосед, то, поскольку особняк возбуждал в нем немалый интерес, он по большей части оставался довольно долго в такой созерцательной позе, что заставляло другого соседа, также привлеченного любопытством, присоединяться к нему. Тогда между ними почти всегда завязывался разговор, сущность которого, если не подробности, мы можем привести с полной достоверностью.
— Сосед, — спрашивал новоприбывший того, кто смотрел через замочную скважину, — что вы такое видите в доме господина графа де Бальзамо?
— Сосед, — отвечал смотревший, — я вижу крысу.
— А! Вы позволите?
И второй любопытный, в свою очередь, наклонялся к замочному отверстию.
— Видите вы ее? — спрашивал отстраненный у захватившего его место.
— Да, — отвечал тот, — вижу. Э, сударь, она разжирела.
— Вы находите?
— Я в этом уверен.
— Еще бы, она живет себе спокойно.
— И, вне всякого сомнения, в доме, что бы там ни говорили, наверное, остались лакомые кусочки.
— Лакомые кусочки! Вы думаете?
— Проклятье! Ведь господин де Бальзамо исчез слишком быстро, чтобы не забыть чего-нибудь.
— Э, сосед, что можно оставить в наполовину сгоревшем доме?
— Пожалуй, вы правы, сосед.
И еще раз полюбовавшись на крысу, они расходились в испуге, что сказали слишком много по такому таинственному и щекотливому вопросу.
Действительно, со времени пожара дома, или, вернее, одной части дома, Бальзамо скрылся; после него никакой ремонт не производился и особняк оставался покинутым.
Оставим же возвышаться в ночном мраке, погруженным в глубокую тьму и сырость, со своими балконами, занесенными снегом, и крышей, попорченной огнем, этот старый особняк, мимо которого мы не хотели пройти, не остановившись перед ним как старинные знакомые; а затем, перейдя на правую сторону улицы, взглянем на примыкающий к обнесенному высокой стеной садику узкий и высокий дом, выделяющийся на серовато-голубом небе как белая длинная башня.
На крыше этого дома бросается в глаза каминная труба, как бы играющая роль громоотвода, а как раз над ней сверкает и мигает блестящая звезда.
Последний этаж был бы совершенно незаметен, если бы не свет, виднеющийся в двух из трех окон фасада.
Остальные этажи темны и безмолвны. Спят ли уже жильцы? Лежа под одеялом, берегут ли столь дорогие в этом году свечи и столь ценные дрова? Как бы то ни было, четыре этажа не подают никакого признака жизни, тогда как пятый не только живет, но и светится не без некоторой претензии.
Постучим в дверь и поднимемся по темной лестнице, что кончается у пятого этажа, где у нас есть дело. Простая подвижная лестница, прислоненная к стене, ведет в верхний этаж.
У дверей висит ручка звонка; соломенная циновка и деревянная вешалка — вот вся меблировка лестничной площадки.
Открыв первую дверь, мы входим в темное и лишенное всякой мебели помещение: это и есть комната с неосвещенным окном. Она служит прихожей и ведет во вторую комнату, убранство которой заслуживает нашего пристального внимания.
Пол вместо паркета выложен плитами; окраска дверей крайне аляповатая; мебель состоит из трех кресел некрашеного дерева, обитых желтым бархатом, и плохонькой софы, подушки которой от времени сильно обмялись и похудели.
Обивка старых кресел также обвисла и пришла в ветхость; когда кресла были новы, они блестели и были очень упруги; но пружины их от старости потеряли всякую упругость, способность сопротивляться и покорно оседали под тяжестью тела; если же гость одерживал над ними победу, то есть садился в кресло, они издавали жалобный стон.
Прежде всего взор здесь привлекают два портрета на стене. Свеча и лампа (одна поставлена на трехногом столике, а другая — на камине) направляют свой свет на портреты, так что оба они находятся в самом фокусе этого двойного освещения.
Берет на голове, длинное и бледное лицо, тусклый взгляд, остроконечная бородка, воротник с брыжжами — все это слишком хорошо знакомо, чтобы зритель не узнал сразу же на первом портрете изображение Генриха III, короля Франции и Польши.
Под портретом надпись черными буквами по облупившейся позолоте рамы: «Генрих де Валуа».
Другой портрет заключен в раму с более свежей позолотой и, судя по письму, сделан недавно. Он изображает молодую женщину, черноглазую, с тонким прямым носом, выступающими скулами и линией рта, свидетельствующей о хитрости его обладательницы. Она причесана… вернее, она придавлена целым сооружением на голове из волос и лент, так что по сравнению с ним маленький берет Генриха III производит впечатление кучки выброшенной кротом земли рядом с пирамидой.
Под портретом надпись, также черными буквами, гласит: «Жанна де Валуа».
Если читатель, оглядев потухший очаг, жалкие поношенные сиамезовые занавеси у постели, покрытой пожелтевшей зеленой камкой, захотел узнать, какое имеют отношение эти портреты к обитателям пятого этажа, то ему стоило бы только повернуться к маленькому дубовому столику, за которым сидит, опершись на левую руку, просто одетая женщина, пересматривающая и проверяющая адреса на нескольких запечатанных письмах.
Эта молодая женщина — оригинал портрета.
В трех шагах от нее стоит и ждет в полулюбопытной, полупочтительной позе старая служанка лет шестидесяти, одетая, как дуэнья Грёза.
«Жанна де Валуа» — гласит надпись.
Но если эта дама из дома Валуа, то как может Генрих III, этот король-сибарит, этот сластолюбец с брыжжами, выносить, хотя бы даже находясь на портрете, зрелище такой нищеты, когда дело идет об особе не только из его рода, но даже носящей его имя?
К тому же сама дама, живущая на пятом этаже, вполне достойна происхождения, что она приписывает себе. У нее белые изящные запястья, которые она время от времени согревает, складывая руки и прижимая их к телу; пытается она согреть и свои маленькие ноги с узкой, удлиненной формы ступней, обутые в черные довольно кокетливые бархатные туфли, постукивая по полу, блестящему и холодному, как покрывающий парижские мостовые лед.
Холодный ветер ворвался из-под дверей и сквозь щели в окнах, и служанка, печально поводя плечами, устремила глаза на очаг без огня.
Что касается хозяйки квартиры, то она продолжала перебирать письма и читать адреса.
Прочтя адрес, она каждый раз делала маленький подсчет.
— Госпожа де Мизери, — бормотала она, — первая дама покоев ее величества. Тут можно рассчитывать не более чем на шесть луидоров, так как я уже получала деньги раньше.
И она вздохнула.
— Госпожа Патрис, горничная ее величества, — два луидора.
Господин д’Ормессон — аудиенция.
Господин де Калонн — совет.
Господин де Роган — визит. И мы постараемся, чтоб он нам его отдал, — сказала молодая женщина с улыбкой.
— Итак, — продолжала она свое бормотанье, — у нас будет верных восемь луидоров через неделю.
Она подняла голову.
— Госпожа Клотильда, — сказала она, — снимите нагар со свечи.
Старуха повиновалась и снова вернулась на свое место, по-прежнему серьезная и внимательная к происходящему вокруг нее.
Это наблюдение, которому она подвергалась, по-видимому, утомляло молодую женщину.
— Поищите-ка, моя милая, — сказала она, — не осталось ли где воскового огарка. Мне противна эта сальная свеча.
— Восковой нет, — отвечала старуха.
— А все же поищите.
— Где?
— В прихожей.
— Там очень холодно.
— Э, вот как раз звонят, — сказала молодая женщина.
— Вы ошибаетесь, сударыня, — отвечала упрямая старуха.
— Мне показалось, госпожа Клотильда.
И видя, что старуха упрямится, она уступила, тихо ворча про себя, как обыкновенно делают люди, которые по каким-либо причинам позволили лицам, ниже их стоящим, взять над ними такую власть, на которую никоим образом не имели прав.
Затем она вернулась к своим расчетам.
— Восемь луидоров, из которых три я должна здесь, в нашем квартале.
Она взяла перо и записала:
— Три луидора… Пять обещаны господину де Ламотту, чтобы облегчить ему прибывание в Бар-сюр-Об… Бедняга! Наш брак не обогатил его… Но терпение!
И она снова улыбнулась, взглянув на этот раз на себя в зеркало, помещенное между двумя портретами.
— Теперь, — продолжала она, — поездки из Версаля в Париж и обратно. Один луидор.
И она записала эту цифру в графе расходов.
— На прожитие в течение недели луидор.
Она записала и это.
— Туалеты, извозчики, чаевые швейцарам домов, где я бываю с просьбами, — четыре луидора. Все ли? Подсчитаем.
Но она остановилась на середине своего подсчета.
— Звонят, говорю я вам.
— Нет, сударыня, — отвечала старуха, задремавшая на своем месте. — Это не здесь, а внизу, на четвертом этаже.
— Четыре, шесть, одиннадцать, четырнадцать луидоров… На шесть луидоров меньше, чем мне нужно, да еще надо обновить весь мой гардероб, заплатить этой старой дуре и прогнать ее. Да звонят же, несчастная! Говорят вам! — с гневом закричала она.
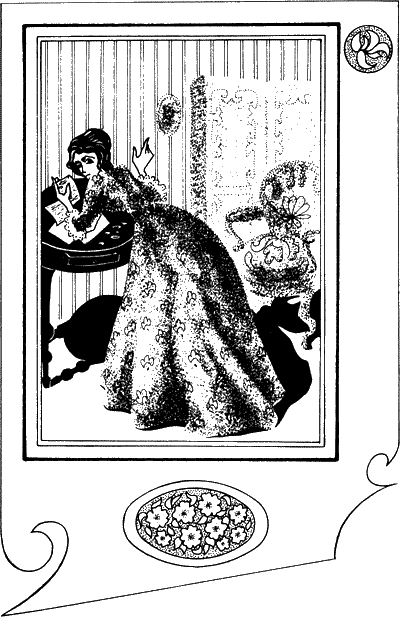
На этот раз, надо сознаться, самое тугое ухо не могло не расслышать звонка; колокольчик, который дернули изо всей силы, раскачался, раз двенадцать ударил по двери и только потом пришел в нормальное положение.
Пока старуха, услыхав этот шум и наконец проснувшись, побежала в прихожую, ее хозяйка, проворная как белка, собрала письма и бумаги, разбросанные по столу, швырнула их в ящик и, окинув быстрым взглядом комнату, чтобы убедиться, что все в ней в порядке, села на софу в смиренной и печальной позе страдающего, но покорного судьбе человека.
Но, поспешим добавить, только ее тело было неподвижно. Глаза, живые, озабоченные и бдительные, были внимательно устремлены на зеркало, где отражалась входная дверь, а настороженный слух готов был уловить малейший звук.
Дуэнья открыла дверь, и в прихожей послышалось какое-то тихое бормотание.
Затем кто-то голосом ясным и учтивым, однако довольно твердым, спросил:
— Здесь живет госпожа графиня де Ламотт?
— Госпожа графиня де Ламотт-Валуа? — повторила в нос Клотильда.
— Да, да, она самая, милая моя. Госпожа де Ламотт дома?
— Да, сударыня, она чувствует себя слишком плохо, чтобы выходить.
В продолжение этого разговора, из которого она не проронила ни звука, мнимая больная, взглянув в зеркало, увидела, что Клотильду допрашивает какая-то дама, по всем признакам принадлежащая к высшему обществу.
Она тотчас же встала с софы и пересела в кресло, чтобы предоставить почетное место посетительнице.
Проделывая это перемещение, она не могла видеть, как незнакомка обернулась к порогу и сказала другой особе, остававшейся в тени:
— Вы можете войти, сударыня, это здесь.
Дверь закрылась, и обе дамы, те самые, которые недавно спрашивали улицу Сен-Клод, вошли к графине де Ламотт-Валуа.
— Как прикажите доложить госпоже графине? — спросила Клотильда с любопытством, хотя и смешанным с почтением, поднося свечку к лицу обеих дам.
— Доложите: дамы из благотворительного общества, — отвечала старшая из женщин.
— Из Парижа?
— Нет, из Версаля.
Клотильда вошла к своей госпоже, и обе посетительницы, следуя за ней, очутились в освещенной комнате в ту самую минуту, как Жанна де Валуа с трудом приподнималась с кресла, чтобы приветствовать своих посетительниц изысканно-вежливым поклоном.
Клотильда пододвинула другие два кресла, чтобы посетительницы могли выбрать себе место по вкусу, и удалилась в переднюю с важностью и не спеша: это позволяло догадаться, что она будет слушать за дверью весь предстоящий разговор.
III
ЖАННА ДЕ ЛАМОТТ ДЕ ВАЛУА
Как только Жанна де Ламотт, не нарушая приличий, смогла поднять глаза, она первым делом посмотрела, как выглядят ее посетительницы.
Старшей, как мы уже говорили, могло быть тридцать — тридцать два года; она была необычайно красива, хотя надменное выражение лица отнимало частицу прелести, которая могла бы быть ей присуща. Так, по крайней мере, показалось Жанне, судя по тому немногому, что ей удалось разглядеть в посетительнице, так как та, предпочтя софе кресло, отодвинула его в угол комнаты, подальше от света лампы, и опустила низко на лоб тафтяную на вате оборку капюшона своей накидки: свисая на лицо в виде щитка, она набрасывала тень на черты дамы.
Но посадка ее головы была так горделива, широко раскрытые глаза блестели таким огнем, что, даже не имея возможности рассмотреть какие-либо подробности внешности дамы, по одному общему облику ее нельзя было не признать в ней особу высокого, благородного происхождения.
Ее спутница, менее застенчивая, по крайней мере с виду, была моложе года на четыре-пять и не скрывала своей редкой красоты.
У нее было прелестное, правильно очерченное личико с нежным румянцем; прическа, оставлявшая виски открытыми, оттеняла безукоризненную правильность овала ее лица; большие синие глаза глядели спокойно, до безмятежности, но, казалось, могли читать в глубине души каждого; у нее был прелестно очерченный ротик, и судя по нему, природа создала эту молодую женщину прямодушной, а воспитание и этикет выработали в ней сдержанность; наконец, правильностью линии носа она не уступала Венере Медицейской. Вот что успел подметить беглый взгляд Жанны. Присмотревшись, графиня заметила, что у нее более тонкая, гибкая талия, чем у ее спутницы, более пышный бюст и что ручка у нее пухленькая, тогда как у той рука очень узкая и нервная.
Жанна де Валуа успела заметить все это за несколько секунд, то есть в промежуток времени значительно меньший, чем нам потребовалось для передачи ее наблюдений.
Покончив с осмотром обеих дам, она спросила тихим голосом, какой счастливой случайности обязана их посещением.
Дамы переглянулись.
— Сударыня, — начала та, что помоложе, повинуясь знаку старшей, — вы ведь, кажется, замужем, не так ли?
— Я имею честь быть женой графа де Ламотта, дворянина с безупречной репутацией, сударыня.
— Так. А мы, госпожа графиня, дамы-патронессы одного благотворительного общества. Нам сообщили о вашем положении; некоторые сведения заинтересовали нас, и мы пожелали узнать касающиеся вас подробности.
Жанна подождала немного, прежде чем ответить.
— Сударыни, — начала она, заметив сдержанность и молчаливость второй посетительницы, — вы видите перед собой портрет Генриха III, то есть брата моего пращура. Как вам, вероятно, известно, во мне действительно течет кровь дома Валуа.
Сказав это, Жанна замолчала, выжидая новых вопросов и глядя на своих посетительниц с каким-то горделивым смирением.
— Сударыня, — произнесла старшая дама низким и приятным голосом, — правда ли, что ваша мать, как говорят, была привратницей в доме под названием Фонтетт около Бар-сюр-Сен?
Жанна покраснела при этом напоминании.
— Это правда, сударыня, — отвечала она, не смущаясь, — моя мать была привратницей в доме, называвшемся Фонтетт.
— А! — произнесла дама, задавшая вопрос.
— И так как Мари Жоссель, моя мать, была редкой красоты, — продолжала Жанна, — то мой отец влюбился в нее и женился. По отцу я происхожу из очень знатного рода. Сударыня, мой отец носил фамилию Сен-Реми де Валуа и был прямым потомком королей этой династии.
— Но каким же образом вы дошли до такой бедности, сударыня? — спросила дама постарше.
— Увы, это нетрудно понять.
— Я слушаю вас.
— Вам известно, что после вступления на престол Генриха IV, когда корона перешла от дома Валуа к дому Бурбонов, отстраненная от власти и пришедшая в упадок фамилия Валуа имела несколько отпрысков, правда совершенно неизвестных, но тем не менее бесспорно принадлежавших к тому же роду, что и четыре брата, которые все погибли столь роковым образом.
Обе дамы сделали движение, походившее на знак согласия.
— Но, — продолжала Жанна, — потомки Валуа, опасаясь, несмотря на свою безвестность, вызвать подозрения новой династии, переменили фамилию Валуа на Реми, по имени одного из своих поместий, и начиная с Людовика XIII мы встречаем их в генеалогии под этим именем вплоть до предпоследнего Валуа, моего деда, который, видя, что монархическая власть окрепла и прежний королевский дом забыт, счел ненужным лишать себя долее своего славного имени, своего единственного достояния. Он снова принял имя Валуа, которое и носил, оставаясь бедным и неизвестным в глуши провинции, и никому при французском дворе не приходило в голову, что вдали от пышного престола прозябает потомок прежних французских королей, если не наиболее славных, то, по крайней мере, наиболее несчастных.
Жанна остановилась, проговорив все это просто и сдержанно, что не прошло незамеченным.
— У вас, вероятно, все ваши доказательства в порядке? — спросила кротким голосом старшая посетительница, устремляя проницательный взгляд на особу, настаивавшую на своем принадлежности к роду Валуа.
— О сударыня, — отвечала последняя с горькой улыбкой, — в доказательствах у меня нет недостатка. Мой отец позаботился собрать их и, умирая, оставил мне их вместо всякого иного наследства… Но на что могут годиться доказательства бесполезной истины или истины, которую никто не хочет признать?
— Ваш отец умер? — спросила дама помоложе.
— Увы, да.
— В провинции?
— Нет, сударыня.
— Значит, в Париже?
— Да.
— В этой квартире?
— Нет, сударыня, мой отец, барон де Валуа, правнучатый племянник короля Генриха III, умер от голода и нищеты.
— Не может быть! — воскликнули в один голос обе дамы.
— И не здесь, — продолжала Жанна, — не в этом бедном пристанище и не на своей кровати, хотя бы сколоченной из досок. Нет, мой отец умер среди самых несчастных и страдающих. Мой отец умер в Париже в Отель-Дьё.
У обеих женщин вырвался возглас изумления, походивший на крик ужаса.
Жанна, довольная эффектом, произведенным ее словами, который она постепенно и искусно подготовила своим рассказом и его окончанием, осталась неподвижной, с опущенными глазами и застывшими в одном положении руками.
Старшая дама внимательно и с пониманием смотрела на нее и, не заметив в этой скорби, казавшейся такой естественной и простой, ничего, что давало бы возможность заподозрить обман и грубое попрошайничество, снова заговорила:
— Судя по только что сказанному вами, сударыня, вы испытали много горя, и смерть вашего отца в особенности…
— О, если бы я рассказала вам свою жизнь, сударыня, то вы увидели бы, что смерть отца не может считаться одним из величайших моих несчастий.
— Как, сударыня, вы считаете потерю отца незначительным несчастием? — спросила дама, строго нахмурив брови.
— Да, сударыня, и, говоря таким образом, я не лишаю себя права считаться хорошей дочерью. Мой отец со смертью избавился от всех бед, которые преследовали его на этой земле и продолжают преследовать нашу несчастную семью. Поэтому, невзирая на горе, которое мне доставляет потеря отца, я ощущаю известную радость при мысли, что он умер и что потомок королей не должен более просить подаяния.
— Просить подаяния!
— Да! Я нисколько не стыжусь того, что говорю, так как в наших несчастьях нет вины ни моего отца, ни моей.
— А ваша мать?
— С той же откровенностью, с какою я вам сейчас сказала о своей благодарности Богу за то, что он призвал к себе моего отца, я скажу вам: я сетую на него за то, что он оставил в живых мою мать.
Обе женщины переглянулись, невольно вздрогнув при этих странных словах.
— Не будет ли нескромным, сударыня, попросить вас рассказать нам более подробно о своих несчастиях? — спросила старшая.
— Это была бы нескромность с моей стороны, так как я утомила бы ваш слух рассказом о несчастиях, которые могут встретить в вас только равнодушие.
— Я слушаю, сударыня, — отвечала величественным тоном старшая дама, на которую спутница ее немедленно взглянула, чтобы предостеречь и заставить быть осторожнее.
Действительно, г-жа де Ламотт была поражена повелительным тоном этой дамы и посмотрела на нее с удивлением.
— Я слушаю, — повторила дама более спокойно, — если вам угодно будет начать свой рассказ.
И, уступая неприятному ощущению, вызванному, вероятно, холодом, передернув плечами, по которым пробежала дрожь, она притопнула несколько раз ногой, застывшей от прикосновения к холодным плитам пола.
Ее спутница пододвинула к ней некоторое подобие коврика, лежавшего около ее кресла, но старшая дама в свою очередь взглядом выразила ей неудовольствие за это внимание.
— Оставьте себе этот коврик, сестра: вы более нежны, чем я.
— Извините, сударыня, — сказала графиня де Ламотт, — я глубоко сожалею о том, что вы начинаете чувствовать холод: но дрова подорожали еще на шесть ливров, так что вуа теперь стоит семьдесят ливров, а мой запас дров иссяк неделю назад.
— Итак, вы говорили, сударыня, — начала старшая дама, — что несчастливы, имея мать.
— Да, я понимаю, что такое кощунство требует пояснения, не правда ли, сударыня? — сказала Жанна. — Я готова дать вам его, так как вы выразили желание слушать меня.
Старшая дама утвердительно кивнула головой.
— Я уже имела честь сказать вам, сударыня, что мой отец вступил в неравный брак.
— Да, женившись на своей привратнице.
— Так вот, Мари Жоссель, моя мать, вместо того чтобы гордиться этим и всю жизнь быть признательной отцу за оказанную ей честь, начала с того, что разорила моего отца (что было, впрочем, нетрудно), заставляя мужа при всей скудности его средств выполнять разные неумеренные ее требования. Затем, доведя моего отца до необходимости продать последний клочок земли, она убедила его, что ему следует ехать в Париж, дабы вернуть себе права, связанные с его именем. Ей было нетрудно уговорить его, так как, весьма вероятно, он надеялся на справедливость короля. Он поехал, обратив в наличные деньги то немногое, чем еще владел.
Кроме меня, у отца были еще сын и дочь. Сын, такой же несчастный, как и я, прозябает рядовым на военной службе, а дочь, моя бедная сестра, накануне отъезда моего отца в Париж была оставлена около дома одного фермера, ее крестного.
Эта поездка поглотила небольшие оставшиеся у нас средства. Отец напрасно тратил силы, обращаясь ко всем с тщетными просьбами. Он лишь ненадолго показывался дома, рассказывая о своих неудачах и находя там одни только лишения. В его отсутствие мать, которой нужна была жертва, стала обращаться со мной все хуже и хуже, попрекая каждым съеденным куском. Тогда я стала мало-помалу есть один хлеб, а часто не ела вовсе ничего, садясь за нашу скромную трапезу только для вида. Но мать всегда находила повод для наказания: за малейшую провинность, которая заставила бы иной раз другую мать только улыбнуться, она била меня. Соседи, думая помочь, рассказали отцу, какое дурное обращение мне приходилось терпеть. Отец пробовал защищать меня от матери, не замечая того, что этим покровительством он превращает минутного врага в вечную мачеху. Увы, я не могла давать ему советов, которые были бы мне полезны: я была слишком мала, совсем ребенок, не могла объяснить себе, что происходит, и только терпела последствия, не стараясь доискиваться их причин. Я знала страдания — и все.
Но вот отец заболел, и ему пришлось оставаться дома, а затем он слег в постель. Меня удаляли из его комнаты под тем предлогом, что мое присутствие утомляло его и что я не умела сдерживать свою потребность двигаться, в которой сказывается молодая жизнь. А за порогом отцовской комнаты я снова попадала под власть матери. Она учила меня произносить одну фразу, сопровождая каждое слово ударами и пинками; затем, когда я выучила наизусть эту унизительную фразу, которую инстинктивно не хотела запоминать, когда мои глаза стали красны от пролитых слез, она вывела меня к выходной двери и толкнула навстречу первому прохожему, прилично одетому, с приказанием сказать ему эту фразу, если я не хочу быть избитой до смерти.
— О, это ужасно, ужасно! — пробормотала дама помоложе.
— А что это была за фраза? — спросила старшая.
— Вот она: «Сударь, сжальтесь над бедной сиротой, происходящей по прямой линии от Генриха де Валуа».
— О, какая гадость! — воскликнула старшая дама с гримасой отвращения.
— И какое впечатление производили эти слова?
— Одни выслушивали меня с жалостью, — продолжала Жанна, — другие прогоняли с угрозами. Некоторые, наконец, предупреждали, что опасно так говорить, что подобные слова могут услышать дурные люди. Но я знала одну опасность — ослушаться мать, знала один страх — получить побои.
— И что же дальше?
— Боже мой, сударыня! То, на что рассчитывала моя мать. Я приносила домой немного денег, что давало отцу возможность еще на несколько дней избавиться от ужасной перспективы попасть в больницу.
Старшая посетительница изменилась в лице, глаза младшей наполнились слезами.
— Наконец, сударыня, хоть я несколько и облегчала положение моего отца, гнусное ремесло заставило меня взбунтоваться. Однажды, вместо того чтобы гоняться за прохожими и приставать к ним с привычной мне фразой, я села у подножия уличной тумбы и просидела там целый день. Вечером я вернулась домой с пустыми руками и мать избила меня так, что на следующий день я заболела.
Тогда отец, лишившись всех средств, был принужден уйти в Отель-Дьё, где и умер.
— О, какой ужас! — прошептали обе дамы.
— Но что же вы стали делать, когда умер ваш отец? — спросила младшая из посетительниц.
— Бог сжалился надо мной. Через месяц после смерти моего бедного отца мать ушла с солдатом, своим любовником, бросив меня с братом.
— Так вы стали сиротами?
— О, совсем наоборот, сударыня. В отличие от других, мы чувствовали себя сиротами, пока у нас была мать. Нас поддерживало милосердие общества. Нам было противно протягивать руку за подаянием, и мы просили милостыню только при крайней необходимости: Господь велел своим созданиям самим добывать средства к существованию.
— Увы!
— Что я еще скажу вам, сударыня? Однажды я имела счастье встретить карету, которая медленно ехала к предместью Сен-Марсель. На запятках стояло четыре лакея. В карете сидела женщина, молодая и красивая. Я протянула к ней руку, прося милостыню, а она стала расспрашивать меня. Мои ответы и мое имя удивили и даже насторожили ее. Я дала ей свой адрес и объяснила, как меня найти. На следующий день она убедилась, что я не солгала, и взяла нас, меня и брата, к себе. Затем она определила моего брата в полк, а меня в швейную мастерскую. Так мы оба были спасены от голода.
— Эта дама была госпожа де Буленвилье?
— Она самая.
— Кажется, она умерла?
— Да. Она умерла, и я снова впала в прежнее ужасное положение.
— Но ее муж ведь жив и богат?
— Ее мужу, сударыня, я, тогда совсем молодая девушка, также обязана большими страданиями, как моей матери я обязана страданиями детства. К тому времени я уже выросла, возможно, похорошела; он это заметил и захотел получить плату за свои благодеяния. Я отказала. В это самое время умерла госпожа де Буленвилье. Человека, за которого она выдала меня замуж, честного и храброго воина де Ламотта, не было здесь, так что со смертью моей благодетельницы я больше осиротела, чем после кончины отца.
Вот моя история, сударыня. Я сократила описание моих страданий. Следует избавлять людей счастливых и милосердных, какими мне кажется вы, сударыни, от того, чтобы выслушивать столь длинные рассказы.
Продолжительное молчание наступило после этой последней фразы г-жи де Ламотт.
Старшая из двух дам первая прервала его:
— А что делает ваш муж? — спросила она.
— Мой муж находится в гарнизоне Бар-сюр-Об, сударыня; он служит в жандармах и, так же как я, ожидает лучших времен.
— Но вы обращались с просьбой ко двору?
— Конечно.
— Имя Валуа, подтверждаемое документами, вероятно, возбудило к вам участие?
— Я не знаю, сударыня, какие чувства вызвало мое имя, так как я не получила ответа ни на одну просьбу.
— Но ведь вы видели министров, короля, королеву?
— Никого. Везде мои попытки были безуспешны, — отвечала г-жа де Ламотт.
— Не можете же вы ходить с протянутой рукой!
— Нет, сударыня, я отвыкла от этого. Но…
— Что?
— Но я могу умереть с голоду, как мой отец.
— У вас нет детей?
— Нет, сударыня, и мой муж, найдя смерть на службе престолу, обретет, по крайней мере для себя, достойный конец наших испытаний.
— Не можете ли вы, сударыня, хотя мне очень неприятно настаивать на этом, представить мне доказательства вашего происхождения?
Жанна встала, порылась в шкафчике и вынула оттуда несколько бумаг, которые и подала благотворительнице.
Но так как ей очень хотелось воспользоваться той минутой, когда дама приблизится к свету, чтобы рассмотреть бумаги, и таким образом покажет черты своего лица, она с особенной заботливостью подняла фитиль лампы, усилив ее свет.
Отгадав ее намерение, дама-благотворительница тотчас же отвернулась от лампы, словно свет ей резал глаза, и, следовательно, отвернулась от г-жи де Ламотт.
В этой-то позе она внимательно перечитала все документы, одну бумагу за другой.
— Но, — заметила она, — это все копии актов, сударыня. Я не вижу здесь ни одного подлинника.
— Подлинники находятся в верном месте, сударыня, я могу их предъявить…
— Если бы представился для того важный случай, не правда ли? — с улыбкой сказала дама.
— Случай, доставивший мне честь видеть вас, сударыня, конечно, очень важен для меня; но документы, о которых вы говорите, так драгоценны…
— Я понимаю. Вы не можете их доверить первому встречному.
— О сударыня! — воскликнула графиня, которой наконец удалось на секунду разглядеть полную достоинства наружность своей покровительницы, — о сударыня, мне кажется, что вы для меня не первая встречная.
И с этими словами Жанна, быстро открыв другой шкафчик с секретным замком, извлекла оттуда оригиналы подтверждающих документов, тщательно уложенные в старенький портфель с гербом Валуа.
Дама взяла и внимательно, как знаток, пересмотрела их.
— Вы правы, — сказала дама-благотворительница, — эти документы в полном порядке. Я советую вам не терять времени и представить их кому следует.
— А что я, по вашему мнению, могу тогда получить, сударыня?
— Вне всякого сомнения, пенсию для вас и продвижение по службе для господина де Ламотта, если только этот дворянин его достоин.
— Мой муж — воплощенная честь, сударыня, и всегда строго исполнял свои служебные обязанности.
— Этого достаточно, сударыня, — сказала дама-благотворительница, закрывая лицо капюшоном.
Госпожа де Ламотт с тревогой следила за каждым ее движением.
Она видела, как дама опустила руку в карман и вынула из него сначала вышитый платок, которым она прикрывала лицо, когда ехала в санях по бульварам.
За платком последовал маленький сверток с золотом, имевший дюйм в диаметре и три или четыре дюйма в длину.
Дама-благотворительница положила этот сверток на шифоньерку со словами:
— Совет благотворительного общества уполномочил меня, сударыня, предложить вам, в ожидании лучшего, эту незначительную помощь.
Госпожа де Ламотт окинула сверток беглым взглядом.
«Экю по три ливра, — думала она, — здесь их, по крайней мере, пятьдесят штук, а может быть, и сто. Ну, это полтораста или даже наверно, триста ливров, упавших нам с неба. Но для ста золотых сверток слишком короток, а для пятидесяти слишком длинен».
Пока она производила эти наблюдения, обе дамы прошли в первую комнату, где г-жа Клотильда спала на стуле около свечи, красный и чадивший фитиль которой был окружен целым потоком растопленного сала.
От едкого и отвратительного запаха дама, которая положила сверток на шифоньерку, едва не задохнулась. Она поспешно опустила руку в карман и достала флакон.
Но на зов Жанны г-жа Клотильда проснулась и, схватив крепко обеими руками огарок свечи, высоко приподняла его, как маяк, над темными ступенями лестницы, невзирая на протест обеих посетительниц, твердивших ей, что она отравляет их этим освещением.
— До свидания, до свидания, госпожа графиня, — закричали они и поспешно выскочили на лестницу.
— Где я могу иметь честь поблагодарить вас, сударыни? — спросила Жанна де Валуа.
— Мы вам дадим знать, — отвечала старшая дама, стараясь спуститься с лестницы возможно скорее.
И звук их шагов вскоре затих на нижних этажах.
Госпожа де Валуа вернулась к себе; ей хотелось поскорее посмотреть, верны ли были ее соображения относительно свертка. Но, проходя по первой комнате, она задела ногой какой-то предмет, скатившийся с циновки, которая прикрывала дверь снизу.
Нагнуться, поднять этот предмет и подбежать к лампе было делом нескольких мгновений.
Это была золотая коробочка, круглая, плоская, с простой гильошировкой.
В коробочке лежало несколько душистых шоколадных лепешек; но, хотя ее форма была плоской, можно было заметить, что у нее двойное дно; графине потребовалось некоторое время для того, чтобы найти секретную пружину.
Наконец она ее нашла и нажала.
Тотчас же перед ее глазами предстало изображение красивой женщины с суровой, несколько мужественной наружностью и выражением королевского величия на лице.
Немецкая прическа и великолепное ожерелье, напоминавшее цепь какого-то ордена, придавали совершенно своеобразный характер этому портрету.
Вензель, составленный из букв М и Т, обвитых лавровым венком, был помещен на крышке.
Госпожа де Ламотт предположила, судя по сходству этого портрета с наружностью молодой дамы, своей благодетельницы, что это изображение ее матери или бабушки, и первым побуждением графини было, надо сознаться, броситься к лестнице за дамами.
Но она услышала стук выходной двери.
Тогда она бросилась к окну, чтобы позвать посетительниц, так как было слишком поздно догонять их.
Но все, что она могла разглядеть, был быстро мчавшийся кабриолет в конце улицы Сен-Клод, поворачивавший за угол улицы Сен-Луи.
Тогда графиня, потеряв всякую надежду вернуть дам, еще раз оглядела коробочку и дала себе слово, что отошлет ее в Версаль.
— Я не ошиблась, — воскликнула она затем, схватив сверток с шифоньерки, — здесь только пятьдесят экю.
И сорванная обертка полетела на пол.
— Луидоры! Двойные луидоры! — воскликнула графиня. — Пятьдесят двойных луидоров! Две тысячи четыреста ливров!
И алчная радость блеснула в ее глазах, между тем как г-жа Клотильда, ошеломленная зрелищем такого количества золота, какого ей еще никогда не приходилось видеть, всплеснув руками, стояла с открытым ртом.
— Сто луидоров! — повторяла г-жа де Ламотт. — Эти дамы, значит, богаты? О, я их найду!..
IV
БЕЛ
Госпожа де Ламотт не ошиблась в своем предположении, что скрывшийся кабриолет уносил двух дам-благотворительниц.
Эти дамы действительно нашли у дома один из тех кабриолетов, какими пользовались в те времена: на высоких колесах, с легким кузовом, высоко прилаженным фартуком и удобным сиденьем позади для грума.
Кабриолет, запряженный прекрасной лошадью ирландской породы, гнедой масти, с коротким хвостом и мясистым крупом, был доставлен на улицу Сен-Клод тем же слугой, который правил санями и которого дама-благотворительница, как мы видели, называла Вебером.
Вебер держал лошадь под уздцы, когда дамы вышли из дома, и старался успокоить нетерпение горячего коня, который бил ногой по снегу, становившемуся по мере наступления ночи все более твердым.
— Матам, — сказал Вебер, когда показались обе дамы, — я хотел сапрячь на сефодня Сцибиона, который очень силен и послушен, но Сцибион ушиб себе ногу фчера фечером; таким образом, остался один Бел, а с ним трутно спрафляться.
— О, для меня это безразлично, Вебер. Как вам известно, — отвечала старшая дама, — у меня твердая рука и есть привычка править.
— Я знаю, что фы править прекрасно, матам, но дороки плохи очень. Кута фам уготно ехать?
— В Версаль.
— По бульфарам?
— Нет, Вебер, теперь морозит и на бульварах сплошной лед. По улицам, я думаю, проехать легче, так как тысячи прогуливающихся не дают льду застывать. Ну же, Вебер, скорее.
Вебер придержал лошадь, пока дамы легко вспрыгнули в кабриолет, а затем сам вскочил позади, сообщив, что он готов. Тогда старшая дама обратилась к своей спутнице.
— Ну, Андре, — сказала она, — как вам показалась эта графиня?
С этими словами она отпустила вожжи, и лошадь помчалась как стрела, завернув за угол улицы Сен-Луи.
В эту-то минуту г-жа де Ламотт открыла окно, чтобы позвать дам-благотворительниц.
— Я нахожу, — отвечала дама, которую звали Андре, — что госпожа де Ламотт жалка и очень несчастна.
— Она хорошо воспитана, не правда ли?
— Да, без сомнения.
— Вы что-то холодны к ней, Андре.
— Если вам угодно знать правду, у нее в лице есть что-то хитрое, что мне не нравится.
— О, вы недоверчивы, Андре, я это знаю, и чтобы понравиться вам, надо быть совершенством. Я же нахожу, что эта графиня вызывает участие и очень естественна — как в своей гордости, так и в смирении.
— Она должна быть очень счастлива, что имела честь понравиться вашему…
— Берегись! — крикнула дама, быстрым движением вожжей заставляя свою лошадь, едва не сбившую с ног носильщика на улице Сент-Антуан, взять вправо.
— Перегись! — крикнул оглушительным голосом Вебер.
И кабриолет продолжал свой путь.
Но сзади раздались проклятия человека, едва не попавшего под колеса, а несколько голосов, отозвавшихся эхом на его брань, тотчас же придали своим возгласам крайне враждебный характер.
В несколько секунд Бел отдалился от людей, посылавших вслед им проклятия, на огромное расстояние, отделявшее улицу Сент-Катрин от площади Бодуайе.
Там, как известно, дорога разветвляется; но умело правившая дама храбро выбрала улицу Ткацкого Ряда, многолюдную, узкую и далеко не аристократическую.
Поэтому, несмотря на часто повторяемые дамой окрики и рев Вебера, со всех сторон раздавались крики взбешенных прохожих:
— О, кабриолет! Долой кабриолет!
Бел продолжал мчаться, и его кучер своей маленькой, почти детской ручкой заставлял его бежать быстро и свободно по лужам растаявшего снега и по более опасным замерзшим ручейкам и выбоинам на мостовой.
Против всякого ожидания, пока дело обошлось без осложнений; ярко горевший фонарь отбрасывал перед собой луч света, а эта предохранительная мера была роскошью, которой полиция того времени не требовала от владельцев кабриолетов.
Итак, повторяем, дело обошлось без всяких неприятных случайностей: кабриолет не зацепил ни одного экипажа, не задел ни одной тумбы, ни одного прохожего, что положительно было чудом; а между тем крики и угрозы не умолкали.
Кабриолет с той же быстротой и так же благополучно пересек улицы Сен-Медерик, Сен-Март и Мясника Обри.
Может быть, читатель подумает, что по мере приближения к более цивилизованным кварталам ненависть, проявляемая прохожими к аристократическому экипажу, должна была ослабевать.
Совершенно наоборот: едва Бел вступил на улицу Железного Ряда, как Вебер, преследуемый по-прежнему бранью черни, заметил собравшиеся по пути следования кабриолета группы людей, причем многие намеревались даже бежать за экипажем и остановить его.
Но Веберу все же не хотелось тревожить свою госпожу. Он видел, какое хладнокровие и какую ловкость она выказывала, умело проскальзывая мимо всех препятствий — одушевленных и неодушевленных, которые вызывают отчаяние или чувство триумфа у парижских кучеров.
Что касается Бела, то, крепко держась на своих словно стальных ногах, он даже ни разу не поскользнулся, до такой степени рука, державшая вожжи, умело помогала избегать встречающиеся спуски и разные случайности в пути.
Однако вокруг кабриолета уже раздавался не ропот, а громкая брань. Дама, державшая вожжи, заметила это, но приписала враждебное настроение какой-нибудь обычной причине, например холодной погоде и дурному расположению духа обывателей. Тем не менее она решила не испытывать судьбу.
Она щелкнула языком; при этом звуке Бел вздрогнул и со спокойной рыси перешел на длинную.
Лавки пролетали мимо; прохожие бросались в сторону.
Крики «Берегись! Берегись!» не умолкали ни на минуту.
Кабриолет был уже недалеко от Пале-Рояля и только что промчался мимо улицы Кок-Сент-Оноре, перед которой самый красивый из всех снежных обелисков возносил еще довольно горделиво к небу свою иглу, уменьшавшуюся от оттепели, как палочка ячменного сахара, которую дети, обсасывая, делают в конце концов не толще иголки.
Этот обелиск был увенчан роскошным султаном из лент, правда несколько полинялых. А ленты поддерживали качающуюся между двумя фонарями доску, на которой народный стихотворец из этого квартала начертал прописными буквами следующее четверостишие:
О государыня, чей лик всех чар прекрасней,
Стань рядом с королем, спасающим народ:
Пусть хрупок памятник, пусть тают снег и лед —
У нас в сердцах любовь к тебе не гаснет [4]Здесь и далее стихи в переводе Г. Адлера..
Здесь-то Бел в первый раз натолкнулся на серьезное препятствие. Монумент, который собирались иллюминировать, собрал вокруг себя много любопытных, стоявших плотной толпой, а через толпу нельзя проехать рысью.
Поэтому поневоле пришлось пустить Бела шагом.
Но все видели, как он мчался с быстротой молнии, слышали летевшие ему вслед крики, так что, хотя он, встретив препятствие, разом остановился, появление кабриолета, по-видимому, произвело на толпу самое неблагоприятное впечатление.
Тем не менее, она расступилась.
После этого ехавшие натолкнулись на другую толпу, собравшуюся уже по другой причине.
Решетки Пале-Рояля были открыты, и огромные костры во дворе согревали целую армию нищих, которым лакеи герцога Орлеанского раздавали суп в глиняных мисках.
Но как ни велико было число людей, гревшихся и пробавлявшихся едой, все же зрителей, наблюдавших, как они ели и грелись, было еще больше. В Париже уж такое обыкновение: на каждого человека, чем бы он ни был занят, всегда найдется много любопытных зрителей.
Кабриолет, преодолев первое препятствие, был поэтому вынужден остановиться перед вторым, как корабль среди подводных камней.
В ту же минуту крики, до этого доносившиеся до обеих дам как неясный и неопределенный шум, долетели до их ушей совершенно явственно.
— Долой кабриолет! Долой убийц! — слышалось со всех сторон.
— Эти крики относятся к нам? — спросила свою спутницу дама, правившая лошадью.
— Боюсь, что к нам, — отвечала та.
— Да разве мы задавили кого-нибудь?
— Никого.
— Долой кабриолет! Долой убийц! — с бешенством ревела толпа.
Гроза все разрасталась, лошадь схватили под уздцы, и Бел, которому не очень-то нравилось прикосновение этих грубых рук, перебирал ногами; с морды его во все стороны слетали клочья пены.
— К комиссару! К комиссару! — крикнул кто-то.
Дамы переглянулись в полном изумлении.
Тотчас же тысячи голосов подхватили:
— К комиссару! К комиссару!
Между тем несколько любопытных старались заглянуть под верх кабриолета.
В толпе начались пересуды.
— Смотри, здесь женщины, — сказал чей-то голос.
— Да, это куколки Субиза, содержанки Эннена.
— Девки из Оперы, воображающие себя вправе давить бедный люд, потому что имеют по десяти тысяч ливров в месяц, чтобы откупаться от больницы.
Бешеное «ура» раздалось в ответ на эти последние оскорбления.
Волнение проявлялось у обеих дам неодинаково. Одна, вся задрожав и побледнев, отодвинулась в глубь кабриолета, а другая решительно высунула голову, нахмурив брови и стиснув зубы.
— О сударыня, — воскликнула ее спутница, оттаскивая ее назад, — что вы делаете?
— К комиссару! К комиссару! — продолжали кричать в толпе. — И пусть они назовут себя.
— О сударыня, мы погибли, — сказала дама помоложе на ухо своей спутнице.
— Мужайтесь, Андре, мужайтесь, — отвечала та.
— Но вас увидят, могут узнать!
— Посмотрите через заднее окошечко, сидит ли Вебер сзади.
— Он пытается сойти, на него набросились, он отбивается. А, вот он подходит.
— Вебер, Вебер! — сказала по-немецки дама. — Помогите нам выйти.
Слуга повиновался и, отодвинув сильным движением плеч толпу, отстегнул фартук кабриолета.
Обе дамы легко спрыгнули на землю.
В это время толпа обрушила свою ярость на лошадь и на кабриолет, разломав его кузов.
— Да в чем дело, ради Бога? — продолжала по-немецки старшая дама. — Вы понимаете тут что-нибудь, Вебер?
— Честное слово, нет, сударыня, — отвечал слуга, которому на этом языке было легче объясняться, чем по-французски, продолжая раздавать вправо и влево здоровые пинки ногами, чтобы выручить свою госпожу.
— Да это не люди, а какие-то дикие звери! — продолжала дама по-немецки. — В чем они меня обвиняют? Ну?
В эту минуту учтивый голос, составлявший резкую противоположность раздававшимся вокруг дам угрозам и оскорблениям, отвечал на чистом саксонском диалекте:
— Они обвиняют вас, сударыня, в нарушении появившегося сегодня утром распоряжения парижской полиции, запрещающего до весны езду в кабриолетах, и без того небезопасную даже по хорошей мостовой, а теперь прямо гибельную для пешеходов в эту гололедицу, когда так легко попасть под колеса.
Дама обернулась, чтобы узнать, откуда раздался этот вежливый голос среди грозившей ей толпы, и заметила молодого офицера, которому, чтобы добраться до нее, пришлось, вероятно, сражаться так же энергично, как и Веберу, чтобы оставаться на своем месте.
Приятная и благородная наружность молодою человека, его высокий рост и мужественный вид понравились даме, и она поспешила ответить по-немецки:
— О Боже мой, сударь, я ничего не знала об этом распоряжении, решительно ничего.
— Вы иностранка, сударыня? — спросил молодой офицер.
— Да, сударь. Но скажите, что мне делать? Они ломают мой экипаж!
— Надо им оставить доламывать его, сударыня, и скрыться тем временем. Население Парижа озлоблено против богачей, выставляющих напоказ свою роскошь перед голодными и терпящими нужду людьми, и на основании сегодняшнего распоряжения вас отведут к комиссару.
— О, никогда, — воскликнула дама помоложе, — никогда!
— В таком случае, — продолжал со смехом офицер, — воспользуйтесь проходом, который я сделал в толпе, и исчезайте.
Эти слова были сказаны развязным тоном, который дал иностранкам понять, что офицер слышал замечания толпы относительно содержанок господ де Субиза и Эннена.
Однако спорить было не время.
— Дайте нам руку и проводите до первого извозчика, — сказала старшая дама властным тоном.
— Я собирался поднять вашу лошадь на дыбы, и вы могли бы убежать, воспользовавшись переполохом, так как, — продолжал молодой человек, которому очень хотелось избавиться от ответственности, падавшей на него, прими он на себя небезопасную охрану незнакомок, — народ недоволен, что мы говорим на языке, которого он не понимает.
— Вебер! — громко позвала дама. — Заставь Бела встать на дыбы, чтобы напугать толпу и заставить ее расступиться.
— А потом, матам…
— А затем оставайся здесь, пока мы не скроемся.
— А если они расломают экипаж?
— Пусть ломают, что тебе за дело? Спаси Бела, если можешь, а главное — себя самого; вот все, о чем я тебя прошу.
— Хорошо, матам, — отвечал Вебер.
И в ту же минуту он пощекотал горячего ирландского коня — тот сделал скачок и опрокинул наиболее разгоряченных из собравшихся, которые ухватились уже за его поводья и оглобли.
Это вызвало страшный испуг и смятение в толпе.
— Вашу руку, сударь, — сказала тогда дама офицеру, — пойдемте, милая, — продолжала она, обращаясь к Андре.
— Пойдемте, пойдемте, храбрая женщина, — тихо пробормотал офицер, с истинным восхищением и полной готовностью тотчас же предлагая ей свою руку.

Через несколько минут он вывел обеих женщин на ближайшую площадь, где стояли в ожидании ездоков фиакры; кучера спали на козлах, а лошади, полузакрыв глаза и понурив головы, ожидали своей скудной вечерней порции.
V
ДОРОГА В ВЕРСАЛЬ
Обе дамы были теперь в безопасности от покушений толпы, но можно было бояться, как бы за ними не последовали какие-нибудь любопытные и, подняв тревогу, не указали на них народу: это вызвало бы сцену вроде только что разыгравшейся, и закончиться она могла бы много хуже.
Молодой офицер понимал это, что можно было видеть по тому, как энергично он принялся будить одного из кучеров, скорее окоченевшего, чем спавшего.
Было так холодно, что, против своего обыкновения перебивать друг у друга ездоков, ни один из этих автомедонтов по двадцать су в час не двинулся. Оставался неподвижным даже тот, к которому обратился офицер.
Тогда молодой человек схватил его за воротник жалкого одеяния и потряс с такой силой, что вывел из оцепенения.
— Эй! — крикнул ему в самое ухо офицер, видя, что тот подает признаки жизни.
— Да, да, хозяин, — произнес возница, еще в полузабытьи и покачиваясь на козлах как пьяный.
— Куда вам, сударыни? — спросил офицер по-прежнему по-немецки.
— В Версаль, — на том же языке отвечала старшая дама.
— В Версаль! — воскликнул кучер. — Вы сказали — в Версаль?
— Да.
— Ну вот еще! Четыре с половиной льё по такому льду! Нет, нет!
— Вам хорошо заплатят, — сказала старшая из дам по-немецки.
— Вам заплатят, — повторил кучеру офицер по-французски.
— А сколько? — спросил тот, не двигаясь со своих козел и, по-видимому, не особенно доверяя обещанию. — Ведь дело не в том только, чтобы доехать до Версаля, господин офицер: надо еще и возвращаться.
— Достаточно будет луидора? — спросила офицера также по-немецки дама помоложе.
— Тебе предлагают луидор, — повторил молодой человек.
— Луидор — это самая цена, — проворчал кучер, — так как я рискую поломать ноги своим лошадям.
— Мошенник, ты имеешь право требовать только три ливра отсюда до дворца Ла Мюэтт, который на полдороге. Таким образом, считая оба конца, ты имеешь право только на двенадцать ливров, а вместо них ты получаешь двадцать четыре.
— О, не торгуйтесь, — сказала старшая из дам, — два, три, двадцать луидоров, лишь бы только он сейчас же трогался и ехал не останавливаясь.
— Одного луидора достаточно, сударыня, — отвечал офицер. — Ну, негодяй, — продолжал он, обращаясь к кучеру, — долой с козел и отворяй дверцы.
— Я хочу получить плату вперед, — сказал кучер.
— Мало ли чего ты хочешь!
— Я имею право требовать это.
Офицер сделал движение к нему.
— Заплатим вперед, заплатим, — сказала старшая дама по-немецки.
И она стала поспешно рыться в кармане.
— Боже мой! — сказала она тихо своей спутнице. — У меня нет кошелька.
— Неужели?
— А ваш кошелек, Андре, с вами?
Молодая женщина с таким же беспокойством ощупала свой карман.
— Я… Нет, у меня его также нет.
— Поглядите хорошенько в карманах.
— Это бесполезно, — с неудовольствием отвечала молодая женщина, видевшая, что офицер наблюдает за ними все время, пока длились эти переговоры, а кучер, ворча себе что-то под нос, уже растянул свой большой рот для улыбки, хваля себя за благоразумную осторожность.
Дамы напрасно обыскивали свои карманы: ни та ни другая не нашла ни одного су.
Офицер видел, как они выходили из себя, то бледнея, то краснея. Положение становилось затруднительным.
Дамы уже готовы были отдать в залог цепочку или какую-нибудь драгоценность, когда офицер, щадя их самолюбие, вынул из кошелька луидор и протянул его кучеру.
Тот взял луидор, оглядел его и взвесил, между тем как одна из дам благодарила офицера, затем открыл дверцы, и обе дамы вошли в карету.
— А теперь, метр мошенник, — сказал ему молодой человек, — отвези этих дам, и как следует, без всякого обмана, слышишь?
— О, такие разговоры напрасны, господин офицер: это подразумевается само собой.
Во время этого короткого диалога дамы совещались между собой.
Они с настоящим ужасом видели, что проводник и покровитель собирается их оставить.
— Мадам, — тихо сказала дама помоложе своей спутнице, — он не должен бросать нас одних.
— Почему же? Спросим у него его имя и адрес; а завтра мы отошлем ему его луидор с благодарственной записочкой, которую вы напишете.
— Нет, мадам, пусть остается, умоляю вас… Если кучер окажется нечестным, если он начнет вытворять что-нибудь дорогой… В такую погоду дороги очень плохи. К кому мы обратимся за помощью?
— Да ведь у нас есть его номер и литера бюро.
— Да, и я не спорю, что вы можете потом приказать дать ему сколько угодно плетей; но если в ожидании этого вы не приедете сегодня ночью в Версаль, что тогда скажут, великий Боже!
Старшая из дам задумалась.
— Это правда, — сказала она.
В это время офицер уже откланивался, собираясь уходить.
— Сударь, сударь, — сказала по-немецки Андре, — еще одно слово, только одно слово…
— К вашим услугам, сударыня, — отвечал офицер, видимо недовольный, но с прежней изысканной вежливостью в тоне голоса и в выражении лица.
— Сударь, — продолжала Андре, — вы не можете отказать нам еще в одной любезности после стольких услуг.
— Я слушаю.
— Мы должны признаться вам, что боимся этого кучера: когда вы договаривались, он показался нам таким злым.
— Вы напрасно беспокоитесь, — сказал офицер, — я знаю его номер, 107, и литеру бюро, Z. Если он причинит вам какую-нибудь неприятность, обратитесь ко мне.
— К вам! — забывшись, воскликнула Андре по-французски. — Как мы обратимся к вам?! Мы даже не знаем вашего имени!
Молодой человек отступил на шаг назад.
— Вы говорите по-французски, — с изумлением сказал он, — и заставляете меня целые полчаса коверкать немецкий язык! О, право, сударыня, это очень нехорошо.
— Простите, сударь, — сказала по-французски другая дама, храбро придя на помощь своей смутившейся спутнице. — Вы видите, что хотя мы, может быть, и не иностранки, но все же заблудились в Париже и теперь попали в непривычный для нас фиакр. Вы светский человек и понимаете, что мы находимся в совершенно необычных для нас условиях. Помочь нам только наполовину — значило бы не помочь совсем. Вы проявили подлинную сдержанность и скромность. У нас сложилось о вас хорошее мнение. Не заставляйте менять его. Не судите о нас дурно, и если вы можете оказать нам услугу, не стесняйтесь сделать это. Или позвольте нам поблагодарить вас и искать поддержки у другого.
— Сударыня, — отвечал офицер, пораженный благородным и полным очарования тоном незнакомки, — располагайте мною
— В таком случае, сударь, сделайте одолжение — садитесь с нами.
— В фиакр?
— И проводите нас.
— До Версаля?
— Да, сударь.
Офицер без всяких возражений сел в фиакр на переднее место и крикнул кучеру:
— Трогай!
Дверцы захлопнулись, пассажиры братски разделили между собой меха и шубы, и кучер, миновав улицу Сен-Тома-дю-Лувр, пересек площадь Карусель и покатил по набережным.
Офицер откинулся в угол против старшей из дам, предварительно сняв редингот и тщательно покрыв им ее колени.
Все трое хранили глубокое молчание.
Кучер, потому ли, что хотел честно заработать плату, или потому, что присутствие офицера, внушая ему почтительный страх, удерживало его от поползновения проявить недобросовестность, не переставал погонять своих несчастных кляч по скользкой мостовой набережных и дороги Конферанс.
Между тем от дыхания трех путешественников внутри фиакра постепенно стало теплее. Тонкий аромат духов носился в воздухе и пробуждал в слегка одурманенном этим запахом мозгу молодого человека впечатление, становившееся с каждой минутой более благоприятным для его спутниц.
«Эти женщины, вероятно, засиделись где-нибудь в гостях, — думал он, — и теперь возвращаются в Версаль немного испуганные и слегка сконфуженные. Но если это дамы из общества, — продолжал размышлять офицер, — то почему они ехали в кабриолете, да еще сами правили?
О, на это легко ответить. Кабриолет был слишком тесен для трех лиц, и две дамы не захотят стеснять себя, посадив между собой лакея. Но ни у той, ни у другой совершенно не оказалось денег!»
Это обстоятельство, говорившее не в пользу спутниц, заслуживало новых раздумий.
«Наверно, кошелек был у лакея. Кабриолет, теперь, вероятно, разбитый на куски, был очень элегантен, а лошадь… если я знаю толк в лошадях, стоит полтораста луидоров.
Только богатые женщины могут бросить без сожаления такой кабриолет и такую лошадь. Поэтому отсутствие денег ни о чем не говорит. Да, но эта причуда говорить на иностранном языке, будучи француженкой?
Ну что же, это только свидетельство прекрасного воспитания. Авантюристкам не свойственно говорить по-немецки как природные немки, а по-французски — как парижанки.
Кроме того, обе женщины отличаются, по-видимому, врожденной изысканностью манер.
Мольбы более молодой женщины были очень трогательны. Обращение старшей отличалось благородством и повелительностью.
Да и помимо того, — продолжал размышлять молодой человек, помещая свою шпагу таким образом, чтобы она не беспокоила его соседок, — можно подумать, что военному человеку грозит какая-нибудь опасность из-за того, что он проведет два часа в фиакре вместе с двумя красивыми женщинами. Красивыми и скромными, — продолжал он, — так как они молчат и ждут, чтобы разговор начал я».
Без сомнения, обе молодые женщины, со своей стороны, также пытались составить себе мнение о молодом офицере. И в тот момент, когда он дошел до последнего пункта своих размышлений, старшая из дам обратилась к своей спутнице.
— Право, мой друг, — сказала она по-английски, — кучер везет нас, как покойников; мы никогда не доедем до Версаля. Держу пари, что нашему бедному спутнику скучно до смерти.
— Да ведь и разговор наш, — улыбаясь, отвечала более молодая, — не блещет занимательностью.
— Не находите ли вы, что он производит впечатление очень порядочного человека?
— Да, я того же мнения, мадам.
— Вы заметили, что он в морской форме?
— Я не особенно хорошо разбираюсь в формах.
— Да, он, как я сказала вам, — в форме морского офицера, а все моряки из хороших фамилий, к тому же форма ему очень идет и он очень красив, не правда ли?
Молодая женщина собиралась отвечать и, вероятно, распространилась бы дальше на эту тему, если бы офицер не остановил ее жестом.
— Извините, сударыни, — сказал он на прекрасном английском языке, — я считаю себя вынужденным заявить вам, что довольно свободно говорю и понимаю по-английски, но вовсе не знаю испанского, и если этот язык вам известен и вам угодно будет разговаривать на нем, можете быть совершенно уверены, что я не пойму вас.
— Сударь, — засмеявшись, сказала дама, — мы не собирались говорить о вас дурно, как вы уже могли заметить. Поэтому оставим всякие стеснения и будем говорить по-французски, если мы имеем что сказать друг другу…
— Я вам признателен за эту любезность, сударыня; но если мое присутствие стесняет вас…
— Вы не должны думать так, раз мы сами просили нас сопровождать.
— И даже потребовали этого, — сказала дама помоложе.
— Не заставляйте меня краснеть, сударыня, и извините мое минутное колебание. Вы знаете Париж, не правда ли? Он полон всяких ловушек, приносит всевозможные разочарования и неприятности…
— Итак, вы нас приняли… Ну же, говорите откровенно.
— Этот господин решил, что мы расставляем ему ловушку, вот и все!
— О сударыни, — отвечал смиренно молодой человек, — клянусь вам, что у меня и в голове не было подобной мысли…
— Но что это? Фиакр останавливается.
— Что случилось?
— Я сейчас пойду узнаю, сударыня.
— Мне кажется, что мы сейчас упадем… Осторожнее, сударь!
И рука дамы помоложе быстрым движением коснулась плеча молодого человека.
Прикосновение этой ручки заставило его вздрогнуть.
Первым и совершенно естественным побуждением он попробовал схватить ее, но Андре, сделавшая это движение под впечатлением минутного испуга, уже откинулась в глубь кареты.
Офицер, которого ничто более не удерживало, вышел и увидел, что кучер поднимает одну из лошадей, запутавшуюся в постромках и придавленную дышлом.
Экипаж в это время уже миновал Севрский мост.
Благодаря оказанной офицером помощи бедная лошадь была вскоре на ногах.
Молодой человек снова сел в фиакр.
Что же касается кучера, то, поздравив себя с таким хорошим пассажиром, он весело щелкнул бичом, вероятно, с двоякой целью: подбодрить своих кляч и согреться самому.
Но можно было подумать, что холод, проникший в карету через открытую дверцу, заморозил разговор и остудил зарождавшуюся близость, в которой молодой человек начинал, сам того не сознавая, находить известную прелесть.
У него лишь спросили, что случилось; он рассказал.
Этим все ограничилось, и молчание наложило снова свои оковы на сидевшее в фиакре трио.
Офицер, которому не давала покоя эта трепещущая тепленькая ручка, захотел, по крайней мере, получить взамен ножку.
Он вытянул ногу, но при всей своей ловкости не встретил ничего, или, скорее, встречал что-то, но с огорчением заметил, что оно отодвигалось от его ноги.
Один раз он коснулся ноги старшей дамы.
— Я вас ужасно стесняю, не правда ли, сударь? — сказала она ему с полнейшим хладнокровием. — Простите, пожалуйста!
Молодой человек покраснел до ушей, радуясь в душе, что ночь темна и скрывает его смущение.
Итак, все было сказано, и на этом прекратились его поползновения.
Снова став немым, неподвижным и почтительным, он, как если бы находился в храме, боялся даже дышать и весь съежился, стараясь занимать как можно меньше места.
Однако мало-помалу и помимо его воли странное волнение охватило его сердце, а потом и все его существо. Он чувствовал около себя, не прикасаясь к ним, двух прелестных женщин. Он не видел их, но явственно ощущал, что они рядом. Чем больше проходило времени, тем более он свыкался с их присутствием, и ему казалось, что какая-то частичка их существ сливалась с его собственным бытием. Он отдал бы все на свете, чтобы возобновить прерванный разговор, но не осмелился на это, так как он теперь боялся показаться пошлым, он, в начале пути не удостаивавший спутниц проронить даже ничего не значащее словечко! Он мучился опасением показаться глупцом или нахалом этим женщинам, которым час назад оказывал, по его мнению, большую честь, бросив им как милостыню луидор и проявив некоторую вежливость.
Одним словом, так как все симпатии в этой жизни объясняются встречей флюидов в благоприятную минуту, то сильный магнетический ток, составившийся из единения духов и молодого тепла этих случайно собравшихся вместе трех человек, неотразимо действовал на молодого человека, пробуждал в нем радужные мечты и наполнял сердце восторгом.
Таким-то образом иногда зарождаются, живут и умирают в течение нескольких мгновений самые истинные, самые сладостные и жгучие страсти. Они полны прелести, так как недолговечны; они пламенны, так как не имеют выхода.
Офицер не проронил больше ни одного слова. Дамы тихо разговаривали между собой.
Но так как он продолжал все время прислушиваться, то улавливал бессвязные слова, приобретавшие тем не менее смысл в его воображении.
Вот что он расслышал:
— Поздний час… ворота… предлог выезда…
Фиакр снова остановился.
На этот раз причиной остановки была не упавшая лошадь и не сломанное колесо. После трех часов героических усилий кучер разогрелся, то есть почти загнал лошадей и добрался до Версаля, длинные, темные и безлюдные аллеи которого при красноватом отблеске нескольких занесенных инеем фонарей были похожи на процессии черных и бесплотных привидений.
Молодой человек понял, что они приехали. Благодаря какому волшебству время показалось ему столь быстротечным?
Возница между тем нагнулся к переднему стеклу.
— Хозяин, — сказал он, — мы в Версале.
— Где вам угодно остановиться, сударыни? — спросил офицер.
— На Плас-д’Арм.
— На Плас-д’Арм! — крикнул молодой человек кучеру.
— Надо ехать на Плас-д’Арм? — спросил тот.
— Ну да, конечно, раз тебе говорят.
— Тогда придется добавить на выпивку, — сказал, ухмыляясь, овернец.
— Поезжай, поезжай.
Удары кнута возобновились.
«Однако мне нужно же заговорить, — подумал про себя офицер, — я могу показаться дураком, после того как сыграл уже роль наглеца».
— Сударыни, — сказал он после некоторого колебания, — вот вы и у себя.
— Благодаря вашей великодушной помощи.
— Сколько хлопот мы вам доставили! — сказала дама помоложе.
— О, я уже забыл об этом, сударыня.
— А мы сударь, не забудем этого. Будьте добры сказать нам ваше имя, сударь.
— О! Мое имя?
— Это уже второй раз мы спрашиваем его у вас. Берегитесь!
— Вы ведь не хотите нам подарить луидор, не правда ли?
— О, если дело лишь в этом, — сказал несколько задетый за живое офицер, — то я повинуюсь: я граф де Шарни и, как вы, сударыня, заметили, офицер королевского флота.
— Шарни! — повторила дама постарше таким тоном, словно она сказала: «Хорошо, я этого не забуду».
— Оливье, Оливье де Шарни, — прибавил офицер.
— И вы живете…
— В гостинице Принцев, улица Ришелье.
Фиакр остановился.
Дама постарше сама открыла левую дверцу и легко спрыгнула на землю, протянув руку своей спутнице.
— Но, по крайней мере, — воскликнул молодой человек, собираясь следовать за ними, — прошу вас, возьмите мою руку; вы еще не у себя, и на Плас-д’Арм вы еще не дома!
— Не трогайтесь с места! — одновременно воскликнули обе женщины.
— Как не трогаться?!
— Да, оставайтесь в фиакре.
— Вам, ночью, в такую погоду, одним?! Нет, сударыни, это невозможно.
— Ну вот, прежде почти отказав нам в услуге, вы теперь хотите быть чрезмерно услужливым, — весело сказала старшая из дам.
— Но…
— Без всяких «но». Оставайтесь до конца галантным и безупречным кавалером. Благодарю вас, господин де Шарни, благодарю от всего сердца, и поскольку вы, как я только что сказала, галантный и безупречный кавалер, мы даже не просим, чтобы вы нам дали слово.
— В чем?
— Захлопнуть дверцу и приказать кучеру возвращаться в Париж, что вы и сделаете, даже не взглянув в нашу сторону, не правда ли?
— Вы правы, сударыни, для этого вам не нужно моего слова. Кучер, едем назад, друг мой.
И молодой человек сунул второй луидор в большую ладонь кучера.
Достойный овернец весь затрепетал от радости.
— Черт возьми, — сказал он, — пусть себе лошади подыхают, коли хотят!
— Еще бы, они оплачены, — пробормотал офицер.
Фиакр покатился, и покатился быстро. Стук колес заглушил вздох молодого человека, вздох, полный неги: сибарит расположился на двух подушках, еще теплых от прикосновения тел двух прекрасных незнакомок.
Что касается их, они остались стоять на том же месте и, только когда фиакр исчез, направились ко дворцу.
VI
ПРИКАЗ
В ту минуту как они двинулись в путь, порыв холодного ветра донес до слуха путешественниц бой часов: било три четверти часа на церкви святого Людовика.
— О Боже! Без четверти двенадцать! — воскликнули в один голос дамы.
— Посмотрите, все решетки закрыты, — прибавила дама помоложе.
— О, это меня не тревожит, милая Андре, потому что, даже будь решетки открыты, мы, конечно, не вернулись бы через почетный двор. Пойдем скорее мимо бассейнов.
И обе направились к правой стороне дворца.
Как всем известно, с этой стороны есть отдельный выход, ведущий в сады.
Они пришли к этому выходу.
— Маленькая дверца заперта, Андре, — сказала с беспокойством старшая дама.
— Постучим, мадам.
— Нет, позовем. Лоран должен ждать меня: я его предупредила, что, может быть, вернусь поздно.
— Так я позову.
И Андре подошла к дверце.
— Кто идет? — раздался за ней голос еще до того, как она успела позвать.
— О, это не Лоран, — испугалась молодая женщина.
— Действительно, не его.
Другая женщина подошла и прошептала:
— Лоран!
Никакого ответа.
— Лоран! — повторила дама, постучав в калитку.
— Здесь нет никакого Лорана, — грубо отозвался голос.
— Все равно, — настойчиво произнесла Андре, — кто бы тут ни был, Лоран или кто другой, — откройте.
— Не открою.
— Но, друг мой, вы не знаете, что нам обыкновенно открывает Лоран.
— Мне наплевать на Лорана, раз у меня есть приказ.
— Кто вы?
— Кто я?
— Да.
— А вы? — осведомился говоривший.
Вопрос был довольно грубый, но возражать не приходилось: надо было отвечать.
— Мы придворные дамы ее величества; мы живем во дворце и хотели бы вернуться к себе.
— Ну, а я, сударыня, швейцарец первой роты, Салишамад, и, в отличие от Лорана, оставлю вас за дверями.
— О! — вздохнули обе женщины, из которых одна, разгневанная, сжала руки другой.
— Друг мой, — заговорила она, сделав над собой усилие, — я понимаю, что вы исполняете данный вам приказ; это доказывает, что вы хороший солдат, и я не хочу заставлять вас нарушать его. Но окажите мне только, прошу вас, услугу, предупредите Лорана, который должен быть где-нибудь поблизости.
— Я не могу оставить свой пост.
— Пошлите кого-нибудь.
— У меня здесь нет никого.
— Ради Бога!
— Э, черт возьми, сударыня, ночуйте в городе. Вот еще большая беда! О, если бы у меня под носом захлопнули двери казармы, я бы, поверьте, нашел себе приют.
— Гренадер, слушайте, — сказала решительным тоном старшая дама, — вы получите двадцать луидоров, если откроете.
— И десять лет тюрьмы; благодарю. Сорок восемь ливров в год — этого недостаточно.
— Я вас велю произвести в сержанты.
— Да, а тот, кто мне отдал этот приказ, велит меня расстрелять; спасибо.
— А кто дал вам его?
— Король.
— Король! — с ужасом повторили обе женщины. — Мы погибли!
Дама помоложе, казалось, была вне себя от отчаяния.
— Подожди, — сказала дама постарше, — но ведь есть еще другие двери?
— О мадам, раз закрыли эту, то закрыли и все другие.
— А если Лорана нет у этой двери, к которой он приставлен, то, как ты думаешь, где нам его найти?
— О, тут заранее все подстроено!
— Да, ты права. Андре, Андре, какую ужасную шутку сыграл с нами король! О!
И дама сделала особенное ударение на последних словах, произнесенных тоном угрозы и презрения.
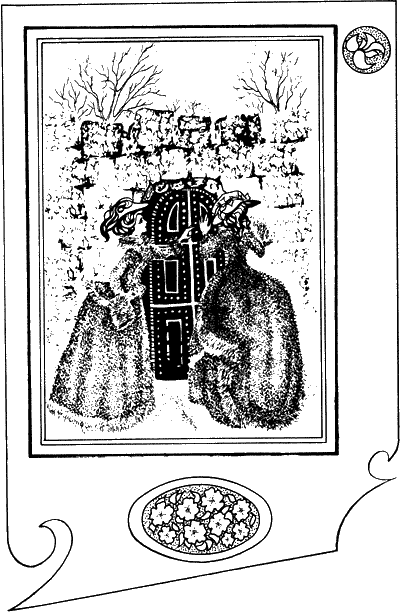
Дверца, ведущая к бассейнам, была проделана в толще стены, и настолько глубоко, что над ней образовалось нечто вроде арки. По бокам ее находились каменные скамейки.
Дамы упали на одну из них, испытывая глубокое волнение, граничившее с отчаянием.
Под дверью виднелась полоса света, а за дверью слышались шаги швейцарца, который то поднимал, то опускал ружье.
По ту сторону этого слабого препятствия — дубовой двери — было спасение; по эту — позор, скандал, почти что смерть.
— О! Завтра, завтра… когда узнают… — пробормотала старшая из дам.
— Но вы скажете правду.
— Поверят ли ей?
— У вас есть доказательства. Мадам, солдат не будет на часах всю ночь, — продолжала молодая женщина, к которой, казалось, возвращалось самообладание по мере того, как ее спутница теряла его, — в час его сменят, и другой окажется, быть может, более уступчивым. Подождем.
— Да, но патруль пройдет после полуночи, и меня найдут за воротами, увидят, что я дожидаюсь пропуска, прячусь! Это позорно! Знаете, Андре, у меня кровь так и приливает к голове, я задыхаюсь…
— О, не отчаивайтесь, мадам; вы обыкновенно так мужественны, а я еще недавно совсем было упала духом… И вот мне приходится ободрять вас!
— Тут кроется заговор, Андре, и против нас. Этого никогда еще не случалось; дверь никогда не бывала заперта… Я умру от стыда, Андре, я не вынесу этого.
И она откинулась назад, казалось почти лишаясь чувств.
В эту минуту со стороны чистой белой версальской мостовой, по которой теперь ходит так мало людей, послышались шаги. И одновременно раздался чей-то веселый молодой голос — голос молодого человека, беззаботно напевавшего одну из тех манерных песенок, что составляли отличительную принадлежность времени, которое мы пытаемся описывать:
Отчего поверить трудно?
Ведь свидетель полог тьмы,
Чем сегодня в ночи чудной
Друг для друга были мы!
Мне Морфей сомкнул ресницы,
Снова хитрости творит;
Обречен я к вам стремиться:
Я — железо, вы — магнит.
— Этот голос!.. — воскликнули одновременно обе женщины.
— Я узнаю его, — сказала старшая.
— Это голос…
Из магнита сделал эхо
Этот хитрый бог Морфей… —
продолжал певец.
— Это он! — сказала на ухо Андре дама, которая так энергично выказывала свое беспокойство. — Это он, он нас спасет!
В это время молодой человек, закутанный в длинный меховой редингот, вошел под арку стены и, не замечая обеих женщин, постучал в дверь и позвал:
— Лоран!
— Брат мой! — сказала старшая из дам, дотрагиваясь до плеча молодого человека.
— Королева! — воскликнул тот, отступая на шаг и снимая шляпу.
— Тсс! Добрый вечер, брат мой.
— Добрый вечер, мадам, добрый вечер, сестра моя. Вы не одна?
— Нет, со мной мадемуазель Андре де Таверне.
— А, прекрасно. Добрый вечер, мадемуазель.
— Монсеньер… — прошептала с поклоном Андре.
— Вы выходите, сударыни? — спросил молодой человек.
— Нет.
— Значит, возвращаетесь к себе?
— Очень бы желали этого.
— Вы, кажется, звали Лорана?
— Да.
— Так что же?
— Позовите Лорана, в свою очередь, и сами увидите.
— Да, да, позовите, монсеньер, и сами увидите.
Молодой человек, в котором читатель, без сомнения, узнал графа д’Артуа, подошел к дверце.
— Лоран! — позвал он снова, постучав в дверь.
— Ну вот, опять началась та же забава, — послышался голос швейцарца, — я вас предупреждаю, что, если вы будете еще приставать ко мне, я позову своего офицера.
— Что это значит? — спросил в недоумении молодой человек, оборачиваясь к королеве.
— Это швейцарец, которого поставили здесь вместо Лорана, вот и все.
— А кто это сделал?
— Король.
— Король?
— Да, солдат сам только что сказал это.
— И ему отдан приказ никого не пропускать?
— Наистрожайший, по-видимому.
— Черт побери! Придется сдаваться.
— Каким образом?
— Дадим денег этому негодяю.
— Я ему уже предлагала: он отказался.
— Предложим ему нашивки.
— Предлагала и это.
— Ну?
— Он ни на что не поддается.
— В таком случае остается одно средство…
— Какое?
— Я подниму шум.
— Вы нас скомпрометируете… Милый Шарль, умоляю вас!
— Но я никак вас не скомпрометирую.
— О!
— Встаньте в сторонке. Я буду стучать, как глухой, и кричать, как слепой; в конце концов мне откроют, и вы пройдете за мной.
— Попробуйте.
И молодой принц снова принялся звать Лорана, затем стал стучать рукояткой своей шпаги и поднял такой шум, что швейцарец воскликнул в бешенстве:
— А, если так, я позову моего офицера!
— Э, черт возьми, зови, мошенник! Я только и добиваюсь этого вот уже четверть часа.
Минуту спустя за дверью послышались шаги. Королева и Андре стали позади графа д’Артуа, приготовившись воспользоваться проходом, который, по всей вероятности, должен был открыться.
Они слышали, как швейцарец объяснял причину этого шума.
— Мой лейтенант, — говорил он, — это дамы с каким-то мужчиной, который назвал меня только что мошенником. Они хотят вломиться сюда.
— Что же тут удивительного, если мы хотим войти, раз мы из дворца?
— Желание может быть, и вполне естественное, сударь, но это запрещено, — отвечал офицер.
— Запрещено! Кем это, черт возьми?
— Королем.
— Прошу извинить меня, но не может быть, чтобы король желал оставить придворного офицера ночевать на улице.
— Сударь, не мое дело обсуждать намерения короля; мое дело только исполнять его приказания, вот и все.
— Однако, лейтенант, приоткройте немного дверь, чтобы нам разговаривать было удобнее, чем через деревянную перегородку.
— Сударь, повторяю вам, что мне приказано держать дверь запертой. Если же вы, по вашим словам, офицер, то должны знать, что такое приказ.
— Лейтенант, вы говорите с командиром полка.
— Прошу извинить, мой полковник, но у меня точный приказ.
— Подобные приказы не касаются принцев. Ну же, сударь, я принц и не могу ночевать на улице.
— Монсеньер, я в отчаянии, но я имею королевский приказ.
— Разве король приказал вам гнать прочь своего брата как нищего или вора? Я граф д’Артуа, сударь! Черт возьми! Вы рискуете многим, оставляя меня мерзнуть у двери!
— Монсеньер граф д’Артуа, — сказал лейтенант, — Бог мне свидетель, что я готов отдать всю свою кровь за ваше королевское высочество… Но король, доверив мне охранять эту дверь, соизволил лично приказать не открывать никому, даже ему самому, королю, если он придет после одиннадцати часов. Поэтому, монсеньер, я приношу вам свои нижайшие извинения, но я солдат, и если бы мне пришлось видеть вместо вас за этой дверью ее величество королеву, дрожащую от холода, то я ответил бы ее величеству то же самое, что с прискорбием сказал вам.
Сказав это, офицер пробормотал почтительнейшим тоном: «Доброй ночи» — и неспешным шагом вернулся к своему посту.
Что касается часового, замершего под ружьем у самой двери, то он не смел даже дышать и сердце у него билось так сильно, что если бы граф д’Артуа прислонился, в свою очередь, к двери, то мог бы услышать его учащенные удары.
— Мы погибли! — сказала королева своему деверю, взяв его за руку.
Он ничего не ответил.
— Знает ли кто-нибудь, что вы выходили? — спросил он.
— Увы, не имею понятия, — отвечала королева.
— Может быть, приказ, отданный королем, имел в виду меня, сестра моя. Король знает, что я выхожу ночью и иногда возвращаюсь поздно. Графиня д’Артуа проведала что-нибудь и пожаловалась его величеству — вот и причина этого деспотического распоряжения!
— О нет, нет, брат мой… Я вам от всего сердца признательна за деликатность, с которой вы стараетесь меня успокоить. Но, поверьте, эта мера — для меня, или, вернее, против меня!
— Не может быть, сестра моя… Король слишком уважает…
— Да, а между тем я здесь, у ворот, и завтра из-за совершенно невинной истории разразится ужасный скандал! О, у меня есть враг, наговаривающий на меня королю. Я это прекрасно знаю.
— Вероятно, у вас есть враг, милая сестра. Ну, а у меня мелькнула идея.
— Идея? Скажите скорее, в чем она заключается?
— Идея эта заставит вашего врага очутиться в таком же дурацкой ситуации, в какой находился бы осел, подвешенный за недоуздок.
— О, лишь бы только вы помогли нам выйти из этого нелепого положения, большего я не прошу.
— Спасти вас! Я надеюсь. О, я не глупее его, хотя и не такой ученый!
— Кто он?
— Э, черт возьми, граф Прованский.
— Вы, значит, согласны со мной, что он мой враг?
— Да разве он не враг всего, что молодо, всего, что прекрасно, всего, что способно на то, чего не может он.
— Брат мой, вам известно что-нибудь об этом распоряжении никого не пропускать?
— Может быть… Но прежде всего не будем стоять у этой двери: здесь собачий холод. Пойдемте со мной, милая сестра.
— Куда?
— Вы увидите; туда, где, по крайней мере, тепло… Пойдемте, а по дороге я вам расскажу, что я думаю обо всем этом. А, граф Прованский, мой милый и недостойный братец!.. Дайте мне руку, сестра; а вы, мадемуазель де Таверне, возьмите другую мою руку, и повернем направо.
Они тронулись в путь.
— Так вы говорили, что граф Прованский… — начала королева.
— Ну да! Сегодня вечером, после ужина короля, он явился в большой кабинет; король долго беседовал днем с графом де Хага, а вас совсем не было видно целый день.
— В два часа я уехала в Париж.
— Я это знал. Король, позвольте мне сказать вам это, милая сестра, столько же думал о вас, сколько о Харун ар-Рашиде и о его великом визире Джаффаре, и вел разговор о географии. Я его слушал очень нетерпеливо, ибо мне сегодня также нужно было отлучиться. О, простите, мы с вами, вероятно, покидали дворец не с одинаковыми целями, и поэтому я не прав…
— Ничего, продолжайте, продолжайте.
— Повернем налево.
— Но куда вы нас ведете?
— Очень близко. Осторожнее, здесь куча снегу. А! Мадемуазель де Таверне, если вы оставите мою руку, то упадете, предупреждаю вас. Итак, мысли короля были поглощены широтой и долготой, когда граф Прованский сказал: «Я желал бы засвидетельствовать свое почтение королеве».
— А! — воскликнула Мария Антуанетта.
— «Королева ужинает у себя», — отвечал король.
«Да? А я думал, что она в Париже», — прибавил мой братец.
«Нет, она у себя», — спокойно сказал король.
«Я только что от нее, и меня не приняли», — возразил граф Прованский.
Тогда я заметил, что король нахмурился. Он нас отпустил, моего брата и меня, и, без сомнения, навел справки после нашего ухода. У Людовика бывают вспышки ревности, как вам известно; он пожелал вас видеть, его не допустили войти, и он заподозрил что-то.
— Да, госпожа де Мизери получила от меня точное приказание.
— Вот-вот; чтобы удостовериться в вашем отсутствии, король отдал этот строгий приказ, и мы остались на улице.
— О! Это ужасный поступок, признайтесь, граф.
— Признаюсь. Но вот мы и пришли.
— В этот дом?
— Он вам не нравится, сестра моя?
— О, я не говорю этого; он, наоборот, восхищает меня. Но ваши слуги?
— А что?
— Если они увидят меня?
— Входите, сестра, входите, и я ручаюсь вам, что никто вас не увидит.
— Даже слуга, который откроет нам дверь? — спросила королева.
— Даже он.
— Невозможно!
— Мы сейчас это испытаем, — сказал со смехом граф д’Артуа.
И он протянул руку к двери.
Королева остановила его.
— Умоляю вас, брат мой, будьте осторожны.
Принц нажал другой рукой на половинку двери, украшенной красивой резьбой.
Дверь открылась.
Королева не могла сдержать испуга.
— Входите же, сестра, умоляю вас, — сказал принц, — вы ведь видите, что никого нет.
Королева взглянула на мадемуазель де Таверне с выражением человека, решившегося рискнуть; затем она перешагнула через порог, сделав один из тех прелестных жестов, которым женщины хотят сказать: «Господи благослови!»
Дверь бесшумно закрылась за ней.
Королева очутилась в передней с оштукатуренными стенами и мраморными цоколями; не особенно большое помещение было отделано с необыкновенным изяществом и вкусом; пол был мозаичный, с изображениями букетов цветов; на мраморных столиках стояло в японских вазах множество низких, густо разросшихся розовых кустов, с которых сыпался целый дождь душистых лепестков, столь редких в это время года.
Приятная теплота и еще более приятный аромат оказывали такое могучее действие на чувства всякого попавшего туда, что, едва успев войти, обе дамы забыли не только про свои опасения, но и про свою щепетильность.
— Хорошо, у нас теперь есть кров, — сказала королева, — и, надо сознаться, этот кров довольно удобен. Но недурно было бы позаботиться об одном условии, брат мой.
— О чем?
— Удалить ваших слуг.
— Ничего не может быть легче.
И принц, взяв в руки шнурок, висевший около колонны, дернул звонок, который звякнул один раз; металлический звук таинственно раздался в глубине лестницы.
Обе женщины испуганно вскрикнули.
— Так-то вы удаляете ваших слуг, брат мой? — спросила королева, — я склонна была бы думать, что вы таким образом зовете их.
— Если бы я позвонил два раза, кто-нибудь явился бы; но так как я позвонил только один раз, то будьте спокойны, сестра моя, никто не придет.
Королева рассмеялась.
— Ну, я вижу, вы человек предусмотрительный, — сказала она.
— Милая сестра, — продолжал принц, — вы не можете расположиться на ночь в передней; соблаговолите подняться на один этаж.
— Будем повиноваться, — сказала королева, — гений этого дома не кажется мне слишком недоброжелательным.
И она стала подниматься по лестнице.
Принц шел впереди.
Обюсонский ковер, который лежал на лестнице, заглушал шум их шагов.
Дойдя до второго этажа, принц опять взялся за шнурок, и неожиданный звук звонка снова заставил вздрогнуть не ожидавших его королеву и мадемуазель де Таверне.
Но их изумление еще усилилось, когда они увидели, что двери на этом этаже открылись сами.
— Право, Андре, — сказала королева, — я начинаю трепетать, а вы?
— Пока вы, ваше величество, будете идти впереди, я доверчиво буду следовать за вами.
— Все, что здесь происходит, объясняется очень просто, сестра моя, — сказал принц. — Дверь, которую вы видите перед собой, ведет в ваши апартаменты. Взгляните!
И он указал королеве на прелестное помещение, которое требует нашего описания.
Маленькая прихожая розового дерева, с двумя этажерками Буля, с потолком, расписанным Буше, и с паркетом также розового дерева, вела в белый будуар, обтянутый кашемиром с цветами, вышитыми руками первых мастериц этого искусства. Обивка мебели в будуаре была вышита шелками, тона которых были подобраны с искусством, делавшим гобелены того времени подобными картинам знаменитых художников.
За будуаром находилась голубая спальня. Кружевные занавески, турецкий штоф, великолепная кровать в темном алькове, ослепительный огонь в беломраморном камине, свет двенадцати благовонных свечей, горевших в канделябрах работы Клодиона, ширмочка из лакированного дерева, лазоревого цвета, с китайскими рисунками золотом, — вот прелести, которые предстали перед взорами двух дам, робко вступивших в это изящное помещение.
Ни одно живое существо не появлялось здесь; повсюду царили свет, тепло, но нельзя было угадать, кто создавал такую отрадную обстановку.
Королева, которая и в будуар вошла с некоторой нерешительностью, остановилась на мгновение у порога спальни.
Принц в изысканных выражениях извинился, что необходимость вынуждает его посвящать сестру в недостойные ее подробности.
Королева ответила полуулыбкой, выражавшей гораздо больше, чем все слова.
— Сестра моя, — прибавил граф д’Артуа, — это мои холостяцкие покои; только я бываю здесь, и бываю всегда один.
— Почти всегда, — сказала королева.
— Нет, всегда.
— А! — усомнилась королева.
— Кроме того, — продолжал он, — в будуаре, где вы находитесь, есть софа и глубокие кресла, в которых я не раз, когда ночь заставала меня на охоте, спал так же хорошо, как в своей постели.
— Я понимаю, — сказала королева, — почему графиня д’Артуа иногда тревожится…
— Конечно. Но сознайтесь, сестра моя, что если графиня беспокоится обо мне, то этой ночью она тревожится без основания.
— Сегодня ночью, я согласна, но другие ночи…
— Сестра моя, тот, кто не прав один раз, не прав всегда.
— Ну, довольно об этом, — сказала королева, садясь в кресло. — Я страшно устала, а вы, моя бедная Андре?
— О, я просто падаю от усталости, и если ваше величество позволит мне…
— Действительно, вы побледнели, мадемуазель, — сказал граф д’Артуа.
— Пожалуйста, пожалуйста, дорогая, — сказала королева, — садитесь или даже ложитесь. Господин граф д’Артуа нам уступает это помещение; не правда ли, Шарль?
— В полное распоряжение, мадам.
— Минутку, граф, последнее слово.
— Что вам угодно?
— Если вы уйдете, как вас позвать?
— Я вам совсем не нужен, сестра моя; располагайте всем моим домом.
— Здесь, значит, есть и другие комнаты?
— Конечно. Прежде всего есть столовая, в которую я вам рекомендую заглянуть.
— С накрытым столом, вероятно?
— Конечно, на котором мадемуазель де Таверне, в чем она, мне кажется, сильно нуждается, найдет бульон, крылышко цыпленка и рюмочку хереса, а вы, сестра моя, найдете большой выбор фруктовых варений, которые вы любите.
— И все это без слуг?
— Абсолютно.
— Посмотрим. Ну а потом?
— Что потом?
— Как нам вернуться во дворец?
— Нечего и думать возвращаться в него этой ночью, раз отдан такой приказ. Но с наступлением дня этот приказ теряет свою силу. В шесть часов ворота дворца отворяются, а вы выходите отсюда без четверти шесть. Вы найдете в шкафах плащи всех цветов и покроев, если пожелаете сменить свою одежду. Когда вы попадете во дворец, пройдите в свою спальню, ложитесь и не беспокойтесь об остальном.
— А вы?
— То есть что я?
— Да, что вы будете делать?
— Я уйду из этого дома.
— Как, мы вас выгоняем, бедный брат мой?
— Приличия не позволяют мне проводить ночь под одной кровлей с вами, сестра моя.
— Но ведь вам нужен приют, а мы у вас его отнимаем!
— Э, у меня есть еще три таких же.
Королева рассмеялась.
— И он еще говорит, что графиня д’Артуа не права, если беспокоится! Я ее предупрежу, — добавила королева с очаровательным жестом угрозы.
— Тогда я все расскажу королю, — ответил в тон ей принц.
— Он прав, мы у него в руках.
— Именно так. Это унизительно; но что поделаешь?
— Надо подчиниться. Итак, для того чтобы выйти завтра, не встретив никого…
— Позвоните один раз в звонок у колонны, внизу.
— У которой? Правой или левой?
— Все равно.
— Дверь откроется?
— И закроется.
— Сама собой?
— Сама собой.
— Благодарю вас. Спокойной ночи, брат мой.
— Спокойной ночи, сестра моя.
Принц откланялся; Андре закрыла за ним дверь, и он исчез.
VII
В СПАЛЬНЕ КОРОЛЕВЫ
На другое утро, или, вернее, в то же утро, так как события, описанные в предыдущей главе, закончились только к двум часам ночи, — итак, в то же утро король Людовик XVI в утреннем платье фиолетового цвета, без орденов и пудры, едва успев встать с постели, постучал в дверь прихожей апартаментов королевы.
Служанка приоткрыла дверь.
— Ваше величество! — воскликнула она, узнав короля.
— Королева?.. — отрывисто спросил Людовик XVI.
— Ее величество почивает, государь.
Король сделал жест рукой, чтобы женщина отошла, но она не двинулась с места.
— Ну, — сказал король, — пропустите меня. Вы видите, что я хочу пройти.
Король делал порой очень резкие движения, которые его враги называли грубыми.
— Королева отдыхает, ваше величество, — робко заметила служанка.
— Я вам сказал, чтобы вы дали мне пройти.
И с этими словами он отстранил женщину и прошел дальше. Дойдя до двери спальни, король увидел г-жу де Мизери, первую даму покоев королевы, читавшую молитвы по Часослову.
— Государь, — сказала она тихим голосом и с глубоким реверансом, — ее величество еще не звали меня.
— А, в самом деле? — насмешливо спросил король.
— Теперь, кажется, только половина седьмого, государь, а ее величество никогда не звонит раньше семи часов.
— И вы уверены, что королева в постели? Вы уверены, что она спит?
— Я не берусь утверждать, ваше величество, что королева почивает; но уверена в том, что она в постели.
— В постели?
— Да, ваше величество.
Король не мог долее сдерживать своего нетерпения. Он подошел к двери и резким движением с шумом повернул золоченую ручку.
Спальня королевы тонула в полном мраке, как будто за окном была ночь: ставни, занавеси и шторы, наглухо закрытые, делали комнату совершенно темной.
Ночник, поставленный на столике в самом отдаленном углу комнаты, оставлял альков королевы в полной тени; длинный полог, белый, шелковый, с вышитыми золотом лилиями, закрывал своими волнистыми складками кровать со смятой постелью.
Король быстро направился к ней.
— О госпожа де Мизери! — воскликнула королева. — Вы так шумите, что разбудили меня!
Король остановился пораженный.
— Это не госпожа де Мизери, — пробормотал он.
— А, это вы, государь? — сказала, приподымаясь, Мария Антуанетта.
— Доброго утра, мадам, — произнес король кисло-сладким тоном.
— Какой попутный ветер занес вас сюда, государь? — спросила королева. — Госпожа де Мизери! Госпожа де Мизери, откройте же окна.
Женщины вошли и, как это обычно требовала королева, моментально открыли двери и окна, чтобы дать в комнату доступ чистому воздуху, который Мария Антуанетта особенно любила вдыхать, когда просыпалась.
— Вы очень сладко спите, мадам, — сказал король, садясь около кровати и бросив вокруг себя пытливый взгляд.
— Да, государь, я долго читала, и если бы вы не разбудили меня, я еще спала бы.
— Что означает ваш отказ принять вчера…
— Кого? Вашего брата графа Прованского? — находчиво подхватила королева, идя навстречу подозрениям короля.
— Да, именно моего брата; он хотел приветствовать вас, а его даже не впустили.
— Так что же?
— Ему сказали, что вас нет.
— Разве ему сказали это? — небрежно переспросила королева. — Госпожа де Мизери! Госпожа де Мизери!
Первая дама показалась в дверях, держа поднос, на котором лежали письма, адресованные королеве.
— Ваше величество звали меня? — спросила г-жа де Мизери.
— Да. Разве вчера графу Прованскому сказали, что я выехала?
Госпожа де Мизери, обойдя короля, протянула королеве поднос, придержав под большим пальцем письмо, почерк которого королева сейчас же узнала.
— Ответьте королю, госпожа де Мизери, — продолжала Мария Антуанетта тем же небрежным тоном, — скажите его величеству, что вы ответили вчера графу Прованскому, когда он приходил, я это забыла.
— Ваше величество, — начала г-жа де Мизери, между тем как королева распечатывала письмо, — монсеньер граф Прованский явился вчера засвидетельствовать свое почтение ее величеству, а я ему сказала, что ее величество не принимает.
— По чьему же это приказанию?
— По приказанию королевы.
— А! — сказал король.
Тем временем королева вскрыла письмо и прочла следующие две строчки:
«Вы вчера возвратились из Парижа во дворец в восемь часов вечера. Вас видел Лоран».
Затем, все с тем же презрительным видом, королева распечатала несколько писем, записок и прошений, которые лежали в беспорядке на одеяле.
— Так что же? — спросила она короля, поднимая голову.
— Благодарю вас, сударыня, — сказал король первой даме покоев.
Госпожа де Мизери удалилась.
— Простите, государь, — сказала королева, — я попросила бы вас разъяснить мне один вопрос.
— Какой?
— Имею ли я право по своему желанию принимать или не принимать графа Прованского?
— О, полнейшее право, мадам, но…
— Но его умная беседа утомляет меня, что прикажете делать? К тому же он не любит меня; правда, и я плачу ему той же монетой. Я ждала его неприятного посещения и легла в кровать в восемь часов, чтобы не принимать его. Что с вами, государь?
— Ничего.
— Можно подумать, что вы не верите.
— Но…
— Что такое?
— Но я думал, что вы были вчера в Париже.
— В котором часу?
— В тот час, когда, по вашим словам, вы были уже в постели.
— Конечно, я ездила в Париж. Так что же? Разве из Парижа нельзя вернуться?
— Конечно, можно. Все дело в том, в котором часу.
— А, вы хотите знать точный час, когда я вернулась из Парижа?
— Да.
— Ничего нет легче, государь. Госпожа де Мизери! — позвала королева.
Первая дама явилась.
— Который был час, когда я вчера вернулась из Парижа? — спросила королева.
— Было около восьми часов, ваше величество.
— Не думаю, — сказал король, — вы, вероятно, ошибаетесь, госпожа де Мизери: справьтесь.
Дама покоев, невозмутимая и спокойная, повернулась к двери.
— Госпожа Дюваль, — позвала она.
— Что угодно, сударыня? — отвечал женский голос.
— В котором часу ее величество возвратилась вчера из Парижа?
— Часов в восемь, сударыня, — отвечала служанка.
— Вы, верно, ошиблись, госпожа Дюваль, — сказала г-жа де Мизери.
Госпожа Дюваль высунулась из окошка прихожей и крикнула:
— Лоран!
— Кто такой Лоран? — спросил король.
— Привратник той калитки, через которую вчера вернулась ее величество, — сказала г-жа де Мизери.
— Лоран! — спросила г-жа Дюваль. — В котором часу вернулась вчера ее величество королева?
— Около восьми часов, — отвечал с нижней террасы привратник.
Король опустил голову.
Госпожа де Мизери отпустила г-жу Дюваль, а та, в свою очередь, отпустила Лорана.
Супруги остались одни.
Людовик XVI был сконфужен и всячески старался это скрыть.
Но королева, вместо того чтобы торжествовать победу, спросила его холодным тоном:
— Ну, государь? Что вы еще желаете знать?
— О, ничего! — воскликнул король, сжимая руки своей жены. — Ничего!
— Однако…
— Простите меня, мадам; я сам не знаю, что за мысли у меня явились. Видите вы мою радость? Она так же велика, как и мое раскаяние. Вы ведь не сердитесь на меня, не правда ли? Не обижайтесь; клянусь честью дворянина, я был бы в отчаянии от этого.
Королева отняла свою руку.
— Что с вами, мадам? — спросил король.
— Государь, — отвечала Мария Антуанетта, — французская королева не может лгать!
— Так что же? — спросил изумленный король.
— Я хочу сказать, что я не вернулась вчера в восемь часов вечера.
Король отступил в изумлении.
— Я хочу сказать, — с тем же хладнокровием продолжала королева, — что я вернулась только сегодня в шесть часов утра.
— Мадам!
— И без графа д’Артуа, который из жалости дал мне приют в своем доме, я осталась бы у ворот, как нищая.
— А, вас не было дома, — мрачно произнес король, — значит, я был прав.
— Государь, прошу извинить меня, но вы делаете из моих слов вывод как математик, но не как воспитанный человек.
— Почему, мадам?
— Потому, что если вы желали убедиться, поздно или рано я возвращаюсь, вам не к чему было ни закрывать ворота, ни отдавать приказание никого не пропускать, а просто надо было прийти ко мне и спросить меня: «В котором часу вы вернулись, мадам?»
— О! — воскликнул король.
— Вы не можете больше сомневаться, сударь; ваши шпионы были введены в заблуждение или подкуплены, двери взломаны или открыты, ваши опасения побеждены, ваши подозрения рассеяны. Я видела вас сконфуженным от сознания, что вы употребили насилие против невинной женщины. Я могла продолжать наслаждаться своей победой. Но я нахожу ваш образ действий позорным для короля, неприличным для дворянина и не могу отказать себе в удовольствии сказать вам это.
Король стряхнул пылинку со своего жабо, по-видимому обдумывая ответ.
— Как бы вы ни старались, — сказала королева, покачав головой, — вам не удастся оправдать свое поведение по отношению ко мне.
— Напротив, мадам, мне это будет очень легко сделать, — отвечал король. — Разве хотя бы один человек во дворце подозревал, что вы не вернулись? А если все знали, что вы у себя, то никто не мог отнести на ваш счет мой приказ запереть все ворота. Припишут ли его рассеянному образу жизни господина графа д Артуа или кого-нибудь другого, вы понимаете, это меня мало интересует.
— И что же дальше, государь? — прервала королева.
— Делаю вывод: я был прав, раз все приличия по отношению к вам были соблюдены, а вы, не сделав того же по отношению ко мне, вы были не правы; если же я хотел просто дать вам скрытым образом урок, на что я надеюсь, судя по вашему раздражению, то я прав вдвойне и не отказываюсь от того, что сделал.
Королева выслушала ответ своего супруга, и постепенно спокойствие все более возвращалось к ней, но не потому, что ее раздражение рассеялось, а потому, что ей хотелось приберечь все свои силы для борьбы, которая, по ее мнению, не только не кончилась, но едва только начиналась.
— Прекрасно! — сказала она. — Итак, вы не считаете нужным извиниться за то, что дочь Марии Терезии, вашу жену и мать ваших детей, вы заставили томиться у входа в ее дом как первую встречную? Нет, на ваш взгляд, это чисто королевская шутка, полная аттической соли, шутка, нравоучительность которой увеличивает ее достоинство. Итак, в ваших глазах совершенно естественный поступок — заставить французскую королеву провести ночь в домике, где граф д’Артуа принимает девиц из Оперы и разных придворных дам, любительниц галантных похождений? О, это все пустяки — король стоит выше этих мелочей, а в особенности король-философ! А ведь вы философ, государь! Заметьте, что в этом эпизоде на долю графа д’Артуа выпала самая благородная роль. Имейте в виду, что он мне оказал огромную услугу. Знайте, что на этот раз мне надо было поблагодарить Небо за то, что мой деверь ведет веселую жизнь, так как его рассеянный образ жизни послужил покровом для моего стыда и его пороки оберегли мою честь.
Король покраснел и порывисто повернулся в кресле.
— О! — с горьким смехом воскликнула королева. — Я прекрасно знаю, что вы, ваше величество, очень добродетельный король! Но подумали ли вы, к каким результатам приводит ваша высокая нравственность? Вы говорите, никто не знал, что я не вернулась? И вы сами полагали, что я у себя! Вы, может быть, скажете, что граф Прованский, ваш подстрекатель, поверил этому? А граф д’Артуа тоже? А мои дамы, которые по моему приказанию солгали вам сегодня утром, тоже поверили? И Лоран, подкупленный графом д’Артуа и мною? Король, конечно, всегда прав, но иногда и королева может быть права. Давайте установим такой порядок, ваше величество: вы посылаете за мной шпионов и швейцарских гвардейцев, а я подкупаю ваших шпионов и швейцарцев. И я говорю вам: меньше чем через месяц — вы ведь меня знаете и понимаете, я не буду сдерживаться, — итак, меньше чем через месяц мы как-нибудь утром подведем итог тому, что сталось с величием престола и достоинством брака, и увидим, во что это обойдется нам обоим.
По всему было заметно, что эти слова произвели сильное впечатление на того, к кому они были обращены.
— Вы знаете, — начал король изменившимся голосом, — что я человек искренний и всегда признаюсь в своих ошибках. Можете ли вы доказать мне, мадам, что вы правы, уезжая из Версаля с вашими дворянами? С этой безумной свитой, которая губит вашу репутацию при тех тяжелых обстоятельствах, в каких мы живем! Можете ли вы доказать мне, что вы поступили разумно, когда исчезли с ними в Париже, как маски на балу, и возвратились назад уже ночью, скандально поздно, когда моя лампа догорала после моих продолжительных занятий и все кругом спали? Вы упомянули о достоинстве брака, о величии престола и о вашем материнском достоинстве. А разве то, что вы сделали, достойно жены, королевы и матери?
— Я вам отвечу в двух словах и заранее предупреждаю, отвечу с еще большим презрением, чем говорила до сих пор, так как, право, некоторые пункты ваших обвинений заслуживают только одного презрения. Я выехала из Версаля в санях, для того чтобы приехать в Париж; я ездила с мадемуазель де Таверне, чья репутация, слава Богу, одна из самых безупречных при дворе; я была в Париже для того, чтобы проверить, правда ли, что французский король, отец огромной семьи, король-философ, нравственная опора совести каждого, кормивший иностранцев, согревавший нищих и заслуживший своей благотворительностью любовь народа, — правда ли, что этот король оставляет умирать от голода, прозябать в неизвестности, среди всех ужасов порока и нищеты, одного из членов своей королевской семьи — потомка королей, правивших Францией?
— Я? — с изумлением спросил король.
— Я поднялась, — продолжала королева, — на какое-то подобие чердака и увидела в нищете, лишенную дров, света и денег правнучку великого государя; я дала сто луидоров этой жертве забывчивости и небрежности короля. И так как замешкалась, раздумывая о ничтожестве нашего величия — ведь и я иногда становлюсь философом, — так как была сильная гололедица, когда лошадям трудно бежать, а особенно наемным…
— Наемным! — воскликнул король. — Вы вернулись в фиакре?
— Да, ваше величество, под номером 107.
— О! — пробормотал король, качая правой ногой, положенной на левую, что у него было признаком сильного волнения. — В фиакре!
— Да, и я еще сочла себя очень счастливой, что нашла его, — отвечала королева.
— Мадам, — прервал король, — вы поступили прекрасно; ваши побуждения всегда благородны, хотя, может быть, созревают несколько поспешно… Но в этом надо винить присущий вам великодушный пыл.
— Благодарю вас, государь, — отвечала королева насмешливо.
— Заметьте, — продолжал король, — я не заподозрил вас ни в чем, что не отвечало бы правилам чести и порядочности; мне не понравился только поступок и несколько эксцентричный образ действий королевы. Вы, как всегда, делали добро, но, воздавая другим добро, вы нашли возможность причинить себе самой зло. Вот в чем я упрекаю вас. Теперь я должен исправить свою забывчивость, позаботиться о судьбе потомков королей… Я готов. Расскажите мне об этих несчастных, и мои щедроты не заставят себя ждать.
— Имя Валуа, государь, как мне кажется, достаточно славно, чтобы вы могли его держать в своей памяти.
— А! — воскликнул с громким взрывом смеха Людовик XVI. — Я теперь знаю, что вас занимает маленькая Валуа, не правда ли? Графиня… Подождите, как ее?..
— Де Ламотт.
— Вот именно, де Ламотт; ее муж жандарм?
— Да, государь.
— А жена — интриганка? О, не сердитесь: она переворачивает вверх дном и небо и землю, надоедает министрам, пристает к моим теткам, засыпает меня прошениями, ходатайствами, доказательствами своего происхождения.
— Что ж, государь, это только доказывает, что до сих пор она просила безуспешно.
— Я не оспариваю этого.
— Она по происхождению Валуа или нет?
— Полагаю, что да.
— Так что же? Дайте ей приличную пенсию, а мужу — полк; словом, создайте какое-нибудь положение отпрыскам королевского дома.
— О, полегче, мадам. Черт возьми, как вы скоры! Маленькая Валуа выщиплет у меня достаточно перьев и без вашей помощи; у нее цепкий клюв, у маленькой Валуа, не бойтесь!
— О, я не боюсь за вас, государь, ваши перья держатся крепко.
— Приличную пенсию… Боже мой! Как вы мало просите! Известно ли вам, какое обильное кровопускание сделала зима в моей казне? Полк этому дворянчику, который решил спекулировать своим положением мужа одной из Валуа!.. Да у меня нет больше полков для раздачи тем, кто может заплатить за них или кто заслужил это отличие. Положение, достойное потомков королей, — этим нищим! Полноте! Когда мы сами, короли, не имеем возможности жить так же, как богатые частные лица! Герцог Орлеанский послал в Англию своих лошадей и мулов на продажу и урезал на две трети штат своих слуг. Я упразднил свою волчью охоту. Господин де Сен-Жермен заставил меня сократить мою гвардию. Мы все, от мала до велика, живем в лишениях, дорогая моя.
— Но, государь, ведь члены дома Валуа не могут умирать с голоду!
— Вы кажется, сказали мне, что дали сто луидоров?
— Это просто подаяние.
— Вполне королевское.
— В таком случае, дайте и вы столько же.
— И не подумаю. Того, что вы дали, вполне достаточно от нас двоих.
— В таком случае маленькую пенсию.
— Нет, нет, ничего постоянного. Эти люди и так достаточно выманят у вас: они из породы грызунов. Если у меня появится желание давать, я дам им известную сумму без всяких счетов с прошедшим, без всяких обязательств в будущем. Эта маленькая Валуа… право, я вам не могу и пересказать всего, что знаю о ней. Ваше доброе сердце попалось в ловушку, милая Антуанетта. Я прошу за это прощения у него.
С этими словами Людовик протянул руку, и королева, уступая первому побуждению, поднесла ее к губам, но тотчас же оттолкнула.
— Вы, — сказала она, — недобры ко мне. Я сердита на вас.
— Сердиты, — сказал король, — вы! Но я же…
— О да, скажите, что вы не сердитесь на меня, после того как закрыли передо мной двери Версаля, после того как пришли в половине седьмого в мою переднюю и силой ворвались ко мне, бросая на меня сердитые взгляды.
Король рассмеялся.
— Нет, — сказал он, — я не сержусь на вас.
— Больше не сердитесь! Ну, в добрый час!
— А что вы мне дадите, если я вам докажу, что не сердился на вас, когда шел сюда?
— Посмотрим сначала то доказательство, о котором вы говорите.
— О, это нетрудно, — возразил король, — это доказательство у меня в кармане.
— А! — с любопытством воскликнула королева, приподымаясь. — Вы хотите что-нибудь подарить мне? О, в таком случае вы действительно очень любезны; но вы понимаете, что я только тогда вам поверю, если вы сейчас же выложите это доказательство. Без обмана. Бьюсь об заклад, что вы мне только пообещаете что-нибудь.
Король, услышав эти слова, с доброй улыбкой порылся в кармане, с преднамеренной медлительностью, которая заставляет сгорать от нетерпения ребенка в ожидании игрушки, животное — в ожидании лакомого куска, а женщину — в ожидании подарка. Наконец он вытащил из кармана красный сафьяновый футляр с великолепными золотыми украшениями.
— Футляр! — сказала королева. — Посмотрим.
Король положил футляр на кровать.
Королева поспешно схватила подарок и потянула к себе.
— Как это прелестно! Боже мой! Как это восхитительно! — воскликнула она, открыв крышку, ослепленная и очарованная.
Король почувствовал, что у него сердце дрогнуло от радости.
— Вы находите? — спросил он.
Королева не могла отвечать, она задыхалась от восторга.
Она достала из футляра ожерелье из таких крупных, таких чистых и так искусно подобранных бриллиантов, что по ее красивым рукам, казалось, потекли волны сверкающего фосфора и пламени.
Ожерелье все струилось и переливалось, точно свернувшаяся кольцом змея с чешуей, подобной молнии.
— Какое великолепие! — сказала наконец королева, к которой вернулся дар слова. — Да, великолепие, — повторила она.
Ее глаза разгорелись, быть может, от прикосновения к этим чудным бриллиантам, а быть может, от мысли, что ни одна женщина на свете не могла бы иметь подобного ожерелья.
— Так, значит, вы довольны? — спросил король.
— Я в восторге, государь. Вы меня осчастливили.
— Право?
— Взгляните на первый ряд: в нем бриллианты величиной с орех.
— Действительно.
— А как подобраны! Не отличишь один бриллиант от другого! Как искусно соблюдены в нем пропорции! Какая соразмерность между рядами — первым и вторым, вторым и третьим! Ювелир, подобравший эти бриллианты и сделавший это ожерелье, — настоящий художник.
— Их двое.
— Бьюсь об заклад, что это Бёмер и Боссанж.
— Вы угадали.
— Действительно, только они и могут рисковать делать такие драгоценности. Но что это за восторг, государь!
— Мадам, мадам, — сказал король, — берегитесь, вы оплачиваете это ожерелье дороже, чем оно стоит.
— О! — воскликнула королева. — О, государь!
Но вдруг ее сияющее чело омрачилось и голова склонилась.
Это изменение в выражении лица королевы промелькнуло и исчезло с такой быстротой, что король даже не успел заметить его.
— Ну, — сказал он, — доставьте же мне теперь удовольствие.
— Какое?
— Надеть это ожерелье вам на шею.
Королева остановила его.
— Это очень дорого, не правда ли? — спросила она с грустью.
— Признаться, да, — отвечал со смехом король, — но, как я вам только что сказал, вы заплатили больше, чем оно стоит, и только на своем месте, то есть на вашей шее, оно обретет свою настоящую ценность.

И с этими словами Людовик нагнулся к королеве, держа за оба конца великолепное ожерелье и собираясь застегнуть аграф, также сделанный из крупного бриллианта.
— Нет, нет, — сказала королева, — без ребячества… Положите ожерелье обратно в футляр, государь.
И она покачала головой.
— Вы мне отказываете в удовольствии первому надеть его на вас?
— Боже меня сохрани от намерения лишить вас такого удовольствия, государь, но если бы я взяла ожерелье…
— Но?.. — с изумлением спросил король.
— Ни вы, государь, и никто другой не увидит на моей шее такое дорогое ожерелье.
— Вы не будете носить его, мадам?
— Никогда!
— Вы отказываетесь принять его от меня?
— Я отказываюсь повесить на шею миллион, а может быть, и полтора, так как я оцениваю это ожерелье в полтора миллиона и вряд ли ошибаюсь.
— Я не отрицаю этого, — отвечал король.
— Так я отказываюсь носить на шее вещь в полтора миллиона, когда казна короля пуста, когда король вынужден ограничивать себя, раздавая пособия бедным, и говорить им: «У меня нет больше денег, Бог вам подаст!»
— Как, вы это говорите серьезно?
— Знаете, государь, господин де Сартин мне как-то говорил, что за полтора миллиона можно соорудить линейный корабль, и, поистине, французскому королю он нужнее, чем ожерелье королеве.
— О, — воскликнул король, в полном восторге и со слезами на глазах, — ваше решение так благородно, так прекрасно! Благодарю, благодарю… Антуанетта, вы добрая женщина!
И, желая достойным образом выразить свой сердечный порыв, добрый король обнял Марию Антуанетту обеими руками и поцеловал ее.
— Как вас будут благословлять во Франции, мадам, — воскликнул он, — когда узнают о только что сказанных вами словах!
Королева вздохнула.
— Еще есть время, — с живостью сказал король. — Вздох сожаления!
— Нет, государь, вздох облегчения; закройте этот футляр и возвратите его ювелирам.
— Я уже распределил плату на несколько взносов; деньги готовы. Ну что мне с ними делать? Не будьте слишком бескорыстны, мадам.
— Нет, я все хорошо взвесила. Нет, решительно я не хочу этого ожерелья, но я хочу другого.
— Черт возьми! Вот и пропали мои миллион шестьсот тысяч ливров!
— Миллион шестьсот тысяч ливров? Видите! Неужели оно стоит так дорого?
— Да, мадам, раз уж я обмолвился, то не отрекаюсь от своих слов.
— Успокойтесь; то, что я прошу у вас, будет стоить дешевле.
— А что вы просите?
— Отпустить меня еще раз в Париж.
— Это очень легко и стоит вовсе не дорого.
— Погодите! Погодите!
— Черт возьми!
— В Париж, на Вандомскую площадь.
— А, черт возьми!
— К господину Месмеру.
Король почесал у себя за ухом.
— Ну, — сказал он, — вы только что отказались от прихоти, стоящей миллион шестьсот тысяч ливров; я могу позволить вам другую прихоть. Поезжайте к господину Месмеру. Но, в свою очередь, я ставлю вам условие.
— Какое?
— Пусть вас сопровождает принцесса крови.
Королева задумалась.
— Согласны вы на госпожу де Ламбаль? — спросил она.
— Пусть так, госпожа де Ламбаль.
— Договорились.
— Я подписываю соглашение.
— Благодарю вас.
— А я, ни минуты не медля, закажу линейный корабль, — сказал король, — и окрещу его «Ожерелье королевы». Вы будете его восприемницей, ваше величество, а затем я пошлю его Лаперузу.
Король поцеловал жене руку и в отличном настроении вышел из ее апартаментов.
VIII
МАЛЫЙ УТРЕННИЙ ВЫХОД КОРОЛЕВЫ
Как только король вышел, королева встала с постели и подошла к окну, чтобы подышать ледяным, бодрящим утренним воздухом.
День обещал быть прекрасным и полным той прелести, которую близость весны придает некоторым апрельским дням: ночной мороз сменила приятная и уже ощутимая солнечная теплота; ветер со вчерашнего дня переменился с северного на восточный.
Если он не изменит своего направления, то зиме, этой ужасной зиме 1784 года, настал конец.
На розовом небосклоне уже поднялось облако сероватого пара: это была сырость, испарявшаяся от действия солнечных лучей.
В садах с веток деревьев начинал осыпаться иней, и маленькие птички, садясь на ветки, с большей непринужденностью и доверчивостью опирались своими тонкими лапками на образовавшиеся почки.
Апрельский цветок, подснежник, съежившийся от мороза, как те бедные цветы, о которых говорит Данте, поднимал свою темную головку из начинавшего таять снега, а из-под листьев фиалки, толстых, крепких и широких, продолговатый бутон будущего цветка уже выпустил два овальных лепестка, предвестников расцвета и аромата.
В аллеях, на статуях и на решетках, сверкали недолговечные алмазы; они еще не обратились в воду, но не были более и ледяными сосульками.
Все указывало на незримую борьбу весны с холодами и предвещало близкое поражение зимы.
— Если мы хотим воспользоваться льдом, — воскликнула королева, увидев, какая стоит погода, — то нам, кажется, надо поторопиться! Не правда ли, госпожа де Мизери? — прибавила она, отворачиваясь от окна. — Весна приближается.
— Вашему величеству уже давно хотелось покататься по льду на пруду Швейцарцев, — отвечала первая дама покоев.
— Да, и сегодня мы это устроим, — сказала королева, — потому что завтра, быть может, будет поздно.
— К какому же часу прикажет ваше величество приготовить туалет?
— Сейчас же. Я слегка позавтракаю и выйду.
— Больше королева не даст никаких приказаний?
— Пусть узнают, встала ли мадемуазель де Таверне, и скажут ей, что я хочу ее видеть.
— Мадемуазель де Таверне уже в будуаре вашего величества, — отвечала придворная дама.
— Уже? — спросила королева, которой лучше, чем кому-либо другому, было известно, в котором часу могла лечь Андре.
— О ваше величество, она ожидает уже двадцать минут.
— Пусть войдет.
Андре вошла к королеве в ту минуту, как часы на Мраморном дворе пробили первый удар девяти часов.
Мадемуазель де Таверне, уже тщательно одетая, как подобало придворной даме, не имеющей право являться к королеве в небрежном туалете, вошла, улыбаясь, но с некоторой тревогой.
Королева также улыбалась, что успокоило Андре.
— Идите, милая Мизери, — сказала она, — пошлите мне Леонара и моего портного. Ничего, — сказала она Андре, проследив глазами за г-жой Мизери и выждала, пока за ней опустилась портьера, — король был очень мил, он смеялся и ушел обезоруженным.
— Но он узнал? — спросила Андре.
— Вы понимаете, Андре, что лгать недопустимо, в особенности, когда ты права и именуешься французской королевой.
— Правда, ваше величество, — ответила, покраснев, Андре.
— А между тем, милая Андре, мы, по-видимому, сделали ошибку.
— Ошибку, государыня? — спросила Андре. — И, вероятно, не одну?
— Возможно. Вот наша первая ошибка: мы пожалели госпожу де Ламотт, король недолюбливает ее. Но мне она, признаюсь, понравилась.
— Ваше величество слишком хороший судья, и нельзя не преклониться перед вашими суждениями.
— Леонар здесь, ваше величество, — сказала, входя, г-жа де Мизери.
Королева села перед туалетным столиком из вызолоченного серебра, и знаменитый парикмахер принялся за свое дело.
У королевы были самые роскошные волосы на свете, и она находила отраду в том, чтобы давать всем возможность восхищаться ими.
Леонару это было известно, и, вместо того, чтобы действовать с тем проворством, которое он проявил бы по отношению ко всякой другой женщине, он предоставлял королеве и время и удовольствие любоваться собой.
В этот день Мария Антуанетта была в хорошем, даже радостном настроении; она была необыкновенно красива и только затем отрывала глаза от зеркала, чтобы послать Андре ласковый взгляд.
— Вас не бранили, Андре, — сказала она, — вас, свободную и гордую, которую все немножко боятся, так как, подобно богине Минерве, вы слишком мудры.
— Я, ваше величество? — прошептала Андре.
— Да, вы, наводящая уныние на всех придворных ветреников! О Боже мой, как вы счастливы, Андре, что вы девушка и, главное, что чувствуете себя таким образом счастливой.
Андре покраснела и грустно улыбнулась.
— Это обет, данный мною, — сказала она.
— И который вы сдержите, моя прелестная весталка? — спросила королева.
— Надеюсь.
— Кстати, — воскликнула королева, — я вспомнила…
— Что, ваше величество?
— Что, хотя вы и не замужем, со вчерашнего дня у вас появился повелитель.
— Повелитель, ваше величество?
— Да, ваш любимый брат… Как его зовут? Кажется, Филиппом?
— Да, ваше величество, Филиппом.
— Он приехал?
— Вчера, как ваше величество сделали мне честь сказать.
— И вы его еще не видели? Какая я эгоистка, что похитила вас вчера и увезла в Париж; право, это непростительно!
— О ваше величество, — с улыбкой возразила Андре, — я прощаю вам от всего сердца, и Филипп также.
— Правда?
— Ручаюсь вам.
— За себя?
— За себя и за него.
— Каков он собой?
— Все такой же красивый и добрый, мадам.
— А сколько ему теперь лет?
— Тридцать два года.
— Бедный Филипп! Подумайте, я знаю его уже четырнадцать лет и из них не видела его уже лет девять или десять!
— Когда вашему величеству будет угодно принять его, он будет счастлив уверить вас, что разлука не внесла никакой перемены в чувство почтительной преданности, которое он питает к королеве.
— Могу я его видеть теперь же?
— Через четверть часа он будет у ног вашего величества, если вы разрешите.
— Хорошо, я позволяю, я даже хочу этого.
Королева кончила говорить, когда кто-то шумный, подвижный, проворный проскользнул, или скорее прыгнул, на ковер туалетной и тотчас же чье-то смеющееся и лукавое лицо отразилось в зеркале, в котором Мария Антуанетта улыбалась своему отражению.
— Мой брат д’Артуа! — воскликнула королева. — Ну, право, вы испугали меня.
— Доброе утро, ваше величество, — сказал молодой принц. — Как вы провели ночь?
— Благодарю вас, брат мой, очень плохо.
— А утро?
— Прекрасно.
— Это самое главное. Я только что догадался об успешном исходе опыта, так как встретил короля, который одарил меня очаровательной улыбкой. Что значит доверие!
Королева рассмеялась. Граф д’Артуа, который ничего не знал, засмеялся также, но по другой причине.
— Но как же я, право, невнимателен, — продолжал он, — я и не спросил бедную мадемуазель де Таверне, как провела время она.
Королева снова устремила глаза в зеркало, которое давало ей возможность видеть все, что происходило в комнате.
Леонар только что закончил свою работу, и королева, скинув пеньюар из индийской кисеи, облачилась в утреннее платье.
Дверь открылась.
— Вот, — сказала королева графу д’Артуа, — если вы желаете спросить что-нибудь у Андре, она здесь.
Действительно, в эту минуту вошла Андре, держа за руку красивого дворянина со смуглым лицом, умными черными глазами, полными выражения благородства и грусти, и в то же время настоящего солдата, сурового и сильного, всей своей наружностью напоминавшего один из прекрасных фамильных портретов кисти Куапеля или Гейнсборо.
На Филиппе де Таверне был темно-серый костюм с тонкой серебряной вышивкой; но этот серый цвет казался черным, а серебро казалось железом; белый галстук и белое, матового оттенка, жабо резко выделялось на его темном камзоле, а пудра прически оттеняла мужественность и энергию лица.
Филипп приблизился, вложив одну руку в руку сестры, а другой изящно держа шляпу.
— Ваше величество, — сказала с почтительным поклоном Андре, — вот мой брат.
Филипп медленно и торжественно склонился перед королевой.
Когда он поднял голову, королева все еще продолжала смотреть в зеркало. Правда, она видела Филиппа в зеркале так же хорошо, как если бы глядела ему прямо в лицо.
— Здравствуйте, господин де Таверне, — сказала она.
И обернулась.
Она была прекрасна той царственной лучезарной красотой, которая собирала около престола как сторонников монархии, так и поклонников королевы; как женщина она была одарена могуществом красоты и — да простят нам эту перестановку слов — вместе с тем красотой могущества.
Филипп, увидев ее улыбку, почувствовал на себе взгляд ее чистых, горделивых и в то же время кротких глаз, побледнел и проявил все признаки глубокого волнения.
— По-видимому, господин де Таверне, — продолжала королева, — вы первый свой визит наносите нам? Благодарю вас.
— Ваше величество изволили забыть, что благодарить должен я, — отвечал Филипп.
— Сколько лет, — сказала королева, — сколько времени прошло с тех пор, как мы виделись с вами… Самое лучшее время жизни, увы!
— Для меня — да, ваше величество, но не для вас, для которой все дни лучшие.
— Вам, значит, так понравилось в Америке, господин де Таверне, что вы там остались, когда все возвращались оттуда?
— Ваше величество, — сказал Филипп, — господину де Лафайету, покидавшему Новый Свет, нужен был офицер, которому он доверял бы и мог поручить командование некоторой частью союзных войск. Поэтому господин де Лафайет рекомендовал меня генералу Вашингтону, и тот изволил назначить меня на эту должность.
— Из этого Нового Света, о котором вы говорите, к нам, по-видимому, возвращаются герой за героем.
— Конечно, ваше величество говорит это не обо мне, — отвечал с улыбкой Филипп.
— Почему же не о вас? — спросила королева. — Взгляните, брат мой, — продолжала она, обернувшись к графу д’Артуа, — на прекрасную внешность и воинственную осанку господина де Таверне.
Филипп, увидев, что ему дают возможность представиться графу д’Артуа, с которым он не был знаком, сделал шаг по направлению к нему, испрашивая тем самым у принца позволения его приветствовать.
Граф сделал знак рукой, и Филипп склонился перед ним.
— Красивый офицер! — воскликнул молодой принц. — Благородный дворянин, я счастлив с вами познакомиться! Каковы ваши намерения теперь, по возвращении во Францию?
Филипп взглянул на свою сестру.
— Монсеньер, — сказал он, — интересы моей сестры для меня важнее моих собственных; я сделаю то, что она пожелает.
— Но ведь, кажется, еще есть господин де Таверне-отец? — спросил граф д’Артуа.
— Да, монсеньер, наш отец, к счастью, жив, — отвечал Филипп.
— Не в этом дело, — с живостью перебила королева. — Я предпочитаю видеть Андре на попечении ее брата, а ее брата — на вашем, граф. Итак, вы берете на себя устройство его судьбы, не правда ли?
Граф д’Артуа сделал утвердительный жест.
— Известно ли вам, — продолжала королева, — что нас с ним соединяют очень тесные узы?
— Тесные узы? Вас, сестра моя? О, расскажите мне об этом, прошу вас,
— Да, господин Филипп де Таверне был первым французом, которого я увидела, въехав во Францию, и я тогда дала себе твердое обещание устроить счастье первого француза, которого встречу.
Филипп почувствовал, что лицо его залилось краской. Он закусил губы, чтобы заставить себя казаться спокойным.
Андре взглянула на него и опустила голову.
Королева перехватила взгляд, которым обменялись брат с сестрой; но как могла она разгадать, сколько затаенной скорби было в этом взгляде!
Мария Антуанетта ничего не знала о событиях, изложенных нами в первой части этой истории.
Она приписала совершенно другой причине подмеченную ею грусть во взгляде Филиппа. Почему бы, если столько людей влюбилось в дофину в 1774 году, и господину де Таверне не помучиться немного этой всеобщей любовью французов к дочери Марии Терезии?
У королевы не было никакого основания считать это предположение неправдоподобным, решительно никакого, даже после тщательной оценки себя: в зеркале отразилась красота женщины и королевы, когда-то очаровательной девушки.
Таким образом, Мария Антуанетта приписала вздох Филиппа сердечной тайне, поведанной братом сестре. Она улыбнулась брату и обласкала сестру одним из своих самых приветливых взглядов; она догадалась не обо всем, но и не во всем ошиблась; так пусть же никто не усмотрит преступления в этом невинном кокетстве. Королева всегда оставалась женщиной и гордилась тем, что вызывала любовь. У некоторых людей есть врожденная потребность завоевывать симпатию всех окружающих, но от этого их душа не должна непременно отличаться меньшим благородством.
Увы, настанет время, бедная королева, когда эту улыбку, которую ставят тебе в упрек как дар любящим тебя людям, ты будешь тщетно обращать к людям, тебя разлюбившим!
Граф д’Артуа подошел к Филиппу, пока королева советовалась с Андре относительно отделки для охотничьего платья.
— Действительно ли, — спросил он, — господин Вашингтон такой великий генерал?
— Великий человек, монсеньер.
— А как показали там себя французы?
— Хорошо. А англичане, наоборот, плохо.
— Согласен. Вы сторонник новых идей, дорогой мой господин Филипп де Таверне; но поразмыслили ли вы об одной вещи?
— О какой, монсеньер? Я должен сознаться вам, что там, в лагерях, саваннах, на берегу Великих озер, я имел время подумать о многом.
— Да вот подумали ли вы, например, о том, что, воюя там, вы вели войну не с индейцами и не с англичанами.
— А с кем же?
— Сами с собой.
— Монсеньер, я не стану оспаривать ваших слов… Это весьма возможно.
— Вы признаете…
— Я признаю, что событие, благодаря которому была спасена монархия, может иметь печальные последствия.
— Да, но эти последствия могут стать смертельными для тех, кто пережил первый незначительный инцидент.
— Увы, монсеньер!
— Вот почему я нахожу, что победы господина Вашингтона и маркиза де Лафайета не принесли нам особенной пользы. Так считать — это эгоизм, я согласен… Но не сетуйте: это эгоизм не личный.
— О, монсеньер…
— А знаете ли, почему я стал бы вам помогать всеми силами?
— Монсеньер, какова бы ни была причина, я буду питать за это живейшую признательность вашему королевскому высочеству.
— Ведь вы, дорогой мой де Таверне, не принадлежите к тем, кому трубят славу на каждом перекрестке; вы храбро исполняли свою службу, но фанфары вас не привлекают. Вас не знают в Париже, вот за это я вас и люблю; в противном случае, клянусь честью, господин де Таверне… Я эгоист, видите ли!
После этих слов принц со смехом поцеловал руку королеве и поклонился Андре любезно и с большей почтительностью, чем обыкновенно кланялся женщинам. Затем открылась дверь и он исчез.
Тогда королева разом оборвала разговор с Андре и обернулась к Филиппу.
— Видели ли вы своего отца, сударь?
— Я его видел в приемной, когда шел сюда; моя сестра предупредила его.
— Но почему же вы не отправились прежде повидаться с отцом?
— Я послал к нему своего камердинера, ваше величество, и свой небольшой багаж, но господин де Таверне прислал ко мне обратно этого человека с приказанием представиться сначала королю или вашему величеству.
— И вы повиновались?
— С восторгом, ваше величество, и таким образом мне удалось обнять сестру.
— Сегодня чудная погода! — воскликнула королева в радостном возбуждении. — Госпожа де Мизери, завтра лед растает, мне сейчас же нужны мои сани.
Первая дама покоев собралась уйти, чтобы выполнить приказание.
— Пусть мне подадут шоколад сюда, — прибавила королева.
— Ваше величество, вы не будете завтракать? — спросила г-жа де Мизери. — Ведь и так уже вы не ужинали вчера.
— Вот и ошибаетесь, добрая моя Мизери, мы ужинали. Спросите мадемуазель де Таверне.
— И очень хорошо, — отвечала Андре.
— Но это не помешает мне выпить шоколад, — прибавила королева. — Скорее, скорее, милая Мизери, это чудное солнце соблазняет меня; сегодня будет много народа на пруду Швейцарцев.
— Ваше величество, вы собираетесь кататься на коньках? — спросил Филипп.
— О, вы станете смеяться над нами, господин американец! — воскликнула королева. — Ведь вы преодолели Великие озера, в которых больше льё, чем в нашем пруду шагов.
— Ваше величество, — отвечал Филипп, — здесь вы тешитесь холодом и пройденным расстоянием, а там от этого умирают.
— Вот мой шоколад. Андре, вы выпьете чашечку?
Андре, вспыхнув от радости, поклонилась.
— Вы видите, господин де Таверне, что я все та же: этикет внушает мне такой же страх, как и раньше… Помните, господин Филипп? А сами вы изменились?
Эти слова проникли в самое сердце молодого человека: часто сожаление, высказываемое женщиной, — удар кинжалом для тех, кому она небезразлична.
— Нет, ваше величество, — ответил он отрывисто, — нет, я не изменился, сердцем по крайней мере.
— В таком случае, если вы сохранили то же сердце, — сказала с оживлением королева, — а оно было славное, мы поблагодарим вас за это по-своему… Чашку для господина де Таверне, госпожа де Мизери.
— О ваше величество, — сказал Филипп в полном смущении, — вы слишком снисходительны. Такая честь бедному, неизвестному солдату…
— Старому другу, — воскликнула королева, — вот и все! Сегодняшний день заставляет меня как бы снова переживать все очарование молодости; сегодняшний день застает меня счастливой, свободной, гордой, безумной! Он напоминает мне мои первые прогулки в моем любимом Трианоне и наши экскурсии с Андре; напоминает мои розы, клубнику, мои вербены, птиц, которых я старалась различать, гуляя по саду, — все и всех, включая моих милых садовников, довольные лица которых всегда означали для меня сюрприз или в виде нового распустившегося цветка, или ароматного созревшего плода; напоминает мне господина де Жюсьё и этого оригинала Руссо, уже умершего… Сегодняшний день… Я вам говорю, что он… меня делает безумной! Но что с вами, Андре? Вы покраснели! А с вами что, господин Филипп? Вы побледнели!
Действительно, лица брата и сестры выдали их волнение при этих мучительных для них воспоминаниях.
Но оба при первых же словах королевы призвали на помощь все свое мужество.
— Я обожгла себе нёбо, — сказала Андре, — извините меня, ваше величество.
— А я, ваше величество, — сказал Филипп, все еще не могу свыкнуться с мыслью, что вы оказываете мне честь, достойную знатного вельможи.
— Ну-ну, — перебила его Мария Антуанетта, наливая сама шоколад в чашку Филиппа, — вы же солдат и, следовательно, привыкли к огню; обжигайтесь же храбро моим шоколадом, так как мне некогда ждать.
И она рассмеялась. Но Филипп принял ее слова всерьез, как то сделал бы на его месте деревенский житель; однако то, что тот проделал бы от смущения, Филипп проделал из героизма.
Королева не спускала с него глаз, продолжая смеяться.
— У вас прекрасный характер, — сказала она, вставая.
Ее прислужницы тут же подали ей прелестную шляпу, горностаевое манто и перчатки.
Андре оделась так же быстро.
— Господин де Таверне, я хочу, чтобы вы не покидали меня, — сказала королева, — и сегодня собираюсь самым учтивым образом похитить одного американца. Идите по правую сторону от меня, господин де Таверне.
Таверне повиновался. Андре пошла по левую руку королевы.
Когда Мария Антуанетта спустилась по главной лестнице, барабаны пробили поход, а звук рожка дворцового караула и стук ружей, взятых гвардейцами к ноге, огласили своды дворцового вестибюля. Эта королевская пышность, общее почтение и обожание, которое сопровождало королеву и свидетелем которого был Таверне, вызвало у молодого человека головокружение и окончательно спутало его мысли.
На лбу его выступили капли холодного пота; он зашатался.
Если бы холодный ветер не подул ему в лицо, он несомненно лишился бы чувств.
Для молодого человека после стольких томительных и горестных дней, проведенных в изгнании, это внезапное возвращение к великим радостям гордости и любви было слишком резким переходом.
В то время как при появлении королевы, сиявшей красотой, склонялись все головы и гремело, приветствуя ее, оружие, лишь один низенький старичок казался так сильно озабоченным, что забыл о правилах этикета. Он остался стоять, вытянув голову и устремив пристальный взгляд на королеву и Филиппа, вместо того чтобы опустить голову и потупить глаза.
Как только королева удалилась, старик нарушил стройные ряды придворных и вместе с остальными пустился бежать за ней со всей скоростью, на которую только были способны его маленькие, затянутые в белые лосины ножки семидесятилетнего человека.
IX
НА ПРУДУ ШВЕЙЦАРЦЕВ
Всем известен продолговатый четырехугольный водоем, который летом кажется сине-зеленым и переливчатым, а зимой представляет ровную и белую ледяную поверхность; он и доныне носит название пруда Швейцарцев.
Аллея, усаженная липами, которые радостно протягивают к солнцу свои начинающие краснеть ветви, окаймляет оба берега пруда; по ней гуляет множество людей всех сословий и возрастов, пришедших полюбоваться катанием на санях и на конькобежцев.
Туалеты дам представляют смесь несколько стесняющей пышности прежнего двора и капризной свободы новой моды. Высокие прически, косынки, наброшенные на юные головки, шляпы, по большей части из материи, меховые накидки и широкие оборки шелковых платьев пестрят среди красных мужских костюмов, небесно-голубых рединготов, желтых ливрей и длинных белых сюртуков.
Лакеи в голубом и красном мелькают в толпе, точно васильки и полевые маки, колыхаемые ветром между колосьями или цветущим клевером.
Подчас из толпы раздается возглас восхищения. Это означает, что смелый конькобежец Сен-Жорж описал такой ровный круг, что даже математик, измерив его циркулем, не нашел бы в нем существенной неточности.
На берегах так много зрителей, что они согреваются от взаимного прикосновения; издали их толпа производит впечатление пестрого ковра, над которым висит облако пара от замерзшего дыхания. Сам пруд, который кажется ледяным зеркалом, представляет необыкновенно разнообразную и оживленную картину.
Вот три громадные собаки, запряженные по образцу русской тройки, мчат по льду сани.
Эти собаки, в попонах с гербами и с султанами из перьев на голове, напоминают фантастических животных бесовщины Калло или чародейства Гойи.
Их хозяин, г-н де Лозен, небрежно сидя в санях и утопая в тигровых шкурах, нагибается в сторону, чтобы свободно вдохнуть воздуха, а это довольно затруднительно, когда несешься по ветру.
Вот несколько скромного вида саней ищут уединения. Дама в маске, надетой явно из-за холода, садится в одни из таких саней, между тем как красивый конькобежец в бархатном плаще с золотыми петлицами наклоняется всем корпусом к спинке саней, чтобы ускорить их движение.
Замаскированная дама и конькобежец в бархатном плаще обмениваются словами из уст в уста, и никто не может найти ничего предосудительного в свидании, назначенном под открытым небом, на глазах всего Версаля.
Что за дело другим, о чем они говорят, раз их все видят! И что за дело им, что их видят, раз их не могут слышать! Они, очевидно, живут среди всего света своей обособленной жизнью и проносятся в толпе, как две перелетные птицы. Куда они стремятся? В тот неведомый мир, которого ищут все души и который называется счастьем.
Внезапно среди этих сильфов, что скорее скользят, чем едут, происходит большое движение и поднимается сильный шум.
Это на берегу пруда Швейцарцев появилась королева; ее узнали, и все намереваются уступить ей место, но она делает знак рукой, чтобы все оставались на своих местах.
Раздаются возгласы: «Да здравствует королева!» Затем, пользуясь разрешением, конькобежцы и сани, точно приведенные в движение силой электричества, образуют огромный круг около того места, где остановилась августейшая посетительница.
На нее обращено всеобщее внимание.
Мужчины с помощью хитроумных маневров приближаются к ней, женщины почтительно оправляют свои наряды; все так или иначе находят возможность почти смешаться с группами дворян и высших офицеров, которые подходят приветствовать королеву.
Из числа именитых особ, замеченных толпой, один человек заслуживает особенного внимания, так как, вместо того чтобы последовать за общим течением и приблизиться к королеве, он, наоборот, узнав ее по туалету и окружению, выходит из саней и бросается в боковую аллею, где и исчезает со своей свитой.
Граф д’Артуа, один из самых элегантных и ловких конькобежцев, был в числе первых, приветствовавших королеву, и, быстро пробежав расстояние, отделявшее его от невестки, поцеловал у нее руку.
— Посмотрите, — сказал он ей шепотом, — как вас избегает наш брат, граф Прованский.
И с этими словами он показал на его королевское высочество, который шел большими шагами между занесенными инеем деревьями, чтобы отправиться в обход на розыски своей кареты.
— Он не хочет, чтобы я упрекала его, — заметила королева.
— О, что касается упреков, которых он ждет, — это уж мое дело, и он боится вас не по этой причине.
— Значит, тому виной его совесть, — весело заметила королева.
— Нет, еще что-то другое, сестра моя.
— А что же именно?
— Я вам сейчас скажу. Он только что узнал, что господин де Сюфрен, овеянный славой победитель, должен приехать сегодня вечером, и так как это известие очень важно, то он хочет, чтобы оно осталось вам неизвестным.
Королева заметила около себя несколько любопытных, уши которых, хотя ее присутствие требовало почтения, находились так близко, что могли расслышать слова ее деверя.
— Господин де Таверне, — сказала она, — будьте так добры позаботиться о моих санях, и если ваш отец здесь, то обнимите его: я вам даю свободу на четверть часа.
Молодой человек поклонился и прошел сквозь толпу, чтобы исполнить приказание королевы.
Толпа также поняла намек: она иногда бывает одарена удивительным чутьем. Круг расширился, и королева с графом д’Артуа получили большую свободу для беседы.
— Брат мой, — сказала тогда королева, — объясните мне, прошу вас, что за выгода моему брату не сообщать мне о приезде господина де Сюфрена?
— О сестра, возможно ли, чтобы вы, женщина, королева и его враг, не поняли сразу намерение этого хитрого политикана! Господин де Сюфрен приезжает, но никто при дворе про это не знает. Господин де Сюфрен — герой индийских морей, имеет право на великолепный прием в Версале. Итак, господин де Сюфрен приезжает; король ничего об этом не знает и невольно, ничего не предпринимая, выказывает ему пренебрежение, и вы также, сестра моя. А тем временем граф Прованский, который знает о его приезде, принимает моряка, улыбается ему, ласкает его, пишет в честь прибывшего четверостишие и благодаря тому, что так усердно общается с героем Индии, сам становится героем Франции.
— Это ясно, — сказала королева.
— Черт возьми! — сказал граф.
— Вы забываете сказать только об одном, мой милый газетчик.
— О чем?
— Каким образом вы узнали об этом удивительном проекте нашего милого брата?
— Таким же образом, как я узнаю о нем все. Это очень просто: поскольку граф Прованский считает своим долгом знать все, что я делаю, я плачу людям, и они мне сообщают все, что он делает. О, это мне может пригодиться, да и вам также, сестра моя.
— Благодарю за союз, брат мой. Но король?
— Ну! Король предупрежден.
— Вами?
— О нет, морским министром, которого я к нему послал. Все это, вы понимаете, не касается меня: я слишком легкомыслен, слишком большой кутила и пустой человек, чтобы заниматься такими важными вещами.
— А морской министр также ничего не знал о прибытии во Францию господина де Сюфрена?
— Э, Бог мой! Дорогая сестра, кажется, за те четырнадцать лет, как вы находитесь во Франции в качестве супруги дофина и королевы, вы перевидали достаточно министров, чтобы удостовериться: эти господа никогда не знают самого важного. Ну вот, я и предупредил нашего министра, и он в восторге.
— Еще бы!
— Вы понимаете, милая сестра, что этот человек будет мне признателен всю жизнь, а мне как раз нужна его признательность.
— Зачем?
— Чтобы он дал мне взаймы.
— О! — воскликнула со смехом королева, — вот вы и обесцениваете в моих глазах ваш прекрасный поступок.
— Сестра моя, — сказал с серьезным видом граф д’Артуа, — вам, вероятно, нужны деньги… Клянусь честью сына Франции, я предоставлю в ваше распоряжение половину суммы, которую получу.
— О брат мой, — воскликнула Мария Антуанетта, — оставьте ее у себя!.. Благодарю Бога, мне теперь ничего не надо.
— Черт возьми! Но все же не откладывайте слишком надолго получение этой суммы.
— Почему?
— Потому что если вы будете слишком медлить, то я могу оказаться не в состоянии сдержать своего обещания.
— Ну, в таком случае я постараюсь сама открыть какую-нибудь тайну государственной важности.
— Сестра моя, вы начинаете мерзнуть, — сказал принц, — ваши щеки побелели, предупреждаю вас.
— Вот возвращается с моими санями господин де Таверне.
— Тогда я вам больше не нужен, сестра моя?
— Нет.
— В таком случае прогоните меня, прошу вас.
— Зачем? Уж не думаете ли вы случайно, что мешаете мне в чем-нибудь?
— Нет, но мне-то нужно быть свободным.
— В таком случае прощайте.
— До свидания, милая сестра.
— Когда?
— Сегодня вечером.
— А что у нас сегодня вечером?
— Не предполагалось ничего, но кое-что будет.
— Вот как! А что именно?
— Будет очень много народа на игре у короля.
— По какому случаю?
— Потому что министр приведет сегодня вечером господина де Сюфрена.
— Прекрасно. Значит, до вечера.
При этих словах молодой принц поклонился сестре с той обворожительной изысканностью манер, что была ему свойственна, и исчез в толпе.
Таверне-отец следил взглядом за своим сыном, когда тот отошел от королевы, чтобы позаботиться о ее санях.
Но вскоре его зоркий взгляд снова обратился к королеве. Эта оживленная беседа Марии Антуанетты с ее деверем несколько тревожила его, так как она положила конец дружеской близости, которая только что установилась между королевой и его сыном.
Поэтому он ограничился тем, что сделал Филиппу дружеский жест, когда тот, убедившись, что сани королевы готовы, хотел, согласно ее указанию, обнять своего отца, которого не видел десять лет.
— Потом, потом, — сказал ему отец, отстраняя его рукой. — Возвращайся, исполнив свои обязанности, и тогда мы поговорим.
Филипп отошел от него, и барон с радостью увидел, что граф д’Артуа простился с королевой.
Она села в сани и посадила с собой Андре.
— Нет, нет, — сказала королева, видя, что два рослых гайдука приблизились, чтобы подталкивать сани сзади, — я не хочу кататься таким образом. Бегаете вы на коньках, господин де Таверне?
— Как же, ваше величество, — отвечал Филипп.
— Дайте коньки господину шевалье, — приказала королева. — Я не знаю почему, но мне кажется, что вы катаетесь не хуже Сен-Жоржа, — продолжала она, оборачиваясь к Филиппу.
— Он в свое время хорошо бегал на коньках, — заметила Андре.
— А теперь вы не имеете себе соперников, не правда ли, господин де Таверне?
— Ваше величество, — сказал Филипп, — раз вы питаете ко мне такое доверие, я постараюсь сделать все, что смогу.
С этими словами Филипп надел на ноги отточенные, острые как бритва коньки. Затем он стал за санями, толкнул их одной рукой, и они помчались.
Тогда зрителям предстала любопытная сцена.
Сен-Жорж, король гимнастов, Сен-Жорж, элегантный мулат, который был в большой моде и отличался во всех физических упражнениях, угадал соперника в этом молодом человеке, дерзнувшем выступить на их общем поприще.
Поэтому он тотчас же принялся летать вокруг саней королевы с такими почтительными и грациозными поклонами, равных которым по изяществу никогда еще не отвешивал ни один придворный на паркете версальского дворца. Он описывал вокруг саней быстрые и правильные круги, обводя сани целой сетью выходящих одно из другого колец. Он начинал круг прежде, чем сани настигали его, а заканчивал уже позади них, затем сильным ударом коньков о лед он круговым движением наверстывал потерянное им расстояние.
Невозможно было следить за его быстрыми движениями, не испытывая головокружения, восхищения и изумления.
Тогда Филипп, задетый за живое, решился на смелый шаг: он разогнал сани с такой быстротой, что два раза Сен-Жорж оказывался не впереди, а позади них. Так как быстрота, с которой неслись сани, заставляла многих вскрикивать от испуга, что могло, в свою очередь, напугать королеву, то Филипп обратился к ней:
— Если вашему величеству угодно, я остановлюсь или, по крайней мере, замедлю движение.
— О нет, нет! — воскликнула королева с тем пылом, который она вкладывала и в дела и в развлечения. — Нет, я не боюсь… Скорее, если можете, шевалье, скорее!
— О, тем лучше! Благодарю вас за разрешение, ваше величество. Я вас крепко держу, положитесь на меня.
И он мощным движением толкнул спинку саней, так что они дрогнули. Казалось, своей вытянутой рукой он едва не приподнял их в воздух.
Затем, положив на спинку и вторую руку — что он до сих пор не считал нужным, — он помчал сани, казавшиеся игрушкой в его стальных руках.
С этой минуты он постоянно двигался наперерез кругам Сен-Жоржа, описывая круги еще большие. Сани, управляемые им, двигались точно самый проворный человек, легко поворачиваясь во все стороны, будто они были поставлены на такие же коньки, на которых Сен-Жорж бегал по льду. Несмотря на свою тяжесть и объем, длинные сани королевы стали коньками: они жили, летали и кружились вихрем, как танцор.
Сен-Жорж, более грациозный и изящный в своих прыжках, вскоре начал тревожиться. Он уже катался без отдыха в продолжение целого часа, и Филипп, заметив, что соперник весь в испарине, а его ноги начали дрожать, решил победить, утомив его.
Он переменил тактику, перестал описывать круги, при которых ему каждый раз приходилось приподнимать сани, а толкнул их по прямой линии.
Они понеслись быстрей стрелы.

Сен-Жорж, резко оттолкнувшись, настиг их, но Филипп, улучив минуту, когда второй толчок усиливает действие первого, толкнул сани в ту часть пруда, где лед оставался совершенно нетронутым, однако сам остался позади.
Сен-Жорж бросился за санями, чтобы догнать их, но Филипп, собрав все свои силы и став на острие коньков, проскользнул мимо него и схватился обеими руками за спинку саней. Затем мощным движением заставил сани сделать полный оборот и пустил их в противоположную сторону, между тем как Сен-Жорж из-за предпринятых им чрезвычайных усилий не смог с разбега остановиться и, пропустив удобную минуту, отстал на значительное расстояние.
Воздух огласился такими громкими возгласами восхищения, что от смущения Филипп покраснел.
Но он смутился еще более, когда королева, только что сама рукоплескавшая ему, обернулась к нему и сказала, задыхаясь от сильного волнения:
— О господин де Таверне, теперь, когда победа за вами, пощадите! Вы убьете меня.
X
ИСКУСИТЕЛЬ
При этом приказании королевы, или, вернее, при этой просьбе, Филипп напряг свои стальные мускулы, уперся о лед ногами, и сани разом остановились, как арабский скакун в песках пустыни, послушный руке своего всадника.
— Ну, теперь отдохните, — сказала королева, бодро выскакивая из саней. — Право, я никогда не могла себе представить, чтобы скорая езда имела такое опьяняющее действие: вы меня чуть не свели с ума.
И почувствовав головокружение, она оперлась на руку Филиппа.
Шепот удивления, пронесшийся в окружавшей их раззолоченной и украшенной галунами толпе, показал ей, что она снова нарушила этикет, то есть сделала огромный промах в глазах завистников и рабов.
Что касается Филиппа, то у него закружилась голова от такой неслыханной чести, и он стоял трепещущий, более сконфуженный, чем если б королева публично нанесла ему обиду.
Он опустил глаза, и его сердце билось так сильно, что, казалось, готово было выскочить из груди.
Странное волнение, вероятно вызванное этим катанием, охватило и королеву; она тотчас же отняла свою руку и оперлась на руку мадемуазель де Таверне, попросив подать ей стул.
Ей принесли складной стул.
— Простите, господин де Таверне, — сказала она Филиппу и с живостью добавила: — Боже мой, какое великое несчастье быть вечно окруженной любопытными… И глупцами! — закончила она тихим голосом.
Приближенные окружали теперь королеву и пожирали глазами Филиппа, который, чтобы скрыть свое смущение, стал снимать коньки.
Покончив с этим, он отступил назад, уступая место придворным.
Королева просидела несколько минут в задумчивости и затем подняла голову.
— Я чувствую, что простужусь, если буду сидеть неподвижно на одном месте, — сказала она. — Еще круг.
И села в сани. Филипп тщетно ждал приказания.
Двадцать придворных предложили свои услуги.
— Нет, моих гайдуков, — сказала королева. — Благодарю вас, господа. Тише, — добавила она, когда лакеи стали на свои места, — совсем тихо.
И, закрыв глаза, она отдалась тайным мечтам.
Сани отъехали тихо, как приказала королева, сопровождаемые толпой алчущих, любопытных и завистливых.
Филипп остался один, отирая со лба капли пота.
Он искал глазами Сен-Жоржа, чтобы утешить его в понесенном поражении какой-нибудь сердечной похвалой.
Но тот получил записку от герцога Орлеанского, своего покровителя, и покинул поле сражения.
Филипп, несколько опечаленный, слегка утомленный и почти испуганный случившимся, остался неподвижным на своем месте, следя глазами за удаляющимися санями королевы. В это время он почувствовал, что кто-то его тихонько толкнул в бок.
Он оглянулся и увидел своего отца.
Маленький старичок, сморщенный, точно человечек Гофмана, и весь закутанный в меха, точно самоед, тронул сына локтем, чтобы не вынимать рук из муфты, висевшей у него на шее.
Казалось, что глаза его, с расширенными от холода или от радости зрачками, мечут искры.
— Ты не обнимешь меня, сын мой? — сказал он таким тоном, который был бы уместен в устах греческого отца, желающего поблагодарить сына-атлета за победу, одержанную им в цирке.
— От всего сердца, дорогой отец, — отвечал Филипп.
Но нетрудно было понять, что тон, которым были сказаны эти слова, никак не соответствовал их содержанию.
— Так-так. А теперь, обняв меня, иди, иди скорее.
И он подтолкнул его вперед.
— Куда вы посылаете меня, сударь? — спросил Филипп.
— Да туда, черт возьми!
— Туда?
— Да, к королеве.
— О нет, благодарю, отец.
— Как нет? Как благодарю? Да ты с ума сошел! Ты не хочешь снова идти к королеве?
— Нет, это невозможно. Вы не думаете о том, что говорите, дорогой отец.
— Как невозможно? Невозможно пойти к королеве, которая тебя ждет?
— Ждет, меня?!
— Ну да, да, к королеве, которая желает тебя…
— Желает меня?
Филипп пристально взглянул на барона.
— Право, отец, — холодно сказал он, — мне кажется, что вы забываетесь.
— Нет, он просто удивителен, честное слово! — воскликнул старик, выпрямляясь и топая ногой. — Филипп, доставь мне удовольствие, объяснив, откуда ты только явился.
— Отец, — печальным голосом сказал шевалье, — мне страшно поверить…
— Чему?
— Тому, что или вы смеетесь надо мной, или…
— Или?..
— Простите, отец… или вы сходите с ума.
Старик схватил своего сына за руку таким нервным и энергичным движением, что молодой человек поморщился от боли.
— Слушайте, господин Филипп, — сказал старик. — Америка очень далека от Парижа, мне это известно.
— Да, отец, очень далека, — повторил Филипп. — Но я совершенно не понимаю, что вы хотите сказать. Объясните же, прошу вас.
— Это страна, где нет ни короля, ни королевы.
— Ни подданных.
— Прекрасно! Ни подданных, господин философ. Я этого не отрицаю, да этот вопрос меня нисколько не интересует и для меня безразличен; но что мне не безразлично, что меня огорчает и унижает, — это боязнь также поверить одному…
— Чему, отец? Во всяком случае, я думаю, что мотивы наших опасений совершенно различны.
— Мое опасение заключается в том, сын мой, не глупец ли ты, что было бы непростительно для такого малого. Да посмотри же, посмотри!
— Смотрю, сударь.
— Королева обернулась, и уже в третий раз; да, сударь, королева оборачивалась три раза и, смотрите, оборачивается опять… И кого же она ищет? Господина глупца, господина пуританина, господина американца! О!!
И маленький старичок прикусил — не зубами, а лишь деснами — серую замшевую перчатку, в которой могли бы поместиться две такие руки, как его.
— Ну хорошо, сударь. Если это так, что, впрочем, сомнительно, то почему вы думаете, что она ищет меня?
— О! — повторил, весь дрожа, старик. — Он говорит: «Если это так»?! Нет, в этом человеке не моя кровь, он не Таверне:
— Действительно, во мне не ваша кровь, — пробормотал Филипп. — Должен ли я возблагодарить за это Бога? — прибавил он тихо, поднимая глаза к небу.
— Сударь, — сказал старик, — я вам говорю, что королева вас требует; сударь, я вам говорю, что королева вас ищет.
— У вас хорошее зрение, отец, — отвечал сухо Филипп.
— Ну же, — продолжал более ласково барон, стараясь сдержать свое нетерпение, — дай мне объяснить тебе. Конечно, ты прав со своей точки зрения, но на моей стороне опыт. Послушай, милый Филипп, мужчина ты или нет?
Филипп пожал слегка плечами и ничего не ответил.
В эту минуту отец, видя, что напрасно ждет ответа, решился, скорее из презрения, чем по необходимости, взглянуть прямо на сына и с огорчением заметил тогда, сколько достоинства, глубокой сдержанности и непобедимой воли было в выражении лица молодого человека, который облекся в такую броню для борьбы за добро.
Однако он не выказал своего неудовольствия, а провел мягкой муфтой по покрасневшему кончику носа и продолжал голосом таким же сладкозвучным, каким обращался Орфей к фессалийским скалам:
— Филипп, друг мой, выслушай меня!
— Э, — заметил молодой человек, — мне кажется, я только это и делаю уже четверть часа.
«Ну, — подумал старик, — погоди, я тебя заставлю сойти с высоты твоего величия, господин американец. У тебя, колосс, верно, также есть своя слабая сторона: дай мне только вцепиться в нее своими старыми когтями… и ты увидишь…»
— Ты не заметил одного обстоятельства? — спросил он громко.
— Какого именно?
— Делающего честь твоей наивности.
— Говорите, сударь.
— Все очень просто: ты возвращаешься из Америки, куда ты уехал в такое время, когда был только король, но не было королевы, кроме Дюбарри, мало заслуживавшей почтения. Ты возвращаешься, видишь королеву и говоришь себе: будем относиться к ней с почтением.
— Конечно.
— Бедное дитя! — сказал старик.
И он спрятал лицо в муфту, стараясь заглушить одновременно и приступ кашля и взрыв смеха.
— Как, — сказал Филипп, — вы жалеете меня за то, что я уважаю королевский сан? Вы, Таверне-Мезон-Руж, вы, носящий одну из славных дворянских фамилий Франции?
— Да я тебе говорю не про королевский сан, а про королеву.
— Вы считаете, что это не одно и то же?
— Черт побери! Что такое королевский сан? Корона. Этого никто и не касается! Кто такая королева? Женщина. О, женщина, это дело другое, к ней можно прикоснуться.
— Можно прикоснуться! — воскликнул Филипп, краснея одновременно от гнева и от презрения и сделав такой благородный жест рукой, что ни одна женщина, увидев это, не могла бы не полюбить его, ни одна королева не могла бы не восхититься им.
— Ты не веришь! Так спроси, — продолжал маленький старичок тихим, но каким-то злобным тоном, сопровождая свои слова циничной улыбкой, — об этом господина де Куаньи, господина де Лозена, господина де Водрёя.
— Замолчите, замолчите, отец! — воскликнул глухим голосом Филипп. — Или я, не имея возможности нанести вам за это тройное кощунство три удара шпаги, клянусь вам, немедленно и без всякой жалости нанесу их сам себе.
Таверне отступил на шаг, сделал пируэт, которые любил проделывать в свои тридцать лет Ришелье, и потряс муфтой.
— Ну и скотина, — сказал он, — и воистину глуп! Конь стал ослом, орел — гусем, петух — каплуном. До свидания, ты очень порадовал меня: я думал, что на старости лет могу считать себя Кассандром, а оказался Валером, Адонисом, Аполлоном. До свидания.
И он еще раз повернулся на каблуках.
Филипп нахмурился и остановил старика на середине поворота.
— Вы ведь шутили, не правда ли, отец? — сказал он. — Ведь не может же быть, чтобы столь благородный дворянин, как вы, мог содействовать распространению такой клеветы, измышленной врагами не только женщины, не только королевы, но и королевского сана.
— Он еще сомневается, дважды дурак! — воскликнул Таверне.
— Вы сказали бы все это и перед Богом?
— Да.
— Перед Богом, который в любой день может призвать вас?
Молодой человек снова начал разговор, прерванный им с таким презрением. Это был успех барона, и он снова подошел к сыну.
— Но, — заметил он, — мне кажется, что я отчасти дворянин, господин сын мой, и лгу… не всегда.
Это «не всегда» было довольно комично, но Филипп не рассмеялся.
— Итак, сударь, — сказал он, — вы полагаете, что у королевы были любовники?
— Вот новость!
— Те, которых вы назвали?
— И другие… откуда я знаю. Порасспроси в городе и при дворе. Нужно вернуться из Америки, чтобы не знать того, что говорят.
— А кто это говорит, сударь? Гнусные газетчики?
— О, не принимаешь ли ты и меня за газетного писаку?
— Нет, и в том-то беда, что люди, подобные вам, повторяют подлости, которые могли бы легко сами развеяться, как вредные испарения, иногда затмевающие прекрасное солнце. Вы и люди одного с вами происхождения, повторяя эти низости, поддерживаете их. О сударь, ради всего святого, не повторяйте более подобных вещей.
— А я их тем не менее повторяю.
— А зачем вы их повторяете?! — воскликнул молодой человек, топнув ногой.
— Э, — сказал старик, схватив сына за руку и глядя на него с улыбкой демона, — чтобы доказать тебе, что я не ошибаюсь, говоря тебе: «Филипп, королева оборачивается», «Филипп, королева ищет», «Филипп, королева желает», «Филипп, беги, беги, королева ждет!»
— О, — воскликнул молодой человек, закрывая лицо руками, — ради самого Неба, молчите, отец, или вы сведете меня с ума!
— Право, Филипп, я не понимаю тебя, — отвечал барон, — разве любовь — преступление? Любовь доказывает, что у человека есть сердце, а в глазах этой женщины, в ее голосе и походке разве не проглядывает ее сердце? Она любит, она любит, говорю я тебе; но ты философ, пуританин, квакер, американец, ты-то не любишь… Оставь же ее: пусть смотрит, оборачивается и ждет; оскорбляй, презирай, оттолкни ее, Филипп — то есть Иосиф — де Таверне…
И с этими словами, снабженными особенным ударением и едкой иронией, маленький старичок, видя произведенный им эффект, поспешно удалился, как искуситель, внушивший мысль о преступлении.
Филипп остался один; на сердце у него был камень; голова горела. Он даже не заметил, что стоит целых полчаса на одном месте, что королева окончила прогулку, что она возвращается назад, смотрит на него. Но вот, проезжая мимо со своей свитой, она бросает ему несколько слов:
— Вы, вероятно, отдохнули, господин де Таверне? Идите же: только вы один и можете катать королеву по-королевски. Посторонитесь, господа.
Филипп подбежал к ней, ослепленный, потерявший голову, опьяненный.
Положив руку на спинку саней, он вздрогнул, и его бросило в жар: королева небрежно откинулась назад, и его пальцы коснулись волос Марии Антуанетты.
XI
«СЮФРЕН»
Вопреки обычаям двора, секрет Людовика XVI и графа д’Артуа был сохранен.
Никто не узнал, в котором часу и как приедет г-н де Сюфрен.
На вечер король назначил игру.
В семь часов он вошел в сопровождении принцев и принцесс крови.
Королева вошла, держа за руку мадам королевскую принцессу, которой было только семь лет.
Собрание было блестящим и многолюдным. Пока все размещались по местам, граф д’Артуа незаметно подошел к королеве.
— Сестра, — сказал он ей, — посмотрите хорошенько вокруг себя.
— Смотрю, — отвечала она.
— Что вы видите?
Королева окинула взглядом собрание, внимательно пригляделась к группам, скользнула глазами по незанятым местам и повсюду увидела только друзей и верных слуг, среди которых были и Андре с братом.
— Я вижу очень милые и, главное, дружеские лица, — сказала она.
— Обращайте внимание не на тех, кто здесь, сестра моя, а на тех, кого нет.
— А, это правда! — воскликнула она.
Граф д’Артуа рассмеялся.
— Опять отсутствует, — продолжала королева. — Что это? Неужели я всегда буду обращать его в бегство?
— Нет, — отвечал граф д’Артуа, — но шутка продолжается. Месье отправился ждать бальи де Сюфрена у заставы.
— Но, в таком случае, я не понимаю вашего смеха, брат мой.
— Не понимаете, почему я смеюсь?
— Конечно. Раз месье отправился ожидать бальи у заставы, то он оказался хитрее нас, вот и все. Он увидит его первый и, следовательно, будет приветствовать его раньше всех.
— Однако, милая сестра, вы очень плохого мнения о нашей дипломатии, — отвечал со смехом молодой принц. — Месье отправился встречать бальи к заставе Фонтенбло, это правда; но с нашей стороны его поджидает одно лицо у почтовой станции в Вильжюифе.
— Правда?
— Так что, — продолжал граф д’Артуа, — месье будет выходить из себя в одиночестве, поджидая его у заставы, а господин де Сюфрен, по приказанию короля оставив Париж в стороне, приедет прямо в Версаль, где мы его ждем.
— Это чудесно придумано.
— Да, недурно, и я доволен собой. Играйте спокойно, сестра моя.
В это время в зале находилось не менее ста особ самого знатного происхождения: г-да де Конде, де Пентьевр, де Ла Тремуль, принцессы крови.
Только один король заметил, что граф д’Артуа смешит королеву, и, чтобы показать, что он участвует в заговоре с ними, многозначительно подмигнул им.
Известие о приезде г-на де Сюфрена, как мы уже говорили, не распространилось, но тем не менее все ожидали: что-то должно произойти.
Все чувствовали, что вскоре должен открыться какой-то секрет, хранимый в тайне, и воспоследует нечто новое. Все общество заинтересовалось ожидаемым событием; при дворе всякое малейшее происшествие становится значительным, раз повелитель нахмурил неодобрительно брови или улыбнулся.
Король, имевший обыкновение делать ставку в шесть ливров, чтобы умерять азарт принцев и придворных вельмож, не замечал на этот раз, что высыпает на стол все золото из своего кармана.
Королева совершенно вошла в роль и решила обмануть бдительность окружающих притворным увлечением игрой.
Филипп, допущенный в число ее партнеров и сидевший напротив сестры, отдавался всем своим существом отрадному, блаженному ощущению от оказанной ему неожиданной милости, согревшей его душу.
Но тем не менее слова отца не выходили у него из головы. Он говорил себе, что старик, видевший властвование трех или четырех фавориток, был, весьма возможно, хорошо знаком с историей эпохи и нравов.
Он спрашивал себя, не было ли в нем это пуританское благоговейное обожание еще одной из смешных странностей, привезенных им из дальних стран.
Не была ли королева, такая поэтичная, красивая и дружески простая с ним, просто опасной кокеткой, желавшей из любопытства сохранить в своей памяти еще одно увлечение, подобно тому, как энтомолог насаживает в свою коллекцию лишнее насекомое или бабочку, не заботясь о том, что должно выстрадать бедное создание, которому булавка пронзает сердце.
А между тем королева не была заурядной женщиной с обыкновенным характером. Ее взгляд всегда что-то означал, так как она, не взвесивши предварительно всю его силу, никогда не обращала его ни на кого.
«Куаньи, Водрёй, — терзался Филипп, — они любили королеву и были любимы ею?! О, зачем клевета так гнусна! Почему луч света не может проникнуть в глубокую бездну, именуемую женским сердцем, бездну, становящуюся еще более глубокой, когда это касается сердца королевы?!»
Повторяя про себя эти два имени, Филипп смотрел на господ де Куаньи и де Водрёя, сидевших на другом конце стола и по странной случайности рядом; оба они глядели не в ту сторону, где сидела королева, и казались беззаботными, чтобы не сказать забывчивыми.
Филипп говорил себе: не может быть, чтобы эти два человека любили и были так спокойны, чтобы они были любимы и были так беспамятны. О! Если бы королева любила его, он сошел бы с ума от счастья; если бы она потом забыла его, он в отчаянии покончил бы с собой.
И с Куаньи и Водрёя Филипп переносил свой взгляд на Марию Антуанетту.
Погруженный в свои думы, он вопрошал этот чистый лоб, этот надменный лоб, этот властный взгляд; восхищаясь красотой женщины, он пытался проникнуть в тайны королевы.
«О нет, клевета, клевета; все эти смутные слухи, начинавшие ходить среди людей, продолжали держаться исключительно из-за ненависти или придворных интриг».
Таковы были мысли Филиппа в ту минуту, когда часы в кордегардии пробили три четверти восьмого. В это же время послышался сильный шум.
В зале раздались чьи-то поспешные шаги. Прозвучал стук ружейных прикладов о паркет. Гул голосов, проникавший через полуоткрытую дверь, привлек внимание короля: он откинул назад голову, чтобы лучше вслушаться, и затем сделал знак королеве.
Та поняла и немедленно встала, объявив, что игра закончена.
Все, кто играл, собрав деньги, лежавшие перед ними, остановились в ожидании того, что она скажет дальше.
Королева прошла в большую приемную залу, где уже находился опередивший ее король.
Адъютант г-на де Кастри, морского министра, приблизился к королю и сказал ему несколько слов на ухо.
— Хорошо, — отвечал король, — ступайте. Все идет хорошо, — добавил он, обращаясь к королеве.
Все присутствующие переглянулись, так как эти слова давали большой простор догадкам.
В это время маршал де Кастри вошел в зал и громко произнес:
— Угодно ли его величеству принять господина бальи де Сюфрена, прибывшего из Тулона?
Едва он произнес это имя громким, веселым, победоносным тоном, как зал зашумел.
— Да, сударь, — отвечал король, — и с большим удовольствием.
Господин де Кастри вышел. Все присутствующие чуть ли не толпой двинулись по направлению к той двери, за которой он исчез.
Чтобы объяснить те симпатии, которые Франция питала к г-ну де Сюфрену, понять, почему король, королева и принцы крови отнеслись к нему с таким интересом и стремились первыми встретить его, достаточно всего нескольких слов.
Имя Сюфрена так же неотделимо от Франции, как имена Тюренна, Катина́ и Жана Барта.
В войне с Англией, или, вернее, в последний период ее, предшествовавший заключению мира, командующий Сюфрен дал семь больших морских битв, не потерпев ни одного поражения. Он взял Тринкомали и Гонделур, упрочив за французами их владения, очистил море от врагов и убедил наваба Хайдар-Али, что Франция — могущественнейшее государство в Европе. Он умело сочетал свою профессию с дипломатией искусного и честного посредника, отвагу и тактическое искусство солдата с мудростью разумного администратора. Смелый, неутомимый, гордый, когда дело касалось чести французского флота, он до такой степени изматывал англичан своими действиями на суше и на море, что эти надменные мореплаватели ни разу не отважились довести начатую битву до победы или рискнуть напасть на Сюфрена, когда лев оскаливал зубы.
По окончании же военных действий (а в них он рисковал своей жизнью, как простой матрос) он становился человеколюбивым, великодушным и отзывчивым; он был образцом настоящего моряка, о котором Франция уже несколько забыла со времени Жана Барта и Дюге-Труэна, но снова обрела в бальи де Сюфрене.
Мы не будем даже пытаться описать тот шум и восторг, который вызвало среди приглашенных на вечер придворных его появление в Версале.
Сюфрен был человек пятидесяти шести лет, толстый, низенький, с огненным взором и благородными, непринужденными манерами. Проворный, несмотря на свою тучность, величественный, несмотря на свою подвижность, он гордо нес свою голову. Его волосы, или, вернее, грива, были тщательно причесаны; как человек, привыкший легко преодолевать всякие неудобства, он нашел возможность переодеться и причесаться в почтовой карете.
На нем был синий вышитый золотом мундир, красный камзол и синие короткие панталоны. Шею его охватывал воротник военного покроя, на который ложился его могучий круглый подбородок, составляя как бы необходимое дополнение к его огромной голове.
Когда он вошел в зал Гвардейцев, об этом кто-то шепнул г-ну де Кастри, который в нетерпении прогуливался взад и вперед, и тот немедленно воскликнул:
— Господин де Сюфрен, господа!
Тогда гвардейцы, схватив свои мушкетоны, выстроились в ряд по собственному почину, как будто дело шло о французском короле, и когда бальи прошел, они, соблюдая строгий порядок, перестроились по четыре в ряд, как бы образуя его эскорт.
Сюфрен, пожимая руки г-ну де Кастри, хотел обнять его. Но морской министр тихонько оттолкнул бальи.
— Нет, нет, сударь, — сказал он, — я не хочу лишать удовольствия обнять вас первым кого-то, кто более меня достоин этого.
И, продолжая подталкивать его, он подвел Сюфрена к Людовику XVI.
— Господин бальи! — воскликнул король, сияя от удовольствия. — Добро пожаловать в Версаль, — продолжал он. — Вы приносите в него славу, вы приносите в него все, что герои дарят своим современникам; я не говорю вам о будущем — оно ваша собственность. Обнимите меня, господин бальи.
Господин де Сюфрен преклонил колено; король поднял его и так сердечно обнял, что долгий крик радости и триумфа пронесся в собрании.
Если бы не почтение к королю, все присутствующие в один голос крикнули бы в знак одобрения «браво!»
Король обернулся к королеве.
— Мадам, — сказал он, — вот господин де Сюфрен, победитель при Тринкомали и Гонделуре, гроза наших соседей-англичан, мой Жан Барт!
— Сударь, — отвечала королева, обращаясь к Сюфрену, — я не стану восхвалять вас. Но знайте, вы не сделали ни одного пушечного выстрела во славу Франции, чтобы мое сердце не забилось от восхищения и признательности к вам.
Королева только что успела окончить свои слова, когда граф д’Артуа сказал, подведя к Сюфрену своего сына, герцога Ангулемского:
— Сын мой, вы видите перед собой героя. Смотрите на него хорошенько: героев можно видеть не часто.
— Монсеньер, — отвечал своему отцу маленький принц, — я только что читал про великих людей у Плутарха, но не видел их. Благодарю вас за то, что вы мне показали господина де Сюфрена.
По поднявшемуся вокруг него гулу ребенок мог понять, что он сказал слова, которые не забудутся.
Тогда король взял под руку г-на де Сюфрена, собираясь увести его в свой кабинет, чтобы побеседовать о его путешествиях и экспедиции.
Но г-н де Сюфрен оказал ему почтительное сопротивление.
— Ваше величество, — сказал он, — позвольте мне, раз вы так добры ко мне…
— О! — воскликнул король. — О чем вы просите, господин де Сюфрен?
— Ваше величество, один из моих офицеров совершил такое серьезное нарушение дисциплины, что, на мой взгляд, только вы один можете быть в этом деле судьей.
— О господин де Сюфрен, — сказал король, — я надеялся, что вашей просьбой будет ходатайство о какой-нибудь милости, а не о наказании.
— Ваше величество, как я уже имел честь сказать, вы сами будете судьей и примете решение, как следует поступить.
— Я слушаю.
— В последнем бою офицер, о котором я говорил вашему величеству, находился на корабле «Суровый».
— О, на том судне, которое спустило флаг? — спросил король, нахмурив брови.
— Государь, капитан «Сурового» действительно спустил флаг, — продолжал с поклоном Сюфрен, — и сэр Хьюз, английский адмирал, уже послал шлюпку, чтобы завладеть своим призом. Однако лейтенант этого корабля, назначенный командовать орудиями на нижнем деке, заметил, что огонь стихает, и, получив приказ прекратить пальбу, поднялся на палубу. Тогда он заметил, что флаг спущен и что капитан готов сдаться. Прошу ваше величество простить его, но при виде этого в нем вскипела французская кровь. Он схватил флаг, до которого мог достать рукой, вооружился молотком и, приказав снова открыть огонь, побежал прибить флаг над орудиями. Благодаря этому поступку «Суровый» по-прежнему принадлежит вашему величеству.
— Прекрасное деяние, — сказал король.
— Храбрый поступок! — сказала королева.
— Да, ваши величества, но вместе с тем это серьезное нарушение дисциплины. Приказ был отдан капитаном: лейтенант должен был повиноваться. Я прошу, ваше величество, помиловать этого офицера, и прошу с тем большей настойчивостью, потому что он мой племянник.
— Ваш племянник! — воскликнул король. — Но вы мне ничего об этом не говорили!
— Я не говорил королю; но я имел честь представить мой рапорт господину морскому министру и просил не докладывать об этом королю, пока я не получу помилования виновному.
— Я согласен, согласен, — воскликнул король, — и обещаю заранее мое покровительство всякому нарушителю дисциплины, который сумеет отомстить таким образом за честь нашего флага и французского короля! Вы должны представить мне этого офицера, господин бальи.
— Он здесь, — отвечал г-н де Сюфрен, — и так как вы, ваше величество, разрешаете…
Господин де Сюфрен обернулся.
— Приблизьтесь, господин де Шарни, — сказал он.
Королева вздрогнула. Это имя вызвало в ней воспоминание слишком недавнее, чтобы оно могло изгладиться.
Из образовавшейся вокруг г-на де Сюфрена группы выступил молодой офицер и предстал перед глазами короля.
Королева сделала было движение в его сторону, точно желая пойти навстречу молодому человеку, чтобы выразить восхищение, вызванное рассказом о его прекрасном поступке.
Но, услышав его имя и увидев моряка, которого представлял королю г-н де Сюфрен, она остановилась, побледнела и что-то прошептала.
Мадемуазель де Таверне также побледнела и взглянула с беспокойством на королеву.
Что касается г-на де Шарни, то, ничего не видя, ни на кого не глядя, не выказывая на своем лице никакого другого волнения, кроме вызванного почтением к королю, он склонился перед его величеством, который протянул ему для поцелуя руку. Затем скромно и с легкой дрожью в теле он под огнем жадных взглядов собравшихся снова смешался с рядами офицеров, шумно поздравлявших и обнимавших его.

Некоторое время в зале царило взволнованное молчание. Король сиял от удовольствия, королева улыбалась и, казалось, была в нерешительности, г-н де Шарни стоял, опустив глаза, а Филипп, от которого не ускользнуло волнение королевы, наблюдал, встревоженный и недоумевающий.
— Ну, — сказал наконец король, — пойдемте же, господин де Сюфрен, побеседуем; я умираю от нетерпения услышать ваши рассказы и доказать вам, как много я думал о вас.
— Ваше величество, столько милости…
— Вы увидите мои карты, господин бальи; вы увидите, что я в своих заботах о вас предусмотрел или угадал все этапы вашей экспедиции. Идемте, идемте.
Сделав несколько шагов и увлекая за собой г-на де Сюфрена, король вдруг обернулся к королеве.
— Кстати, мадам, — сказал он, — как вам известно, я приказал построить стопушечный корабль. Я решил изменить имя, которым хотел бы назвать его. Вместо того, что было нами задумано, мы…
Мария Антуанетта, немного пришедшая в себя, угадала мысль короля с полуслова.
— Да, — сказала она, — мы назовем его «Сюфрен», и я буду его восприемницей вместе с господином бальи.
Среди присутствующих раздались шумные, до сих пор сдерживаемые возгласы: «Да здравствует король! Да здравствует королева!»
— И да здравствует «Сюфрен»! — прибавил с исключительной деликатностью король, так как никто не смел крикнуть «Да здравствует господин де Сюфрен» в его присутствии, между тем, как самые щепетильные приверженцы этикета вполне могли кричать «Да здравствует корабль его величества!»
— Да здравствует «Сюфрен»! — с восторгом подхватило все собрание.
Король сделал благодарственный жест, выразив удовлетворение тем, что его мысль была так хорошо понята, и увел бальи к себе.
XII
ГОСПОДИН ДЕ ШАРНИ
Как только король скрылся, все находившиеся в зале принцы и принцессы сгруппировались вокруг королевы.
Бальи де Сюфрен знаком приказал своему племяннику ожидать его, и тот, поклонившись в знак повиновения, остался в той же группе, где мы его видели.
Королева, обменявшись с Андре несколькими многозначительными взглядами, почти не теряла из виду молодого человека и всякий раз, посмотрев на него, говорила себе: «Это он, бесспорно». На что мадемуазель де Таверне отвечала пантомимой, не позволявшей королеве питать никаких сомнений и означавшей: «Боже мой, да, ваше величество; это он, это, конечно, он!»
Филипп, как мы уже сказали, видел озабоченность королевы и смутно чувствовал если не ее причину, то значение.
Тот, кто любит, никогда не ошибается относительно ощущений тех, кого он любит.
Он угадывал, что королева взволнована каким-то странным, таинственным происшествием, не известным никому, кроме нее и Андре.
Королева действительно была смущена и прятала лицо за веером. Это она, заставлявшая обыкновенно всех опускать глаза!
Между тем как Филипп спрашивал себя, к чему приведет эта озабоченность ее величества, и, чтобы убедиться, что Куаньи и Водрёй не причастны к тайне, вглядывался в лица этих господ, которые спокойно беседовали с г-ном де Хага, нанесшим визит в Версаль, в зал вошел человек, облаченный в величественное кардинальское одеяние и сопровождаемый офицерами и прелатами.
Королева узнала г-на Луи де Рогана и, как только заметила его в противоположном конце зала, немедленно отвернула голову, даже не стараясь скрыть того, что брови ее недовольно сдвинулись.
Прелат пересек зал, никому не кланяясь, и подошел прямо к королеве, перед которой и склонился скорее как светский человек перед женщиной, чем как подданный, приветствующий королеву.
Затем он обратился к ее величеству с изысканно-любезным приветствием, но королева едва повернула голову, пробормотала два-три слова, полных ледяной официальности, и продолжила разговор с г-жой де Ламбаль и г-жой де Полиньяк.
Но принц Луи, казалось, вовсе не заметил сухого приема королевы. Покончив со своими поклонами, он неторопливо и с грацией истинного придворного обернулся к теткам короля, с которыми вступил в продолжительную беседу, так как, согласно обычному при дворе принципу маятника, он встретил с их стороны столь же ласковый прием, насколько прием королевы был холоден.
Кардинал Луи де Роган был в полном расцвете лет; у него была внушительная наружность и благородная осанка; черты лица его дышали умом и мягкостью. Его тонкий рот обличал хитрость, а руки были замечательно красивы. Несколько облысевший лоб свидетельствовал о любви к веселой жизни или к наукам: и правда, в принце де Рогане уживалось и то и другое.
Он пользовался успехом у женщин, которым нравилась его любезность — без слащавости и не бьющая на эффект. Его щедрость была всем известна. Действительно, он ухитрялся считать себя бедным, имея миллион шестьсот тысяч ливров дохода.
Король любил его за ученость; королева же, напротив, ненавидела его.
Причины этой ненависти никто никогда в точности не знал, но она могла быть истолкована двояко.
Во-первых, в качестве посла в Вене принц Луи, как говорили, писал королю Людовику XV о Марии Терезии письма, полные иронии, чего Мария Антуанетта никогда не могла простить этому дипломату.
Во-вторых — что было по-человечески понятно и более правдоподобно, — посол во время переговоров по поводу брака юной эрцгерцогини с дофином упоминал будто бы в письме все тому же Людовику XV, читавшему вслух это письмо за ужином у г-жи Дюбарри, о каких-то обидных для самолюбия молодой женщины, которая была тогда очень худа, подробностях ее телосложения.
Эти нападки будто бы сильно задели Марию Антуанетту, которая не могла при этом открыто признать себя их жертвой и дала себе слово рано или поздно покарать автора.
В основе всего этого, конечно, лежала политическая интрига.
В свое время место посла в Вене было отнято у г-на де Бретейля для г-на де Рогана.
Господин де Бретейль, будучи слишком слаб, чтоб открыто бороться с принцем, прибегнул тогда к тому, что называется в дипломатии ловкостью. Он добыл себе копии или даже подлинники писем прелата, который был тогда послом, и, положив на одну чашу весов действительные услуги, оказанные дипломатом, а на другую — некоторую враждебность его к австрийскому императорскому дому, нашел в дофине сообщницу, поклявшуюся погубить когда-нибудь принца де Рогана.
Эта ненависть медленно тлела и делала положение кардинала при дворе очень затруднительным.
Всякий раз как он видел королеву, он встречал тот ледяной прием, который мы постарались описать. Но, или чувствуя себя достаточно сильным, чтобы пренебречь этой ненавистью, или повинуясь непреодолимому чувству, Луи де Роган все прощал Марии Антуанетте и не пропускал ни единой возможности приблизиться к ней. А способов поступать так у него было много, так как принц Луи де Роган при дворе занимал должность великого раздавателя милостыни.
Кардинал никогда не жаловался и ничего не рассказывал о своих огорчениях от холодности королевы. Утешение он находил в тесном кружке своих друзей, среди которых выделялся немецкий офицер барон де Планта, которому он поверял свои секреты. Прибегал он к этому тогда, когда придворным дамам, которые не относились по примеру королевы к Рогану неприязненно, не удавалось развлечь его.
Кардинал своим появлением бросил темную тень на веселую картину, рисовавшуюся воображению королевы. Поэтому, как только он удалился, лицо Марии Антуанетты снова прояснилось.
— Знаете ли, — сказала она принцессе де Ламбаль, — что поступок этого молодого офицера, племянника господина бальи, относится к числу самых замечательных в эту войну? Как, кстати, его зовут?
— Господин де Шарни, если не ошибаюсь, — отвечала принцесса. — Не так ли, мадемуазель де Таверне? — спросила она, обернувшись к Андре.
— Шарни, да, ваше высочество, — отвечала Андре.
— Господин де Шарни, — продолжала королева, — должен сам рассказать нам этот эпизод, не пропуская ни одной подробности. Пусть его отыщут. Он еще здесь?
Один офицер вышел из группы и поспешил исполнить приказание королевы.
В это же время королева, кинув вокруг себя взгляд, заметила Филиппа и со своим обычным нетерпением обратилась к нему:
— Господин де Таверне, поищите же.
Филипп вспыхнул: у него, может быть, мелькнула мысль, что он должен был предугадать желание королевы. Он отправился на поиски этого счастливца-офицера, с которого не сводил глаз с той самой минуты, как тот был представлен королю. Поэтому поиски не были трудными и минуту спустя г-н де Шарни явился между двумя гонцами королевы.
При его приближении круг разомкнулся и королева могла таким образом рассмотреть наружность г-на де Шарни с большим вниманием, чем накануне.
Это был молодой человек лет двадцати семи-двадцати восьми, стройный и высокий, широкоплечий, хорошо сложенный. Лицо его, дышавшее умом и добротой, принимало необыкновенно энергичное выражение, когда он широко раскрывал свои большие синие глаза с вдумчивым взглядом.
Что было особенно удивительно в человеке, только что вернувшемся из похода в Индию, — у него был настолько же белый цвет кожи, насколько кожа Филиппа была смугла; его красивая гибкая шея была такого же белого цвета, как и охватывавший ее галстук.
Подойдя к группе, в центре которой находилась королева, он ничем не выдал, что знаком с ней самой или с мадемуазель де Таверне.
Окруженный офицерами, которые засыпали его вопросами, он вежливо отвечал им, казалось даже забыв о том, что недавно говорил с королем и что королева сейчас смотрит на него.
Эта вежливость, эта сдержанность могли только еще более привлечь к нему внимание королевы, так умевшей ценить деликатное поведение людей.
Мало того, что г-н де Шарни хотел, и совершенно резонно, скрыть от других свое удивление при виде дамы, ехавшей с ним в наемной карете; верхом порядочности было бы оставить, если возможно, и ее в неведении того, что он узнал ее.
Глаза Шарни, выражавшие некоторую вполне уместную застенчивость и смотревшие совершенно просто, поднялись на королеву только тогда, когда она обратилась к нему с речью.
— Господин де Шарни, — сказала она, — эти дамы полны желания, желания вполне естественного, и я сама разделяю его, узнать про тот эпизод с кораблем во всех подробностях. Расскажите нам о нем, прошу вас.
— Ваше величество, — отвечал молодой моряк среди глубокой тишины, — я умоляю вас не из скромности, но из чувства человечности избавить меня от этого рассказа. То, что я сделал в качестве лейтенанта «Сурового», одновременно со мной хотели сделать десять офицеров, моих товарищей; я опередил их, вот и вся моя заслуга. Придавать моему поступку настолько важное значение, чтобы делать из него рассказ, достойный внимания вашего величества, невозможно, и благородное сердце королевы должно понять это.
Бывший командир «Сурового» — храбрый офицер, однако в тот день он совершенно потерял голову. Увы, ваше величество, как вы, вероятно, слышали от самых отважных людей, никто не может быть смелым всегда. Ему было достаточно десяти минут, чтобы прийти в себя; наша решимость не сдаваться дала ему возможность одуматься, и мужество снова вернулось к нему; с этой минуты он выказал более отваги, чем все мы. Поэтому-то я умоляю ваше величество не переоценивать моих заслуг: это значило бы совершенно убить этого бедного офицера, который ежечасно оплакивает теперь свое минутное умопомрачение.
— Хорошо, хорошо! — сказала королева, тронутая и сиявшая от радости, так как слышала вокруг себя одобрение, вызванное благородными словами молодого офицера. — Хорошо, господин де Шарни, вы честный человек, таким я и знала вас.
При этих словах королевы офицер поднял голову, и чисто юношеская краска залила его лицо; его взгляд перебегал почти с испугом от королевы к Андре. Он опасался порыва этой великодушной и отважной в своем великодушии натуры.
Действительно, испытание г-на де Шарни еще не кончилось.
— Пусть же будет известно вам всем, — продолжала неустрашимая королева, — что этот молодой офицер, этот незнакомец, недавно покинувший борт корабля, уже был нам прекрасно известен до того, как сегодня вечером нам его представили, и он заслуживает, чтобы все женщины узнали его и прониклись к нему уважением.
Все поняли, что королева хочет говорить, хочет рассказать какую-то историю, из которой всякий мог потом что-нибудь почерпнуть и приукрасить по-своему. Поэтому присутствующие тесно сомкнулись вокруг ее величества и слушали затаив дыхание.
— Вообразите себе, сударыни, — начала королева, — что господин де Шарни настолько же снисходителен к женщинам, насколько безжалостен к англичанам. Мне рассказывали про него историю, которая, заранее объявляю это вам, по-моему, делает ему честь.
— О, ваше величество! — пробормотал молодой офицер.
Нетрудно догадаться, что слова королевы и присутствие того, к кому они были обращены, только усилили общее любопытство, и по зале пронесся легкий шум.
Шарни, на лбу которого выступили капли пота, готов был отдать год жизни, чтобы в эту минуту находиться еще в Индии.
— Вот как было дело, — продолжала королева. — Две знакомые мне дамы задержались в городе и очутились в очень затруднительном положении в большой толпе. Обе они подвергались большой опасности. В это время случайно, или, вернее, к счастью, мимо проходил господин де Шарни. Он раздвинул толпу и взял под свое покровительство обеих дам, которые были ему совершенно незнакомы и общественное положение которых определить было довольно трудно, а затем сопровождал их очень далеко, кажется, на расстояние десяти льё от Парижа.
— О, ваше величество, вы преувеличиваете, — сказал со смехом Шарни, успокоенный формой, в которую королева облекла свой рассказ.
— Ну, скажем, пяти льё, и не будем больше спорить об этом, — прервал его граф д’Артуа, внезапно вмешиваясь в разговор.
— Хорошо, брат мой, — согласилась королева, — но всего приятнее то, что господин де Шарни не попытался узнать имена двух дам, которым он оказал услугу, что он высадил их в том месте, где они указали ему, и уехал, даже не повернув головы, а они воспользовались его покровительством, не испытав при этом ни малейшего беспокойства.
Послышались возгласы восхищения, и двадцать дам разом осыпали похвалами Шарни.
— Это благородно, не правда ли? — продолжала королева. — Рыцарь Круглого стола не мог бы поступить лучше.
— Это несравненно! — подхватили все хором.
— Господин де Шарни, — сказала в заключение королева, — король, без сомнения, отблагодарит господина де Сюфрена, вашего дядю; я, со своей стороны, также желала бы что-нибудь сделать для племянника этого великого человека.
И она протянула ему руку.
Между тем как Шарни, побледнев от счастья, прикасался к ней губами, Филипп, бледный от душевной муки, постарался скрыться за широкими занавесями гостиной.
Андре также побледнела, хотя не могла знать о тех переживаниях, какие испытывал ее брат.
Граф д’Артуа прервал эту сцену, которая могла бы быть очень интересной для наблюдателя.
— А, брат мой, — сказал он громко графу Прованскому, — идите же, идите. Вы пропустили прекрасное зрелище: прием господина де Сюфрена. Поистине это была минута, которую никогда не забудут сердца французов. Как могли вы пропустить это, отличаясь всегда такой удивительной пунктуальностью?
Месье скривил губы, рассеянно поклонился королеве и ответил какой-то незначащей фразой.
Затем тихо спросил у г-на де Фавраса, капитана своей гвардии:
— Каким образом он попал в Версаль?
— Монсеньер, — отвечал тот, — я сам вот уже целый час стараюсь разрешить эту загадку, и все безуспешно.
XIII
СТО ЛУИДОРОВ КОРОЛЕВЫ
Теперь, когда мы познакомили наших читателей с главными действующими лицами этой истории или напомнили о них, теперь, когда мы ввели читателей и в маленький домик графа д’Артуа, и во дворец Людовика XVI в Версале, мы снова просим их перенестись в тот дом на улице Сен-Клод, на пятый этаж которого входила королева с Андре де Таверне.
Как только королева уехала, г-жа де Ламотт, как мы уже знаем, радостно принялась считать и пересчитывать сто луидоров, так чудесно свалившихся ей с неба.
Пятьдесят красивых двойных луидоров, по сорока восьми ливров, разложенных на жалком столике и блестевших при свете лампы, своим аристократическим присутствием, казалось, заставляли убогую обстановку этого чердака выглядеть еще более жалкой.
После удовольствия иметь г-жа де Ламотт не знала большего удовольствия, как показывать. Обладание чем-то не имело для нее никакой цены, если оно не возбуждало в ком-нибудь зависти.
Ей за последнее время было крайне неприятно, что служанка была свидетельницей ее бедности, поэтому она поспешила сделать ее свидетельницей своего богатства.
Она позвала г-жу Клотильду, остававшуюся в передней, и при этом повернула лампу таким образом, чтобы свет ее прямо падал на сверкающее на столе золото.
— Подойдите сюда и взгляните, — сказала г-жа де Ламотт, когда Клотильда вошла в комнату.
— О, сударыня! — воскликнула старуха, всплеснув руками и вытянув шею.
— Вы беспокоились о своем жалованье? — спросила графиня.
— О, сударыня, я никогда не говорила вам ни слова об этом. Я только спросила, когда вы смогли бы заплатить, и не удивительно — ведь я ничего не получала уже целых три месяца.
— Как вы думаете, хватит тут денег, чтобы расплатиться с вами?
— Господи Иисусе! Сударыня, если бы у меня было столько денег, то я бы считала себя обеспеченной на всю жизнь.
Госпожа де Ламотт посмотрела на старуху, пожав плечами с выражением неизъяснимого презрения.
— Счастье, — сказала она, — что некоторые люди помнят об имени, которое я ношу, между тем как те, кто должен был бы помнить, о нем забывают.
— А на что вы употребите все эти деньги? — спросила Клотильда.
— На всё.
— Прежде всего, сударыня, на мой взгляд, необходимо купить кухонную утварь, так как, находясь при деньгах, вы, вероятно, теперь будете давать обеды.
— Тсс! — прервала ее г-жа де Ламотт. — Стучат.
— Вы ошибаетесь, сударыня, — возразила старуха, не любившая беспокоиться.
— Я вам говорю, что стучат.
— А я уверяю вас, что…
— Подите взгляните.
— Я ничего не слыхала.
— Да, вот недавно вы тоже ничего не слышали… Ну, а если бы эти дамы так и ушли?
Этот довод показался Клотильде убедительным, и она направилась к двери.
— Слышите? — воскликнула г-жа де Ламотт.
— Да, правда, — отвечала старуха. — Иду, иду.
Госпожа де Ламотт поспешила собрать со стола пятьдесят двойных луидоров и сунула их в ящик.
— Ну, Провидение, пошли мне еще сотню луидоров, — пробормотала она, задвигая ящик.
Эти слова были сказаны ею с выражением такого неверия и такой алчности, которые заставили бы улыбнуться Вольтера.
В это время старуха открыла входную дверь и в передней послышались мужские шаги.
Вошедший обменялся с Клотильдой несколькими словами, которые графине не удалось уловить.
Затем дверь снова закрылась, шаги затихли внизу лестницы, и старуха вошла с письмом в руке.
— Вот, — сказала она, подавая его своей хозяйке.
Графиня внимательно оглядела почерк, конверт и печать.
— Это приходил слуга? — спросила она, подняв голову.
— Да, сударыня.
— В ливрее?
— Нет.
— Значит, обычный серокафтанник?
— Да.
— Я знаю этот герб, — продолжала г-жа де Ламотт, снова принимаясь разглядывать печать. — Девять золотых ромбов по красному полю, — сказала она, поднеся печать к лампе. — Кому же он принадлежит?
Она напрасно старалась найти ответ на это в своих воспоминаниях.
— Посмотрим, что это за письмо, — пробормотала она и, осторожно вскрыв конверт, чтобы не попортить печати, прочла:
«Сударыня, особа, к которой Вы обращались с просьбой, может видеть Вас завтра вечером, если Вам будет угодно открыть свои двери».
— И все?
И графиня снова напрягла свою память.
— Я писала стольким лицам, — сказала она. — Кому же именно? Да всем. Кто это отвечает мне: мужчина или женщина? Почерк ничего не говорит… он невыразительный… настоящий почерк секретаря. Слог? Слог покровительственный, заурядный и устарелый. «… Особа, к которой Вы обращались с просьбой…», — повторила она. — Эти слова имеют преднамеренный унизительный оттенок. Вероятно, это пишет женщина. «… Может видеть Вас завтра вечером, если Вам будет угодно открыть свои двери». Женщина бы сказала: «Будет Вас ждать завтра вечером». Это писал мужчина. А между тем ведь пришли же эти дамы, а они, должно быть, очень знатные особы! Подписи нет… У кого же в гербе девять золотых ромбов? О, — воскликнула она, — да я совсем с ума сошла! Роганы, конечно! Да, я писала господину де Гемене и господину де Рогану; один из них мне отвечает, очень просто… Но герб не разделен на четыре части: письмо это от кардинала. А, кардинал де Роган, дамский любезник, волокита и честолюбец! Он придет к госпоже де Ламотт, если она откроет свои двери! Хорошо; он может быть спокоен: двери будут ему открыты… А когда? Завтра вечером.
Она задумалась.
— Даму-благотворительницу, дающую сто луидоров, можно принять на чердаке; ее ноги могут стынуть на моем холодном полу; она может мучиться на моих стульях, жестких, как решетка святого Лаврентия, только без огня. Но князь Церкви, будуарный завсегдатай, победитель сердец! Нет, нет… Нищая, которую боится навестить такой священник, должна быть окружена еще большей роскошью, чем иные богачи. Да, завтра, госпожа Клотильда, — сказала она, повернувшись к своей служанке, только что приготовившей ее постель, — не забудьте разбудить меня пораньше.
И графиня, желая на свободе отдаться своим мыслям, сделала старухе знак оставить ее одну.
Госпожа Клотильда раздула огонь, который был прикрыт золой для того, чтобы придать помещению более убогий и жалкий вид, закрыла дверь и удалилась в маленькую каморку, где она спала.
Жанна де Валуа, вместо того чтобы спать, всю ночь строила разные планы. Она делала какие-то заметки карандашом при свете ночника, а затем, обдумав во всех подробностях свой завтрашний день, часам к трем ночи забылась сном, от которого, согласно полученному приказанию, ее разбудила на рассвете г-жа Клотильда, спавшая не больше своей хозяйки.
К восьми часам графиня уже закончила свой туалет; она надела изящное шелковое платье и шляпу, отделанную с большим вкусом.
Обутая, как подобало знатной даме и вместе с тем красивой женщине, налепив себе мушку около левого глаза, она послала за ручной тележкой на стоянку этих экипажей, то есть на улицу Капустного Моста.
Графиня предпочла бы нанять портшез, но за ним надо было посылать слишком далеко.
Тележка, которую вез здоровенный овернец, должна была доставить графиню на Королевскую площадь, где под аркадами южной стороны, в первом этаже старинного заброшенного дома жил метр Фенгре, драпировщик и обойщик, державший подержанную и новую мебель для продажи и сдачи внаем.
Овернец быстро доставил свою клиентку с улицы Сен-Клод на Королевскую площадь.
Через десять минут после выхода из дома графиня уже высадилась у складов метра Фенгре, где мы ее вскоре увидим занятой разглядыванием и выбором мебели в обширном, напоминавшем музей помещении, которое мы постараемся описать в общих чертах.
Пусть читатель вообразит себе каретный сарай длиной приблизительно в пятьдесят футов, шириной в тридцать и высотой в семнадцать; на стенах выставлены обои времен Генриха IV и Людовика XIII; с потолка, едва заметного из-за множества подвешенных к нему предметов, свисали люстры с жирандолями XVII столетия рядом с чучелами ящериц, церковными лампадами и летучими рыбами.
На полу лежали груды ковров и дорожек, стояла всевозможная мебель с витыми колонками и четырехугольными ножками; резные буфеты из дуба; времен Людовика XV консоли на золоченых подставках; диваны, обитые розовым дама́ или утрехтским бархатом; кровати, широкие кожаные кресла, какие любил Сюлли; шкафы из черного дерева с выпуклыми панно и медными багетами; столы Буля со столешницами из эмали или фарфора; доски для игры в триктрак; туалетные столики, снабженные всем необходимым; комоды с инкрустациями в виде музыкальных инструментов или цветов.
Кровати из розового дерева или дуба, на постаментах или с балдахинами, занавеси всех родов, всевозможных рисунков и материй — все это перемешивалось, сливалось и перепутывалось в полумраке помещения. Здесь были клавесины, спинеты, арфы; систры на столике; чучело собаки Мальборо с глазами из эмали; белье всякого рода; платья, висевшие рядом с бархатными мужскими костюмами; рукоятки стальные, серебряные, перламутровые; факелы, портреты предков, гризайли, гравюры в рамках и всевозможные подражания Верне (он был тогда в моде), тому Верне, которому королева говорила так остроумно и мило:
— Решительно, господин Верне, во Франции только вы один можете делать дождь и хорошую погоду.
XIV
МЕТР ФЕНГРЕ
Вот что прельщало взоры и воображение людей с ограниченными средствами, посещавших склады метра Ферне на Королевской площади. Все это, как добросовестно значилось на вывеске, был не новый товар, но в общей массе вещи казались ценными и представляли собой богатый выбор, которым мог бы удовлетвориться самый капризный покупатель. Госпожа де Ламотт, обозревая все эти богатства, только теперь заметила, чего ей не хватало на улице Сен-Клод. Ей не хватало гостиной, чтобы разместить там диван, кресла и кушетку; столовой, чтобы поставить буфет, шкафчики и поставцы; будуара, чтобы украсить его ситцевыми драпри, столиками и экранами. Наконец, а это прежде всего, имей она гостиную, столовую и будуар, ей недоставало денег, чтобы купить мебель и поставить ее в новом помещении.
Но с парижскими мебельными торговцами во все времена одинаково легко можно было войти в соглашение, и нам никогда не приходилось слышать, чтобы молодая и красивая женщина умерла у порога двери, которую она не смогла бы заставить открыться перед ней.
В Париже берут напрокат то, что не могут купить, и обитатели меблированных квартир даже пустили в ход поговорку: «Видеть — значит иметь».
Госпожа де Ламотт, надеясь взять мебель напрокат, наметила себе гарнитур, обитый шелком цвета желтого лютика и понравившийся ей с первого взгляда. Она была брюнетка.
Но эта обстановка из десяти вещей не могла поместиться в ее квартире на пятом этаже на улице Сен-Клод.
Чтобы помочь этой беде, надо было снять квартиру на четвертом этаже, состоявшую из передней, столовой, маленькой гостиной и спальни.
Таким образом, графиня могла принимать на четвертом этаже щедроты кардиналов, а на пятом — помощь от благотворительных обществ, то есть среди великолепия брать милостыню людей, занимающихся благотворительностью из тщеславия, и среди бедной обстановки — дары тех людей, которые одержимы предрассудком не помогать тем, кто не нуждается.
Приняв такое решение, графиня устремила свои взоры в самую темную часть склада, туда, где были собраны более роскошные предметы: хрусталь, позолота, зеркала. Она увидела там физиономию типичного парижского буржуа, который, сняв шапку, стоял с нетерпеливым видом и слегка насмешливой улыбкой; сомкнув концы указательных пальцев, он вертел на них ключ.
Этот почтенный надсмотрщик над случайной мебелью был не кто иной, как сам г-н Фенгре, которому его приказчики доложили о прибытии в ручной тележке красивой дамы.
Этих самых приказчиков можно было видеть во дворе, одетых в короткое и узкое платье из грубого сукна и камлота, с видневшимися из-под продранных чулок худыми икрами. Они были заняты подновлением менее старой мебели при помощи более старой, то есть, выражаясь определеннее, они вспарывали обивку старых диванов, кресел и других предметов меблировки и вытаскивали из них волос и перо, которые должны были пойти на набивку их преемников.
Один расчесывал волос, щедро прибавлял к нему пакли и набивал ими другую мебель.
Другой мыл более сохранившиеся кресла.
Третий натирал вычищенные материи ароматичным мылом.
И при помощи этих уже бывших в употреблении составных частей они выпускали из своих рук ту прекрасную мебель, что можно купить лишь по случаю и которою любовалась теперь г-жа де Ламотт.
Господин Фенгре, заметив, что покупательница может увидеть все операции его служащих и не так благосклонно оценить товар, как того требовали интересы хозяина, закрыл стеклянную дверь во двор под предлогом, что даме может попасть в глаза пыль.
— Чем я могу, госпожа… — начал он.
— Графиня де Ламотт-Валуа, — небрежно подсказала ему Жанна.
Услышав этот звонкий титул, г-н Фенгре немедленно разнял пальцы, положил ключ в карман и подошел поближе.
— О, — сказал он, — здесь для вас, сударыня, нет ничего подходящего. У меня есть новая, прекрасная, чудесная мебель. Госпожа графиня не должна думать, что у дома Фенгре нет такой же роскошной мебели, как у придворного мебельщика, только потому, что наш находится на Королевской площади. Оставьте все это, сударыня, и перейдемте в другой склад.
Жанна покраснела.
Все, что она до сих пор видела, казалось ей очень хорошим, настолько хорошим, что она даже не надеялась приобрести что-либо из виденного.
Хотя ей, вне всякого сомнения, было приятно, что г-н Фенгре сразу составил себе о ней такое благоприятное мнение, но вместе с тем ее страшила мысль, как бы оно не оказалось чересчур лестным для нее. Она кляла свое тщеславие и пожалела, что не выдала себя за скромную буржуазку.
Но ловкий человек умеет при случае с выгодой выпутаться из затруднительного положения.
— Только не показывайте новой мебели, сударь, — сказала она, — мне ее не нужно.
— Вероятно, госпоже графине нужно обставить какую-нибудь квартиру для друзей?
— Вот именно, квартиру для друзей. И вы понимаете, что для этой цели…
— Конечно. Прошу вас выбирать, — отвечал Фенгре с обычным у парижских торговцев хитрым выражением, не видя никакой обиды для своего самолюбия в том, чтобы продавать по преимуществу старый товар, если есть возможность нажить на нем так же, как на новом.
— Вот, например, эта мебель золотистого оттенка, — сказала графиня.
— О, здесь всего десять предметов, сударыня.
— Комната не очень велика, — заметила графиня.
— Мебель совершенно новая, как вы видите.
— Новая… для подержанной.
— Конечно, — со смехом сказал г-н Фенгре, — но, какова она ни есть, она стоит восемьсот ливров.
Эта цена заставила графиню вздрогнуть. Как сознаться, что особа из дома Валуа может довольствоваться случайной мебелью, но не в состоянии заплатить за нее восемьсот ливров?
Она решила прикинуться обиженной.
— Да никто не говорит вам про покупку. Откуда вы взяли, что я стану покупать это старье? Я хочу взять ее внаем, да и то…
Фенгре сделал гримасу, так как клиентка постепенно все более теряла в его глазах. Дело шло не о покупке новой или хотя бы подержанной мебели, а о прокате.
— Вы желали бы взять всю эту золотистую мебель? — сказал он. — На год?
— Нет, на месяц. Мне надо устроить одного приезжего из провинции.
— Это будет стоить сто ливров в месяц, — сказал метр Фенгре.
— Вы, вероятно, шутите, сударь? Ведь при таких условиях эта мебель была бы оплачена мной через восемь месяцев.
— Не спорю, госпожа графиня.
— Так что же?
— Если бы она была куплена вами, то не была бы уже моей и, следовательно, мне не надо было беспокоиться об ее подновлении и ремонте… А все это чего-нибудь стоит.
Госпожа де Ламотт принялась соображать.
«Сто ливров в месяц, — сказала она себе, — это дорого… Но сообразим: или эта мебель через месяц окажется для меня слишком дорогой, и тогда я возвращу ее, не уронив себя во мнении мебельщика, или же через месяц я буду в состоянии заказать себе новую мебель. Я рассчитывала истратить от пятисот до шестисот ливров; но сделаем это на широкую ногу и истратим сто экю».
— Я беру эту золотистую мебель для гостиной с такими же занавесями, — сказала она вслух.
— Хорошо, сударыня.
— А ковры?
— Вот они.
— А что вы мне дадите для другой комнаты?
— Эти зеленые банкетки, дубовую вешалку, этот стол с витыми ножками и зеленые занавеси дама́…
— Хорошо. А в спальню?
— Широкую прекрасную кровать с богатыми подушками и стеганым бархатным вышитым одеялом — розовым с серебром, голубые занавеси и каминный прибор, похожий на готический, но с богатой позолотой.
— А туалет?
— Отделанный малинскими кружевами. Взгляните на них, сударыня. Комод с изящными наборными украшениями, такую же шифоньерку, штофную софу, такие же стулья, изящный каминный прибор из спальни госпожи де Помпадур в Шуази.
— И за какую цену все это?
— В месяц?
— Да.
— Четыреста ливров.
— Ну же, господин Фенгре, не принимайте меня за гризетку, прошу вас. Таких людей, как я, нечего запугивать цифрами. Сообразите, пожалуйста, что четыреста ливров в месяц составляют четыре тысячи восемьсот ливров в год, а за эту сумму я могу иметь целый меблированный особняк.
Господин Фенгре почесал за ухом.
— Вы меня хотите отвадить от посещений Королевской площади, — продолжала графиня.
— Я был бы в отчаянии от этого, сударыня.
— Так докажите это. Я хочу дать за всю эту обстановку не более ста экю.
Жанна произнесла эти последние слова с таким апломбом, что у торговца явились надежды насчет будущего.
— Хорошо, сударыня, — сказал он.
— Но с одним условием, метр Фенгре.
— С каким, сударыня?
— Что все будет доставлено и устроено в том помещении, которое я вам укажу, сегодня же к трем часам.
— Теперь десять часов, сударыня; подумайте, бьет десять часов.
— Да или нет?
— А куда надо доставить мебель, сударыня?
— На улицу Сен-Клод, в Маре.
— Это совсем близко отсюда?
— В двух шагах.
Мебельщик открыл дверь во двор и закричал: «Сильвен! Ландри! Реми!» Трое подмастерьев вбежали в восторге, что имеют предлог прервать работу и взглянуть на красивую даму.
— Скорее, господа, носилки и тачки. Реми, вы возьмете эту золотистую мебель. Сильвен, укладывайте в тележку прихожую, а вы, как более аккуратный, возьмите спальню. Позвольте получить с вас деньги, сударыня, и я подпишу счет.
— Вот шесть двойных луидоров, — сказала графиня, — и один простой луидор, дайте мне сдачу.
— Вот два экю по шести ливров, сударыня.
— Из которых я дам одно экю этим господам, если дело будет хорошо сделано, — отвечала графиня.
И, дав свой адрес, она села в свою ручную тележку.
Через час она сняла квартиру на четвертом этаже, и не прошло двух часов, как в гостиной, прихожей и спальне рабочие уже обивали стены, расставляли мебель и вешали гардины.
Экю в шесть ливров было заработано г-ми Ландри, Реми и Сильвеном за десять минут до назначенного срока.
Квартира совершенно преобразилась, окна были вымыты, и в каминах разведен огонь, а Жанна принялась за свой туалет и два часа вкушала блаженство, ступая по мягкому ковру, греясь в тепле комнаты, все стены которой были обиты стеганой материей, и вдыхая аромат нескольких левкоев, которые радостно купали свои стебли в японских вазах, впитывали своими чашечками комнатное тепло.
Метр Фенгре не забыл золоченые бра со свечами по обеим сторонам зеркал, и стеклянные подвески их при зажженных свечах отливали всеми цветами радуги.
Огонь, цветы, восковые свечи, благоухающие розы — Жанна ничего не пожалела для украшения рая, предназначаемого его высокопреосвященству. Она даже позаботилась о том, чтобы кокетливо приотворенная дверь спальни позволяла видеть яркий огонь, бросавший красный отблеск на ножки кресел, на кровать, на каминный прибор г-жи де Помпадур и на две головы химер, на которые маркиза ставила когда-то свою прелестную ножку.
Кокетливые приготовления Жанны не ограничились этим.
Если благодаря огню убранство комнаты казалось таинственным, если духи говорили о присутствии женщины, то в наружности самой женщины все говорило о благородстве происхождения, все дышало красотой и умом, достойными внимания его высокопреосвященства.
Жанна занялась своим туалетом с таким старанием, что находившийся в отсутствии муж ее, г-н де Ламотт, мог бы потребовать от нее отчета. Женщина оказалась достойной помещения и обстановки, взятой напрокат у метра Фенгре.
После обеда, намеренно легкого, чтобы сохранить присутствие духа и интересную бледность, Жанна уселась у камина спальни в глубокое кресло.

С книгой в руке, поставив ножку в домашней туфельке на табурет, она стала ждать, прислушиваясь одновременно и к движению часового маятника, и к отдаленному стуку карет, редко нарушавших тишину пустынных улиц квартала Маре.
Она ждала. Часы пробили девять, десять, одиннадцать часов; никто не явился — ни в экипаже, ни пешком.
Одиннадцать часов! А между тем, это был излюбленный час светских прелатов, ибо, почувствовав после ужина в предместье потребность оказать кому-нибудь милосердие, они знают, что достаточно проехать всего несколько шагов до улицы Сен-Клод, и можно будет поздравить себя с уменьем быть человеколюбивыми и благочестивыми, да еще такой дешевой ценой.
Мрачно пробило полночь на часах церкви Жен-мироносиц.
Ни прелата, ни кареты… Свечи начинали оплывать и гаснуть, и на золоченые подсвечники стал стекать тонкими струйками расплавленный воск.
Огонь догорал, угли потемнели и обратились в золу. В обеих комнатах была африканская жара.
Старая служанка, принарядившаяся для гостя, ворчала про себя, жалея, что напрасно надела чепчик с лентами, которые, когда она опускала голову, задремав перед свечкой в передней, всякий раз сохраняли неприятные следы лобзаний огня или дерзких прикосновений расплавленного воска.
В половине первого Жанна в бешенстве встала со своего кресла, которое она за этот вечер покидала не менее ста раз, чтобы открыть окно и окинуть взглядом улицу.
Глубокий покой царил во всем квартале, точно во времена, предшествовавшие мирозданию.
Она велела раздеть себя, отказалась от ужина и отпустила старуху, надоедавшую ей своими вопросами.
И оставшись одна, окруженная шелковыми материями и занавесями, лежа в мягкой постели, она спала не лучше, чем накануне, когда надежда рождала у нее беззаботность.
Тем не менее, ворочаясь на своей постели и всеми силами воли стараясь не падать духом от своей неудачи, Жанна наконец нашла для кардинала извинение.
Во-первых, он в качестве кардинала и великого раздавателя милостыни завален тысячью беспокойных дел, которые, без сомнения, важнее, чем визит на улицу Сен-Клод.
Во-вторых, извинение заключалось в том, что он не знал этой маленькой графини де Валуа. И это извинение было очень утешительно для Жанны. О, конечно, она не так бы легко утешилась, если бы г-н де Роган не сдержал своего слова после первого визита.
Эта причина, придуманная ею, требовала проверки, чтобы признать ее справедливой.
Жанна не вытерпела; она вскочила с кровати в своем белом пеньюаре, зажгла свечи от огонька ночника и долго рассматривала себя в зеркале.
После тщательного осмотра она улыбнулась, задула свечи и легла.
Извинение было придумано хорошее.
XV
КАРДИНАЛ ДЕ РОГАН
На другой день Жанна, не теряя надежды, снова начала приводить в порядок комнаты и свою особу.
Зеркало сказало ей, что г-н де Роган приедет, если только он что-нибудь слышал о ней.
Пробило семь часов и огонь в камине гостиной сильно пылал, когда по улице Сен-Клод простучали колеса кареты.
Нетерпение еще не успело охватить Жанну, и она пока ни разу не подбегала к окну.
Из кареты вышел мужчина в теплом рединготе. Как только входная дверь захлопнулась за ним, карета отъехала на маленькую соседнюю улицу, где должна была ожидать своего хозяина.
Вскоре раздался звонок и сердце г-жи де Ламотт забилось так сильно, что она могла слышать его удары. Но, стыдясь поддаваться неразумному волнению, Жанна приказала сердцу успокоиться, поспешно бросила начатое вышивание на стол, поставила ноты новой арии на пюпитр клавесина и положила газету на угол каминной доски.
Через несколько секунд г-жа Клотильда пришла доложить графине об «особе, которая писала ей позавчера».
— Просите войти, — отвечала Жанна.
Легкие шаги, скрипучая обувь, красивый господин с высоко поднятой головой, одетый в бархат и шелк и казавшийся чуть не десяти локтей роста в этой маленькой комнате, — вот что подметила Жанна, встав навстречу гостю. Ее неприятно поразило, что «особа» желала сохранять инкогнито, и она решила воспользоваться своим преимуществом женщины, все обдумавшей.
— С кем я имею честь говорить? — спросила она с легким реверансом, скорее подходившим к роли покровительницы, чем покровительствуемой.
Принц оглянулся на дверь гостиной, за которой скрылась старуха.
— Я кардинал де Роган, — ответил он.
На это г-жа де Ламотт, притворившись смущенной и изобразив глубочайшее смирение, отвечала реверансом, каким приветствуют королей.
Затем она пододвинула ему кресло и, вместо того чтобы самой опуститься на стул, как того требовал этикет, села в широкое кресло.
Кардинал, видя, что и ему предоставляют расположиться поудобнее, кинул свою шляпу на стол и посмотрел прямо в лицо Жанне, которая в свою очередь глядела на него.
— Итак, это правда, мадемуазель?.. — начал он.
— Я замужем, — прервала его Жанна.
— Простите… я забыл. Итак, это правда, сударыня?
— Моего мужа зовут граф де Ламотт, монсеньер.
— Да, да. Он из жандармов короля или королевы?
— Да, монсеньер.
— А вы, сударыня, рожденная Валуа?
— Да, Валуа, монсеньер.
— Громкое имя! — сказал кардинал, кладя ногу на ногу. — Редкое имя, вымершее!
Жанна угадала сомнение кардинала.
— Вымершее? Нет, монсеньер, — сказала она, — раз я ношу его и раз у меня есть брат, барон де Валуа.
— Признанный?
— Ему нет надобности быть признанным, монсеньер… Мой брат может быть бедным или богатым, но все же он остается тем, кем он родился, то есть бароном де Валуа.
— Сударыня, расскажите мне вашу генеалогию, прошу вас. Вы заинтересовали меня: я люблю геральдику.
Жанна просто и небрежно рассказала ему то, что уже известно читателю.
Кардинал слушал и смотрел.
Он не старался скрыть своих впечатлений. К чему? Он не верил в знатность происхождения Жанны; он видел, что она красива и бедна. Он смотрел: этого было достаточно.
Жанна, от которой ничто не ускользнуло, угадала насколько невысокого мнения о ней был ее будущий покровитель.
— Так что, — начал беззаботным тоном г-н де Роган, — вы были действительно очень несчастливы?
— Я не жалуюсь, монсеньер.
— Действительно, я теперь вижу, что молва значительно преувеличила стесненность ваших обстоятельств.
Она бросила взгляд вокруг себя.
— Это помещение удобно и мило обставлено.
— Может быть, для гризетки, — резко отвечала Жанна, горевшая нетерпением скорее перейти к делу, — да, монсеньер.
Кардинал сделал движение.
— Как, — спросил он, — вы называете это обстановкой, годной для гризетки?
— Я не думаю, монсеньер, — сказала она, — чтобы вы могли назвать ее обстановкой, достойной принцессы.
— А вы и есть принцесса, — сказал кардинал с той неуловимой иронией, которую умеют, не делая их оскорбительными, придавать своим словам только очень умные или очень знатные люди.
— Я рожденная Валуа, монсеньер, так же как вы — Роган. Вот все, что я знаю, — произнесла Жанна.
Эти слова были сказаны с таким кротким величием несчастья, возмущенного несправедливостью, с таким величием женщины, которая считает, что о ней неверно судят, и они дышали таким достоинством и прелестью, что принц не почувствовал себя оскорбленным, а мужчина был тронут.
— Сударыня, — начал он, — я забыл про то, что моим первым словом должно было бы быть извинение. Я вам написал, что буду у вас, но вчера я был занят в Версале по случаю приема господина де Сюфрена. Поэтому мне пришлось отказаться от удовольствия посетить вас.
— Монсеньер, вы делаете мне и без того много чести тем, что вспомнили обо мне сегодня, и граф де Ламотт, мой муж, будет еще более сожалеть об изгнании, в котором его держит нужда и которое помешало ему лицезреть такую высокую особу.
Упоминание о муже привлекло внимание кардинала.
— Вы живете одна, сударыня? — спросил он.
— Совершенно одна, монсеньер.
— Это прекрасно для молодой и красивой женщины.
— Это вполне естественно, монсеньер, для женщины, которая была бы не на своем месте во всяком обществе, кроме того, из которого она изгнана из-за своей бедности.
Кардинал помолчал.
— По-видимому, — продолжал он, — люди, сведущие в генеалогии, не отрицают подлинности вашего знатного происхождения?
— А зачем мне это? — спросила презрительно Жанна, отодвигая грациозным жестом маленькие напудренные локоны с висков.
Кардинал подвинул ближе свое кресло, как бы желая погреть ноги у огня.
— Сударыня, — сказал он, — я желал бы — и, как видите, проявил это желание — знать, чем я могу быть вам полезен.
— Ничем, монсеньер.
— Как ничем?
— Ваше высокопреосвященство оказали мне, без сомнения, большую честь…
— Будем говорить откровенно.
— Я не могу быть более откровенной, чем в настоящую минуту, монсеньер.
— Вы жаловались только что, — сказал кардинал, бросая вокруг себя взгляд и как бы желая этим напомнить Жанне ее слова про обстановку гризетки.
— Да, конечно, я жаловалась.
— Но в таком случае, сударыня?..
— Ваше высокопреосвященство хочет подать мне милостыню, по-видимому?
— О сударыня!
— А что же другое? Я, правда, брала милостыню, но больше не буду принимать ее.
— Что это значит?
— Монсеньер, я терпела за последнее время слишком много унижений и долее не могу выносить этого.
— Сударыня, вы избрали не те слова. Несчастье не позорит человека…
— Даже если он носит такое имя, как я? Послушайте, господин де Роган, стали бы вы просить милостыню?
— Речь не обо мне, — отвечал кардинал со смущением, к которому примешивалась некоторая доля высокомерия.
— Монсеньер, я знаю, только два способа просить милостыню: в карете или на церковной паперти; в золоте и бархате или в лохмотьях. Несколько минут тому назад я не надеялась на честь видеть вас у себя и считала себя забытой.
— А, вы знали, что вам писал я? — спросил кардинал.
— Разве я не видела вашего герба на печати письма, которое вы сделали мне честь прислать?
— А между тем вы сделали вид, что не знаете меня.
— Потому что вы не пожелали оказать мне честь услышать ваше имя, велев доложить о себе инкогнито.
— Что ж, эта гордость мне нравится, — поспешил сказать кардинал, с любезным вниманием созерцая оживленные глаза и надменное выражение лица Жанны.
— Итак, я говорила, — продолжала она, — что еще до вашего прихода приняла решение сбросить этот жалкий плащ, прикрывающий мою бедность и оскудение моего имени, и идти в лохмотьях, как пристало настоящей нищей, вымаливать себе кусок хлеба не у тщеславия, а у сострадания прохожих.
— Вы ведь, надеюсь, не совершенно без средств, сударыня?
Жанна не ответила.
— У вас есть какая-нибудь земля, хотя бы и заложенная? Фамильные драгоценности? Вот эта, например?
И он показал пальцем на коробочку, которую вертели белые и изящные пальчики молодой женщины.
— Эта? — переспросила она.
— Честное слово, эта коробочка очень оригинальна. Вы позволите? А, портрет! — продолжал он с удивлением, взяв коробочку в руки.
— Вам известен оригинал этого портрета? — спросила Жанна.
— Это Мария Терезия.
— Мария Терезия?
— Да, австрийская императрица.
— Неужели? — воскликнула Жанна. — Вы полагаете, монсеньер?
Кардинал между тем с еще большим вниманием принялся рассматривать коробочку.
— Откуда это у вас? — спросил он.
— От одной дамы, что была у меня позавчера.
— У вас?
— У меня.
— От одной дамы?
И кардинал снова принялся внимательно разглядывать коробочку.
— Я ошибаюсь, монсеньер, — продолжала графиня, — у меня были две дамы.
— И одна из них дала вам эту коробочку? — недоверчиво спросил кардинал.
— Нет, она мне не давала ее.
— Каким же образом она очутилась у вас в руках?
— Эта дама забыла ее у меня.
Кардинал задумался так глубоко, что заинтриговал этим графиню де Валуа, которая подумала, что ей следует быть настороже.
— А как зовут эту даму? — спросил кардинал, подняв голову и глядя внимательно на графиню. — Вы извините меня, надеюсь, за этот вопрос, — продолжал он, — я сам стыжусь его, так как, кажется, играю роль судьи…
— Действительно, монсеньер, — сказала г-жа де Ламотт, — ваш вопрос странен.
— Нескромен, может быть, но не странен…
— Странен, я повторяю это. Если бы я знала, кто эта дама, оставившая у меня бонбоньерку…
— Так что же?
— Я отослала бы ей ее обратно. Она, наверное, дорожит ею, и я не хотела бы заставить ее поплатиться двумя сутками беспокойства за ее любезное посещение.
— Итак, вы не знаете ее?
— Нет, я знаю только, что она стоит во главе какого-то благотворительного общества.
— В Париже?
— Нет, в Версале.
— В Версале? Она стоит во главе благотворительного общества?
— Монсеньер, я принимаю у себя женщин, которые не унижают бедняков, оказывая им помощь, а эта дама, которую какие-то сострадательные люди познакомили с моим положением, оставила, уходя, сто луидоров на камине.
— Сто луидоров? — с удивлением воскликнул кардинал и тотчас продолжал, поняв, что может оскорбить своим восклицанием Жанну, которая сделала быстрое движение при этих словах: — Простите, сударыня, я нисколько не удивляюсь, что вам дали такую сумму. Напротив, вы заслуживаете всяческого сочувствия со стороны тех, кто занимается благотворительностью, а ваше происхождение обязывает их помочь вам. Меня удивляет только, что речь идет о благотворительнице: эти дамы обыкновенно оказывают менее значительную помощь. Могли бы вы описать мне наружность той, что посетила вас, графиня?
— С трудом, монсеньер, — отвечала Жанна, желая разжечь любопытство собеседника.
— Как с трудом? Ведь она была у вас?
— Да. Но эта дама, вероятно не желая быть узнанной, прятала свое лицо под широким капюшоном и куталась в меха. Однако…
Графиня сделала вид, что припоминает.
— Однако? — повторил кардинал.
— Мне показалось… Но я ничего не утверждаю, монсеньер.
— Что вам показалось?
— Мне показалось, что я видела синие глаза.
— А рот?
— Маленький, но с довольно полными губами, особенно с нижней.
— Она высокого или среднего роста?
— Среднего.
— Какие руки?
— Безупречной формы.
— Шея?
— Длинная и тонкая.
— Выражение лица?
— Строгое и благородное.
— Произношение?
— С некоторым акцентом. Но вы, может быть, знаете эту даму, монсеньер?
— Откуда же мне знать ее, госпожа графиня? — с живостью спросил прелат.
— Я заключаю это по вашим вопросам, монсеньер. Быть может, вами руководит также чувство симпатии, связывающее между собой тех, кто занимается благотворительностью.
— Нет, сударыня, я не знаю ее.
— Но, монсеньер, нет ли у вас каких-то подозрений?
— Откуда же?
— Внушенных вам, например, этим портретом?
— А, — быстро ответил кардинал, опасаясь, не выдал ли он свои подозрения, — да, конечно, этот портрет…
— Этот портрет, монсеньер?
— … мне представляется портретом…
— … императрицы Марии Терезии, не правда ли?
— Думаю, что да.
— И вы полагаете?
— Я полагаю, что у вас была какая-нибудь немецкая дама, одна из тех, например, которые основали общество помощи бедным…
— В Версале?
— Да, в Версале, сударыня.
И кардинал замолчал.
Но было очевидно, что сомнения не оставили его и что присутствие этой коробочки в доме графини лишь усилило его недоверие.
Между тем, хотя от Жанны не ускользнуло, что у принца зародилась какая-то явно невыгодная для нее мысль, она никак не могла объяснить причину ее появления. А г-н де Роган начал подозревать, что графиня заманивает его в ловушку.
Действительно, интерес, проявляемый кардиналом ко всему, что делала королева, легко мог стать известным; такие слухи ходили при дворе и не были тайной, а мы уже рассказывали, с каким тщанием враги де Рогана старались поддержать враждебность между королевой и ее великим раздавателем милостыни.
Портрет Марии Терезии, коробочка, которой королева обыкновенно пользовалась и которую кардинал видел сотни раз в ее руках, — как попало это в руки нищей Жанны?
Правда ли, что королева сама побывала в этом бедном жилище?
И если да, то узнала ли ее Жанна? Не скрывала ли графиня для каких-нибудь целей оказанную ей честь?
Прелата обуревали подозрения, которые зародились в нем еще накануне. Имя Валуа и без того заставило его быть настороже, а теперь оказывалось, что речь шла не о бедной женщине, но о принцессе, поддерживаемой королевой, которая лично являлась к ней, чтобы оказать ей благодеяние.
Но была ли Мария Антуанетта до такой степени добра?
Тем временем Жанна, не спускавшая с кардинала глаз и читавшая на его лице все его сомнения, переживала нравственную пытку. Действительно, для человека, имеющего какую-нибудь заднюю мысль, настоящая пытка — видеть недоверие тех, кого он желал бы убедить в своей правдивости.
Молчание становилось затруднительным для обоих; кардинал прервал его первый:
— А заметили ли вы даму, сопровождавшую вашу благотворительницу? Можете ли вы описать ее?
— О, ее-то я очень хорошо разглядела, — отвечала графиня, — она высокого роста, красивая, решительного вида, с прекрасным цветом лица, с пышными формами.
— Другая дама называла ее по имени?
— Назвала один раз, но именем, данным при крещении.
— Каким же?
— Андре.
— Андре! — вздрогнув, повторил кардинал.
Это движение не ускользнуло от внимания графини де Ламотт.
Кардинал теперь все понял, и имя Андре рассеяло все его сомнения.
Действительно, всем было известно, что позавчера королева ездила в Париж с мадемуазель де Таверне. Слухи о позднем возвращении, о запертых дверях и супружеской ссоре между королем и королевой носились в Версале.
Кардинал вздохнул с облегчением.
На улице Сен-Клод не было ни ловушки, ни заговора. Госпожа де Ламотт показалась ему прекрасной и чистой, как ангел. Но надо было подвергнуть ее еще одному испытанию. Принц недаром был дипломатом.
— Графиня, — сказал он, — меня, сознаюсь, больше всего удивляет одно обстоятельство.
— Какое, монсеньер?
— Что вы, при вашем титуле и имени, не обратились к королю.
— К королю?
— Да.
— Но, монсеньер, я обращалась к королю с двадцатью ходатайствами, с двадцатью прошениями.
— И без успеха?
— Без всякого.
— Но, помимо короля, все принцы королевского дома откликнулись бы на ваши обращения. Например, господин герцог Орлеанский, который очень добр и любит иногда делать то, чего не делает король.
— Я обращалась и к его высочеству герцогу Орлеанскому, монсеньер, но безуспешно.
— Безуспешно! Это меня удивляет.
— Что же делать! Если человек беден и не имеет рекомендации, то его прошения обыкновенно не идут дальше передней принцев.
— Зато есть еще монсеньер граф д’Артуа. Люди, любящие пожить весело, иногда способны на такие хорошие поступки, каких не дождешься и от благотворителей.
— Монсеньер граф д’Артуа поступил так же, как и его высочество герцог Орлеанский и его величество французский король.
— Но ведь есть еще принцессы, тетки короля. О графиня, или я сильно ошибаюсь, или они должны были дать вам благоприятный ответ.
— Нет, монсеньер.
— Я не могу поверить, чтобы и мадам Елизавета, сестра короля, была так бесчувственна.
— Вы правы, монсеньер. Ее королевское высочество, получив мое прошение, обещала принять меня; но не знаю почему, приняв моего мужа, она, несмотря на все мои дальнейшие попытки, не пожелала дать мне более никаких известий о себе.
— Это, действительно, странно! — воскликнул кардинал.
И тотчас же продолжал, будто бы у него только что мелькнула эта мысль в голове:
— Но, Боже мой, мы забыли…
— О ком?
— О той особе, к которой вы должны были обратиться прежде всего.
— К кому же я должна была обратиться?
— К той, которая раздает милости и никому не отказывает в заслуженной помощи: к королеве.
— К королеве?
— Да, к королеве. Вы видели ее?
— Никогда, — с невозмутимой ясностью отвечала Жанна.
— Как, вы не подавали прошения королеве?
— Нет.
— Не пытались добиться аудиенции у ее величества?
— Пыталась, но неудачно.
— Но вы, по крайней мере, старались становиться на ее пути, чтобы она обратила на вас внимание и допустила ко двору? Это было бы недурное средство.
— Я никогда не прибегала к нему.
— Положительно, сударыня, вы говорите мне невероятные вещи!
— Нет, я и вправду была только два раза в Версале и видела там только двух лиц: доктора Луи, лечившего моего несчастного отца в больнице Отель-Дьё, и барона де Таверне, к которому имела рекомендацию.
— А что вам сказал господин де Таверне? Он имел полную возможность направить вас к королеве.
— Он сказал мне, что я действую очень неловко.
— Почему?
— Потому, что добиваюсь благосклонности короля на основании родства с ним. А это, естественно, не нравится его величеству, так как бедных родственников никто не любит.
— Это вполне в духе эгоистичного и грубого барона, — заметил принц.
Затем, вспомнив о посещении Андре, подумал про себя: «Как странно! Отец лишает надежды просительницу, а королева привозит к ней его дочь. Право, из этого противоречия что-нибудь да должно выйти».
— Клянусь честью дворянина, — продолжал он громко, — я поражен, услышав от просительницы, от женщины, принадлежащей к высшей знати, что она никогда не видела ни короля, ни королевы.
— Кроме как на портретах, — с улыбкой добавила Жанна.
— Ну, — воскликнул кардинал, вполне убежденный теперь в неведении и искренности графини, — я, если это понадобится, сам свезу вас в Версаль и сделаю так, чтобы его двери раскрылись перед вами!
— О монсеньер, вы безгранично добры! — благодарила, не помня себя от радости, графиня.
Кардинал подвинулся к ней ближе.
— Не может быть, — продолжал он, чтобы ваша судьба в скором времени не заинтересовала общество.
— Ах, монсеньер, — сказала Жанна, очаровательно вздохнув, — вы серьезно так думаете?
— О да, вполне.
— Мне кажется, что вы мне льстите, монсеньер.
И она пристально взглянула на него.
Действительно, эта неожиданная перемена не могла не удивить графиню, с которой кардинал десять минут назад обращался как истый принц — довольно небрежно.
Взгляд Жанны, умело направленный на кардинала, как стрела, пущенная из лука, затронул если не сердце кардинала, то его чувственность. В этом взгляде можно было прочесть огонь тщеславия или огонь желания: во всяком случае, огонь в нем был.
Господин де Роган хорошо знал женщин и должен был признаться, что редко видел более очаровательную особу.
«Ей-Богу, — подумал он, по-прежнему затаив заднюю мысль (без нее нельзя представить придворного, в котором всегда сидит дипломат), — право, было бы слишком удивительным, слишком необыкновенным счастьем, если бы я встретил честную женщину, кажущуюся по наружности обманщицей, и вместе с тем нищую, у которой при всей ее бедности есть могущественная покровительница».
— Монсеньер, — прервала его размышления сирена, — вы иногда впадаете в молчание, которое меня тревожит… Простите, что говорю вам это.
— Чем же оно тревожит вас, графиня? — спросил кардинал.
— Вот чем, монсеньер. Такой человек, как вы, бывает невежлив только с женщинами двух сортов.
— О, Боже мой! Что вы хотите сказать, графиня? Честное слово, вы пугаете меня.
— Да, — продолжала графиня, — с женщинами двух сортов… Я это сказала и повторяю снова.
— С какими же?
— С женщинами, которых они слишком любят или которых они недостаточно уважают.
— Графиня, графиня, вы заставляете меня краснеть. Я нарушил по отношению к вам правила вежливости?
— А вы не находите?
— Не говорите мне подобных вещей: это было бы ужасно!
— Действительно, монсеньер. Ведь вы не можете слишком любить меня, и вместе с тем, как мне кажется, я вам до сих пор не дала повода не уважать меня.
Кардинал взял Жанну за руку.
— О графиня, вы говорите так, как будто рассердились на меня.
— Нет, монсеньер, вы еще не заслужили моего гнева.
— И никогда не заслужу его, сударыня, начиная с этого дня, когда я имел удовольствия увидеть и узнать вас.
«А, мое зеркало, мое зеркало!» — подумала Жанна.
— И с этого дня, — продолжал кардинал, — моя забота уже не оставит вас.
— Монсеньер, — сказала графиня, не отнимая своей руки у кардинала, — не надо этого.
— Что вы хотите сказать?
— Не говорите мне про ваше покровительство.
— Боже меня сохрани употреблять это слово! Сударыня, оно унизило бы не вас, а меня.
— Итак, господин кардинал, допустим одну вещь, которая будет для меня крайне лестной…
— В таком случае, сударыня, допустим ее…
— Допустим, монсеньер, что вы были с простым визитом вежливости у госпожи де Ламотт-Валуа. И ничего больше.
— Но и не меньше, — отвечал галантный кардинал.
И, поднеся к губам руку Жанны, он запечатлел на ней довольно долгий поцелуй.
Графиня отняла руку.
— О, это простая вежливость! — сказал кардинал с очевидным удовольствием, но сохраняя полную невозмутимость.
Жанна снова протянула ему руку, к которой прелат приложился на этот раз с вполне почтительным поцелуем.
— Вот это хорошо, монсеньер.
Кардинал поклонился.
— Знать, — продолжала графиня, — что я буду занимать хотя бы самое маленькое местечко в уме такого выдающегося и такого занятого человека, как вы, — вот что, клянусь вам, будет служить мне утешением в течение целого года.
— Одного года! Это очень мало… Будем надеяться, что и дольше, графиня.
— Что же, я не спорю с вами, господин кардинал, — с улыбкой отвечала она.
Обращение «господин кардинал» без титула было фамильярностью, которую г-жа де Ламотт допустила уже дважды. Прелат, очень щепетильный в этом отношении, в другое время был бы неприятно поражен этим; но теперь дело приняло такой оборот, что он не только не удивился, но даже был доволен таким свидетельством расположения.
— А, доверие! — воскликнул он, придвигаясь еще ближе. — Тем лучше, тем лучше.
— Да, я полна доверия, монсеньер, потому что я чувствую в вашем высокопреосвященстве…
— Вы только что называли меня «господин кардинал», графиня.
— Простите меня, монсеньер: я не знаю правил придворного этикета. Итак, я говорю, что полна доверия, ибо вы можете понять такой характер, как мой, отважный и дерзкий, и чистоту моего сердца. Невзирая на все испытания бедности, несмотря на борьбу, которую мне пришлось выдержать с моими подлыми врагами, ваше высокопреосвященство сумеет взять от меня, то есть выделить из моих слов только то, что достойно его. Ваше высокопреосвященство не откажет отнестись к остальному снисходительно.
— Итак, мы друзья, сударыня. Это подписано, подтверждено клятвой?
— Я очень хочу этого.
Кардинал встал и приблизился к г-же де Ламотт, но так как его руки были расставлены более широко, чем нужно было для произнесения клятвы, то графиня, проворная и гибкая, ускользнула от них.
— Дружба втроем! — сказала она с неподражаемым выражением насмешливости и невинности в голосе.
— Как втроем? — спросил кардинал.
— Конечно. Разве не существует где-то на белом свете бедного жандарма, изгнанника, которого зовут граф де Ламотт?
— О, графиня, вы обладаете чересчур хорошей памятью.
— Но ведь не могу же я не говорить вам о нем, раз вы сами этого не делаете.
— А вы знаете, почему я не говорю ничего о нем, графиня?
— Скажите.
— Потому, что он сам сумеет напомнить о себе: мужья себя не забывают, поверьте мне.
— А если он заговорит о себе?
— Тогда заговорят о вас и о нас с вами.
— Почему?
— Например, будут говорить, что господин граф де Ламотт нашел хорошим или дурным, что господин кардинал де Роган посещает три, четыре или пять раз в неделю госпожу де Ламотт на улице Сен-Клод.
— О, что вы говорите, господин кардинал! Три, четыре, пять раз в неделю?
— А иначе какая же это дружба, графиня? Я сказал: пять раз; я ошибся. Надо было бы сказать: шесть или семь раз, не считая двадцать девятое февраля.
Жанна засмеялась.
Кардинал заметил, что она в первый раз соблаговолила смеяться его шутке, и это польстило ему.
— Разве можно помешать людям говорить? — сказала она. — Вы знаете, что это невозможно.
— Нет, можно, — отвечал он.
— Каким же образом?
— О, очень простым. Хорошо это или нет, но меня в Париже знают.
— Конечно, хорошо, монсеньер.
— Но вас, увы, не знают.
— Так что же?
— Поставим вопрос несколько иначе.
— То есть как это?
— Если бы, например…
— Кончайте.
— Если бы вы сами выезжали из дома вместо меня?
— Чтобы я ездила в ваш особняк? Я, монсеньер?!
— Вы ведь поехали бы к министру?
— Министр не мужчина, монсеньер.
— Вы очаровательны. Ну, дело идет не о моем особняке. У меня есть дом.
— Домик для свиданий, скажите прямо.
— Нет, дом, принадлежащий исключительно вам.
— А, — воскликнула графиня, — принадлежащий мне! Где же это? Я не имела понятия о нем.
Кардинал, снова было усевшийся, поднялся.
— Завтра, в десять часов утра, вы получите адрес.
Графиня покраснела; кардинал галантно взял ее руку.
На этот раз поцелуй был одновременно и почтителен, и нежен, и смел.
Затем оба обменялись поклонами, в которых сказался остаток шутливой официальности, обещавшей близость в скором будущем.
— Посветите монсеньеру! — крикнула графиня.
Старуха явилась со свечой.
Прелат вышел.
«Ну, — подумала Жанна, — кажется, я сегодня сделала немалый шаг в свет».
«Ну-ну, — думал кардинал, садясь в карету, — я сделал два дела сразу. Эта женщина слишком умна, чтобы не обойти королеву, как обошла меня».
XVI
МЕСМЕР И СЕН-МАРТЕН
Было время, когда не занятый никакими делами и имевший много свободного времени Париж страстно интересовался вопросами, которые в наше время составляют монополию богачей, называемых бесполезными людьми, и ученых, называемых бездельниками.
В 1784 году, то есть в то время, о котором мы теперь ведем речь, модным вопросом, заслонившим собою все другие, вопросом, который носился в воздухе и поднимался во все мало-мальски высокие сферы общества, как испарения поднимаются к вершинам гор, была таинственная сила месмеризма. Открывшие ее ученые, не желая делать ее общедоступной с самого начала, окрестили ее именем человека, то есть дали ей аристократическое наименование вместо одного из тех научных греческих названий, при посредстве коих стыдливая скромность современных ученых делает популярными научные понятия.
Действительно, к чему было демократизировать науку в 1784 году? Разве народ, мнения которого его правители не спрашивали целых полтора века, считался за что-нибудь в государстве? Нет, народ был плодоносной землей, дававшей урожай; жатва была богатой, ее собирали. Но землевладельцем был король, а жнецом — дворянство.
Теперь все это изменилось… Франция напоминает песочные часы, отсчитывавшие века: они показывали в продолжение девяти веков время власти короля, но могущественная десница Божия повернула их, и они будут в продолжение многих веков показывать время власти народа.
Итак, в 1784 году имя какого-нибудь лица служила рекомендацией. Теперь же, наоборот, успех определяется именем какой-нибудь вещи.
Но оставим сегодня и взглянем на вчера.
По сравнению с вечностью что значит полувековой срок, истекший с тех пор? Это меньший промежуток времени, чем расстояние, отделяющее вчерашний день от сегодняшнего.
Доктор Месмер находился в Париже, как мы могли это узнать из слов самой Марии Антуанетты, просившей у короля позволения посетить его. Да будет же нам позволено сказать несколько слов о докторе Месмере, чье имя, сохранившееся в настоящее время в памяти лишь немногих его единомышленников, в ту эпоху, которую мы пытаемся описать, было у всех на устах.
Доктор Месмер привез с собой около 1777 года из Германии, страны туманных грез, науку, полную облаков и молний. При свете этих молний ученый видел только одни облака, образовывавшие над его головой темный свод, а простые смертные видели одни только молнии.
На ученом поприще Месмер выступил впервые в Германии с теорией о влиянии планет на людей. Он пытался доказать, что небесные тела при помощи силы, вызывающей их взаимное притяжение, оказывают известное воздействие на одушевленные тела и главным образом на нервную систему при посредстве тонких флюидов, наполняющих всю Вселенную. Но эта первая его теория была слишком отвлеченной. Чтобы понять ее, надо было быть знакомым с учением таких людей, как Галилей и Ньютон. Она была смесью астрономических данных с астрологическими фантазиями и не могла стать ни популярным, ни аристократическим учением. Для этого дворянству пришлось бы превратиться в ученую корпорацию. Месмер оставил свою первую теорию и увлекся учением о магнитах.
Магниты служили в то время предметом усердного изучения; их притягательная или отталкивающая сила сообщала минералам жизнь, несколько напоминавшую человеческую, наделяя их преобладающими в жизни человека страстями: любовью и ненавистью. Вследствие этого магнитам приписывали удивительную силу для излечения болезней. Месмер присоединил это действие магнита к своей первоначальной теории и стал ждать, что может выйти из этого соединения.
К несчастью, Месмер встретил при своем появлении в Вене соперника, который уже приобрел себе там имя. Этот соперник, по фамилии Галль, заявил, что Месмер заимствовал свою теорию у него. Тогда Месмер, человек изобретательный, объявил, что оставляет магниты, которые ему не нужны, и будет лечить уже не минеральным магнетизмом, а животным.
Это слово, произнесенное в качестве нового в науке, не означало тем не менее открытия: магнетизм, известный древним и игравший такую важную роль в египетских таинствах и в пророчествах греческих пифий, по преданиям, уцелел и в средние века. Собранные воедино, отдельные части этой науки использовались колдунами тринадцатого, четырнадцатого и пятнадцатого столетий. Многие из них были сожжены на кострах и умерли мучениками исповедоваемого ими странного культа.
Урбен Грандье был не кто иной, как магнетизер.
Месмер немало слышал про чудеса, которые производились посредством этой науки.
Джузеппе Бальзамо, герой одной из наших книг, оставил некоторый след своего пребывания в Германии и главным образом в Страсбуре; Месмер принялся собирать все данные, касающиеся этой науки, рассеянные и неуловимые, как огоньки, летающие по ночам над болотами. Он создал из них законченную теорию и цельную систему, которую назвал месмеризмом.
Добившись таких результатов, Месмер сообщил свою теорию Парижской академии наук, Лондонскому королевскому обществу и Берлинской академии. Два первых учреждения не потрудились даже ответить, а третье заявило ему, что он сумасшедший.
Месмер вспомнил тогда про греческого философа, отрицавшего движение и посрамленного в споре своим противником, который прошел перед ним несколько шагов. Он поехал во Францию, принял из рук доктора Шторка и окулиста Венцеля семнадцатилетнюю девушку, страдавшую болезнью печени и «темной водой», и через три месяца лечения больная выздоровела и прозрела.
Это исцеление убедило очень многих, и в том числе одного врача, по фамилии Делон: из противника он стал апостолом этого учения.
С этой минуты известность Месмера росла все больше и больше; Академия высказалась против новатора, а двор — за. Министерство вступило с Месмером в переговоры, убеждая его обогатить человечество, опубликовав изложение своей доктрины. Доктор запросил слишком дорого. Стали торговаться, и г-н де Бретейль предложил ему от имени короля пожизненную пенсию в двадцать тысяч ливров и десять тысяч ливров жалованья за подготовку трех лиц, выбранных правительством, к практическому применению его учения.
Но Месмер, возмущенный такой скупостью короля, отказался от предложения и уехал в Спа, на воды, с несколькими больными.
Но тут он получил неожиданный удар. Делон, его ученик, обладатель знаменитого секрета, который Месмер отказался продать за тридцать тысяч ливров в год, открыл у себя общедоступный курс лечения месмеризмом.
Месмер, узнав эту печальную весть, стал возмущаться, что его обокрали, обманули, и чуть не лишился рассудка. Тогда одному из его больных, г-ну де Бергасу, пришла счастливая мысль — передать открытие знаменитого ученого товариществу на вере. Составилось акционерное общество из ста человек с капиталом в триста сорок тысяч ливров; оно поставило Месмеру условие познакомить акционеров с его учением. Он согласился на это, получил капитал и вернулся в Париж.
Время для этого оказалось благоприятным. В истории народов, находящихся на пороге эпохи преобразований, бывают такие минуты, когда вся нация останавливается как бы перед неведомым препятствием, колеблясь и чувствуя пропасть, к краю которой она подошла, пропасть, которую она только угадывает, но не видит.
Франция переживала одну из таких минут. Внешне она казалась спокойной, но умы ее волновались. Общество было как бы погружено в дремоту, убаюканное мнимым счастьем, конец которого уже можно было предвидеть, подобно тому как, подходя к опушке леса, видишь перед собой между деревьями поляну. Это спокойствие, непрочное и неестественное, было томительно; все искали сильных ощущений, и все новое, каково бы оно ни было, принималось с радостью. Парижане стали слишком легкомысленными для того, чтобы заниматься, как в прежние времена, серьезными вопросами государственного управления или молинизмом, но готовы были ссориться из-за музыки (одни держали сторону Глюка, другие — Пиччини), страстно интересоваться «Энциклопедией» и горячо увлекаться «Мемуарами» Бомарше.
Появление новой оперы занимало умы гораздо более, чем заключение мирного договора с Англией и признание республики Соединенных Штатов. Одним словом, Франция переживала один из тех периодов, когда умы, пришедшие при помощи философов к познанию истины, то есть к разочарованию, пресыщаются определенными и ясными рамками возможного, открывающего основу и сущность всего, и, делая шаг вперед, силятся переступить через границу мира реального, чтобы проникнуть в мир грез и вымыслов.
Действительно, если с одной стороны доказано, что только самые простые и понятные истины быстро становятся популярными, то не менее признано и то, что все таинственное полно неотразимой привлекательности для всех народов.
Таким же образом и французский народ неудержимо манила и влекла к себе таинственность месмерических флюидов, которые, по словам людей убежденных, возвращали здоровье больным, рассудок — сумасшедшим и делали безумными мудрецов.
Все интересовались Месмером. Что он делает? На ком проявил свои удивительные чудеса? Какому знатному вельможе возвратил зрение и силы? Какой даме, утомленной бессонными ночами и игрой, укрепил нервы? Какую молодую девушку заставил в магнетическом сне прочесть свою будущую судьбу?
Будущее! Это слово было великим во все времена, оно всегда возбуждало жгучий интерес во всех умах, ибо сулило разрешение всех проблем. Действительно, что представляло собой настоящее?
Королевская власть лишилась своего ореола, дворянство — былого значения, торговля была в упадке, народ бесправен, все общество не имело уверенности.
Начиная с королевской семьи, погруженной в тревогу и одинокой на престоле, и кончая голодной семьей простолюдина в грязной каморке — повсюду царили бедность, стыд и страх.
Забыть о других и думать только о себе, черпать из нового, странного, неведомого источника уверенность в продлении жизни и в неизменном здоровье, отвоевать себе хоть что-нибудь у скупого Провидения — разве все это не было достаточным основанием для вполне понятного влечения к неизвестному, завесу которого Месмер слегка приподнимал перед любопытными?
Вольтер умер, и во Франции не раздавалось больше ничьего смеха, кроме смеха Бомарше, еще более горького, пожалуй, чем у великого учителя. Руссо также умер, и с ним вместе во Франции умерла религиозная философия. Руссо хотел поддержать религию, но, с тех пор как его не стало, никто не осмеливался на это, опасаясь не выдержать тяжести задачи.
В прежние времена война была важным занятием для французов. Короли поддерживали в своих интересах национальное геройство; теперь же единственная война, в которой участвовали французы, велась за американцев, да и к тому же король в ней лично нисколько не был заинтересован. Действительно, в ней сражались за неведомую цель, называемую американцами независимостью (слово, которое французы переводят посредством отвлеченного понятия «свобода»).
Но эта война была далеко, она велась не только чужим народом, но в другой части света и лишь недавно кончилась. Взвесив все это, не лучше ли было интересоваться Месмером, этим немецким врачом, во второй раз за шестилетний срок приводившим в волнение всю Францию, чем лордом Корнуоллисом или Вашингтоном, которые были так далеко, что ни того ни другого все равно никогда нельзя было увидеть?
Месмер же был тут: его можно было видеть, потрогать, и, главное — а это составляло предмет высшего честолюбия трех четвертей парижан, — ощутить его прикосновение.
Итак, этот человек, который, приехав в Париж, не встретил ни в ком поддержки, даже в королеве, так охотно вообще оказывавшей поддержку выходцам из своей страны, этот человек, оставшийся бы неизвестным, если бы не доктор Делон, успевший уже предать его, поистине царил теперь над всеми умами, оставив далеко за собой короля, о котором никогда и не говорили, г-на де Лафайета, о котором еще не говорили, и г-на де Неккера, о котором уже перестали говорить.
И вместе с тем (как будто этот век задался целью дать каждому уму то, что сообразно с его склонностями, каждому сердцу — то, что сообразно с его влечениями, каждому телу — то, что сообразно с его потребностями), лицом к лицу с Месмером, представителем материализма, встает спиритуалист Сен-Мартен, учение которого доставляло утешение тем, кого оскорблял позитивизм немецкого врача.
Пусть читатель вообразит себе атеиста с вероучением более отрадным и кротким, чем сама религия; республиканца, полного изысканного почтения и уважения по отношению к королю; дворянина, принадлежащего к привилегированному сословию, но горящего нежной, сердечной любовью, даже влюбленностью к народу; пусть читатель представит себе тройную силу такого человека, одаренного красноречием самым логичным, самым пленительным и направленным против всех земных культов, которые он называл бессмысленными лишь потому, что они признавали существование божества.
Пусть себе вообразят Эпикура с напудренными волосами, в вышитом платье, в камзоле с золотыми блестками, в атласных панталонах до колен, в шелковых чулках и в башмаках с красными каблуками; Эпикура, не довольствующегося более ниспровержением богов, в которых он не верит, но колеблющего устои правительств, на которые он смотрит так же, как и на религиозные культы, на том основании, что они никогда не бывают согласны между собой и почти всегда приводят человечество только к несчастиям.
Он выступает и против законов общества на одном только основании: законы эти одинаково карают различные преступления; они наказывают за проступки, не принимая в соображение их причины.
Вообразите себе теперь, что этот искуситель, именующий себя Неведомым философом, стремясь объединить людей, придерживающихся совершенно различных убеждений, включает в свое учение все, чем только воображение способно украсить обещанный духовный рай; вместо слов «Все люди равны», что само по себе нелепость, он изобретает следующую формулу, которая кажется нечаянно сорвавшейся с тех самых уст, что отрицают ее: «Все мыслящие люди — короли!»
Затем представьте себе действие, какое должно было произвести подобное учение, неожиданно появившееся в обществе, прозябавшем без надежд, без руководителей; в обществе, которое представляло собой архипелаг, усеянный мыслями, то есть подводными камнями. Припомните, что в такую эпоху женщины бывают нежны и безрассудны; что мужчины жаждут власти, почестей и удовольствий; что, наконец, короли позволяют колебаться своим коронам, на которые впервые устремляется из мрака любопытный и угрожающий взгляд, — припомните все это, и можете ли вы тогда найти что-нибудь удивительное в том, что это учение снискало себе приверженцев, говоря: «Выберите среди вас наиболее выдающуюся душу, что превосходит других любовью, сострадательностью, могучим желанием горячо любить и делать всех счастливыми; затем, когда эта душа будет найдена и обнаружит себя в человеке, склонитесь перед ним, повергнитесь в прах, превратитесь в ничто, признайте себя существами низшими по сравнению с ним и дайте простор диктатуре этой души, миссия которой — возвратить вам ваши права, водворить среди вас основной, главный принцип бытия — равенство страданий при вынужденном неравенстве способностей и обязанностей».
Прибавьте к этому, что Неведомый философ окружал себя таинственностью; что он оставался в глубокой тени, чтобы мирно обсуждать, вдали от всяческих шпионов и прихлебателей, великую социальную теорию, которая могла стать всемирной политикой.
«Слушайте меня, верные души, верующие сердца, — говорил он, — слушайте и старайтесь понять; или лучше слушайте меня только в том случае, если вы хотите понять меня, если вы заинтересованы в этом, так как понимание дастся вам нелегко и я не раскрою моей тайны тому, кто не сумеет сам сорвать с нее покрывала.
Я говорю о таких вещах, о которых, кажется, не хочу говорить, и поэтому часто будет казаться, что я говорю не о том, о чем говорю в действительности».
И Сен-Мартен был прав: он имел молчаливых, угрюмых и ревностных защитников его идей, таинственный кружок, мрачный и фанатичный мистицизм которого оставался от всех сокрытым.
Таким-то образом трудились над возвеличением души и материи, оба мечтая о ниспровержении религии, эти два человека, разделившие на два лагеря, каждый со своими требованиями, все лучшие умы, все избранные души Франции.
Таким-то образом к чану Месмера, доставлявшему физическое удовольствие, стекалось все, что было в этой выродившейся нации изящно-материалистического и чувственного, а вокруг книги заблуждений и истины собирались все набожные, сострадательные и любящие души, которые жаждали просветления, после того как насладились химерами.
Если предположить, что внизу, за пределами этих привилегированных сфер, все эти различные идеи расходились во все стороны и становились еще более неясными, что доносившийся сверху шум обращался здесь в громовые раскаты, как проблески света превращались в вспышки молнии, — то нетрудно будет понять то смутное состояние умов, в котором находились низшие слои общества, то есть буржуазия и народ, впоследствии названные третьим сословием. Это сословие лишь догадывалось, что кто-то занимается его судьбой, и в своем нетерпении и покорности судьбе горело желанием украсть священный огонь, подобно Прометею, и оживить им мир, который был бы его собственным, мир, где оно могло бы само вершить свои дела.
Заговоры, находившиеся еще в периоде бесед, ассоциации, бывшие еще кружками; общественные партии, имевшие еще вид кадрилей, то есть гражданская война и анархия, — вот что сквозило под всем этим и что угадывал мыслящий человек, которому не дано было видеть скрытую жизнь этого общества.
Увы, теперь, когда завеса сброшена, когда народы-прометеи десять раз стали жертвами того огня, который они сами похитили, скажите, что другое мог усмотреть мыслящий человек в конце этого странного XVIII столетия, как не разрушение целого мира и нечто подобное тому, что происходило после смерти Цезаря и до восшествия на престол Августа? Август был человеком, что провел рубеж между языческим и христианским миром, как Наполеон был человеком, который провел грань между феодальным и демократическим миром.
Быть может, мы заставили читателя вслед за нами уклонится в сторону и это отступление показалось ему несколько длинным; но, право, было бы трудно говорить об этой эпохе, не коснувшись даже легким штрихом пера важных вопросов, составлявших ее суть и жизнь.
Теперь попытка окончена, попытка ребенка, который старался бы соскоблить пальцем ржавчину с древней статуи, чтобы прочесть под ней надпись, на три четверти стертую.
Вернемся к тому, что составляет видимость. Продолжая описывать реальность, мы скажем слишком много для романиста и слишком мало для историка.
XVII
ЧАН
Картина, которую мы попытались набросать в предыдущей главе, описывая время, когда жили наши герои, и людей, занимавших умы тогдашнего общества, может оправдать в глазах читателей непередаваемую тягу парижан к зрелищу публичных лечебных сеансов Месмера.
Поэтому король Людовик XVI, который, хотя и не отличался сам любопытством, но был осведомлен обо всех новостях, производивших волнение в его добром городе Париже, позволил королеве, — как помнит читатель, с условием, чтобы августейшую повелительницу сопровождала одна из принцесс, — в свою очередь, посмотреть на то, что все мы уже видели.
Прошло два дня после визита г-на кардинала де Рогана к г-же де Ламотт.
Погода смягчилась; наступила оттепель. Целая армия метельщиков, довольных и гордых тем, что настал конец зимы, с рвением солдат, роющих траншеи, спускала в водостоки последний снег, почерневший и превратившийся в грязные потоки.
Голубое и прозрачное небо осветилось мерцанием первых звезд, когда г-жа де Ламотт, одетая изящно, как могла бы позволить себе женщина богатая, подъехала в фиакре — г-жа Клотильда постаралась нанять экипаж поновее — к Вандомской площади и остановилась против дома величественного вида; его высокие окна были ярко освещены по всему фасаду.
Это был дом доктора Месмера.
Кроме фиакра г-жи де Ламотт, перед домом стояло много экипажей и носилок; тут же двести или триста любопытных топтались в грязи, ожидая выхода исцеленных больных и входа больных, нуждающихся в исцелении.
Последние, в большинстве случаев богатые и титулованные, приезжали в каретах с гербами; их высаживали и выносили лакеи, и эти своеобразные тюки, закутанные в меховые шубы или в атласные накидки, служили немалым утешением для голодных и полуголых бедняков, которые ожидали у двери наглядного доказательства того, что Бог посылает людям здоровье или болезнь, не справляясь об их родословном древе.
Как только один из этих больных, с бледным лицом и расслабленным телом, исчезал за большой дверью, в толпе раздавался легкий гул, и редко-редко эта любопытная и необразованная толпа, видевшая не раз всю эту жадную до удовольствия аристократию во время съезда на балы или в театры, не узнавала в этих больных то какого-нибудь герцога с парализованной ногой или рукой, то какого-нибудь генерала, которому ноги отказывались служить не столько из-за утомительных военных переходов, сколько вследствие онемения, вызванного частыми привалами у дам из Оперы или актрис из Итальянской комедии.
Само собой понятно, что расследования, проводимые толпой, касались не только мужчин, но и женщин.
Эта дама, например, что пронесли гайдуки на руках, со свесившейся на грудь головой и безжизненным взглядом, напоминавшая римских матрон, которых уносили после пиров их фессалийцы, — эта дама, страдавшая нервными болями или истощенная разными излишествами и бессонными ночами, не найдя себе исцеления или возвращения жизненных сил у модных комедиантов или у тех ангелов-силачей, о которых г-жа Дюгазон могла привести столько удивительных рассказов, явилась к чану Месмера в надежде найти то, что она тщетно искала в других местах.
Пусть не подумают, что мы преднамеренно преувеличиваем развращенность тогдашних нравов. Приходится сознаться, что в то время между придворными дамами и театральными дивами шло ожесточенное соперничество. Последние отнимали у светских женщин их любовников и мужей, а первые перехватывали у актрис их товарищей и названых братцев.
Некоторые дамы пользовались не меньшей известностью, чем мужчины, и их имена возбуждали в толпе не менее оживленные толки. Но в этот вечер многие — и, вероятно, именно те, чьи имена не произвели бы большого шума в толпе, — избежали разговоров и гласности, явившись к Месмеру в атласных масках.
В тот день, на который приходилась середина Поста, должен был состояться маскарад в Опере, и некоторые дамы намеревались прямо с Вандомской площади отправиться в Пале-Рояль.
Через эту-то толпу, изливавшуюся в жалобах, щедрую на иронию, восхищение и главным образом на перешептывание, прошла графиня де Ламотт твердой поступью, держась прямо; лицо ее было закрыто маской. Ее появление не вызвало никаких замечаний, кроме несколько раз повторенного: «Ну, эта-то, вероятно, не очень больна».
Впрочем, не стоит заблуждаться: фраза эта вовсе не означала отсутствия комментариев.
Действительно, если г-жа де Ламотт не была больна, то зачем она пришла к Месмеру?
Если бы толпа была осведомлена о только что описанных нами событиях, то ответ на этот вопрос она нашла бы без затруднения.
Госпожа де Ламотт не раз принималась вспоминать о своей беседе с г-ном кардиналом де Роганом, и особенно о том исключительном внимании, которым он удостоил коробочку с портретом, забытую, или, вернее, потерянную у нее.
И так как в имени обладательницы этой вещички таилась разгадка внезапной любезности кардинала, то г-жа де Ламотт решила узнать это имя одним из двух способов.
Она начала с простейшего и отправилась в Версаль, чтобы навести справки о благотворительном обществе немецких дам.
Там, как нетрудно догадаться, ей не удалось ничего узнать.
Немецких дам, живущих в Версале, было очень много ввиду открыто проявляемой королевой симпатии к своим соотечественникам: их насчитывалось полтораста или двести человек.
Но, хотя все они были очень сострадательны к бедным, ни у одной не явилось мысли о создании в Версале благотворительного общества.
Поэтому Жанна напрасно спрашивала, не может ли кто-нибудь дать ей сведения о двух посетивших ее дамах. Не помогло ей и сообщение о том, что одну из них звали Андре. Никто не знал в Версале немецкой дамы, носившей такое имя, к тому же совсем не немецкое.
Таким образом, все ее розыски оказались с этой стороны совершенно безуспешными.
Спросить прямо г-на де Рогана об имени той особы, которую он имел в виду в своих догадках, значило бы, во-первых, показать ему, что у нее есть какие-то замыслы и насторожить его; а во-вторых, отказаться от удовольствия и заслуги самой сделать желаемое открытие вопреки всем и наперекор всяким препятствиям.
А так как визит этих дам к Жанне и их способ действий были полны таинственности и, с другой стороны, удивление и недомолвки г-на де Рогана дышали не меньшей таинственностью, то надо было найти ключ к разгадке всего этого также при посредстве элемента чудесного.
К тому же в характере Жанны лежала неудержимая склонность к борьбе с неизвестным.
Она слышала, что в Париже появился с некоторого времени один человек, ясновидец и чудотворец, который изобрел способ изгонять из человеческого тела болезни и страдания, как некогда Христос изгонял злых духов из тел бесноватых.
Она знала, что этот человек не только излечивал физические страдания, но и вырывал у души мучительную тайну, подтачивавшую ее силы. Своим властным словом и приказанием он сламывал самую упорную волю и превращал ее в рабскую покорность.
И во время сна, являвшегося на смену физическим страданиям, после того как искусный врач умело успокаивал самый возбудимый организм, погружая больного в полное забытье, душа, радостно вкушавшая доставленный ей этим волшебником покой, подчинялась всецело своему новому повелителю. С этой минуты он направлял все ее действия, играл на всех ее струнах и от него не ускользала ни одна мысль этой благодарной души, так как она сама передавала их ему на том языке, который имел по сравнению с человеческим преимущество или невыгоду никогда на лгать.
Мало того, отделяясь от тела, служившего ей тюрьмой, душа эта по первому приказанию того, кто временно повелевал ею, двигалась по свету, вступала в общение с другими душами, испытывала их, безжалостно читала в самой глубине их, и в конце концов, подобно охотничьей собаке, заставляющей дичь выйти из кустов, в которых она пряталась, считая себя там в безопасности, душа эта находила тайну человека, покоившуюся в самой глубине его сердца, выслеживала, настигала ее и приносила к ногам своего господина. Она напоминала таким образом хорошо обученного сокола или ястреба, летящего под облака за цаплей, куропаткой или жаворонком, исполняя по приказанию охотника свою жестокую службу.
Все это приводило к раскрытию множества тайн.
Госпожа де Дюра нашла таким образом своего ребенка, похищенного у кормилицы; г-жа де Шантоне — английскую собачку величиной с кулак, за которую отдала бы всех детей на свете; а г-н де Водрёй — локон волос, за который отдал бы половину своего состояния.
Эти открытия были сделаны при помощи ясновидящих обоего пола после магнетических действий доктора Месмера.
Поэтому в доме знаменитого доктора люди искали разгадки всевозможных секретов, давая лицам, одаренным сверхъестественным талантом провидения, возможность показать свои способности. И г-жа де Ламотт рассчитывала, что, побывав на таком сеансе, она непременно встретит одного из тех редких чудесно одаренных субъектов, которые ей были нужны, и при посредстве его узнает, кто была обладательница этой бонбоньерки, составлявшей для графини предмет глубочайшего интереса.
Вот каковы были причины, заставлявшие ее спешить в зал, где собрались страждущие.
Зал этот — да не посетует на нас читатель — заслуживает отдельного описания, к которому мы немедленно и приступим.
Апартаменты состояли из двух главных залов.
Миновав переднюю и предъявив служителям свой пропуск, входивший попадал в комнату, куда благодаря герметически закрытым окнам не проникали ни свет и воздух днем, ни шум и воздух ночью.
Посредине этой гостиной под люстрой, свечи которой давали слабый, чуть-чуть мерцавший свет, помещался большой чан, закрытый крышкой.
Чан этот был далеко не изящной формы, без всяких украшений; его металлические бока не были ничем задрапированы.
Это сооружение и называлось чаном Месмера.
В чем была его сила? Это нетрудно объяснить.
Чан этот был почти доверху налит водой, насыщенной сернистыми газами, которые собирались под плотно закрытой крышкой и наполняли бутылки, укрепленные под ней же в определенном порядке горлышками вниз.
Таким образом происходило смешение таинственных потоков, влиянию которых больные обязаны были исцелением.
К крышке было припаяно железное кольцо с длинной веревкой, ее назначение станет понятно, если мы окинем взглядом больных.
Все те, кого мы только что видели входящими в особняк, сидели, бледные и слабые, в креслах, поставленных вокруг чана.
Мужчины и женщины вперемежку, равнодушные, серьезные или озабоченные ожидали результатов опыта.
Служитель, взяв один конец длинной веревки, привязанной к крышке чана, обвивал ею, как кольцом, больные части тела сидевших, так что все они, соединенные одной цепью, одновременно должны были ощущать действие электричества, содержащегося в чане.
Кроме того, чтобы никоим образом не прервать действия животворных токов, передаваемых каждому применительно к его организму, больной по указанию доктора внимательно следил за тем, чтобы касаться своего соседа локтем, плечом или ногой, и благодаря этому спасительный чан одновременно разливал по телу каждого из сидевших свою теплоту и живительную силу.
Надо сознаться, что зрелище этой лечебной церемонии было довольно любопытно, и нет ничего удивительного в том, что оно так живо интересовало парижан.
Двадцать или тридцать больных сидели вокруг этого чана; служитель, сохранявший такое же глубокое молчание, как и все присутствующие, обвивал их веревкой, как Лаокоона и его сыновей обвивали кольца змей. Затем этот служитель удалялся неслышной поступью, указав больным на железные прутья, которые, будучи местами вделаны в отверстия чана, должны были служить непосредственными проводниками целебного действия месмерических флюидов.
Как только начинался лечебный сеанс, в гостиной распространялось приятное и пронизывающее тепло; оно действовало расслабляюще на несколько натянутые нервы больных и постепенно поднималось от паркета к потолку; в то же время воздух насыщался тонкими ароматами, и от их благовонных испарений тяжелели головы и мешалось в мозгу у самых упрямых больных.
Больные постепенно отдавались сладкой неге, которая вызывалась этой атмосферой; тут неожиданно раздавались звуки приятной, проникновенной мелодии, исполняемой на невидимых инструментах невидимыми музыкантами, подобной тихому пламени и сливавшейся с благовониями и теплом.
Чистые, как зеркало вод, на берегах которых они родились, звуки этой музыки ударяли по нервам с неотразимой силой. Они представлялись одними из тех загадочных и непонятных звуков природы, которые удивляют и чаруют даже животных; они напоминали жалобы ветра под глубокими сводами пещер.
Вскоре к звукам губной гармоники присоединялись мелодичные голоса, так искусно подобранные, что составляли, казалось, цветник, из которого звуки сыпались на головы присутствующих, как дождь лепестков.
Мало-помалу появившееся в первую минуту на лицах выражение удивления сменялось чувством физического удовольствия. Все органы чувств больных испытывали нежную ласку. Душа размягчалась и выходила из своего уголка, куда ее заставляют прятаться болезни тела; она свободно и радостно наполняла собой весь организм, подчиняла себе материю и как бы преображалась.
Эта была минута, когда все больные брали в руки по железному пруту, прикрепленному к крышке чана, и прикладывали его кто к груди, кто к сердцу или голове — словом, к тому месту, где гнездилась болезнь.
Пусть читатель вообразит себе выражение блаженства, сменившее на всех лицах выражение страдания и тревоги; пусть он представит себе это эгоистичное забытье всепоглощающего наслаждения, это царящее среди присутствующих молчание, прерываемое вздохами, — и он будет иметь возможно точное представление о сцене, легкий набросок которой мы только что попытались сделать, находясь на расстоянии двух третей века от того дня, когда она разыгрывалась.
Теперь скажем несколько слов об актерах этого спектакля.
Прежде всего, они делились на две категории.
Одни — это больные, которые очень мало заботились о том, что называется людским уважением: оно свято почитается людьми среднего уровня, но всегда нарушается людьми, стоящими или очень высоко, или очень низко; итак, больные — главные актеры, они явились в эту гостиную исключительно для того, чтобы выздороветь, и всем сердцем стремились к этой цели.
Другие же — скептики или просто любопытные, не страдавшие никакой болезнью, — пришли в дом Месмера как в театр, то ли потому, что хотели разобраться в ощущении, которое дает близость к заколдованному чану, то ли просто желая в качестве зрителей изучить эту новую систему лечения; последние были поэтому исключительно заняты наблюдениями над больными и теми, кто подвергались лечению, будучи совершенно здоровыми.
К числу первых, ярых поклонников Месмера, которых связывала с его учением, может быть, признательность, принадлежала одна молодая женщина, хорошо сложенная, красивой наружности, одетая довольно эксцентрично; испытывая действие флюидов и часто прикасаясь железным прутом к голове и к верхней части живота, она начинала закатывать свои красивые глаза, как будто все в ней изнемогало, причем ее руки подергивались от нервной дрожи, указывавшей на проникновение магнетических флюидов.
Когда голова ее откидывалась на спинку кресла, присутствующие могли свободно разглядывать ее бледный лоб, конвульсивно сжатые губы и красивую шею, на которой выступали пятна от прилива и отлива крови.
Большинство присутствовавших, не отрывая глаз, с удивлением наблюдали за этой молодой женщиной. Однако два или три человека из их числа наклонялись друг к другу, тихо обменивались какими-то, по-видимому, неожиданными замечаниями, еще более усиливавшими любопытство, возбуждаемое лицезрением ее.
В числе этих любопытных находилась и г-жа де Ламотт; не боясь быть узнанной или мало беспокоясь об этом, она держала в руке атласную маску, которую надевала, чтобы пройти через толпу.
К тому же она стояла в таком месте, где ее почти никто не мог видеть.
Она стала у двери, прислонясь к пилястре и полуприкрытая драпировкой, так что, сама невидимая, могла видеть все.
Но из всего того, что было у нее перед глазами, ей показалось, вероятно, наиболее достойным внимания лицо молодой женщины, наэлектризованной месмерическими флюидами. Лицо это так поразило ее, что она простояла несколько минут не двигаясь, окаменев от страстной потребности смотреть и утвердиться в своей догадке.
— О, — шептала она, не спуская глаз с красивого лица больной, — нет никакого сомнения: это та самая дама-благотворительница, что приходила ко мне тогда вечером и стала единственной причиной участия, которое принял во мне монсеньер де Роган.
И вполне уверенная, что она не ошибается, желая воспользоваться случаем, дававшим ей то, чего ей не удавалось добиться в своих розысках, она подошла ближе.
Но в эту минуту молодая женщина, по телу которой пробегали судороги, закрыла глаза, сжала губы и слабо взмахнула руками, которые, кстати сказать, вовсе не напоминали те тонкие руки, с удлиненными пальцами, восковой белизны, какими г-жа де Ламотт любовалась у себя в квартире несколько дней тому назад.
Этот припадок был заразителен, он наэлектризовал большинство больных, головы которых были затуманены звуками и благовониями, и вызвал у всех нервное возбуждение. Вскоре мужчины и женщины, увлеченные примером их молодой компаньонки, начали шумно дышать, вздыхать, что-то бормотать, даже кричать и, делая порывистые движения руками, ногами и головой, свободно и без сопротивления впали в то состояние, которое доктор называл кризисом.
В эту минуту в зале появился какой-то человек, хотя никто не видел, как и когда он вошел.
Вышел ли он из чана, как Феб-Аполлон — из вод? Не был ли он рожден из сгустившихся благовонных, насыщенных звуками паров, носившихся по залу? Как бы то ни было, но он очутился там совершенно неожиданно, и его костюм лилового цвета, ласкавшего глаз своей свежестью, его красивое, бледное, умное и ясное лицо нисколько не нарушали представления о сверхъестественности его появления.
Он держал в руке длинную палочку, которую приложил, или, вернее, погрузил, в знаменитый чан.
Затем по его знаку двери растворились и двадцать сильных слуг вбежали в комнату, умелым, быстрым движением подхватили больных, уже начинавших терять равновесие на своих креслах, и менее чем за минуту перенесли их в соседний зал.
В ту минуту, когда происходила эта процедура, особенно интересная из-за пароксизма бурного экстаза у молодой припадочной, г-жа де Ламотт, подошедшая вместе с прочими любопытными к другому залу, куда перенесли больных, услышала возглас какого-то господина:
— Но это она, несомненно она!
Госпожа де Ламотт собиралась спросить его, о ком он говорит; но в это время в глубине первой комнаты показались под руку две дамы, сопровождаемые на некотором расстоянии каким-то человеком, сильно напоминавшим своим видом доверенного слугу, хотя он и был одет в платье горожанина.
Облик этих двух дам, особенно одной из них, так сильно поразил графиню, что она сделала шаг навстречу им.
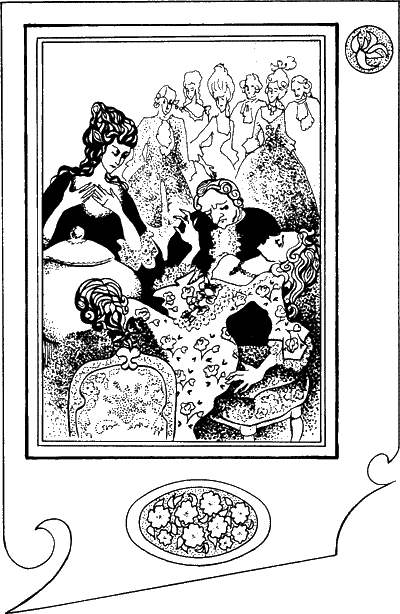
В эту же минуту громкий крик из соседнего зала, сорвавшийся с уст припадочной, заставил всех броситься в ту сторону. Тогда тот самый господин, сказавший раньше «Это она!» и стоявший около г-жи де Ламотт, воскликнул глухо и таинственно:
— Да посмотрите же, господа, ведь это королева.
При этих словах Жанна вздрогнула.
— Королева! — воскликнуло несколько испуганных и удивленных голосов.
— Королева у Месмера!
— Королева в кризисе! — повторило несколько голосов.
— О, — произнес кто-то, — этого не может быть.
— Взгляните, — спокойно проговорил неизвестный, — вы узнаёте королеву? Да или нет?
— Действительно, — пробормотало большинство присутствующих, — сходство удивительное.
Госпожа де Ламотт снова надела маску, как все те дамы, которые собирались прямо от Месмера поехать на бал в Оперу. Поэтому она могла расспрашивать без всякого риска для себя.
— Сударь, — спросила она у господина, вызвавшего все это волнение, человека довольно дородного, с румяным, полным лицом и с удивительно острым взглядом сверкающих глаз, — вы, кажется, сказали, что королева здесь?
— О сударыня, в этом не может быть сомнений, — отвечал он графине.
— Где же она?
— Да вот эта молодая женщина, которую вы видите там лежащей на фиолетовых подушках и находящейся в таком сильном припадке, что она совершенно не владеет собой. Это и есть королева.
— Но почему вы полагаете, сударь, что это королева?
— Просто потому, сударыня, что эта женщина королева, — отвечал невозмутимый обвинитель и отошел от своей собеседницы, чтобы распространить эту новость среди присутствующих.
Жанна отвернулась от того почти отвратительного зрелища, которое теперь представляла собою припадочная. Но, сделав несколько шагов к двери, она очутилась лицом к лицу с двумя дамами, которые, ожидая, когда можно будет подойти ближе к бившимся в конвульсиях больным, с живым интересом рассматривали чан, железные прутья и крышку.
Как только взгляд Жанны остановился на лице старшей дамы, она, в свою очередь, вскрикнула.
— Что случилось? — осведомилась дама.
Жанна поспешно сорвала с себя маску.
— Узнаете ли вы меня? — спросила она.
Дама хотела было утвердительно кивнуть головой, но тотчас спохватилась.
— Нет, сударыня, — сказала она с некоторым смущением.
— Ну, а я узнаю вас и сейчас докажу вам это.
Обе дамы при этих словах с ужасом прижались друг к другу.
Жанна вынула из кармана коробочку с портретом.
— Вы это забыли у меня, — сказала она.
— Если бы даже это и было так, сударыня, — спросила старшая дама, — что означает ваше волнение?
— Я взволнована опасностью, которой здесь подвергается ваше величество.
— Объяснитесь.
— Прежде наденьте эту маску, ваше величество.
И она протянула свою полумаску королеве, которая колебалась, считая себя достаточно защищенной от взоров своим головным убором.
— Умоляю вас, нельзя терять ни минуты, — продолжала Жанна.
— Сделайте, сделайте это, мадам, — сказала шепотом вторая дама королеве.
Королева машинально надела маску.
— А теперь идемте, идемте, — продолжала Жанна и увлекла обеих женщин с такой поспешностью, что они через несколько секунд уже очутились у входных дверей.
— Но, однако… — начала королева, переводя дух.
— Ваше величество никто не видел?
— Кажется, никто.
— Тем лучше.
— Но объясните же наконец…
— Пусть ваше величество пока поверит на слово моей почтительной преданности: вы подвергались большой опасности.
— Да в чем же заключалась эта опасность?
— Я буду иметь честь все рассказать вашему величеству, если вы удостоите осчастливить меня аудиенцией. Но это длинная история, а ваше величество могут узнать, заметить.
Затем, видя, что королева проявляет признаки нетерпения, она добавила, обращаясь к принцессе де Ламбаль:
— Сударыня, умоляю вас, присоедините свои просьбы к моим, чтобы убедить ее величество уехать, немедленно уехать.
Принцесса сделала умоляющий жест.
— Ну, — сказала королева, — раз вы хотите этого… Вы просили у меня аудиенции? — спросила она, обращаясь к г-же де Ламотт.
— Я горю желанием иметь честь объяснить вашему величеству мое поведение.
— В таком случае привезите мне эту коробочку и спросите привратника Лорана; он будет предупрежден.
Затем королева обернулась по направлению к улице.
— Kommen Sie da, Weber![5]Подъезжайте сюда, Вебер! (нем.) — крикнула она по-немецки.
Поспешно подкатила карета, и обе высокородные дамы сели в нее.
Госпожа де Ламотт осталась стоять у двери, пока не потеряла их из виду.
«О, я хорошо сделала, что так поступила, — сказала она про себя, — но что касается дальнейшего… надо об этом подумать».
XVIII
МАДЕМУАЗЕЛЬ ОЛИВА́
В это время господин, указавший присутствующим на мнимую королеву, подошел к одному из зрителей, жадно смотревших на происходящее, одетому в потертое платье, и хлопнул его по плечу:
— Какой прекрасный сюжет для статьи вам, журналисту!
— Как это? — спросил тот.
— Хотите знать вкратце ее содержание?
— Пожалуйста.
— Вот оно: «Об опасности родиться подданным страны, где королем управляет королева, которая любит кризисы».
Газетчик рассмеялся.
— А Бастилия? — спросил он.
— Полно! Разве не существует анаграмм, с помощью которых можно провести всех королевских цензоров? Позвольте вас спросить, может ли когда-нибудь цензор запретить вам рассказать историю принца Илу и принцессы Аттенаутны, властительницы Цанфрии? Что вы на это скажете?
— Да, это превосходная мысль! — воскликнул увлеченный его словами газетчик.
— И могу вас заверить, что статья, озаглавленная «Кризисы принцессы Аттенаутны у факира Ремсема», будет иметь большой успех в салонах.
— Я того же мнения.
— Так идите же и изложите нам все это, нисколько не стесняясь в выражениях.
Газетчик пожал руку неизвестному господину.
— Могу я вам послать несколько экземпляров? — спросил он. — Я сделаю это с большим удовольствием, если вы будете столь любезны назвать мне свое имя.
— Конечно. Мысль о статье приводит меня в восхищение, и в вашем исполнении заметка будет иметь успех, выиграет на все сто процентов. В скольких экземплярах вы обыкновенно печатаете ваши маленькие памфлеты?
— В двух тысячах.
— Окажите мне услугу.
— Охотно.
— Возьмите эти пятьдесят луидоров и прикажите выпустить в свет шесть тысяч экземпляров.
— Как, сударь? Вы меня совершенно облагодетельствовали! Позвольте мне, по крайней мере, узнать имя такого великодушного покровителя литературы.
— Я сообщу вам его, когда через неделю пришлю к вам за тысячью экземпляров по два ливра за каждый. Согласны?
— Я буду работать день и ночь, сударь.
— И смотрите, чтобы статейка вышла забавной.
— Весь Париж будет хохотать до слез, кроме одной особы.
— Которая будет плакать кровавыми слезами, не так ли?
— О сударь, вы очень остроумны!
— А вы слишком снисходительны. Кстати, пометьте, что напечатано в Лондоне.
— Конечно, как обыкновенно.
— Сударь, остаюсь вашим покорным слугой.
И дородный незнакомец простился с газетным писакой, который, со своими пятьюдесятью луидорами в кармане, тотчас же умчался с легкостью зловещей птицы.
Незнакомец остался один, или, вернее, без собеседников, и в продолжение еще некоторого времени рассматривал молодую женщину, лежавшую в зале кризисов; ее экстаз сменился состоянием полного бесчувствия и неподвижности, между тем как женская прислуга, приставленная к дамам, подвергавшимся таким припадкам, целомудренно приводила в надлежащее положение ее несколько нескромно приподнявшееся платье.
Он заметил тонкие и дышавшие чувственной негой черты красивой молодой женщины и благородную грацию ее позы во сне.
— Положительно, — сказал он, отходя, — сходство поразительное. Провидение, создав его, имело свои цели; оно заранее вынесло свой приговор той, на которую эта женщина так походит.
В ту самую минуту, как он мысленно делал это заключение, молодая женщина медленно приподнялась с подушек, опираясь на руку соседа, уже вышедшего из состояния экстаза, и принялась приводить в порядок свой значительно пострадавший туалет.
Она слегка покраснела, увидев, с каким вниманием на нее смотрят присутствующие, вежливо и кокетливо отвечала на серьезные и вместе с тем приветливые вопросы Месмера и затем, потянувшись своим красивым телом, как просыпающаяся кошка, направилась через все три гостиные к выходу, не пропуская на ходу ни одного из взглядов, бросаемых на нее присутствующими, среди которых одни были насмешливые, другие страстные, третьи недоумевающие.
Но особенно удивило ее и даже заставило улыбнуться то, что, проходя мимо одной группы, о чем-то шептавшейся в углу гостиной, она вместо игривых взглядов и смелых любезностей заметила отвешиваемые ей поклоны, настолько почтительные, что ни один придворный не смог бы более церемонно и строго приветствовать французскую королеву.
В действительности эта недоумевающая и почтительная группа была наспех собрана тем же неутомимым незнакомцем, который, спрятавшись сзади, говорил вполголоса:
— Как бы то ни было, господа, это все же французская королева; поклонимся ей, поклонимся ниже.
Маленькая особа, предмет такого почтения, миновала между тем не без некоторой тревоги последнюю прихожую и вышла во двор.
Там ее утомленные глаза стали искать фиакр или портшез; но она не нашла ни того ни другого. Постояв минуту в нерешительности, она уже поставила свою маленькую ножку на мостовую, как к ней приблизился высокий лакей.
— Ваша карета, сударыня! — сказал он.
— Но, — возразила молодая женщина, — у меня нет кареты.
— Вы изволили приехать в фиакре?
— Да.
— С улицы Дофины?
— Да.
— Я отвезу вас туда, сударыня.
— Хорошо, отвезите, — сказала молодая особа с совершенно непринужденным видом, испытав разве на одну минуту чувство некоторого беспокойства, которое неминуемо вызвало бы во всякой другой женщине такое неожиданное предложение.
Лакей сделал знак, и тотчас подкатила элегантная карета и приняла на свои подушки особу, стоявшую у двери. Затем лакей поднял подножку и крикнул кучеру:
— На улицу Дофины!
Лошади быстро помчались. Доехав до Нового моста, маленькая особа, которой пришелся очень по вкусу такой способ передвижения, как говорил Лафонтен, пожалела, что живет не у Ботанического сада.
Карета остановилась. Подножка опустилась, и тотчас же хорошо обученный лакей протянул руку за общим ключом, из тех, с помощью которых возвращались домой обитатели тридцати тысяч разделенных на квартиры парижских домов, где не было ни швейцара, ни привратника.
Лакей открыл дверь, чтобы избавить от этого труда ручки молодой особы; затем, как только она вступила в темный подъезд, он поклонился и закрыл за ней дверь.
Карета тронулась и вскоре исчезла.
— Вот поистине приятное приключение! — воскликнула молодая женщина. — Это очень любезно со стороны господина Месмера. О, как я устала! Он это, вероятно, предвидел… Он действительно замечательный врач.
С этими словами она поднялась на третий этаж и остановилась на площадке, куда выходили две двери.
На ее стук немедленно открыла какая-то старуха.
— Добрый вечер, матушка; ужин готов?
— Да, и даже стынет.
— А он здесь?
— Нет, его еще нет; а господин здесь.
— Какой господин?
— С которым вам нужно было переговорить сегодня вечером.
— Мне?
— Да, вам.
Этот разговор происходил в маленькой комнатке, заменявшей прихожую и отделявшей площадку лестницы от большой комнаты, выходившей окнами на улицу.
Через стеклянную дверь можно было различить внутренность освещенной лампой комнаты, имевшей если не вполне удовлетворительный, то, по крайней мере, сносный вид.
Старые занавески из желтой шелковой материи, истертые и местами побелевшие от времени, несколько стульев, крытых зеленым утрехтским бархатом, большая резная шифоньерка с двенадцатью ящиками и старая желтая софа — вот какова была роскошь убранства комнаты.
На камине стояли часы и по бокам их две синие японские вазы, заметно надтреснутые.
Молодая женщина открыла стеклянную дверь и подошла к софе, на которой удобно расположился господин довольно представительной наружности, скорее полный, чем худой; его красивая белая рука перебирала богатое кружевное жабо.
Вошедшая не была знакома с этим человеком, но наши читатели узнают его без труда. Это был тот самый господин, что собрал группу любопытных на пути мнимой королевы, тот самый, что заплатил за памфлет пятьдесят луидоров.
Молодая женщина не успела первая начать разговор. Загадочный посетитель сделал ей легкий полупоклон и заговорил, устремив на хозяйку квартиры оживленный и благосклонный взор:
— Я знаю, о чем вы хотите спросить меня; но вы скорее получите желаемый ответ, если позволите мне самому предложить вам несколько вопросов. Вы мадемуазель Олива́?
— Да, сударь.
— Прелестная женщина, очень нервная и очень увлеченная системой господина Месмера.
— Я только что от него.
— Прекрасно! Но, судя по тому, что можно прочесть в ваших прекрасных глазах, от этого вам не стало яснее, почему вы находите меня на вашей софе. А вы это-то и желали бы главным образом узнать?
— Вы угадали, совершенно верно, сударь.
— Сделайте одолжение, присядьте… Если вы будете стоять, то я буду вынужден также встать, и тогда нам не удастся спокойно беседовать.
— Вы можете похвалиться крайней своеобразностью своего поведения, сударь, — заметила молодая женщина, которую мы будем с этой минуты звать мадемуазель Олива́, так как она соблаговолила откликнуться на это имя.
— Мадемуазель, я вас только что видел у господина Месмера и нашел вас такой, какой и хотел увидеть.
— Сударь!
— О, не пугайтесь, мадемуазель: я не говорю вам, что нашел вас очаровательной… Нет, это походило бы на объяснение в любви, а оно не входит в мои намерения. Поэтому не отодвигайтесь от меня, прошу вас, или вы вынудите меня кричать во все горло.
— Но чего же вы хотите в таком случае? — наивно спросила Олива́.
— Я знаю, — продолжал незнакомец, — вы привыкли слышать от всех, что вы красивы… Я же думаю иначе и хочу предложить вам нечто иное.
— Сударь, ваш тон по отношению ко мне, право…
— Не волнуйтесь, прежде чем не выслушаете меня… Но не прячется ли здесь кто-нибудь?
— Здесь нет никого, сударь, но в конце концов…
— В таком случае, если здесь нет никого, то будем говорить свободно. Что бы вы сказали о небольшом союзе между нами?
— Союзе? Вы видите…
— Вы опять заблуждаетесь. Я говорю с вами не о связи, а о союзе. Я говорю с вами не о любви, а о делах.
— Каких же делах? — спросила Олива́ с любопытством, обнаруживавшим и полное изумление.
— Как вы проводите день?
— Но…
— Не бойтесь; я здесь не для того, чтобы осуждать вас. Расскажите мне все, чем вы занимаетесь.
— Я ничего не делаю или, по крайней мере, стараюсь делать как можно меньше.
— Вы ленивы.
— О!
— Прекрасно.
— А, вы находите это прекрасным?
— Конечно. Что мне за дело до того, что вы ленивы? Любите вы гулять?
— Очень.
— Посещать балы, театры?
— Чрезвычайно.
— Хорошую жизнь?
— Это в особенности.
— Если бы я дал вам двадцать пять луидоров в месяц, отказали бы вы мне?
— Сударь!
— Милая мадемуазель Олива́, у вас опять появились подозрения, а между тем между нами было условлено, что вы не будете возмущаться. Я сказал двадцать пять луидоров, но могу изменить эту цифру и на пятьдесят.
— Я предпочла бы пятьдесят луидоров двадцати пяти, но еще лучше пятидесяти луидоров в моих глазах право самой выбирать себе любовника.
— Черт возьми, да ведь я уже сказал вам, что вовсе не желаю быть вашим любовником. Так что оставьте остроумие в покое.
— В таком случае, черт возьми, что же вы мне прикажете делать, чтобы заработать ваши пятьдесят луидоров?
— Разве мы сказали пятьдесят?
— Да.
— Пусть будет пятьдесят. Вы меня станете принимать у себя, будете со мной как можно любезнее, будете опираться на мою руку, когда я пожелаю этого, и станете ждать меня там, где я вам скажу.
— Но у меня есть любовник, сударь.
— Так что ж из этого?
— Как что?
— Да… Прогоните его, черт подери!
— О, Босира не так-то легко прогнать.
— Не желаете ли, чтобы я вам помог в этом?
— Нет, я люблю его…
— О!
— Немного.
— Это совершенно лишнее.
— Но это так.
— Тогда пусть Босир остается.
— Вы очень сговорчивы, сударь.
— В надежде встретить такую же сговорчивость и с вашей стороны. Мои условия вам подходят?
— Подходят, если вы мне их назвали полностью.
— Послушайте, дорогая, я вам сказал все, что могу вам сказать в данную минуту.
— Честное слово?
— Честное слово! Но вы должны понять одну вещь…
— Какую?
— Что у меня может вдруг возникнуть необходимость, чтобы вы действительно стали моей любовницей…
— Ну вот видите! В этом никогда не будет необходимости, сударь.
— … но для видимости.
— Это другое дело, на это я согласна.
— Итак, решено?
— По рукам.
— Вот вам аванс за первый месяц.
Он протянул ей сверток с пятьюдесятью луидорами, даже не коснувшись кончиков ее пальцев. А так как Олива́ колебалась, то он сунул золото ей в карман платья, не задев даже слегка ее округлого и красивого бедра, которое, вероятно, не встретило бы такого пренебрежительного отношения со стороны тонких знатоков где-нибудь в Испании.
В ту самую минуту как золото скрылось в глубине ее кармана, два резких удара в наружную дверь заставили Олива́ стремительно броситься к окну.
— Милосердный Боже! — воскликнула она. — Спасайтесь скорее. Это он.
— Кто он?
— Босир, мой любовник… Пошевеливайтесь же, сударь.
— А, тем хуже, честное слово.
— Как тем хуже! Он вас разорвет на кусочки!
— Ба!
— Слышите, как он стучит? Он высадит двери.
— Пусть ему откроют. Дьявольщина! Почему в самом деле вы не дадите ему ключа?
И незнакомец расположился поудобнее на софе, мысленно говоря себе: «Мне нужно взглянуть на этого негодяя и оценить его».
Удары в дверь продолжались вперемежку со страшными ругательствами, поднимавшимися много выше третьего этажа.
— Идите, идите, откройте ему, матушка, — сказала взбешенная Олива́. — А вы, сударь, так и знайте, если с вами случится несчастье, тем хуже для вас самих.
— Да, вы совершенно правы: тем хуже для меня! — повторил невозмутимый незнакомец, не двигаясь с софы.
Олива́ между тем вышла на площадку и стала со страхом прислушиваться.
XIX
ГОСПОДИН БОСИР
Минуту спустя она бросилась навстречу какому-то мужчине, который, с разъяренным видом, вытянув обе руки вперед, с бледным лицом и в растерзанном костюме, ворвался в квартиру, извергая глухие ругательства.
— Босир, ну же, послушайте, Босир, — говорила она голосом не настолько испуганным, чтобы можно было упрекнуть ее в недостатке мужества.
— Пустите меня! — кричал вновь прибывший, грубо вырываясь из рук Олива́. — А! — продолжал он, все более повышая голос, — мне не открывали двери, потому что здесь мужчина!
Незнакомец, как мы знаем, продолжал сидеть на софе в спокойной и неподвижной позе, которую г-н Босир, вероятно, приписал его нерешительности или испугу.
Он подошел к незнакомцу вплотную, злобно скрежеща зубами.
— Я полагаю, что вы ответите мне, сударь? — сказал он.
— А что вы желаете, чтобы я отвечал вам, дорогой мой господин Босир? — спросил незнакомец в свою очередь.
— Что вы здесь делаете? И, прежде всего, кто вы такой?
— Я очень мирный человек, на которого вы смотрите так угрожающе. Я беседовал с этой дамой, имея самые добрые намерения.
— Да, конечно, — пробормотала Олива́, — самые добрые.
— Помолчите вы там! — проревел Босир.
— Ла-ла-ла, — произнес незнакомец, — не будьте так грубы с этой ни в чем не повинной дамой. И если вы не в духе…
— Да, я не в духе…
— Он, верно, проигрался, — сказала вполголоса Олива́.
— Я совершенно ограблен, смерть всем чертям! — прорычал Босир.
— И ничего не имели бы против того, чтобы самому слегка ограбить кого-нибудь? — заметил со смехом незнакомец. — Это вполне понятно, милейший господин Босир.
— Довольно глупых шуток! И сделайте мне удовольствие: убирайтесь отсюда.
— О господин Босир, будьте снисходительным!
— Смерть всем чертям преисподней! Вставайте и уходите или я разломаю диван и все, что на нем находится!
— Вы мне не сказали, мадемуазель, что господин Босир подвержен таким капризам. Черт возьми! Какая свирепость!
Босир, окончательно выведенный из себя, сделал величественный театральный жест и, вынимая свою шпагу, описал рукой круг диаметром, по меньшей мере, футов в десять.
— Вставайте же, — сказал он, — если не хотите, чтобы я вас пригвоздил к месту.
— Право, трудно быть более нелюбезным, — отвечал спокойно незнакомец, левой рукой вытаскивая из ножен маленькую шпагу, которая лежала за его спиной на софе.
Олива́ пронзительно вскрикнула.
— Ах, мадемуазель, мадемуазель, замолчите, — сказал по-прежнему спокойно незнакомец, уже державший шпагу в руке и даже не изменивший для этого своей позы, — замолчите, а не то случатся следующие две неприятности: во-первых, вы оглушите господина Босира и он налетит на шпагу; а во-вторых, сюда поднимется привлеченный вами патруль и отведет вас прямо в Сен-Лазар.
Тогда Олива́ прибегла вместо крика к необыкновенно выразительной пантомиме.
Это была любопытная картина. С одной стороны, г-н Босир, растерзанный, отяжелевший от вина, дрожавший от ярости, беспорядочно размахивал перед собой шпагой, безуспешно пытаясь поразить своего противника. С другой стороны, сидевший на софе невозмутимый его противник, который держал одну руку на колене, а другой, вооруженной шпагой, отражал удары Босира спокойными и проворными движениями, с таким зловещим смехом, что содрогнулся бы сам святой Георгий.
Шпага Босира при всем его желании не могла двигаться по прямой линии, так как ее все время отклоняли в сторону парады его противника.
Босир начинал уже уставать и задыхаться; но его гнев сменился теперь невольным страхом. Он наконец понял, что если эта пока еще снисходительная шпага вздумает вытянуться и сделать выпад, то ему, Босиру, настанет конец. Его охватила нерешительность, он перестал наступать, и удары его стали менее уверенными и почти нечувствительными для противника. Последний же, быстро став в третью позицию, выбил у него шпагу из рук и отбросил ее точно перышко.
Шпага пролетела по комнате, пробила окно и исчезла за ним.
Босир остался на месте, не зная, что ему делать.
— Э, господин Босир, — сказал незнакомец, — берегитесь… Если ваша шпага упадет острием вниз и в это время будет кто-нибудь проходить по мостовой — вот и покойник!
Босир, который после этих слов пришел в себя, побежал к двери и бросился с лестницы вниз, чтобы, если возможно, догнать свое оружие и предотвратить несчастный случай, который мог его поссорить с полицией.
В это время Олива́ схватила руку победителя и сказала ему:
— О сударь, вы очень храбры; но господин Босир коварен и, кроме того, вы меня поставите в очень неприятное положение, если останетесь здесь дольше. Когда вы уйдете, он меня, конечно, примется бить.
— В таком случае я остаюсь.
— Нет, нет, ради Бога; он меня бьет, я его также бью и всегда оказываюсь сильнее, потому что мне щадить незачем. Уходите же, прошу вас.
— Обратите внимание на одно обстоятельство, красавица моя: если я выйду отсюда, то встречусь с ним внизу или же на лестнице, где он меня будет подкарауливать; мы снова начнем драться, а на лестнице нельзя так удачно парировать удары, как на диване.
— Так что же?
— Либо я убью метра Босира, либо он убьет меня.
— Великий Боже! Это правда. Это был бы славный скандал в доме!
— А его желательно было бы избегнуть, поэтому я остаюсь.
— Ради самого Неба, уходите! Поднимитесь на следующий этаж и оставайтесь там, пока Босир не вернется. Считая, что вы все еще здесь, он не станет вас нигде искать. Как только он войдет сюда, вы услышите, как я запру дверь на два оборота ключа. Я таким образом посажу голубчика под замок и положу ключ себе в карман. Воспользуйтесь этой минутой и уходите, пока я, чтобы выиграть время, буду мужественно драться с Босиром.
— Вы прелестная девушка… До свидания.
— До свидания? Когда же?
— Сегодня ночью, если вы ничего не имеете против.
— Как, сегодня ночью?! В своем ли вы уме?
— Ну да, сегодня ночью. Разве сегодня нет бала в Опере?
— Да подумайте же о том, что теперь уже полночь!
— Я это знаю; это безразлично.
— Нужны домино.
— Босир отправится за ними, если вы сумеете его хорошенько отколотить.
— Вы правы, — со смехом подтвердила Олива́.
— Вот десять луидоров на костюмы, — сказал, в свою очередь засмеявшись, незнакомец.
— Прощайте, прощайте. Благодарю!
И с этими словами она вытеснила его на площадку.
— Он запер дверь внизу, — сказал незнакомец.
— Она закрывается изнутри только на засов. Прощайте, он идет.
— Ну, а если случайно он вас отколотит, как вы мне сообщите об этом?
— У вас, вероятно, есть лакеи? — спросила Олива́ после минутного размышления.
— Да, и я поставлю одного под вашими окнами.
— Прекрасно, и пусть он смотрит вверх, пока ему не упадет на нос записочка.
— Пусть так. Прощайте.
Незнакомец поднялся на верхний этаж, что было очень легко исполнить, так как на лестнице было темно, а Олива́, обратившись с громкой бранью к Босиру, заглушала шум шагов своего нового сообщника.
— Да придете ли вы наконец, бешеный! — кричала она Босиру, который поднимался по лестнице, предаваясь серьезным размышлениям о моральном и физическом превосходстве этого самозванца, так нагло вторгшегося в чужое жилище.
Дойдя до этажа, где его ждала Олива́, он вложил шпагу в ножны и мысленно стал готовить речь.
Олива́ взяла его за плечи, втолкнула в переднюю и заперла дверь на два оборота, как и обещала.
Незнакомец, спускаясь с лестницы, мог слышать шум завязавшейся битвы, в котором громко, как медь в оркестре, выделялся тот вид рукоприкладства, который вульгарно и звукоподражательно зовется оплеухами.
Они сопровождались криком и попреками. Голос Босира оглушал, а голос Олива́ заглушал его. Пусть нам простят эту плохую игру слов, которая, однако, точно передает смысл описанной сцены.
«Действительно, — подумал, удаляясь незнакомец, — никто бы не поверил, чтобы женщина, которую так напугал приход ее повелителя, могла проявить такую способность к сопротивлению».
Незнакомец не стал терять времени, ожидая окончания этой сцены.
«Начало так горячо, — размышлял он, — что развязка не может быть далека».
Он завернул за угол маленькой улицы Анжуйского Дофина, где его ожидала карета, въехавшая в эту уличку задом.
Незнакомец сказал несколько слов одному из своих людей, и тот немедленно занял позицию под окнами Олива́, притаившись в густой тени маленькой аркады у входа старинного дома.
Слуга мог видеть отсюда освещенные окна и судить по движению силуэтов о том, что происходило в комнатах.
В первые минуты быстро двигавшиеся взад и вперед, оба силуэта постепенно стали спокойнее, и наконец из двух остался только один.
XX
ЗОЛОТО
Вот что произошло за занавесками окна.
Сначала Босир удивился, увидев, что за ним запирают дверь на ключ; затем изумился тому, что мадемуазель Олива́ кричит так громко, и, наконец, еще более был поражен, когда, войдя в комнату, не нашел там своего страшного соперника.
Он стал искать его, грозил, кричал: если этот человек прячется, то, значит, боится его, а если он боится, то победа на стороне Босира.
Олива́ заставляла его прекратить эти поиски и отвечать на ее вопросы.
Босир, видя, что с ним грубо обращаются, в свою очередь повысил голос.
Олива́, уже не чувствовавшая себя виновной, так как доказательства исчезли — quia corpus delicti aberat, по выражению закона, — стала громко кричать; Босир, решив заставить ее замолчать, хотел закрыть ей рот рукой или, вернее, попытался показать, что хочет это сделать.
Но эта была его ошибка: Олива́ поняла по-своему этот примирительный жест Босира. Навстречу его руке, приближавшейся к ее лицу, она выставила свою руку, столь же ловкую и быструю, какой была недавно шпага незнакомца.
Эта рука внезапной квартой и терцией парировала движение противника и, размахнувшись, ударила Босира по щеке.
Босир ответил боковым ударом правой руки, который заставил опуститься обе руки Олива́ и скандальным образом вызвал яркую краску на ее левой щеке.
Вот это-то момент их беседы и уловил незнакомец, спускаясь с лестницы.
Объяснение, начатое таким образом, всегда влечет за собой скорую развязку; но тем не менее всякая развязка, — даже самая хорошая, — чтобы быть драматичной, требует долгих приготовлений.
Олива́ в ответ на пощечину Босира пустила в него тяжелым и опасным метательным снарядом — фаянсовым кувшином; Босир ответил ей на это при помощи мулине тростью, которая разбила на пути несколько чашек, сломала свечу и наконец опустилась на плечо молодой женщины.
Взбешенная, она прыгнула на Босира и схватила его за горло. Несчастному поневоле пришлось ухватиться за то, что ему попалось под руку на угрожавшей его жизни Олива́.
Он разорвал ее платье. Олива́, оскорбясь за себя и жалея платье, выпустила добычу; Босир не устоял на ногах и отлетел на самую середину комнаты. Естественно, он поднялся с пола еще более рассерженный.
Но так как сила неприятеля измеряется его способностью к самообороне и даже победитель уважает ее в противнике, то Босир, возымевший немалое почтение к Олива́, снова вернулся к словесной форме переговоров.
— Вы зловредное создание, — начал он, — вы разоряете меня.
— Нет, это вы меня разоряете, — ответила Олива́.
— О, я ее разоряю, когда у нее ничего нет!
— Скажите лучше, что у меня теперь больше ничего нет. Скажите, что это вы продали, проели, пропили и проиграли все, что у меня было.
— И вы смеете попрекать меня моей бедностью?
— А почему вы бедны? Это порок.
— Я сумею разом избавить вас от всех ваших пороков.
— Побоями?
И Олива́ потрясла в воздухе тяжелыми каминными щипцами, что вынудило Босира отступить назад.
— Вам не хватало только одного: взять себе любовников, — продолжал он.
— А как вы назовете тех негодниц, которые сидят около вас в притонах, где вы проводите дни и ночи?
— Я играю, чтобы иметь средства к жизни.
— И вы делаете это очень удачно: мы умираем с голоду. Прекрасное ремесло, нечего сказать!
— А вы, с вашим ремеслом, рыдаете, когда вам порвут платье, так как у вас нет денег, чтобы купить другое. Прекрасное ремесло, черт возьми!
— Получше вашего! — в бешенстве воскликнула Олива́. — И вот вам доказательство.
И она выхватила из кармана горсть золота, которую швырнула на пол.
Луидоры покатились со звоном и рассыпались в разные стороны: одни запрятались под мебель, другие продолжали катиться ребром до самых дверей, третьи, наконец, сразу, как бы обессилев, упали плашмя; изображенные на них лица сверкали золотыми блестками.
Когда Босир услышал этот металлический дождь, застучавший по дереву мебели и полу комнаты, он почувствовал нечто вроде головокружения; пожалуй, было бы вернее сказать, нечто вроде угрызений совести.
— Луидоры, двойные луидоры! — воскликнул он, остолбенев.
Олива́ держала в руке другую пригоршню монет. Она швырнула их в лицо и в протянутые руки Босира, совершенно ослепленного этим потоком золота.
— О-о! — воскликнул он. — Да она богата, эта Олива́!
— Вот что мне приносит мое ремесло, — цинично произнесла она, отталкивая резким ударом туфли золото, которым был усеян пол, и Босира, ставшего на колени, чтобы подобрать монеты.

— Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать… — считал он, весь дрожа от радости.
— Негодяй! — произнесла Олива́.
— …девятнадцать… двадцать один, двадцать два…
— Трус!
— … двадцать три, двадцать четыре… двадцать шесть.
— Подлец!
Слышал ли Босир эти слова или покраснел сам по себе, но он поднялся с пола.
— Итак, — сказал он настолько серьезным тоном, что ничто не могло быть комичнее, — итак, мадемуазель, вы делали сбережения, лишая меня самого необходимого?
Олива́, смутившись, не нашлась, что ответить.
— Итак, — продолжал негодяй, — вы предоставляли мне ходить в изношенных чулках, в порыжевшей шляпе, в платье с вытертой и разорванной подкладкой, а сами берегли эти луидоры в своей шкатулке? Откуда у вас эти деньги? Они остались от распродажи моих вещей, когда я соединил свою злосчастную судьбу с вашей!
— Мошенник! — прошептала тихо Олива́.
И она бросила на него взгляд, исполненный презрения. Но Босир нисколько не смутился.
— Я прощаю вам, — сказал он, — не вашу жадность, но вашу бережливость.
— А вы только что хотели меня убить!
— Я был прав тогда, но был бы не прав теперь.
— Почему это, скажите на милость?
— Потому что теперь вы настоящая хозяйка, вы вносите свою долю в хозяйственные расходы.
— Я вам повторяю, что вы негодяй!
— Моя маленькая Олива́!
— И вы отдадите мне назад это золото!
— О, дорогая моя!
— Вы мне отдадите его, или я вас проколю насквозь вашей же шпагой.
— Олива́!
— Да или нет?
— Нет, Олива́; я никогда не соглашусь на то, чтобы ты проколола меня шпагой.
— Не двигайтесь же, или вы погибли. Деньги!
— Отдай мне их.
— А, подлец, а, низкое созданье! Вы выпрашиваете, вымаливаете у меня плоды моего дурного поведения! И он называет себя мужчиной! Я всегда их презирала, презирала всех, слышите? И того, кто дает, еще больше, чем того, кто получает.
— Тот, кто дает, — торжественно вставил Босир, — может давать и счастлив этим. Я тоже вам давал, Николь.
— Я не хочу, чтобы меня называли Николь.
— Простите, Олива́. Итак, я говорил, что я давал вам, когда мог.
— Необыкновенная щедрость! Серебряные серьги, шесть луидоров, два шелковых платья, три вышитых платка.
— Это много для солдата.
— Молчите… Эти серьги вы украли у кого-нибудь, чтобы подарить мне; луидоры вы взяли в долг без отдачи; шелковые платья…
— Олива́, Олива́!
— Отдайте мне мои деньги.
— Что ты желаешь взамен их?
— Вдвое больше.
— Хорошо, — серьезным тоном сказал негодяй. — Я иду играть на улицу Бюсси и принесу тебе не только вдвое, а впятеро больше.
И он сделал два шага к двери. Но Олива́ схватила его за полу поношенного кафтана.
— Ну, — сказал он, — вот кафтан и разорван.
— Тем лучше, вы достанете себе новый.
— Шесть луидоров, Олива́, шесть луидоров! К счастью, банкометы и игроки на улице Бюсси не очень строги насчет одежды.
Олива́ спокойно взялась за другую полу его платья и оторвала ее. Босир пришел в ярость.
— Тысяча дьяволов! — воскликнул он. — Ты наконец дождешься, что я тебя убью! Хорошенькое дело, эта негодяйка еще будет раздевать меня! Я не могу выйти из дому.
— Наоборот, вы сейчас же уйдете.
— Это было бы интересно: без кафтана?
— Наденьте зимний плащ.
— Он в дырах, весь залатан!
— Так не надевайте его, если не хотите, но вы должны уйти.
— Никогда.
Олива́ взяла оставшиеся у нее в кармане золото, приблизительно сорок луидоров, и стала подбрасывать их в руках.
Босир едва не потерял рассудка. Он снова стал на колени.
— Приказывай, — сказал он, — приказывай.
— Вы сейчас же и быстро отправитесь в лавку «Капуцин-волшебник» на улице Сены; там продают домино для маскарадов.
— Ну?
— Вы купите мне полный костюм, маску и чулки под цвет.
— Хорошо.
— Для себя возьмете черное домино, а для меня — белое атласное.
— Да.
— Я даю вам на это только двадцать минут.
— Мы пойдем на бал?
— Да, на бал.
— А затем ты меня поведешь ужинать на бульвар?
— Конечно, но с одним условием.
— Каким?
— Вы будете мне повиноваться.
— О, всегда и во всем!
— Ну так покажите ваше усердие.
— Бегу.
— Как, вы еще не ушли?
— А деньги на расход?..
— У вас есть двадцать пять луидоров.
— Как двадцать пять луидоров? Откуда вы это взяли?
— Да те, которые вы подобрали с полу.
— Олива́, Олива́, это нехорошо.
— Что вы хотите этим сказать?
— Олива́, вы мне их подарили.
— Я не говорю, что вы их не получите; но если бы я вам их дала сейчас, вы больше не вернулись бы. Ну, идите и возвращайтесь скорее.
— Она права, черт возьми! — сказал несколько сконфуженный мошенник. — Я действительно не хотел больше возвращаться.
— Через двадцать пять минут, слышите? — крикнула она.
— Повинуюсь.
В это-то время лакей, стоявший на своем наблюдательном посту под аркой, находившейся против окон, увидел, что один из силуэтов исчез.
Это удалился г-н Босир, который вышел из дому в платье с оторванными полами, но с дерзко раскачивавшейся шпагой; рубашка выбивалась у него из камзола, как было принято во времена Людовика XIII.
Пока этот бездельник шел к улице Сены, Олива́ поспешно набросала записочку с кратким отчетом о всем происшедшем:
«Мир подписан, раздел произведен, бал принят. В два часа мы будем в Опере. У меня будет белое домино, а на левом плече бант из голубых шелковых лент».
Олива́ обернула этой бумажкой обломок разбитого фаянсового кувшина, высунулась в окно и бросила записку на улицу.
Слуга бросился к ней и, подняв ее, убежал.
Между тем г-н Босир вернулся не более как через полчаса в сопровождении двух приказчиков, которые несли купленные за восемнадцать луидоров два очень изящных домино из магазина Капуцина-волшебника, искусного мастера, поставщика ее величества королевы и придворных дам.
XXI
ДОМИК
Мы оставили г-жу де Ламотт у двери особняка Месмера, когда она следила глазами за быстро удалявшейся каретой королевы. Как только очертания ее стали невидимы и стук колес умолк, Жанна, в свою очередь, сама села в свой наемный экипаж и вернулась к себе взять домино и другую маску, а заодно посмотреть, не произошло ли за это время у нее дома чего-нибудь нового.
Госпожа де Ламотт собиралась в эту столь удачную для нее ночь отдохнуть и отвлечься от всех волнений дня. Она, со свойственной ей храбростью, решила хоть немножко кутнуть, выражаясь вульгарно, и насладиться всей прелестью неожиданных приключений.
Однако на первых же шагах этого пути, столь соблазнительного для людей с пылким, но все время сдерживаемым воображением, она встретила препятствие.
У привратника ее ожидал посыльный в сером. Он состоял на службе у г-на принца де Рогана и принес от его высокопреосвященства записку следующего содержания:
«Госпожа графиня,
Вы, без сомнения, не забыли, что мы с Вами должны покончить с кое-какими делами. Быть может, у Вас короткая память, но я никогда не забываю того, что мне понравилось. Имею честь ждать Вас там, куда Вас доставит предъявитель этого письма, если вы ничего не будете иметь против».
Вместо подписи стоял пастырский крест.
Госпожа де Ламотт, которую вначале раздосадовала эта помеха, немного подумала и, со свойственной ей быстротой, приняла решение.
— Садитесь рядом с кучером, — сказала она посыльному, — или дайте ему адрес.
Серокафтанник сел на козлы, а г-жа де Ламотт — в карету.
Через десять минут графиня приехала в предместье Сент-Антуан, в один из тех недавно благоустроенных уголков, где высокие деревья, такие же старые, как и само предместье, закрывали красивый домик, выстроенный при Людовике XV в стиле шестнадцатого века. Однако внутри дом отличался несравненным комфортом века восемнадцатого.
— О! Домик для свиданий! — пробормотала графиня. — Вполне естественно для такого знатного вельможи принимать меня здесь, но это унизительно для меня, урожденной Валуа. Однако что делать…
В этих словах, выражавших не то раздражение, не то покорность судьбе, сосредоточилось все ее неутомимое честолюбие, все безумные желания, таившиеся в ее душе.
Но едва только она переступила порог особняка, как уже приняла определенное решение.
Ее вели из комнаты в комнату, и каждой из них она удивлялась все больше, пока не дошла до маленькой столовой, обставленной с необыкновенным вкусом.
Там сидел кардинал, ожидавший ее в одиночестве.
Его высокопреосвященство перелистывал какие-то брошюры, очень похожие на собрание памфлетов, которые тысячами обрушивались в то время на Францию, как дождь, стоило только ветру подуть из Англии или Голландии.
Увидев графиню, он встал.
— А, вот и вы! Благодарю, госпожа графиня, — обратился он к ней и подошел, чтобы поцеловать ей руку.
Но графиня отступила на шаг с презрительным и оскорбленным видом.
— Что такое? Что с вами, сударыня? — спросил кардинал.
— Вы не привыкли, не правда ли, монсеньер, к такому обращению со стороны женщин, которых ваше высокопреосвященство удостаивает чести быть приглашенными сюда?
— О, госпожа графиня…
— Мы в вашем домике для свиданий, не правда ли, монсеньер? — продолжала графиня, бросая вокруг себя презрительный взгляд.
— Но, сударыня…
— Я надеялась, монсеньер, что ваше высокопреосвященство соблаговолит вспомнить о моем происхождении. Я надеялась, ваше высокопреосвященство соблаговолит вспомнить и другое: хотя Бог осудил меня на бедность, он, по крайней мере, оставил мне гордость, приличествующую мне по моему происхождению.
— Ну-ну, графиня, я вас считал умной женщиной, — сказал кардинал.
— Вы, монсеньер, называете, по-видимому, умной любую женщину, равнодушную ко всему, которая смеется над всем и даже над позором… Но таких женщин, — извините меня, ваше высокопреосвященство, — я привыкла называть иначе.
— Нет, графиня, вы ошибаетесь; я называю умной любую женщину, которая умеет слушать, что ей говорят, и не высказывается раньше, чем выслушает своего собеседника.
— Я слушаю вас.
— Я желал бы поговорить с вами о серьезном деле.
— И вы для этого заставили меня прийти в столовую?
— Да… Или вы, может быть, предпочли бы, чтобы я вас принял в будуаре, графиня?
— В этом есть, действительно, некоторая разница.
— Я того же мнения, графиня.
— Итак, речь идет только об ужине с вами, монсеньер?
— Ни о чем больше.
— Тогда, ваше высокопреосвященство, будьте уверены, что я очень чувствительна к такой чести, как это мне и подобает.
— Вы смеетесь надо мной, графиня?
— Нет, я просто смеюсь.
— Смеетесь?
— Да. Вы предпочли бы, может быть, чтобы я сердилась? На вас, однако, трудно угодить, монсеньер.
— Нет, вы очаровательны, когда смеетесь, и я ничего так не желал бы, как видеть вас всегда смеющейся. Но вы не смеетесь в данную минуту. О нет, нет… Эти полуоткрытые губки, за которыми виднеются прелестные белые зубы, говорят скорее о гневе.
— Нисколько, монсеньер… Меня совершенно успокоила эта столовая.
— Очень рад.
— И я надеюсь, что вы здесь хорошо поужинаете.
— Я хорошо поужинаю? А вы?
— Я не голодна.
— Как, сударыня, вы отказываетесь угостить меня ужином?
— Я не понимаю вас.
— Вы меня прогоняете?
— Я не понимаю вас, монсеньер.
— Выслушайте меня, дорогая графиня.
— Слушаю.
— Если бы вы не были так разгневаны, то я сказал бы вам, что, как бы вы ни старались, вы не сделаетесь от этого менее очаровательной… но так как всякий комплимент подвергает меня риску быть изгнанным, то я молчу.
— Риску быть изгнанным? Право, монсеньер, прошу вас извинить меня, ваши слова становятся все более непонятными.
— А между тем все, что здесь происходит, совершенно ясно.
— Извините, монсеньер, но у меня голова идет кругом.
— Хорошо. Прошлый раз вы принимали меня у себя, по-видимому, в несколько тесном помещении; вы находили, что оно не вполне подходяще для особы с вашим именем и рангом. Это заставило меня сократить свой визит и, кроме того, вызвало ко мне некоторую холодность с вашей стороны… Тогда я подумал, что вернуть вас в вашу среду, в подобающие вам условия жизни — то же, что дать подышать птичке, которую ученый держит под колпаком, где нет воздуха.
— И что же? — с беспокойством спросила графиня, которая начинала понимать, в чем дело.
— Тогда, прелестная графиня, для того чтобы вы могли без стеснения принимать меня и чтобы я, с своей стороны, мог приезжать к вам без неприятной огласки для себя или для вас…
Кардинал при этом пристально посмотрел на графиню.
— И тогда? — спросила она.
— И тогда я подумал, что вы согласитесь принять от меня этот небольшой домик. Вы понимаете, графиня, что речь идет не о домике для свиданий.
— Принять? Вы дарите мне этот дом, монсеньер? — воскликнула графиня, сердце которой сильно забилось от гордости и алчности.
— Это пустяк, графиня, совершенный пустяк; но если бы я подарил вам что-нибудь более значительное, вы не приняли бы.
— О, я ничего не могу принять, монсеньер, — сказала графиня.
— О, что вы говорите, сударыня?
— Я говорю, что мне невозможно принять такой подарок.
— Невозможно? Но почему?
— Потому что невозможно, вот и все.
— Не произносите это слово, говоря со мной, графиня.
— Почему?
— Потому что, находясь около вас, я не хочу ему верить.
— Монсеньер!..
— Графиня, этот дом принадлежит вам: ключи лежат здесь на золоченом блюде. Я поступаю с вами как с победительницей. Или вы и в этом видите оскорбление?
— Нет, но…
— Ну, согласитесь.
— Монсеньер, я уже сказала вам.
— Как, сударыня! Вы пишете министрам, прося их выхлопотать вам пенсию; вы принимаете сто луидоров от двух незнакомых дам, вы!
— О монсеньер, это совершенно другое дело. Тот, кто принимает…
— Тот, кто принимает дар, сам оказывает услугу дающему, графиня, — с достоинством ответил принц. — Видите, я ждал вас в вашей столовой и даже не видел еще ни будуара, ни гостиных, ни других комнат… Но я предполагаю, что все это имеется в доме.
— О монсеньер, простите; вы вынуждаете меня признать, что на свете нет более деликатного человека, чем вы.
И графиня, долго сдерживавшая свои истинные чувства, покраснела от радости при мысли, что может назвать этот дом своим.
Потом, заметив, что она слишком увлеклась, графиня в ответ на движение принца сделала шаг назад и сказала:
— Монсеньер, прошу ваше высокопреосвященство угостить меня ужином.
Кардинал снял плащ, в котором сидел до этой минуты, пододвинул графине стул и, оставшись в светском платье, которое удивительно шло ему, стал угощать свою гостью.
Ужин был подан в одну минуту.
Когда лакеи были уже у двери столовой, Жанна снова надела на лицо маску.
— Надеть маску должен был бы скорее я, — сказал кардинал, — так как вы у себя дома, среди вашей прислуги. Это я здесь в гостях.
Жанна рассмеялась, но все же не сняла маску и, несмотря на переполнявшую ее сердце радость и изумление, воздала должное ужину.
Кардинал, как мы уже не раз упоминали, был человеком благородным и по-настоящему умным.
Долгое и привычное пребывание при самых просвещенных европейских дворах, управляемых королевами, привычка вращаться среди женщин, которые в то время усложняли, но часто и разрешали все политические вопросы, а также опытность дипломата, бывшая у него, так сказать, в крови и приумноженная личной практикой, — все эти свойства, столь редкие теперь и уже редкие тогда, — приучили принца скрывать чувства и мысли как от дипломатов, своих противников, так и от женщин, своих любовниц.
Его всегда изысканная любезность и светские манеры служили ему броней, под которой он скрывал свои истинные чувства.
Кардинал считал, что превосходит Жанну во всех отношениях. В этой полной претензий провинциалке, которая под напускной гордостью не смогла скрыть от него своей алчности, он видел для себя добычу легкую, но привлекательную благодаря красоте, уму и чему-то вызывающему, что очаровывает людей пресыщенных гораздо больше, чем неопытных. Может быть, на этот раз кардинал, более непроницаемый, нежели проницательный, и ошибался; но дело было в том, что красавица Жанна не внушала ему ни малейшего недоверия.
В этом и была причина гибели этого выдающегося человека.
Он стал не только менее сильным, чем был; он обратил себя в пигмея. Но между Марией Терезией и Жанной де Ламотт разница была слишком велика, чтобы один из Роганов, и к тому же человек такого закала, как кардинал, стал бороться с Жанной.
Однако когда эти противники все же вступили в борьбу между собой, Жанна, казавшаяся более слабым бойцом по сравнению с кардиналом, постаралась не дать ему заметить, как она сильна в действительности. Она продолжала разыгрывать роль провинциальной кокетки, притворялась ничтожной и легкомысленной женщиной для того, чтобы сохранить у соперника уверенность в своих силах и, как следствие, ослабить его атаки.
Кардинал, внимательно следивший за всеми ее движениями, которые Жанна не могла сдержать, решил, что она совершенно опьянена подарком, который он ей сделал. Она и была действительно опьянена, так как этот дар превосходил не только ее надежды, но и все мечты.
Кардинал упустил из виду только одно: даже он сам стоял недостаточно высоко, чтобы удовлетворить претензии и честолюбие такой женщины, как Жанна.
У нее же, впрочем, радостное опьянение быстро рассеялось под влиянием новых желаний, сразу вступивших на место прежних.
— Ну, — сказал кардинал, наливая графине кипрского вина в маленький хрустальный бокал с золотыми звездочками, — так как вы подписали договор со мной, не дуйтесь на меня больше, графиня.
— Дуться на вас, о нет!
— Вы меня будете иногда принимать здесь без особенного отвращения?
— Я никогда не буду настолько неблагодарной, чтобы забыть, что вы здесь у себя, монсеньер.
— У себя! Что за вздор!
— Нет, у себя, всецело у себя.
— Если вы будете спорить со мной, берегитесь!
— А что случится тогда?
— Я предложу вам другие условия.
— Тогда берегитесь в свою очередь.
— Чего?
— Всего.
— Так скажите.
— Я здесь у себя.
— И…
— И если я найду эти условия неразумными, то призову своих слуг.
Кардинал рассмеялся.
— Ну вот, видите? — сказала графиня.
— Ничего не вижу, — отвечал кардинал.
— Вы видите, что вы смеялись надо мной?
— Почему?
— Однако вы смеетесь!
— Но это мне сейчас кажется вполне уместным.
— Да, вполне уместным, так как вы прекрасно знаете, что если я позову слуг, то они не явятся, — сказала графиня.
— Нет, явятся, черт подери!
— Фи, монсеньер!
— Что я такое сделал?
— Вы помянули черта, монсеньер.
— Но здесь я не кардинал, графиня; я здесь у вас, так сказать, в роли ухаживателя.
И он снова рассмеялся.
«Право, — сказала себе графиня, — это несомненно превосходный человек».
— Кстати, — сказал кардинал, как будто бы у него только что неожиданно мелькнула другая мысль, — что вы рассказывали мне прошлый раз о двух дамах-благотворительницах, о двух немках?
— О дамах, у которых был тот портрет? — переспросила Жанна, которая после того, как увидела королеву, была готова отразить неожиданное нападение.
— Да, именно о дамах с портретом.
— Монсеньер, — сказала г-жа де Ламотт, устремив взор на кардинала, — вы знаете их так же хорошо, как и я, держу пари, что даже лучше.
— Я? О графиня, вы обижаете меня! Разве вы не выразили желания узнать, кто они?
— Конечно. Ведь, мне кажется, вполне естественно желать узнать имя своих благодетельниц.
— Ну, если бы я знал, кто они, вы бы также знали это.
— Господин кардинал, я вам говорю, что вы знаете этих дам.
— Нет.
— Повторите свое «нет» еще раз, и я назову вас лжецом.
— О! А я отомщу вам за оскорбление.
— Каким это образом?
— Поцеловав вас.
— Господин посланник при венском дворе! Большой друг императрицы Марии Терезии! Мне кажется, что вы, хотя сходство невелико, должны были узнать портрет вашей приятельницы.
— Так это действительно был портрет Марии Терезии, графиня?
— Продолжайте притворяться, что не знали этого, господин дипломат!
— Ну хорошо… Если бы я, положим, и узнал императрицу Марию Терезию, то что же бы это доказывало?
— То, что, узнав портрет Марии Терезии, вы должны были догадаться, кто те женщины, которым принадлежал портрет.
— Но как я могу догадаться об этом? — спросил с некоторым беспокойством кардинал.
— Да просто потому, что портрет матери — а это портрет матери, а не императрицы, заметьте, — довольно необычно увидеть в иных руках, кроме как…
— Договаривайте.
— … кроме как в руках дочери.
— Королева! — воскликнул Луи де Роган с такой искренней интонацией, что обманул Жанну. — Королева! Ее величество была у вас!
— Как, сударь, вы не догадались, что это была она?
— Боже мой, нет, — отвечал кардинал совершенно естественным тоном, — нет. В Венгрии портреты коронованных особ обыкновенно передаются из семьи в семью. Так, например, я, присутствующий здесь, не сын, не дочь и даже не родственник Марии Терезии, а между тем у меня есть ее портрет.
— Он при вас, монсеньер?
— Смотрите, — холодно отвечал кардинал.
И, вынув из кармана табакерку, он показал ее озадаченной Жанне.
— Итак, вы видите, — прибавил он, — что если этот портрет может быть у меня, не имеющего чести принадлежать к императорской семье, то его мог забыть у вас и кто-нибудь другой, не принадлежащий к австрийскому августейшему дому.
Жанна замолчала. Она имела все задатки дипломата, но ей не хватало практики.
— Итак, по вашему мнению, — продолжал принц Луи, — у вас была королева Мария Антуанетта?
— Да, королева с другой дамой.
— С госпожой де Полиньяк?
— Не знаю.
— С госпожой де Ламбаль?
— С красивой и очень серьезной молодой женщиной.
— Может быть, с мадемуазель де Таверне?
— Возможно; я ее не знаю.
— Но если ее величество посетила вас, то вы, значит, можете быть уверены в покровительстве королевы. Это для вас большой шаг к удаче.
— Я тоже так думаю, монсеньер.
— Ее величество, простите мой вопрос, была щедра к вам?
— Она мне дала, кажется, сто луидоров.
— О! Но ее величество не богата, особенно сейчас.
— Это лишь удваивает мою благодарность.
— И что же, она проявила к вам особый интерес?
— Да, и довольно живой!
— В таком случае все обстоит благополучно, — сказал прелат, забывая на время о покровительствуемой и задумавшись о покровительнице. — Вам, значит, остается добиться еще только одного.
— Чего именно?
— Проникнуть в Версаль.
Графиня улыбнулась.
— Не будем обманывать себя, графиня: в этом-то и заключается главная трудность.
Графиня снова улыбнулась, еще более многозначительно, чем в первый раз.
Кардинал также улыбнулся.
— Действительно, вам, провинциалкам, — начал он, — все кажется просто. Увидав Версаль с его открытыми воротами и с лестницами, по которым поднимаются люди, вы воображаете себе, что всякий, кто хочет, может отворить решетки этих ворот и подняться по этим лестницам. Видели ли вы, графиня, те чудовища из бронзы, мрамора или свинца, которые украшают парк и террасы Версаля?
— Да, монсеньер.
— Гиппогрифов, химер, горгон, вампиров и других зловредных созданий… Их там сотни. Теперь поймите же, что между государями и благодеяниями, исходящими от них, стоит в десять раз больше живых и злобных тварей, чем этих изваянных чудовищ, которые оберегают цветы сада от тех, кто хочет в него войти.
— Ваше высокопреосвященство, вероятно, не откажет мне в помощи, чтобы пройти сквозь ряды этих чудовищ, если они преградят мне дорогу.
— Я попробую, но мне это будет очень трудно. И прежде всего, если вы произнесете мое имя, если предъявите свой талисман, то после двух визитов он окажется для вас бесполезным.
— К счастью, — ответила графиня, — в этом отношении меня охраняет непосредственное покровительство королевы, и если я проникну в Версаль, то войду в него вооруженная хорошим ключом.
— Каким ключом, графиня?
— Господин кардинал, это мой секрет. Нет, я ошибаюсь: если бы это был мой секрет, я вам открыла бы его, так как не хочу ничего скрывать от моего милого покровителя.
— Вы говорите «если бы», графиня?
— Увы, да, монсеньер; это не мой секрет, и я его должна сохранить. Довольствуйтесь тем, что я скажу вам…
— Что именно?
— Что я завтра буду в Версале, меня там примут, и, могу надеяться, примут хорошо, монсеньер.
Кардинал взглянул на молодую женщину, уверенность и возбуждение которой казались ему прямым следствием ужина.
— Посмотрим, графиня, — смеясь, сказал он, — войдете ли вы туда.
— Ваше любопытство будет настолько велико, что вы прикажете следить за мной?
— Непременно.
— Я ничего не имею против.
— Итак, графиня, берегитесь… Теперь войти в Версаль для вас вопрос чести.
— В малые апартаменты — да, монсеньер.
— Уверяю вас, графиня, что вы для меня живая загадка.
— Одно из тех маленьких чудовищ, которых так много в версальском парке?
— Надеюсь, вы меня считаете человеком со вкусом, не так ли?
— Ну, конечно, монсеньер.
— Так посмотрите, я у ваших ног и целую вашу руку. А разве можно предположить, чтобы я прикоснулся своими губами к лапе с когтями и взял в руку чешуйчатый хвост рыбы?
— Прошу вас вспомнить, монсеньер, — сказала холодно Жанна, — что я не гризетка и не девица из Оперы. Это значит, что я принадлежу только себе, когда не принадлежу своему мужу, и, чувствуя себя равной любому мужчине в королевстве, я сама свободно выберу себе, когда пожелаю, того, кто сумеет мне понравиться. Итак, монсеньер, относитесь же ко мне с большим уважением: вы этим покажете, что уважаете и в себе и во мне благородство нашего происхождения.
Кардинал встал.
— Ну, — сказал он, — вы, значит, хотите, чтобы я полюбил вас серьезно?
— Я не говорю этого, господин кардинал. Но я хочу сама полюбить вас. И поверьте мне, когда это случится, если только это случится, вы без труда заметите, что я люблю вас. Я даже сама сообщу вам об этом, если вы ничего не заметите, так как я чувствую себя еще достаточно молодой и красивой, чтобы не бояться самой сделать первый шаг. Порядочный человек не оттолкнет меня.
— Графиня, — сказал кардинал, — уверяю вас, что если только это будет зависеть от меня, то вы полюбите меня.
— Увидим.
— Вы ведь уже чувствуете ко мне дружбу, не правда ли?
— Больше чем дружбу.
— Право? В таком случае мы уже на полдороге.
— Не будем мерить, сколько туазов пройдено, будем просто идти.
— Графиня, вы женщина, которую я боготворил бы…
И он вздохнул.
— Боготворили бы? — переспросила г-жа де Ламотт в изумлении. — Если бы…
— Если бы вы это позволили, — поспешил договорить кардинал.
— Я, может быть, и позволю вам это, монсеньер. Но только тогда, когда фортуна будет улыбаться мне уже достаточно долго, чтобы я избавила вас от необходимости столь поспешно преклонять передо мной колени и раньше времени целовать мне руку.
— То есть…
— Да, когда я не буду больше зависеть от ваших благодеяний, вы не станете подозревать, что я жду от ваших визитов каких-то выгод. Тогда ваши чувства ко мне станут более возвышенными. Я от этого только выгадаю, монсеньер. Да и вы ничего не потеряете.
Она снова встала, так как нарочно перед тем уселась, чтобы прочитать мораль с большей торжественностью.
— Этим, — ответил кардинал, — вы ставите меня в невыносимое положение.
— Как так?
— Вы запрещаете мне ухаживать за вами!
— Меньше всего на свете. Разве ухаживать за женщиной — значит непременно становиться перед нею на колени и целовать ей руки?
— Тогда прямо к делу, графиня. Каким же образом вы позволите мне ухаживать за вами?
— Так, чтобы это не противоречило моим вкусам и обязанностям.
— О, вы избрали две самые неопределенные области на свете.
— Вы напрасно прервали меня, монсеньер, так как я собирались добавить к сказанному еще и третью.
— Что же именно, великий Боже?
— И так, как подскажут мне мои прихоти.
— Я погиб.
— Вы отступаете?
Кардинал находился в эту минуту более во власти чар задорной соблазнительницы, нежели под влиянием своих тайных мыслей.
— Нет, — сказал он, — я не отступлю.
— Ни перед моими обязанностями?
— Ни перед вашими вкусами и прихотями.
— А доказательства?
— Говорите, чего вы желаете?
— Я хочу поехать сегодня вечером на бал в Оперу.
— Это ваше дело, графиня… Вы свободны как ветер, и я не вижу, что бы вам могло помешать отправиться на этот бал.
— Минуту. Вы узнали только половину моего желания… Другая половина заключается в том, чтобы и вы поехали со мною.
— Я! В Оперу! О, графиня!
И кардинал сделал быстрое движение, которое было бы совершенно естественно для обыкновенного смертного, но для Рогана, да еще в сане кардинала, должно было выражать крайнее удивление.
— Вот как вы стараетесь угодить мне? — спросила г-жа де Ламотт.
— Кардиналы не ездят на балы в Оперу, графиня; это так же невозможно для меня, как для вас пойти… в курительную.
— Кардиналы также и не танцуют, не правда ли?
— О нет!
— Ну, а как же я читала, что кардинал Ришелье танцевал сарабанду?
— Перед Анной Австрийской — да… — вырвалось у принца.
— Перед королевой, это правда, — повторила Жанна, глядя на него пристально. — Ну и вы, может быть, сделали бы это для королевы…
Принц, при всей своей ловкости и самообладании, не мог скрыть выступившей у него при этих словах краски на лице.
Сжалилась ли лукавая женщина над его смущением или сочла более удобным для себя не оставлять его долго в замешательстве, но она поспешила добавить:
— Как же мне, которой вы расточаете свои уверения, не быть оскорбленной, видя, что вы ставите меня ниже королевы, когда у вас просят только одного: поехать со мною скрытым от всех взоров под домино и маской. Оказав мне эту любезность, за которую я так буду вам признательна, вы помогли бы мне сделать громадный, измеряемый уже не вашими пресловутыми туазами шаг на том пути, о котором мы говорили.
Кардинал, довольный тем, что так дешево отделался, а в особенности обрадованный постоянными победами, которых хитрая Жанна позволяла ему как будто добиваться после каждой его ошибки, бросился к графине и пожал ей руку.
— Для вас, — сказал он, — я готов на все, даже на невозможное.
— Благодарю вас, монсеньер… Человек, который идет ради меня на такую жертву, — мой драгоценный друг. Я вас освобождаю от этой неприятной обязанности теперь, когда вы согласились на нее.
— Нет, нет, только тот может требовать себе вознаграждения, кто сделал свое дело. Графиня, я еду с вами, но в домино.
— Мы поедем по улице Сен-Дени, около Оперы; я в маске войду в магазин и куплю вам костюм, вы переоденетесь в карете.
— Графиня, а знаете, это будет очаровательный вечер!
— О монсеньер, ваша доброта ко мне так безгранична, что приводит меня в полное смущение. Но мне пришло в голову: может быть, в вашем доме, в особняке Роган, ваше сиятельство найдет домино, которое будет более в вашем вкусе, чем то, которое мы собираемся купить?
— Вот непростительное коварство, графиня! Если я еду на бал в Оперу, то верьте одному…
— Чему?
— Что я буду так же удивлен, увидев себя там, как и вы, когда ужинали вдвоем с другим мужчиной, а не с вашим мужем.
Жанна поняла, что на это нечего возразить, и только поблагодарила его.
К дверям домика подъехала карета без гербов на дверцах, приняла двух беглецов и крупной рысью понеслась к бульварам.
XXII
НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ОПЕРЕ
Опера, этот парижский храм развлечений, сгорела в июне 1781 года.
Двадцать человек погибло под развалинами. И так как это несчастье случалось во второй раз за восемнадцать лет, то постоянное место ее расположения — Пале-Рояль — стало казаться роковым для веселящихся парижан, и королевским ордонансом театр был перемещен в другой квартал, подальше от центра.
Для людей, живших по соседству с ней, театральное здание — целый город, полный холста и некрашеного дерева, картона и красок, — всегда служило источником беспокойства. Целая и невредимая, Опера воспламеняла сердца финансистов и аристократов, в ее залах смешивались люди различных званий и имущественного положения. Но загоревшаяся Опера могла уничтожить целый квартал, даже целый город. Для этого было достаточно одного порыва ветра.
Выбранное для новой Оперы место находилось у ворот Сен-Мартен. Король, озабоченный тем, что его добрый город Париж так долго останется без этого театра, стал грустен, как это бывало всякий раз, когда в город не подвозили зерно или когда цена на хлеб превышала семь су за четыре фунта.
Нужно было видеть, как были выбиты из колеи все старые аристократы, все молодые судейские, все офицеры и все финансисты, не знавшие теперь, на что употребить время после обеда; нужно было видеть, как блуждают по бульварам бесприютные божества — от танцора кордебалета до примадонны.
Чтобы утешить короля, а отчасти и королеву, их величествам представили архитектора г-на Ленуара, который обещал невиданные чудеса.
Этот милейший человек был полон новых планов; он предложил столь совершенную систему вентилируемых коридоров, что в случае пожара никому не грозила опасность задохнуться там от дыма. Он спроектировал восемь больших дверей, не считая пяти больших окон в первом этаже, которые находились так близко от земли, что даже самые трусливые могли выпрыгнуть из них прямо на бульвар, не боясь сломать себе шею.
Взамен дивного зала Моро и живописи Дюрамо г-н Ленуар предлагал здание с фасадом в девяносто шесть футов, выходившим на бульвар. Фасад этот должны были украшать восемь кариатид, опирающихся на столбы; три входные двери; между ними — восемь колонн, покоящихся на цоколе; а вдобавок — барельеф над капителями и балкон с тремя окнами, украшенными архивольтами.
Сцена должна была иметь тридцать шесть футов в ширину, зрительный зал — семьдесят два фута в длину и восемьдесят четыре фута в ширину от одной стены до другой.
Фойе должны были быть украшены зеркалами и отделаны с благородной простотой.
Во всю ширину зала, под оркестром, г-н Ленуар предусмотрел пространство в двенадцать футов для огромного резервуара и двух комплектов насосов, к которым должно было быть приставлено двадцать солдат французской гвардии.
Наконец, в довершение всего, для того чтобы выстроить зрительный зал, архитектор просил семьдесят пять дней и семьдесят пять ночей, и ни одного часа больше или меньше.
Последний пункт показался хвастовством, и над этим первое время очень смеялись. Но король произвел с г-ном Ленуаром расчеты и согласился на все его условия.
Архитектор принялся за работу и сдержал слово. Зал был окончен к назначенному сроку.
Но тогда публика, которая никогда ничем не бывает довольна, рассудила, что зал весь деревянный, а иначе и нельзя было выстроить его так быстро, и что, следовательно, пребывание в новом здании небезопасно. В этот театр, окончания которого все ждали с таким страстным нетерпением, что при постройке его следили чуть ли не за кладкой каждого бревна, — в здание, которое росло на глазах парижан, причем каждый заранее намечал себе в нем место, теперь, когда оно было окончено, никто не захотел войти. Самые отчаянные смельчаки и безумцы взяли билеты на первое представление оперы Пиччинни «Адель из Понтьё», но при этом написали и свои завещания.
Видя это, архитектор в отчаянии обратился к королю, который подал ему блестящий совет.
— Трусливые люди во Франции, — сказал его величество, — это те, кто платят. Они скорее готовы дать вам десять тысяч ливров ренты и задыхаться в переполненном зале, но не хотят рисковать задохнуться под обрушившимся потолком. Оставьте же их в покое и пригласите публику храбрую, но которой нечем платить. Королева подарила мне дофина: город ликует от восторга. Объявите, что для ознаменования радостного события — рождения моего сына — Опера откроет свои двери бесплатным представлением, и если две с половиной тысячи жителей, которые весят около трехсот тысяч фунтов, окажутся в ваших глазах недостаточным мерилом для испытания прочности постройки, то попросите всех этих молодцов немножко поплясать. Вы ведь знаете, господин Лоран, что вес увеличивается в пять раз при падении предмета с высоты четырех дюймов. Ваши две с половиной тысячи храбрецов представят собой нагрузку в полтора миллиона фунтов, если вы заставите их танцевать. Устройте им после спектакля бал.
— Ваше величество, благодарю вас, — сказал архитектор.
— Но сначала хорошенько подумайте: ведь вашему зданию это будет тяжеловато.
— Ваше величество, я ручаюсь за свою постройку и сам пойду на этот бал.
— А я, — ответил король, — обещаю вам приехать на второе представление.
Архитектор последовал совету. «Адель из Понтьё» была исполнена перед тремя тысячами простолюдинов, которые хлопали с еще большим воодушевлением, чем королевские особы.
Эти же люди охотно согласились потанцевать после спектакля и повеселились вволю. И вес их при этом увеличился в десять, а не в пять раз.
В зале ничто даже не шелохнулось.
Если и можно было опасаться несчастья, то на следующих представлениях, потому что трусливая знать стала переполнять этот зал до отказа. Туда — три года спустя после открытия Оперы — отправились на бал г-н кардинал де Роган и г-жа де Ламотт.
Вот те краткие предварительные объяснения, которые мы должны дать читателю. Теперь вернемся к героям нашего рассказа.
XXIII
БАЛ В ОПЕРЕ
Бал был в полном разгаре, когда кардинал Луи де Роган и г-жа де Ламотт прокрались незаметно в зал; по крайней мере, прелат старался проскользнуть как можно незаметнее в тысячную толпу домино и всевозможных масок.
Скоро толпа их окружила со всех сторон, и они потонули в ней, как на глазах гуляющих у берега реки исчезают в сильном водовороте маленькие волны, подхваченные и унесенные ее течением.
Два домино, насколько это было возможно в такой толкотне, старались, держась бок о бок, общими усилиями противостоять напору толпы, но, увидев, что это им не удается, решили отойти под ложу королевы, где толпа была не так густа и где стена могла служить опорой.
То были черное и белое домино: одно высокое, другое среднего роста; одно скрывало мужчину, другое — женщину. Он сильно размахивал руками, а она поворачивала голову то вправо, то влево.
Эти маски, по-видимому, были поглощены очень оживленным разговором. Прислушаемся к нему.
— Я вам говорю, Олива́, что вы ждете кого-то, — повторял мужчина. — Ваша голова вертится, как флюгер, во все стороны, но не по воле ветра, а вслед за каждым встречным.
— Ну и что из этого?
— Как что из этого?
— Да, что же удивительного в том, что моя голова вертится? Разве я здесь не для того, чтобы смотреть?
— Но вы не только вертите своей головой, вы кружите ее и другим.
— А для чего же ездят в Оперу, сударь?
— По тысяче причин.
— Да, но это мужчины. А женщины приходят сюда только с одной целью.
— С какой?
— С той, о которой вы только что говорили: вскружить как можно больше голов. Вы меня повезли на бал в Оперу, и вам остается только покориться.
— Мадемуазель Олива́!
— О, не повышайте голоса. Вы знаете, что я этого не боюсь; а главное, оставьте привычку называть меня по имени. Ничего не может быть неприличнее, как называть людей по имени на балу в Опере.
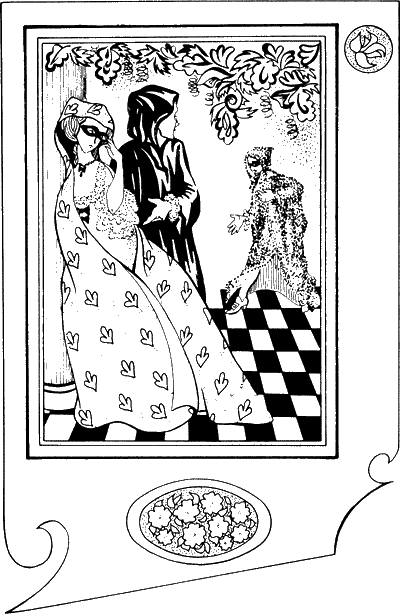
Черное домино сделало гневный жест, но его остановило внезапно появившееся голубое домино, довольно дородное, высокое и представительное на вид.
— Ла-ла, сударь, — сказало оно, — предоставьте же своей даме веселиться, как она того хочет. Какого черта! Середина Поста бывает не каждый день, и не каждый раз в середине Поста удается попасть на бал в Опере!
— Не вмешивайтесь не в свое дело, — грубо ответило черное домино.
— Сударь, — продолжало голубое домино, — запомните раз навсегда, что немножко вежливости никогда не портит дела.
— Я вас не знаю, — отвечало черное домино, — на кой же мне черт церемониться с вами?
— Вы меня не знаете, может быть, но…
— Но что?
— Но я знаю вас, господин де Босир.
Услышав свое имя, черное домино, так свободно произносившее имена других, сильно вздрогнуло, что было видно по заколыхавшимся складкам его шелкового капюшона.
— О, не бойтесь, господин де Босир, — продолжала маска, — я не тот, за кого вы меня принимаете.
— А за кого я вас принимаю, черт побери? Разве вы не довольствуетесь тем, что угадываете имена, и хотите еще угадывать и мысли?
— А почему бы и нет?
— Так угадайте-ка, о чем я думаю. Я никогда не видел волшебника, и мне, право, доставит удовольствие познакомиться хотя бы с одним.
— О нет! То, что вы от меня требуете, слишком просто, чтобы оправдать титул, который вы мне так легко даровали.
— Но скажите все же.
— Нет, придумайте что-нибудь еще.
— Мне довольно и этого. Угадывайте!
— Вы этого хотите?
— Да.
— Ну, хорошо! Вы приняли меня за агента господина де Крона.
— Господина де Крона?
— Черт возьми, вам ведь это имя хорошо известно. Да, господина де Крона, начальника полиции.
— Сударь…
— Потише, дорогой господин Босир; право, можно подумать, что вы хотите схватиться за шпагу.
— Конечно, я и ищу ее.
— Дьявольщина! Какая у вас воинственная натура! Успокойтесь, дорогой господин Босир, вы оставили ее дома, и хорошо сделали. Поговорим же о чем-нибудь другом. Позвольте мне предложить руку госпоже?
— Руку госпоже?
— Да, вашей даме. Ведь это, кажется, принято на балах в Опере или вы думаете, что я только что приехал из Ост-Индии?
— Конечно, это принято, но когда на это согласен кавалер дамы.
— Иногда, дорогой господин Босир, достаточно и согласия одной дамы.
— И надолго вы просите у меня ее руки?
— О, дорогой господин Босир, вы слишком любопытны: может быть, на десять минут, может быть, на час, а может быть, и на всю ночь.
— Полноте, сударь, вы, смеетесь надо мной.
— Отвечайте: да или нет, дорогой господин? Уступаете ли вы мне руку вашей дамы?
— Нет.
— Ну-ну, не прикидывайтесь таким злым.
— Это почему?
— Потому что вы и так в маске; бесполезно надевать на себя еще и другую.
— Послушайте, сударь…
— Ну вот, вы опять сердитесь, а между тем вы были так кротки еще недавно.
— Где это?
— На улице Дофины.
— На улице Дофины! — воскликнул Босир в недоумении.
Олива́ громко расхохоталась.
— Замолчите, сударыня! — сказал ей сквозь зубы человек в черном домино.
— Я ничего не понимаю из того, что вы говорите, — продолжал Босир, обращаясь к голубому домино. — Если вам угодно совать нос в мои дела, делайте это честно, сударь!
— Но, дорогой господин Босир, мне кажется, ничего не может быть честнее правды? Не так ли, мадемуазель Олива́?
— Как, — воскликнула она, — вы и меня знаете?
— Разве этот господин не назвал недавно ваше имя во всеуслышание?
— А правда, — сказал Босир, возвращаясь к разговору, — заключается в том…
— В том, что в ту минуту, как вы собирались убить эту бедную даму — а час тому назад вы собирались это сделать, — вас остановил звон двух десятков луидоров…
— Довольно, сударь.
— Хорошо; но уступите мне руку вашей дамы, если с вас довольно.
— О, я прекрасно вижу, — пробормотал Босир, — что эта дама и вы…
— Что эта дама и я?
— Вы сговорились.
— Клянусь вам, что нет.
— Можно ли сказать такое? — воскликнула Олива́.
— И к тому же… — начало голубое домино.
— Что к тому же?
— Если бы мы и сговорились, то только для вашей же пользы.
— Когда что-нибудь утверждают, это надо доказать, — дерзко заявил Босир.
— Охотно.
— Я очень желал бы знать…
— Я вам докажу, — продолжало голубое домино, — что ваше присутствие здесь настолько же вредно для вас, настолько ваше отсутствие было бы для вас выгодно.
— Для меня?
— Да, для вас.
— Каким же образом, скажите на милость?
— Вы ведь состоите в некоей академии, не так ли?
— Я?!
— Не сердитесь, дорогой господин де Босир, я говорю не о Французской академии.
— Академия, академия… — проворчал кавалер мадемуазель Олива́.
— Да, улица Железной Кружки, подвал. Не так ли, дорогой господин Босир?
— Тише!
— Ба!
— Тише, тише! Какой вы неприятный человек, сударь!
— Не нужно так говорить!
— Почему?
— Черт возьми! Да потому, что вы сами не верите тому, что говорите. Но вернемся к этой академии.
— Ну?
Незнакомец в голубом домино вынул из кармана великолепные часы, осыпанные бриллиантами, на которые тотчас же устремились пылавшие, как два угля, глаза Босира.
— Ну? — повторил он.
— Через четверть часа в вашей академии на улице Железной Кружки, дорогой господин де Босир, будут обсуждать маленький проект, который может принести два миллиона франков двенадцати действительным членам. А вы один из них, не правда ли, господин де Босир?
— И вы тоже, если только…
— Договаривайте.
— Если только вы не сыщик.
— Право, господин де Босир, я вас считал умным человеком, но с грустью вижу, что вы глупец. Если бы я служил в полиции, то уже двадцать раз мог бы вас задержать за дела менее почтенные, чем та двухмиллионная спекуляция, о которой будут говорить в академии через несколько минут.
Босир на минуту задумался.
— Черт меня возьми, если вы не правы! — сказал он, но тотчас же спохватился:
— А, сударь, так вы посылаете меня на улицу Железной Кружки!
— Да, я вас посылаю на улицу Железной Кружки.
— И я знаю зачем.
— Скажите.
— Чтобы меня там арестовали… Но я не так прост.
— Вы опять говорите глупости.
— Сударь!
— Конечно. Ведь если бы я мог сделать то, что вы говорите, если бы я к тому же смог узнать, что за козни собираются строить в вашей академии, стал бы я просить у вас разрешения побеседовать с госпожой? Ни в коем случае. Я бы немедленно приказал вас арестовать, и мы с этой дамой избавились бы от вас. А я, наоборот, действую исключительно мягкостью и убеждением, дорогой господин де Босир: это мой девиз.
— Послушайте, — воскликнул вдруг Босир, оставляя руку Олива́, — это вы сидели на софе этой дамы два часа тому назад? Ну, отвечайте!
— На какой софе? — спросило голубое домино, которое Олива́ слегка ущипнула за мизинец. — Что касается софы, мне известна только софа господина Кребийона-сына.
— Ну да мне это безразлично, — продолжал Босир, — ваши доводы хороши, вот все, что мне нужно. Я говорю — хороши, но можно было бы сказать — даже превосходны. Возьмите же руку моей дамы, и если вы хотите навлечь беду на честного человека, пусть будет вам стыдно!
Голубое домино громко рассмеялось, услышав эпитет «честного», которым так снисходительно наделил самого себя Босир.
— Спите спокойно, — сказал он ему, хлопнув его по плечу. — Посылая вас туда, я вам делаю подарок, по крайней мере, в сто тысяч ливров, так как, не пойди вы сегодня в академию, вас, согласно обычаю ваших товарищей, исключили бы из дележа, тогда как, отправившись туда…
— Ну так и быть, попытаю счастья, — пробормотал Босир и, сделав пируэт, раскланялся и исчез.
Голубое домино завладело рукой мадемуазель Олива́, оставшейся свободной после исчезновения Босира.
— Ну вот мы и вдвоем, — сказала Олива́. — Я не мешала вам интриговать этого бедного Босира сколько душе угодно, но предупреждаю вас, что меня труднее будет сбить с толку, так как я вас знаю. Если вы хотите продолжать в том же роде и со мной, то придумайте что-нибудь поинтереснее, а не то…
— Я не знаю ничего более интересного, чем ваша история, милая мадемуазель Николь, — сказало голубое домино, прижимая к себе полную ручку своей дамы, тихо вскрикнувшей, когда она услышала это имя, сказанное ей собеседником на ухо.
Правда, она тотчас же пришла в себя, как особа, которую нельзя застать врасплох.
— О Боже мой, что это за имя? — спросила она. — Николь? Речь идет обо мне? Не хотите ли вы, случайно, называть меня этим именем? Так вы потерпите кораблекрушение, едва выйдя из порта, вы налетите на первую же скалу. Меня зовут не Николь.
— Теперь, я знаю, да, теперь вас зовут Олива́. Имя Николь слишком отдавало провинцией. В вас — и это мне хорошо известно — две женщины: Олива́ и Николь. Мы в свое время поговорим об Олива́, но сначала побеседуем о Николь. Разве вы забыли то время, когда отзывались на это имя? Не верю. Милое дитя мое, раз вы молоденькой девушкой носили это имя, оно навсегда останется с вами — если не явно, то, по крайней мере, в глубине вашей души, — каково бы ни было другое, которое вы вынуждены были принять, чтобы забыть о прежнем. Бедная Олива́! Счастливая Николь!
В эту минуту целый поток масок нахлынул, как бурные волны, на наших собеседников, и Николь, или Олива́, принуждена была против воли еще теснее прижаться к своему кавалеру.
— Взгляните, — сказал он ей, — на эту пеструю толпу, на парочки под капюшонами, прижимающиеся друг к другу, чтобы жадно ловить слова любезности или любви. Посмотрите на эти группы людей, которые сходятся и расходятся, одни со смехом, другие с упреками. У всех у них, может быть, столько же имен, сколько и у вас, и я многих удивил бы, назвав их по именам, которые они сами помнят, но думают, что они забыты другими.
— Вы сказали: «Бедная Олива́»!
— Да.
— Вы, значит, не считаете меня счастливой?
— Трудно быть счастливой с таким мужчиной, как Босир.
Олива́ вздохнула.
— Я и несчастлива! — сказала она.
— Но вы все-таки любите его?
— В разумных пределах.
— Если вы его не любите, то бросьте его.
— Нет.
— Почему же?
— Потому что, как только я его брошу, сейчас же буду жалеть о нем.
— Будете жалеть?
— Боюсь, что да.
— А как же можно сожалеть о пьянице, игроке, о человеке, который вас бьет, о плуте, который достоин того, чтобы его когда-нибудь колесовали на Гревской площади?
— Вы, может быть, не поймете того, что я скажу вам.
— Ничего, скажите все-таки.
— Я буду сожалеть о том шуме, который он поднимает вокруг меня.
— Я должен был бы сам догадаться об этом. Вот что значит провести молодые годы с молчаливыми людьми.
— Вы знаете о моей юности?
— Прекрасно знаю.
— Неужели, милейший мой господин? — сказала Олива́ со смехом, недоверчиво покачав головой.
— Вы сомневаетесь?
— О, я не сомневаюсь, а убеждена, что вы ничего не знаете.
— Так поговорим о вашей молодости, мадемуазель Николь.
— Поговорим; но предупреждаю вас, что я не буду вам отвечать.
— О, в этом нет нужды.
— Ну, я слушаю.
— Хорошо. Я не буду говорить о вашем детстве, так как это время жизни не в счет, а прямо о юности с того момента, когда вы заметили, что Бог дал вам сердце, чтобы любить.
— Любить кого?
— Чтобы любить Жильбера.
При этих словах, при звуке этого имени по всему телу молодой женщины пробежала дрожь, и голубое домино почувствовало, как она трепещет.
— О, — сказала она, — откуда вы это знаете, великий Боже?
И она разом остановилась, с невыразимым волнением устремив через прорези маски свои глаза на голубое домино.
Но голубое домино хранило молчание.
Олива́, или, вернее, Николь, вздохнула.
— Ах, сударь, — сказала она, не стараясь более сдерживаться, — вы произнесли имя, которое пробуждает во мне так много воспоминаний. Вы, значит, знаете этого Жильбера?
— Да, раз я говорю вам о нем.
— Увы!
— Это был прелестный юноша, клянусь честью! Вы любили его?
— Он был красив… нет… не то… но я его находила красивым. Он был очень умен и равен мне по рождению. Но нет, вот тут я очень ошибаюсь. Если Жильбер захотел бы, ни одна женщина не была бы равной ему.
— Даже…
— Даже кто?
— Даже мадемуазель де Та…
— О, я знаю, что вы хотите сказать, — прервала его Николь, — вы, я вижу, прекрасно осведомлены, сударь. Да, он любил девушку более высокого происхождения, чем бедная Николь.
— Вы видите, что я остановился.
— Да, да, вы знаете ужасные тайны, сударь, — сказала, вздрогнув, Олива́, — а теперь…
И она взглянула на незнакомца, точно стараясь прочесть что-нибудь на его лице сквозь маску.
— Что с ним стало?
— Я думаю, вы сами могли бы это сказать скорее, чем кто-либо другой.
— Почему это, великий Боже?
— Потому что, если он последовал за вами из Таверне в Париж, то вы, в свою очередь, последовали за ним из Парижа в Трианон.
— Да, это правда, но прошло уже десять лет, и я говорю вам не о том времени. Я говорю о десяти годах, которые протекли с тех пор, как я убежала, а он исчез. Боже мой, за десять лет может столько случиться!
Голубое домино хранило молчание.
— Прошу вас, — настаивала Николь почти с мольбой в голосе, — скажите мне, что сталось с Жильбером? Вы молчите, вы отворачиваетесь. Может быть, эти воспоминания вас оскорбляют, печалят?
Голубое домино, однако, не отвернулось, а опустило голову, как будто бремя воспоминаний было слишком для него тяжелым.
— Когда Жильбер любил мадемуазель де Таверне… — начала Олива́.
— Потише произносите имена, — сказало голубое домино. — Разве вы не заметили, что я их не произношу вовсе?
— Он был так влюблен, — продолжала со вздохом Олива́, — что каждое дерево в Трианоне знало о его любви…
— Ну, а вы его больше не любили?
— Наоборот, любила сильнее, чем когда-либо; эта любовь и погубила меня. Я красива, горда и, когда захочу, умею быть дерзкой. Я скорее готова положить голову на плаху, чем допустить, чтобы про меня сказали, будто я покорно склоняю ее.
— У вас мужественное сердце, Николь.
— Да было когда-то… в то время, — сказала со вздохом молодая женщина.
— Этот разговор вас огорчает?
— Нет, наоборот, мне приятно мысленно вернуться в свою молодость. Жизнь наша напоминает реку: самая мутная начинается из чистого источника. Продолжайте же и не обращайте внимания на случайный вздох, вылетевший из моей груди.
— О, — сказало голубое домино, и его маска слегка дрогнула, как бы от появившейся на его губах улыбки, — о вас, Жильбере и еще об одном лице я знаю, бедное дитя мое, только то, что вы знаете сами.
— В таком случае, — воскликнула Олива́, — скажите мне, почему Жильбер исчез из Трианона? И если вы мне это скажете…
— …то вы убедитесь в чем-то? В таком случае я вам ничего не скажу, а вы будете убеждены в этом еще сильнее.
— Почему?
— Спросив меня, почему Жильбер покинул Трианон, вы совсем не хотели получить подтверждение чему-то. Нет, вы хотели услышать нечто, о чем вы не знаете, но узнать очень хотите.
— Правда.
Но вдруг Олива́ вздрогнула еще сильнее, чем прежде, и судорожно схватила руки господина в голубом домино.
— Боже мой, Боже мой! — воскликнула она.
— Что с вами?
Николь решилась, по-видимому, отогнать от себя мысль, так взволновавшую ее.
— Ничего.
— Нет, вы хотели у меня что-то спросить.
— Да, скажите мне совершенно откровенно, что стало с Жильбером?
— Разве вы не слышали, что он умер?
— Да, но…
— Ну да. Он умер.
— Умер? — с сомнением переспросила Николь и тотчас же продолжала, вздрогнув так же сильно, как минутой раньше. — Ради Бога, сударь, окажите мне одну услугу…
— Две, десять, сколько вам угодно, дорогая Николь.
— Я вас видела у себя два часа тому назад… Не правда ли, это были вы?
— Конечно.
— Два часа тому назад вы не старались прятать от меня свое лицо…
— Нисколько; я, напротив, старался, чтобы вы хорошенько разглядели меня.
— О, глупая я, глупая, ведь я не смотрела на вас! Глупая, безумная женщина! Настоящая женщина, как говорил Жильбер.
— Однако оставьте в покое ваши чудесные волосы. Пожалейте себя.
— Нет. Я хочу себя наказать за то, что смотрела на вас и не видела.
— Я вас не понимаю.
— Знаете ли, о чем я вас попрошу?
— Попросите.
— Снимите маску.
— Здесь? Это невозможно.
— О! Вы боитесь вовсе не того, что вас увидят другие. Там, за колонной, в тени галереи, вас не увидит никто, кроме меня.
— В таком случае что же удерживает меня?
— Вы боитесь, что я вас узнаю.
— Меня?
— И того, что я крикну: «Это вы, это Жильбер!»
— Вы и вправду сказали о себе: «Безумная, безумная женщина!»
— Снимите маску.
— Ну, так и быть, но при одном условии.
— Согласна на него заранее.
— Я хочу, чтобы и вы сняли свою маску…
— Я сниму ее. А если не сниму, то вы сорвете ее с меня.
Незнакомец не заставил дольше упрашивать себя: он прошел в темный уголок, указанный ему молодой женщиной, и там, сняв маску, остановился против Олива́, которая с минуту не сводила с его лица глаз.
— Увы, нет, — сказала она, топнув ногой и стискивая руки так крепко, что ногти вонзились в ладони. — Увы, вы не Жильбер.
— А кто же я?
— Что мне за дело, раз вы не он!
— А если бы это был Жильбер? — спросил незнакомец, снова надевая маску.
— Если бы это был Жильбер!.. — страстно воскликнула молодая женщина.
— Да.
— Если бы он мне сказал: «Николь, вспомните о Таверне-Мезон-Руж». О, тогда!..
— И тогда?
— Для меня больше бы не существовало бы Босира.
— Я вам ведь сказал, милое дитя, что Жильбер умер.
— Ну что же? Может быть, это и к лучшему, — сказала со вздохом Олива́.
— Да, Жильбер вас не полюбил бы, несмотря на всю вашу красоту.
— Вы хотите сказать, что Жильбер презирал меня?
— Нет, он скорее боялся вас.
— Возможно. Во мне была частица его души, а он себя знал так хорошо, что боялся меня.
— Значит, как вы сами это сказали, лучше, что он умер.
— К чему повторять мои слова? В ваших устах они меня оскорбляют. Почему же лучше, что он умер, скажите?
— Потому что теперь, дорогая Олива́, — вы видите, я оставляю в покое Николь, — потому что теперь, дорогая Олива́, перед вами будущее: счастливое, богатое, блестящее!
— Вы думаете?
— Да, если вы твердо решитесь на все, чтобы достичь того, что я обещаю вам.
— О, будьте покойны.
— Но не надо больше вздыхать, как вы вздохнули только что.
— Хорошо. Я взгрустнула о Жильбере, а так как на свете нет двух Жильберов и мой Жильбер умер, то я не буду больше грустить.
— Жильбер был молод, у него были все достоинства и недостатки молодости. А теперь…
— А теперь Жильбер так же молод, как и десять лет тому назад.
— Конечно, если он умер.
— Вы видите, он умер; такие, как он, не стареют, а умирают.
— О юность! — воскликнул незнакомец. — О мужество, о красота! Вечные семена любви, героизма и преданности! Тот, кто теряет вас, теряет поистине саму жизнь! Юность — это рай, небо, это все! То, что Бог дает нам потом, все это лишь жалкое вознаграждение за прошедшую юность! Чем щедрее он посылает свои дары людям, когда их молодость прошла, тем больше считает себя обязанным возместить им эту потерю. Но ничто — великий Боже! — не может заменить те сокровища, которые молодость расточала человеку.
— Жильбер думал то же самое, что вы так хорошо выразили словами, — сказала Олива́. — Но довольно об этом.
— Да, поговорим о вас.
— Будем говорить о чем вам угодно.
— Почему вы убежали с Босиром?
— Потому, что я хотела уйти из Трианона, и мне нужно было бежать с кем-нибудь. Я не могла долее оставаться в роли женщины, отвергнутой Жильбером, женщиной на крайний случай.
— Десять лет хранить верность только из-за гордости, — сказало голубое домино. — Как вы дорого заплатили за это суетное чувство!
Олива́ рассмеялась.
— Я знаю, над чем вы смеетесь, — сказал незнакомец серьезным тоном. — Вы смеетесь над тем, что человек, который имеет претензию все знать, обвиняет вас в том, что вы десять лет хранили верность, тогда как вы не подозревали за собою такого смешного качества. Боже мой, если говорить про верность физическую, бедная вы моя, то я знаю, что ее не было. Да, я знаю, что вы были в Португалии с Босиром, пробыли там два года и оттуда отправились в Индию, но уже без Босира, с капитаном фрегата, который прятал вас в своей каюте и потом забыл на суше в Чандернагоре, собираясь отплыть обратно в Европу. Я знаю, что вы имели два миллиона рупий на расходы в доме одного наваба, который держал вас за тремя решетками. Я знаю, что вы бежали от него, перелезши через эти решетки, для чего воспользовались как лестницей плечами одного невольника. Я знаю также, что вы вернулись во Францию, в Брест, богатой, так как унесли с собой два прекрасных жемчужных браслета, два бриллианта и три крупных рубина; что в гавани ваш злой гений, как только вы высадились на берег, сейчас же столкнул вас с Босиром, который чуть не лишился чувств, увидев вас, загорелую и исхудавшую, какой вы вернулись во Францию, бедная изгнанница!
— О! — воскликнула Николь, — но кто же вы, Боже мой? Откуда вы знаете все это?
— Я знаю, наконец, что Босир увез вас, уверив вас в своей любви, потом продал ваши драгоценности и довел вас до нищеты. Я знаю, что вы его любите или утверждаете это, по крайней мере, и так как любовь есть источник всех благ, то вы должны быть самой счастливой женщиной на свете!
Олива́ склонила голову, прижала руку ко лбу, и по ее пальцам скользнули две слезы, две жемчужины, быть может более ценные, чем жемчужины на ее браслетах, но которые, увы, никто бы не согласился купить у Босира.
— И эту женщину, столь гордую и счастливую, — сказала она, — вы купили сегодня вечером за пятьдесят луидоров.
— Я знаю, что это слишком ничтожная сумма, сударыня, — сказал незнакомец с такой изысканной вежливостью, с которой говорит порядочный человек даже с очень низко павшей куртизанкой.
— Напротив, она слишком велика для меня, сударь; и меня очень удивило, клянусь вам, что такую женщину, как я, могут еще оценить в пятьдесят луидоров.
— Вы стоите гораздо больше, и я докажу вам это. О, не отвечайте мне ничего, так как вы не понимаете меня… И к тому же… — добавил незнакомец, склоняясь к ней.
— К тому же?
— Я в эту минуту нуждаюсь в полном вашем внимании.
— В таком случае мне надо молчать.
— Нет, напротив, разговаривайте со мной.
— О чем?
— О чем хотите, Боже мой! Говорите какие-нибудь пустяки, это безразлично, лишь бы мы казались занятыми разговором.
— Хорошо; но вы очень странный человек.
— Дайте мне вашу руку, и пройдемся.
И они двинулись между группами людей по залу, причем она грациозно выпрямила свою тонкую талию, красиво подняла кверху свою головку, изящную даже под капюшоном, и слегка изогнула шею, гибкую даже в домино, производя всей своей фигурой впечатление на знатоков, с жадностью смотревших на каждое ее движение. В то время галантных волокит любой мужчина на балу в Опере следил взглядом за поступью женщины с таким же вниманием и интересом, как теперь некоторые любители следят за бегом породистой лошади.
Олива́ осмелилась было через несколько минут задать своему кавалеру какой-то вопрос, но он остановил ее.
— Молчите, — сказал незнакомец, — или говорите что хотите и сколько хотите, но не заставляйте меня отвечать. Только, разговаривая, измените голос, держите голову высоко и проводите веером по шее.
Она повиновалась.
В эту минуту наша парочка проходила мимо группы благоухавших духами мужчин. В центре ее стоял какой-то господин, очень элегантный, стройный и изящный, который говорил что-то своим трем собеседникам, по-видимому почтительно слушавшим его.
— Кто этот молодой человек? — спросила Олива́. — Что за прелестное жемчужно-серое домино!
— Это господин граф д’Артуа, — отвечал незнакомец, — но ради Бога, не разговаривайте больше.
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления