Онлайн чтение книги
Ожерелье королевы
The Queen's Necklace
Часть вторая
I
БАЛ В ОПЕРЕ
(Продолжение)
В ту минуту, как Олива́, пораженная громким именем, которое голубое домино назвало ей, повернулась, чтобы лучше рассмотреть графа д’Артуа, стараясь в то же время держаться как можно прямее, согласно несколько раз повторенному ее кавалером наставлению, два других домино, освободившись от пристававшей к ним болтливой и шумной группы масок, вышли из толпы и направились в проход за креслами партера, где не было скамеек.
Это место представляло собой нечто вроде пустынного островка, куда толпа выбрасывала время от времени отдельные парочки, оттесняя их от центра зала к его окружности.
— Прислонитесь к этой колонне, графиня, — тихо сказал чей-то голос, звук которого произвел, по-видимому, сильное впечатление на голубое домино.
Почти одновременно с этим высокое оранжевое домино, с решительной поступью и осанкой, выдававшими в нем скорее какого-нибудь слугу, чем галантного придворного, отделилось от толпы и, подойдя к голубому домино, шепнуло:
— Это он.
— Хорошо, — отвечало голубое домино и жестом разрешило ему удалиться.
— Ну, милый дружок, — продолжало голубое домино на ухо Олива́, — мы сейчас немножко позабавимся.
— Очень рада, потому что вы уже дважды огорчали меня: первый раз, отняв у меня Босира, который всегда заставлял меня смеяться, а второй раз, заговорив о Жильбере, который столько раз заставлял меня плакать.
— Я буду для вас и Жильбером и Босиром, — торжественно заявило голубое домино.
— О! — вздохнула Николь.
— Поймите меня: я не прошу вас полюбить меня, а прошу вас согласиться на ту жизнь, которую я создам вам. Я буду исполнять все ваши прихоти, лишь бы вы время от времени исполняли мои. И вот вам одна из них.
— В чем же она заключается?
— Это черное домино, которое вы видите, — один немец, мой приятель.
— А!
— Коварный друг, отказавшийся ехать со мной на бал под предлогом мигрени.
— И которому вы также сказали, что не поедете?
— Именно.
— С ним дама?
— Да.
— Кто она?
— Я не знаю. Вы не возражаете, если мы подойдем поближе? Я хочу, чтобы вас приняли за немку; поэтому не открывайте рта, а не то он отгадает по вашему произношению, что вы чистокровная парижанка.
— Прекрасно. И вы будете интриговать его?
— Будьте уверены. Начните же с того, что показывайте мне на него кончиком вашего веера.
— Так?
— Да, прекрасно, и говорите мне при этом что-нибудь на ухо.
Олива́ повиновалась с безропотностью и пониманием, приведшими ее спутника в восторг.
Черное домино, на которое она указывала, стояло к залу спиной, беседуя со своей дамой. Глаза последней сверкали из-под маски; она заметила жест Олива́.
— Смотрите, монсеньер, — тихо сказала она, — вот две маски, которых мы, по-видимому, интересуем.
— О, не бойтесь, графиня: нас невозможно узнать. Позвольте же мне, раз мы с вами на пути к гибели, позвольте мне еще раз повторить вам, что я не встречал женщины с более обворожительной талией, с более пламенным взглядом; позвольте мне сказать вам…
— Все, что говорится под маской?
— Нет, графиня, все, что говорится под…
— Не договаривайте, вы погубите свою душу… И к тому же нам грозит еще большая опасность — быть подслушанными нашими соглядатаями.
— Этими двумя соглядатаями! — воскликнул взволнованным голосом кардинал.
— Да, они решились наконец подойти к нам.
— Хорошенько измените свой голос, графиня, если нас заставят сказать что-нибудь.
— А вы, монсеньер, ваш.
Действительно, к ним подходили Олива́ и голубое домино. Последнее обратилось к кардиналу.
— Маска, — сказало оно и тотчас нагнулось к Олива́, которая утвердительно кивнула головой.
— Что тебе нужно? — спросил кардинал, изменив голос.
— Моя дама, — отвечало голубое домино, — поручила мне предложить тебе несколько вопросов.
— Так говори скорее, — сказал г-н де Роган.
— Ваши вопросы будут, должно быть, очень нескромными, — пропищала тоненьким голосом г-жа де Ламотт.
— Они будут настолько нескромны, что ты не услышишь их, любопытная, — продолжало голубое домино и снова нагнулось к уху Олива́, которая продолжала ту же игру.
Затем незнакомец обратился к кардиналу на безупречном немецком языке со следующим вопросом:
— Монсеньер, вы влюблены в вашу спутницу?
Кардинал вздрогнул.
— Вы, кажется, сказали «монсеньер»? — спросил он.
— Да, монсеньер.
— В таком случае вы ошибаетесь: я не тот, за кого вы меня принимаете.
— О нет, господин кардинал: не запирайтесь, это бесполезно. Если бы я лично и не знал вас, дама, кавалером которой я являюсь, поручает мне сказать вам, что она тоже узнала вас.
Он нагнулся к Олива́ и тихо сказал ей:
— Кивните утвердительно головой и повторяйте кивок каждый раз, как я пожму вашу руку.
Та сделала утвердительный жест.
— Вы удивляете меня, — начал совершенно сбитый с толку кардинал. — Кто же дама, которую вы сопровождаете?
— О монсеньер, я полагал, что вы уже узнали ее. Ведь она-то узнала вас. Правда, что ревность…
— Госпожа ревнует меня! — воскликнул кардинал.
— Этого мы не сказали, — отвечал незнакомец с некоторой надменностью в голосе.
— Что вам такое говорят? — с живостью спросила г-жа де Ламотт, которой очень не нравился этот диалог на немецком, непонятный для нее.
— Ничего, ничего.
Госпожа де Ламотт нетерпеливо топнула ногой.
— Сударыня, — обратился тогда к Олива́ кардинал, — скажите, прошу вас, одно только слово, и я обещаю вам узнать вас по этому одному слову.
Господин де Роган говорил по-немецки, Олива́ не поняла ни слова и нагнулась к голубому домино.
— Заклинаю вас, сударыня, — воскликнул незнакомец, — не говорите ничего!
Эта таинственность еще больше разожгла любопытство кардинала.
— Пожалуйста, — добавил он, — одно слово по-немецки! Ведь это не скомпрометирует вас.
Голубое домино, которое тем временем делало вид, что выслушивает приказания Олива́, тотчас же отвечало:
— Господин кардинал, вот подлинные слова моей дамы: «Тот, чья мысль не бодрствует неусыпно, чье воображение не заполнено ежечасно образом любимого существа, тот не любит, он не должен говорить о любви».
Кардинал был поражен смыслом этих слов. Он выразил всем своим существом высшую степень удивления, почтительности и восторженной преданности. Затем его руки сами собой опустились.
— Это невозможно, — пробормотал он по-французски.
— Что такое невозможно? — воскликнула г-жа де Ламотт, жадно заинтересовавшаяся единственными понятыми ей словами из всего разговора.
— Ничего, сударыня, ничего.
— Монсеньер, вы, право, заставляете меня играть очень жалкую роль, — сказала она обиженным тоном и отняла у кардинала свою руку.
Последний не только не удержал ее, но, казалось, даже не заметил ее жеста, так он был поглощен дамой-немкой.
— Сударыня, — сказал он ей, по-прежнему стоявшей прямо и неподвижно в своей атласной броне, — слова, сказанные мне вашим кавалером от вашего имени… это немецкие стихи, которые я прочел в одном доме, кажется знакомом вам?
Незнакомец пожал руку Олива́.
«Да», — подтвердила она кивком головы.
Кардинал вздрогнул.
— А дом этот, — нерешительно начал он, — не назывался ли Шёнбрунн?
«Да», — кивнула Олива́.
— Они были написаны на столике вишневого дерева золотой заостренной палочкой, написаны одной августейшей рукой?
«Да», — кивнула Олива́.
Кардинал замолчал. В его душе, казалось, все перевернулось. Он зашатался и протянул руку, чтобы найти точку опоры.
Госпожа де Ламотт наблюдала в двух шагах за этой странной сценой.
Рука кардинала легла на руку голубого домино.
— И вот их продолжение, — сказал он. — «Но тот, кто видит повсюду предмет своей любви, кто угадывает его присутствие в цветке, в благоухании, под непроницаемым покровом, — тот может молчать: его голос звучит у него в сердце, и для того, чтобы быть счастливым, ему достаточно быть услышанным другим сердцем».
— Э, да здесь говорят по-немецки! — воскликнул вдруг свежий, молодой голос в приблизившейся к кардиналу группе масок. — Посмотрим-ка, что там такое. Вы понимаете по-немецки, маршал?
— Нет, монсеньер.
— А вы, Шарни?
— Да, ваше высочество.
— Господин граф д’Артуа! — сказала Олива́, прижимаясь к голубому домино, так как четыре маски довольно бесцеремонно прижались к ней.
Тем временем в оркестре гремели фанфары, а пыль от паркета и пудра от причесок поднимались радужным облаком над сверкающими люстрами, золотившими этот туман, благоухающий амброй и розой.
Приближаясь, кто-то из четырех масок толкнул голубое домино.
— Осторожнее, господа! — повелительным тоном сказал незнакомец.
— Сударь, — отвечал принц, не снимая маски, — вы видите, что нас толкают. Извините нас, сударыни.
— Уедем, уедем, господин кардинал, — сказала тихо г-жа де Ламотт.
Но в эту минуту чья-то невидимая рука смяла и отбросила назад капюшон Олива́, шнурки маски развязались, она упала, и черты лица молодой женщины мелькнули на секунду в полумраке, образуемом тенью нависающего над партером яруса.
Голубое домино испустило крик притворного беспокойства; Олива́ — крик ужаса.
Три-четыре удивленных возгласа раздались в ответ.
Кардинал едва не лишился чувств. Если бы г-жа де Ламотт не поддержала его в эту минуту, то он упал бы на колени.
Волна масок, нахлынувшая на них, увлекла за собой графа д’Артуа и разлучила его с кардиналом и г-жой де Ламотт.
Голубое домино с быстротой молнии опустило капюшон Олива́ и подвязало маску, потом подошло к кардиналу и пожало ему руку.
— Вот непоправимое несчастье, сударь, — сказало оно при этом. — Вы видите, что честь этой дамы в ваших руках.
— О, сударь, сударь… — пробормотал принц Луи с поклоном.
Он провел по лбу, на котором выступили крупные капли пота, платком, дрожавшим у него руке.
— Уедем скорее, — сказало голубое домино Олива́.
И они исчезли.
«Теперь я знаю, что́ кардинал счел невозможным, — сказала себе г-жа де Ламотт; — он принял эту даму за королеву, и вот какое действие произвело на него это сходство. Хорошо… Это нелишне заметить».
— Вы ничего не имеете против того, чтобы уехать с бала, графиня? — спросил ослабевшим голосом г-н де Роган.
— Как вам будет угодно, монсеньер, — спокойно отвечала Жанна.
— Я не вижу здесь ничего интересного, а вы?
— О, я более тоже ничего не вижу.
И они с трудом стали прокладывать себе дорогу среди беседующих масок. Кардинал, который был высокого роста, смотрел во все стороны, отыскивая скрывшееся видение.
Но голубые, красные, желтые, зеленые и серые домино мелькали у него в глазах, окутанные светлым туманом, и цвета их сливались для него в одну сплошную радугу. На расстоянии для бедного сеньора все казалось голубым, но вблизи оказывалось иным.
В таком состоянии он сел в карету, ожидавшую его со спутницей.
Карета катилась уже целых пять минут, а прелат еще не сказал Жанне ни слова.
II
САПФО
Госпожа де Ламотт, которая сохраняла полное душевное равновесие, вывела прелата из его мечтательного состояния.
— Куда меня везет эта карета? — спросила она.
— Графиня, — воскликнул кардинал, — не бойтесь ничего… Вы поехали на бал из своего дома, и карета вас привезет туда же.
— К моему дому? В предместье?
— Да, графиня. К дому, слишком маленькому для того, чтобы вместить столько очарования!
И с этими словами принц схватил руку Жанны и согрел ее галантным поцелуем.
Карета между тем остановилась перед домиком, в котором должно было попробовать уместиться столько очарования.
Жанна легко выпрыгнула из экипажа, кардинал собирался последовать ее примеру.
— Не стоит, монсеньер, — тихо сказал ему этот демон в образе женщины.
— Как, графиня, вы считаете, что мне не стоит провести с вами несколько часов?
— Но ведь надо же спать, монсеньер, — заметила Жанна.
— Я надеюсь, что вы найдете у себя в доме несколько спален, графиня.
— Для себя — да, но для вас…
— А для меня нет?
— Нет еще, — сказала она таким милым и задорным тоном, что отказ ее был равносилен обещанию.
— В таком случае, прощайте, — отвечал кардинал, которого эта игра так сильно задела за живое, что он на минуту забыл о происшествии на балу.
— До свидания, монсеньер.
«Право, такой она мне больше нравится», — сказал себе кардинал, усевшись в карету.
Жанна одна вошла в свой новый дом.
Шестеро слуг, сон которых был прерван стуком молотка выездного лакея, выстроились в ряд в вестибюле.
Жанна оглядела их с тем видом спокойного превосходства, который не всякому богачу дает даже его богатство.
— А горничные? — спросила она.
— Две женщины ожидают госпожу в спальне, сударыня, — почтительно ответил один из лакеев, выступив вперед.
— Позовите их.
Слуга повиновался. Несколько минут спустя появились две женщины.
— Где вы спите обыкновенно? — спросила их Жанна.
— Но… мы еще не знаем, — отвечала старшая из них. — Мы будем спать, где госпоже будет угодно приказать.
— Ключи от помещений?
— Вот они, сударыня.
— Хорошо, сегодняшнюю ночь вы проведете вне дома.
Женщины с изумлением взглянули на свою хозяйку.
— Ведь у вас есть где переночевать?
— Конечно, сударыня, но теперь несколько поздно; однако если сударыне угодно быть одной…
— Эти господа проводят вас, — добавила графиня, отпуская жестом шестерых лакеев, которые были этим более довольны, чем горничные.
— А… когда мы должны вернуться? — робко спросил один из них.
— Завтра в полдень.
Шесть слуг и две горничные на мгновение переглянулись и затем, повинуясь повелительному взгляду Жанны, направились к двери.
Жанна проводила их и спросила, перед тем как запереть дверь:
— Остался ли в доме кто-нибудь еще?
— Бог мой! Нет, сударыня, никого. Но хозяйка остается одна, всеми покинутая. Это немыслимо. Нужно, чтобы хоть одна женщина охраняла вас, оставаясь в лакейской, в буфетной — словом, где-нибудь.
— Мне никого не нужно.
— Может вспыхнуть пожар, госпоже может сделаться дурно…
— Спокойной ночи, идите себе. А вот вам, чтобы было чем отметить вступление на службу ко мне, — добавила она, вынув кошелек.
Радостный шепот, выражавший благодарность прошедших строгую школу лакеев, был их единственным ответом, их, так сказать, последним словом. Все исчезли, поклонившись ей чуть не до земли.
Жанна прислушалась, стоя у двери: они говорили друг другу, расходясь, что судьба послала им необыкновенную хозяйку.
Когда гул голосов и шум шагов замолкли в отдалении, Жанна задвинула засов и воскликнула торжествующим голосом:
— Одна! Я здесь одна и у себя!
Она зажгла канделябр в три свечи и заперла — также на засов — массивную дверь передней.
Тогда началась немая и оригинальная сцена, которая живо заинтересовала бы одного из тех ночных соглядатаев, которых фантазия поэтов заставляет летать над городами и дворцами.
Жанна обозревала свои владения, она любовалась — комната за комнатой — всем домом, в котором всякая мелочь приобрела для нее огромное значение с той минуты, как эгоистическое чувство собственника сменило в ней любопытство постороннего посетителя.
Первый этаж с хорошо проконопаченными стенами и с деревянной отделкой заключал в себе ванную комнату, службы, столовые, три гостиные и два кабинета для приемов.
Обстановка этих обширных комнат не была так богата, как у Гимар, и не так нарядна, как у друзей г-на де Субиза, но дышала роскошью аристократического дома. Она была не нова, но дом понравился бы Жанне меньше, если бы был меблирован заново исключительно для нее.
Все эти старинные дорогие вещи, утратившие свою прелесть в глазах модниц: чудные шкафчики из резного черного дерева, люстры с хрустальными жирандолями, с золочеными разветвлениями в виде лилий и воткнутыми в их середину розовыми свечами; часы в готическом стиле тонкой чеканной работы и с эмалевыми украшениями; вышитые китайские ширмочки; огромные японские вазы, наполненные редкими цветами; стенная живопись Буше и Ватто — все это повергало новую владелицу в неизъяснимый восторг.
Вот на камине два вызолоченных тритона держат снопы коралловых ветвей с висящими на них вместо плодов самыми разнородными образчиками богатой фантазии тогдашнего ювелирного искусства. Дальше, на золоченом столике с белой мраморной столешницей, огромный селадоновый слон с сапфировыми подвесками в ушах несет башню с флаконами духов.
Книги для женского чтения в тисненных золотом переплетах и с цветными миниатюрами блестели на этажерках розового дерева с вызолоченными арабесками по уголкам. Мебель, целиком обитая тончайшими тканями с улицы Гобеленов — чудо искусства и терпения, стоившее при покупке на самой мануфактуре сто тысяч ливров, — занимала маленькую гостиную, серую с золотом, в которой каждое панно было расписано Верне или Грёзом. Рабочий кабинет был украшен лучшими портретами Шардена и наиболее выдающимися терракотовыми скульптурами Клодиона.
Все говорило не о той лихорадочной торопливости, с которой богатый выскочка спешит осуществить фантазии — свои собственные или своей любовницы, — но о долгом, длившемся столетия терпеливом труде собирателей, которые прибавляли к сокровищам отцов новые сокровища для своих детей.
Жанна сделала сначала общий обзор своих владений, пересчитала число комнат, а затем принялась внимательно разглядывать все вещи.
А так как домино и корсет мешали ей, то она вошла к себе в спальню, быстро разделась и накинула стеганый пеньюар.
Это было прелестное одеяние, которому наши матери, не очень щепетильные, когда нужно было именовать используемые ими вещи, дали такое название, что мы не решаемся написать его.
Полуобнаженная, слегка вздрагивая под атласом, складки которого ласкали ей грудь и стан своими мягкими прикосновениями, она стала смело подниматься по лестнице, сама освещая себе дорогу и уверенно ступая своими сильными и изящными ножками, красивые контуры которых виднелись из-под короткого платья.
Чувствуя себя совершенно свободной благодаря полному одиночеству и зная, что ей нечего опасаться ничьих нескромных взоров — будь то даже взоры лакея, — она носилась из комнаты в комнату, ничуть не заботясь, что гуляющие из двери в дверь сквозняки десять раз за десять минут приподнимали пеньюар, нескромно выставляя напоказ ее прелестное колено.
Когда же, собираясь открыть какой-нибудь шкаф, она поднимала руку и из-под распахнувшегося пеньюара можно было видеть до самой подмышки ее белое круглое плечо, окрашенное сверкающим отблеском огня в те золотистые тона, которые можно так часто встретить у Рубенса, тогда невидимые духи, спрятавшиеся за драпировками и притаившиеся за живописью простенков, справедливо могли торжествовать, завладев такой очаровательной гостьей, воображавшей, что она стала их хозяйкой.
Осмотрев все, обессилев и задохнувшись от долгой беготни, во время которой свечи ее канделябра сгорели на три четверти, Жанна вернулась в свою спальню, затянутую голубым атласом с вышитыми на нем крупными фантастическими цветами.
Она все видела, все сосчитала, все обласкала взглядом и прикосновением; ей осталось только восхищаться самой собой. Она поставила канделябр на столик севрского фарфора с золотой решеткой, и вдруг глаза ее остановились на мраморном Эндимионе — изящной, дышавшей чувственной негой статуэтке Бушардона, изображавшей юношу, опьяненного любовью и падающего на пьедестал из красновато-коричневого порфира.
Жанна плотно закрыла двери, опустила портьеры, задернула толстые занавеси и снова стала перед статуэткой, пожирая глазами этого красавца, возлюбленного Фебы, которая одарила его прощальным поцелуем перед тем, как возвратиться на небо.
Угли в камине горели красноватым пламенем и согревали комнату, где жило все, кроме наслаждения.
Но вот Жанна почувствовала, что ноги ее мало-помалу все глубже уходят в пушистый ковер, что они дрожат и подгибаются под ней; какая-то сладкая истома — но не усталость и не сонливость — стесняла ей грудь и смыкала веки, словно нежное прикосновение возлюбленного. Какой-то странный жар — но не от горевшего в камине огня — охватывал ее всю с головы до ног, и по жилам ее пробегал электрический ток, зажигая в ней жгучее желание того, что у животных называется чувственным наслаждением, а у людей — любовью.
Находясь во власти этих странных ощущений, Жанна вдруг увидела себя в трюмо, стоявшем позади Эндимиона. Ее пеньюар соскользнул с плеча на ковер, и тонкая батистовая рубашка, которую более тяжелый пеньюар увлек за собой в своем падении, спустилась до половины ее белых и округленных рук.
Два черных, томных глаза, горевших жаждой наслаждения, поразившей ее до глубины сердца, смотрели на Жанну из зеркала. Она нашла себя красивой, почувствовала молодой, полной страсти и решила, что из всего окружавшего ее, ничто, даже сама Феба, не было столь достойно любви, как она. Тогда она подошла к скульптуре, чтобы посмотреть, не оживет ли Эндимион и не бросит ли богиню для смертной.
Этот экстаз опьянил ее, она склонила голову себе на плечо, вся объятая каким-то новым для нее ощущением сладостного трепета, прикоснулась губами к своему телу, не отрывая взгляда от глаз, притягивающих ее к себе в зеркале; но глаза ее неожиданно затуманились, голова со вздохом опустилась на грудь, и Жанна, погруженная в глубокий сон, упала на кровать, занавеси которой тотчас же сомкнулись над ней.
Свеча, фитиль которой плавал в растопленном воске, в последний раз ярко вспыхнула и затем разом потухла, распространив в воздухе тонкую струю аромата.
III
АКАДЕМИЯ ГОСПОДИНА ДЕ БОСИРА
Босир в точности исполнил совет голубого домино и отправился в так называемую академию.
Достойный друг Олива́, привлеченный названной ему огромной цифрой в два миллиона, сильно тревожился, раздумывая о том, что его собратья как бы исключили его, так как даже не сообщили ему о таком выгодном проекте.
Он знал, что члены академии не отличаются особенной щепетильностью, и это представляло для него лишний повод торопиться: те, кто отсутствует — даже случайно, — всегда не правы, но они становятся еще больше не правы, когда другие намерены воспользоваться этим обстоятельством.
Босир заслужил между членами академии репутацию опасного человека. Это не было ни удивительно, ни трудно. Босир был прежде младшим офицером в кавалерии и носил мундир; он умел, гордо уперев одну руку в бок, положить другую на эфес шпаги. У него была привычка, услышав что-нибудь неприятное, надвигать себе шляпу на глаза. Все эти манеры казались весьма устрашающими для людей сомнительной храбрости, особенно если они имеют причины опасаться огласки при дуэли или любопытства правосудия.
Поэтому Босир рассчитывал отомстить за пренебрежение к нему, нагнав страху на своих товарищей по притону на улице Железной Кружки.
От ворот Сен-Мартен до церкви святого Сюльпиция путь неблизкий. Но Босир был богат: он прыгнул в фиакр и пообещал кучеру пятьдесят су, то есть ливр сверх положенного, так как в то время стоимость проезда в один конец ночью была приблизительно та же, что теперь днем.
Лошади бежали быстро, а Босир постарался принять грозный вид и за неимением как шляпы (ибо он был в домино), так и шпаги все же сумел придать своему лицу выражение настолько злобное, что легко мог напугать всякого запоздалого прохожего.
Его появление в академии произвело достаточно большой эффект.
Там в первой гостиной, красивой комнате, окрашенной в серый цвет, с люстрой и множеством карточных столов, находилось человек двадцать игроков, которые прихлебывали пиво и сиропы и вяло улыбались семи-восьми ужасающе накрашенным женщинам, заглядывавшим в карты.
На главном столе играли в фараон, ставки были мелкие, и оживление поэтому небольшое.
При появлении домино, которое высоко несло голову в капюшоне и горделиво выпячивало грудь под складками своего маскарадного платья, несколько женщин полушутливо, полукокетливо засмеялись. Господин Босир был красив, и эти дамы относились к нему благосклонно.
Он между тем подвигался вперед, будто ничего не слыша и не видя, и, оказавшись у самого стола, стал молча ждать повода проявить свое дурное расположение духа.
Один из играющих, пожилой человек с довольно добродушной физиономией, смахивающий на темного дельца, первый обратился к Босиру.
— Черт возьми, шевалье, — сказал этот достойный господин, — вы возвратились с бала с очень расстроенным лицом.
— Это правда, — подтвердили дамы.
— Дорогой шевалье, — спросил другой игрок, — может быть, домино поранило вам голову?
— Мне причиняет боль не домино, — отвечал грубо Босир.
— Ну-ну, — сказал банкомет, который только что сгреб дюжину луидоров, — господин шевалье де Босир изменил нам. Разве вы не видите, что он был на балу в Опере, нашел случай где-нибудь там поблизости поставить на карту и проиграл.
Это вызвало у кого смех, у кого участие; особенно сочувствовали женщины.
— Это неправда, что я изменил своим друзьям, — отвечал Босир, — я не способен на предательство, я! Изменять друзьям больше к лицу моим знакомым…
И, желая придать своим словам еще больший вес, он прибегнул к обычному своему жесту: хотел надвинуть шляпу на глаза. К несчастью, он только приплюснул у себя на голове кусок шелковой материи, отчего капюшон расширился, приняв уродливую форму, и эффект вместо угрожающего получился комический.
— Что вы хотите этим сказать, дорогой шевалье? — спросили двое или трое присутствующих.
— Я знаю, что хочу сказать, — отвечал Босир.
— Но этого нам недостаточно, — заметил веселый старик.
— Это вас не касается, господин финансист, — последовал неловкий ответ Босира.
Довольно выразительный взгляд банкомета показал Босиру, что его фраза неуместна. Действительно, здесь, в этой компании, не следовало делать разницу между теми, кто платит, и теми, кто кладет себе деньги в карман.
Босир понял это, но он уже разошелся: людям с напускной храбростью остановиться труднее, чем испытанным храбрецам.
— Я полагал, что у меня здесь есть друзья, — сказал он.
— Да… конечно, — ответило несколько голосов.
— Но я ошибся.
— Почему вы так считаете?
— А потому, что многие вещи делаются без меня.
Это заявление вызвало новый сигнал банкомета и новые протесты присутствующих компаньонов.
— Достаточно того, что мне это известно, — продолжал Босир, — и неверные друзья будут наказаны.
Он поискал эфес своей шпаги, но только хлопнул себя по карману, который был полон золота и издал предательский звук.
— Ого, — воскликнули две дамы, — господин де Босир, кажется, богат сегодня!
— Ну да, — с притворным добродушием сказал банкомет, — мне кажется, что если он и проигрался, то не совсем, и что если он проявил неверность по отношению к своим законным партнерам, то это поправимо. Ну, поставьте-ка что-нибудь, дорогой шевалье.
— Благодарю! — сухо отрезал Босир. — Раз всякий хранит то, что имеет, я тоже последую этому примеру.
— Что ты хочешь сказать этим, черт возьми? — шепнул ему на ухо один из играющих.
— Сейчас мы объяснимся.
— Играйте же, — сказал банкомет.
— Ну, один только луидор, — сказала одна из женщин, гладя Босира по плечу, чтобы быть как можно ближе к его карману.
— Я играю только на миллионы, — смело сказал Босир, — я положительно не понимаю, как можно играть на какие-то несчастные луидоры. Ну же, господа с улицы Железной Кружки, раз тут по секрету говорят о миллионах, так долой ставки в луидоры! Ставьте же миллионы, миллионеры!
Босир находился в эту минуту в таком взвинченном состоянии, когда человек переступает границу здравого смысла. Его побуждало к безумным выходкам возбуждение более опасное, чем опьянение от вина. Вдруг он получил сзади настолько сильный удар, что сразу замолчал.
Он обернулся и увидел около себя высокую фигуру с неподвижным, оливкового цвета лицом в шрамах, на котором горели, как два раскаленных угля, черные блестящие глаза.
На гневный жест Босира этот странный субъект ответил церемонным поклоном, сопровождая его долгим и пронзительным, как острие шпаги, взглядом.
— Португалец! — воскликнул Босир, пораженный таким поклоном со стороны человека, только что давшего ему хорошего тумака.
— Португалец! — повторили дамы, оставив Босира, чтобы увиваться вокруг иностранца.
Португалец действительно был любимцем этих дам, которым он под предлогом своего неумения изъясняться по-французски постоянно приносил разные лакомства, иногда завернутые в банковские билеты по пятьдесят и шестьдесят ливров.
Босир знал, что Португалец принадлежит к членам их общества. Он обычно проигрывал завсегдатаям притона. Он неизменно ставил до ста луидоров в неделю, и завсегдатаи столь же неизменно их у него выигрывали.
Португалец служил, таким образом, приманкой: пока он давал щипать свои сто золотых перьев, остальные его сотоварищи ощипывали простаков.
Поэтому члены общества считали Португальца полезным человеком, а постоянные посетители — приятным. Босир чувствовал к нему то безмолвное уважение, которое всегда сопутствует неведомому, даже если к этому уважению примешивается недоверие.
Вот почему Босир, получив от Португальца удар ногой, остановился, замолк и сел к столу.
Португалец принял участие в игре, положил перед собой двадцать луидоров и за двадцать ходов, на которые потребовалось четверть часа, был освобожден от своих денег шестью уже проигравшимися партнерами, забывшими в это время о своих луидорах, что они оставили в когтях банкомета и его сообщников.
Часы пробили три часа ночи, когда Босир допивал свой последний стакан пива.
В гостиную вошли два лакея, и банкомет опустил лежавшие перед ним деньги в потайной ящик в глубине стола: устав общества дышал таким доверием к своим членам, что фондами товарищества никогда не распоряжался кто-нибудь один из компаньонов.
Поэтому деньги в конце вечера опускались через маленькое отверстие в потайной ящик, устроенный в двойном дне стола, а в примечании к соответствующему параграфу устава было добавлено, что банкометы не должны носить длинных рукавов и иметь при себе деньги.
Это означало, что запрещалось прибирать себе в рукава штук двадцать луидоров и собрание оставляло за собой право обыскивать банкомета и отнимать у него то золото, которое он сумел бы переправить себе в карман.
Лакеи принесли членам кружка плащи, накидки и шпаги; счастливые игроки предложили дамам руку, а неудачливые водворились в портшезы, которые были еще в употреблении в этих мирных кварталах, и в карточной комнате наступила ночь.
Босир также сделал вид, что крепко закутывается в свое домино, как в саван, точно собираясь в последний путь, но не спустился на нижний этаж и, как только дверь захлопнулась, как только фиакры, портшезы и пешеходы исчезли из виду, вернулся в гостиную, так же как и двенадцать членов товарищества.
— Ну, теперь мы наконец объяснимся, — сказал Босир.
— Зажгите лампу и не говорите так громко, — отвечал ему Португалец на прекрасном французском языке, в свою очередь зажигая стоявшую на столе свечу.

Босир пробормотал несколько слов, на которые никто не обратил внимания. Португалец сел на место банкомета. Все проверили, хорошо ли закрыты ставни, занавеси и двери; затем молча расселись по местам, поставив локти на сукно стола и приготовившись жадно слушать.
— Я должен сделать одно сообщение, — начал Португалец, — к счастью, я подоспел вовремя, так как господин де Босир сегодня вечером был настолько болтлив и невоздержан на язык…
Босир хотел протестовать.
— Ну, тихо! — сказал Португалец. — Нечего говорить попусту. Вы сказали сегодня много слов более чем неосторожных. Вы проведали про мою идею — прекрасно. Вы человек умный и могли угадать ее. Но мне кажется, что самолюбие никогда не должно брать верх над выгодой.
— Я не понимаю вас, — отвечал Босир.
— Мы не понимаем, — повторило, как эхо, почтенное собрание.
— Именно так. Господин де Босир пожелал доказать, что он первый придумал это дело.
— Какое дело? — спросили заинтересованные слушатели.
— Дело о двух миллионах! — напыщенным тоном воскликнул Босир.
— О двух миллионах! — повторили все.
— Прежде всего, — поспешил заметить Португалец, — вы преувеличиваете… Дело не может быть настолько крупным, и я вам это сейчас докажу.
— Никто здесь не понимает, что вы хотите сказать! — добавил банкомет.
— Да, но мы тем не менее все обратились в слух, — добавил другой член шайки.
— Говорите первый, — сказал Босир.
— Охотно.
И Португалец налил себе большой стакан оршада и спокойно выпил его, ни на минуту не изменяя своим повадкам хладнокровного человека.
— Знайте, — начал он, — я говорю это не для господина де Босира, что ожерелье стоит не больше полутора миллионов ливров.
— А! Дело касается ожерелья, — сказал Босир.
— Да, разве не его вы имели в виду?
— Может быть, и его.
— Ну вот он теперь будет скрытничать, после того как был нескромен!
И Португалец пожал плечами.
— Я с сожалением вижу, что вы говорите тоном, который мне не нравится, — сказал Босир с задором петуха, рвущегося в бой.
— Постойте, постойте, — отвечал Португалец, по-прежнему сохраняя хладнокровие, точно он был из мрамора. — Вы потом сообщите нам то, что имеете сказать, а я буду говорить первым… Время не терпит, так как вам должно быть известно, что посол приезжает самое позднее через неделю.
«Дело запутывается, — мелькнуло в мозгу остальных членов, которые слушали с трепетным интересом. — Ожерелье, полтора миллиона ливров, какой-то посол… Что все это значит?»
— Вот все дело в двух словах, — продолжал Португалец. — Господа Бёмер и Боссанж предложили королеве бриллиантовое ожерелье в полтора миллиона ливров. Королева отказалась от него. Ювелиры не знают, что с ним делать, и прячут его. Они находятся в большом затруднении, так как, чтобы купить ожерелье, надо обладать королевским состоянием. Ну а я нашел августейшую особу, которая купит это ожерелье и извлечет его на свет из сундука господ Бёмера и Боссанжа.
— И это?.. — спросили члены общества.
— Это моя всемилостивейшая государыня королева Португальская.
И Португалец гордо приосанился.
— Мы понимаем теперь еще меньше, чем прежде, — заявило собрание.
«А я не понимаю решительно ничего», — подумал Босир.
— Объяснитесь определеннее, дорогой господин Мануэл, — сказал он. — Наши частные расхождения должны отступить перед общей выгодой. Вы отец этой идеи, я искренне признаю это. Я отказываюсь от всех отеческих прав на нее, но, ради Бога, говорите яснее.
— В добрый час, — сказал Мануэл, осушая второй стакан оршада. — Я сейчас объясню, в чем дело.
— Мы уже знаем, что существует ожерелье, стоящее полтора миллиона ливров, — заметил банкомет. — Это важный пункт.
— И что это ожерелье находится в сундуке господ Бёмера и Боссанжа, — продолжал Босир. — Вот второй пункт.
— Но дон Мануэл сказал, что ожерелье покупает ее величество королева Португальская. Вот что нас сбивает с толку.
— А между тем ничего не может быть яснее, — отвечал Португалец. — Надо только хорошенько вникнуть в мои слова. Место посла свободно и еще никем не занято. Новый посол господин да Суза приедет самое раннее через неделю.
— Хорошо! — сказал Босир.
— А за эту неделю кто может помешать послу, которому не терпится поскорее увидеть Париж, приехать и водвориться в посольстве?
Слушатели переглянулись, открыв от изумления рты.
— Да поймите же, — поспешно воскликнул Босир, — дон Мануэл хочет сказать, что может приехать настоящий посол, а может и фальшивый!
— Вот именно, — подхватил Португалец. — Если посол, который явится, пожелает приобрести ожерелье для ее величества королевы Португалии, разве он не имеет на это права?
— Черт возьми, конечно! — воскликнули слушатели.
— И тогда он вступит в переговоры с господами Бёмером и Боссанжем. Вот и все.
— Действительно, это так.
— Но только после переговоров надо платить, — заметил банкомет, который вел игру в фараон.
— Да, несомненно, — отвечал Португалец.
— Господа Бёмер и Боссанж не допустят, чтобы это ожерелье оказалось в руках посла, будь он даже настоящий Суза, не обеспечив себя солидными гарантиями.
— О, я уже подумал об одной гарантии, — заметил будущий посол.
— О какой же?
— Мы ведь сказали, что посольство пустует?
— Да.
— В нем остался один только правитель канцелярии, добродушный француз, который говорит по-португальски так же плохо, как и светские люди, и поэтому приходит в восторг, когда португальцы говорят с ним по-французски, ибо он тогда не страдает, не понимая их. А когда французы говорят с ним по-португальски, тогда он может блеснуть.
— Так что же? — спросил Босир.
— Так вот, господа, мы явимся к этому добряку под видом нового состава посольства.
— Под видом — это хорошо, — заметил Босир, — но грамоты значат больше.
— Будут и грамоты, — лаконично заметил дон Мануэл.
— Нельзя не признать, что дон Мануэл — неоценимый человек, — заметил Босир.
— Когда наше обличье и необходимые бумаги заставят канцеляриста поверить в подлинность явившегося персонала, мы поселимся в доме посольства.
— О, это уж чересчур! — прервал Босир.
— Это необходимо, — продолжал Португалец.
— Это очень просто, — поддержали его остальные.
— А этот канцелярист? — заметил Босир.
— Мы уже сказали, что он поверит.
— Ну а если он случайно выкажет наклонность стать менее доверчивым, то мы уволим его за десять минут до того, как у него возникнут сомнения. Я полагаю, что посол имеет право сменить своего чиновника?
— Очевидно.
— Итак, мы занимаем дом посольства, и нашим первым делом будет нанести визит господам Бёмеру и Боссанжу.
— Нет, нет, — с живостью перебил Босир, — вы, по-видимому, не знаете одного главного условия, которое я, бывавший при дворе, знаю хорошо. Оно заключается в том, что подобная операция не может быть проделана послом, прежде чем он предварительно не будет принят на торжественной аудиенции, а здесь-то, клянусь честью, и таится опасность. Знаменитый Риза-бей, который был принят Людовиком XIV в качестве посла шаха персидского и имел наглость предложить его христианнейшему величеству в дар бирюзы на тридцать франков, — этот Риза-бей, говорю я, был очень силен в персидском языке, и пусть черт возьмет меня, если во Франции нашлись бы ученые, способные показать ему, что он приехал не из Исфахана. А нас сейчас же узнают и скажут, что мы говорим по-португальски на чистом галльском наречии, и вместо того, чтобы принять наши верительные грамоты, нас отправят в Бастилию. Будем же осторожны.
— Ваша фантазия завлекает вас слишком далеко, дорогой коллега, — сказал Португалец. — Мы не станем подвергать себя всем этим опасностям и останемся в своем особняке.
— Тогда господин Бёмер не поверит, что мы португальцы и послы…
— Господин Бёмер поймет, что мы явились во Францию с единственной миссией: купить ожерелье. Посол был сменен, пока мы были в дороге, и нам был вручен простой приказ — ехать и заменить его. Этот приказ можно будет в случае надобности показать господину Боссанжу, раз мы его предъявим правителю канцелярии посольства… Только министрам короля надо будет стараться не показывать его, так как они очень любопытны и недоверчивы и стали бы надоедать нам по поводу множества различных деталей.
— О да, — воскликнуло сборище, — не будем вступать в сношения с министерством!
— А если господа Бёмер и Боссанж потребуют…
— Что? — спросил дон Мануэл.
— Задаток, — сказал Босир.
— Это усложнит дело, — заметил Португалец, поставленный в тупик.
— Вообще принято, — продолжал Босир, — чтобы посол приезжал с аккредитивами, если уж не с наличными деньгами.
— Это верно, — подтвердили остальные.
— Здесь дело может сорваться, — продолжал Босир.
— Вы будто нарочно изыскиваете разные поводы провалить дело, — заметил ледяным и язвительным тоном дон Мануэл, — но вовсе не ищете меры для его удачного завершения.
— Вот именно потому я и указываю на все затруднения, что хочу найти средство удачно обставить это дело, — отвечал Босир. — Постойте-ка, постойте, я что-то придумал.
Все головы повернулись к нему.
— В каждой канцелярии есть касса.
— Да, касса и кредит.
— Не будем говорить о кредите, — продолжал Босир, — так как будет очень дорого стоить получить его. Для этого нам потребовались бы лошади, экипажи, слуги, мебель — в общем, та обстановка, которая служит основанием для всякого кредита. Поговорим о кассе. Какое ваше мнение о кассе вашего посольства?
— Я всегда считал ее величество португальскую королеву превосходной государыней. Надо полагать, что она обо всем позаботилась.
— Мы увидим это; но допустим, что в кассе не окажется ничего.
— Это возможно, — заметили с улыбкой сообщники.
— И в таком случае никаких затруднений: мы тут же в качестве послов осведомимся у господ Бёмера и Боссанжа, кто их корреспондент в Лиссабоне, и подписываем на имя этого корреспондента скрепленный печатью вексель на требуемую сумму.
— А, это хорошо, — величественно заявил дон Мануэл, — будучи занят основной идеей, я не входил в детали.
— Которые все же продуманы превосходно, — заметил банкомет, проводя кончиком языка по губам.
— А теперь приступим к распределению ролей, — начал Босир. — Я думаю, что дон Мануэл будет послом.
— Да, конечно, — хором подхватили все.
— А господин де Босир моим секретарем и переводчиком, — продолжал дон Мануэл.
— Как так? — с некоторой тревогой спросил Босир.
— Я, господин да Суза, не должен знать ни слова по-французски… Я знаю этого сеньора, и если он и говорит что-нибудь, что бывает очень редко, то разве только по-португальски, на своем родном языке. Вы же, господин де Босир, наоборот, много путешествовали, хорошо знакомы с обычаями торговых сделок в Париже, недурно говорите по-португальски…
— Плохо, — вставил Босир.
— Но вполне достаточно для того, чтобы вас не сочли парижанином.
— Это правда… Но…
— И кроме того, — добавил дон Мануэл, устремляя свои черные глаза на Босира, — кто больше поработает, тому будет и большая часть из прибыли.
— Конечно, — подтвердили другие.
— Хорошо, значит, решено: я буду секретарем-переводчиком.
— Поговорим же сейчас же о том, как мы разделим добычу, — прервал банкомет.
— Очень просто, — отвечал дон Мануэл, — нас двенадцать?
— Двенадцать, — подтвердили сообщники, пересчитав друг друга.
— Значит, на двенадцать частей, — добавил дон Мануэл, — с той оговоркой, однако, что некоторые из нас получат полуторную долю… Я, например, в качестве отца этой идеи и посла, затем господин де Босир, так как он проведал о задуманном деле и заговорил о миллионах, придя сюда.
Босир утвердительно кивнул головой.
— И наконец, — продолжал Португалец, — полуторная доля тому, кто продаст бриллианты.
— О, — воскликнули в один голос сообщники, — нет, только половину доли!
— Почему же? — спросил с удивлением дон Мануэл. — Мне кажется, он многим рискует.
— Да, — сказал банкомет, — но плата за услуги, премия, комиссионные — все это составит хороший кусочек!
Все рассмеялись: эти достойные люди прекрасно понимали друг друга.
— Итак, все устроено, — сказал Босир, — а подробности завтра: уже поздно.
Он думал об Олива́, оставшейся на балу вдвоем с голубым домино, к которому, невзирая на легкость, с какой тот раздавал луидоры, любовник Николь не питал слепого доверия.
— Нет, нет, закончим сегодня, — возразили остальные. — Какие подробности еще остаются?
— Дорожный экипаж с гербом да Суза, — сказал Босир.
— Герб придется рисовать слишком долго, — заметил дон Мануэл, — а главное, пройдет слишком много времени, пока он будет сохнуть.
— Тогда придумаем что-нибудь другое! — воскликнул Босир. — Экипаж посла, скажем, сломался в дороге, и он был вынужден пересесть в карету своего секретаря.
— А у вас есть экипаж? — спросил Португалец.
— Я возьму первый попавшийся.
— А герб?
— Также первый попавшийся.
— О, это сильно упрощает дело. Когда много пыли и комков грязи на дверцах и задке экипажа, на том месте, где помещается герб, то наш правитель канцелярии только и заметит эту грязь и пыль.
— А остальной состав посольства? — спросил банкомет.
— Мы приедем вечером: это удобнее для начала… А вы приедете на следующий день, когда мы уже все подготовим.
— Прекрасно.
— Всякому послу, кроме секретаря, нужен камердинер, — заметил дон Мануэл, — обязанности которого будут весьма деликатными.
— Господин командор, — обратился банкомет к одному из пройдох, — вы возьмете на себя роль камердинера.
Командор поклонился.
— А средства на расходы? — сказал дон Мануэл. — Я без гроша.
— Что у нас в кассе? — спросили сообщники.
— Ваши ключи, господа, — ответил банкомет.
Каждый из членов общества вынул маленький ключ, открывавший один из двенадцати замков, на которые запирался потайной ящик знаменитого стола, так что ни один из членов этого почтенного общества не мог открыть кассу без согласия одиннадцати своих товарищей.
Приступили к проверке.
— Сто девяносто восемь луидоров, не считая резервного фонда, — сказал банкомет, за которым все следили, пока он считал.
— Дайте их господину де Босиру и мне. Это не слишком много, — потребовал дон Мануэл.
— Дайте нам две трети, а треть оставьте для прочего персонала посольства, — сказал Босир с великодушием, примирившим всех.
Таким образом дон Мануэл и Босир получили сто тридцать два луидора, а шестьдесят шесть пришлось на долю прочих.
После этого все разошлись по домам, назначив свидание на завтра. Босир поспешил свернуть свое домино и, сунув его под мышку, побежал на улицу Дофины, где надеялся вновь обрести мадемуазель Олива́ с ее давними достоинствами и благоприобретенными луидорами.
IV
ПОСОЛ
На следующий день к вечеру через заставу Анфер въехала дорожная карета, сильно запыленная и забрызганная грязью так, что герб на ней никто не мог рассмотреть.
Четверка коней так и стлалась по земле, как будто везла принца.
Карета остановилась перед довольно красивым особняком на улице Жюсьен.
У двери дома ожидали два человека: один был одет в парадное платье, указывавшее на то, что он приготовился к какой-то торжественной церемонии; на другом красовалось нечто вроде ливреи, составлявшей во все времена форменную одежду прислуги всевозможных парижских учреждений.
Иначе говоря, последний походил на швейцара в парадном одеянии.
Карета въехала в ворота, которые тотчас же закрылись перед носом нескольких любопытных.
Человек в парадном платье почтительно приблизился к дверце и слегка дрожащим голосом произнес приветствие по-португальски.
— Кто вы такой? — раздался в ответ чей-то отрывистый голос также на португальском языке, но только безупречно правильном.
— Недостойный правитель канцелярии, ваше превосходительство.
— Прекрасно! Но как вы дурно говорите на нашем языке, дорогой правитель! Ну, а где же здесь вход?
— Здесь, монсеньер, здесь.
— Жалкий прием, — произнес сеньор дон Мануэл, вылезая из кареты и опираясь при этом на своего камердинера и секретаря.
— Простите меня, пожалуйста, ваше превосходительство, — заговорил правитель канцелярии на том же плохом португальском, — курьер вашего превосходительства приехал в посольство только сегодня в два часа с известием о вашем прибытии. Меня тогда не было дома, монсеньер: я отлучался по делам посольства. Вернувшись, я нашел письмо вашего превосходительства и только и успел, что открыть апартаменты; их сейчас освещают.
— Хорошо, хорошо.
— Какое счастье для меня видеть высокую особу нашего нового посла.
— Тсс! Не будем это предавать огласке до получения новых депеш из Лиссабона. Прикажите провести меня в мою спальню: я падаю от усталости. Вы можете переговорить обо всем с моим секретарем, он передаст вам мои приказания.
Канцелярист почтительно склонился перед Босиром, который приветливо отвечал на его поклон и сказал ему любезным, но несколько ироничным тоном:
— Говорите по-французски, сударь. И мне и вам это будет удобнее и приятнее.
— Да, да, — пробормотал правитель, — мне это будет удобнее, так как я должен сознаться вам, господин секретарь, что мое произношение…
— Я это вижу, — с апломбом вставил Босир.
— Я воспользуюсь случаем, господин секретарь, так как вижу, что имею дело с любезным человеком, — торопливо и с жаром заговорил служащий, — итак, я воспользуюсь случаем, чтобы спросить вас: как вы полагаете, не будет ли господин да Суза недоволен мной за то, что я так коверкаю португальский язык?
— Нисколько, нисколько, если вы чисто говорите по-французски.
— Я! — радостно воскликнул секретарь. — Да ведь я парижанин, родившийся на улице Сент-Оноре!
— В таком случае все прекрасно, — сказал Босир. — Как вас зовут? Кажется, Дюкорно?
— Дюкорно, да, господин секретарь, фамилия довольно удачная, если угодно, так как имеет испанское окончание. Вы господин секретарь, знаете мое имя? Это очень лестно.
— Да, вы на хорошем счету, настолько на хорошем, что ваша прекрасная репутация избавила нас от необходимости привезти с собой правителя канцелярии из Лиссабона.
— Тысячу благодарностей, господин секретарь. Какое счастье для меня назначение господина да Суза!
— Кажется, господин посол звонит.
— Побежим.
И они действительно пустились бежать. Господин посол благодаря расторопности своего камердинера уже разделся и накинул на себя великолепный халат. Поспешно вытребованный цирюльник занялся его бритьем. Несколько картонок и дорожных несессеров, довольно богатых с виду, были разложены на столах и консолях.
В камине пылал яркий огонь.
— Войдите, войдите, господин правитель канцелярии, — сказал посол, только что устроившийся около огня в огромном мягком кресле.
— Господин посол рассердится, если я ему отвечу по-французски? — тихо сказал правитель канцелярии Босиру.
— Нет, нет, не бойтесь.
Дюкорно обратился к нему с приветствием по-французски.
— Да это очень удобно; вы прекрасно говорите по-французски, господин ду Корну.
«Он меня принимает за португальца», — подумал канцелярист, не помня себя от радости.
И он пожал руку Босиру.
— Ну, — сказал дон Мануэл, — а ужин будет?
— Конечно, ваше превосходительство. Пале-Рояль отсюда в двух шагах, и я знаю там прекрасного ресторатора, который доставит вам хороший ужин, ваше превосходительство.
— Действуйте так, как будто бы вы заказываете ужин для себя, господин ду Корну.
— Да, монсеньер… а я, со своей стороны, если ваше превосходительство разрешите, позволю себе предложить вам несколько бутылок такого доброго вина с вашей родины, какое ваше превосходительство может найти только в самом Порту.
— Э, так у нашего правителя канцелярии хороший винный погреб? — шутливо заметил Босир.
— Это моя единственная роскошь, — смиренно отвечал добряк, живые глаза, толстые округлые щеки и багровый нос которого только сейчас бросились в глаза Босиру и дону Мануэлу благодаря яркому освещению.
— Поступайте, как вам будет угодно, господин ду Корну, — сказал посол, — принесите нам ваше вино и приходите ужинать с нами.
— Такая честь…
— Оставим этикет… Я сегодня только приезжий и стану послом лишь с завтрашнего дня. А затем мы поговорим о делах.
— Но, монсеньер, позвольте мне позаботиться о своем туалете.
— Ваш туалет великолепен, — заметил Босир.
— Этот туалет для приема, а не для парада, — сказал Дюкорно.
— Оставайтесь в нем, господин правитель, и употребите на хлопоты об ужине то время, которое вы бы потратили на свой парадный туалет.
Дюкорно вышел от посла в восторге и пустился бежать, чтобы его превосходительство мог утолить свой голод десятью минутами раньше.
В это время три мошенника, запершись в спальне, осматривали обстановку и обсуждали программу своих действий.
— Что, он ночует в посольстве, этот канцелярист? — спросил дон Мануэл.
— Нет; у этого плута хороший винный погреб и, видно, есть где-нибудь хорошенькая любовница или гризетка. Он старый холостяк.
— А швейцар?
— От него нам надо будет освободиться.
— Я беру это на себя.
— А остальная прислуга?
— Все это нанятые люди, которых наши друзья заменят завтра.
— Как обстоит дело с кухней и со службами?
— Мертвая пустота! Прежний посол никогда не жил здесь. У него был свой дом в городе.
— Ну, а касса?
— Об этом надо будет спросить правителя канцелярии: это деликатный вопрос.
— Я беру это на себя, — заметил Босир, — мы с ним уже лучшие в мире друзья.
— Тсс! Вот он.
Действительно, Дюкорно вернулся, запыхавшись. Он предупредил ресторатора с улицы Добрых Ребят и захватил из своего кабинета шесть бутылок внушительного вида. Вся его сияющая физиономия выражала подлинное расположение, которым два солнца — натура и дипломатичность — окрашивают то, что киники называют «фасадом человека».
— Ваше превосходительство не сойдет в столовую? — спросил он.
— Нет, нет, мы поедим здесь, запросто, у огонька.
— Монсеньер, я в полном восторге. Вот вино.
— Это топаз чистой воды! — сказал Босир, рассматривая одну бутылку на свет.
— Садитесь, господин правитель, пока мой камердинер не накроет на стол.
Дюкорно сел.
— Когда получены были последние депеши? — спросил посол.
— Накануне отъезда вашего… отъезда предшественника вашего превосходительства.
— Хорошо. Дела посольства в хорошем состоянии?
— О да, монсеньер.
— Денежные дела не запутаны?
— Насколько мне известно, нет.
— Долгов нет? О, не стесняйтесь, говорите. Если бы они были, мы первым делом заплатим их. Мой предшественник такой достойный дворянин, что я охотно готов поручиться за его обязательства.
— Слава Богу, вам не надо будет делать этого, монсеньер. Кредит утвержден три недели тому назад, и на следующий день после отъезда бывшего посла мы получили сто тысяч ливров.
— Сто тысяч ливров! — воскликнули в один голос Босир и дон Мануэл вне себя от радости.
— Золотом, — добавил правитель канцелярии.
— Золотом! — повторили посол, секретарь и даже камердинер.
— Так что, — начал Босир, подавляя волнение, — касса содержит…
— … сто тысяч триста двадцать восемь ливров, господин секретарь.
— Это мало, — холодно сказал дон Мануэл, но, к счастью, ее величество предоставила в наше распоряжение известную сумму. Я вас предупреждал, дорогой мой, — прибавил он, обращаясь к Босиру, — что нам не хватит парижского фонда.
— Но ваше превосходительство приняли на этот случай меры предосторожности, — почтительно возразил Босир.
После столь важного сообщения канцеляриста ликование персонала посольства еще более возросло.
Хороший ужин, состоящий из лососины, огромных раков, дичи и кремов, в немалой степени увеличил веселое воодушевление португальских сеньоров.
Дюкорно, переставший церемониться, ел за десятерых испанских грандов, и показал своим начальникам, что парижанин с улицы Сент-Оноре расправляется с винами из Порту и Хереса так же, как с винами из Бри и Тоннера.
Господин Дюкорно продолжал благословлять Небо за то, что оно послало ему такого посла, который предпочитает французский язык португальскому, а португальские вина — французским. Он был на верху блаженства, которое дает мозгу удовлетворенный и признательный желудок, когда г-н да Суза предложил ему идти спать.
Дюкорно встал, пошатываясь, отвесил неуклюжий поклон, зацепив при этом ничуть не меньше предметов меблировки, чем ветка шиповника цепляет листьев в зарослях, и добрался до дверей, ведущих на улицу.
Но Босир и дон Мануэл не настолько оказали честь посольскому вину, чтобы немедленно погрузиться в сон.
К тому же камердинер должен был, в свою очередь, поужинать после господ, и эту операцию командор проделал со всей тщательностью, следуя примеру господина посла и его секретаря.
План завтрашних действий был составлен, и три сообщника, удостоверившись, что швейцар спит, предприняли прогулку по особняку с целью все обозреть.
V
ГОСПОДА БЁМЕР И БОССАНЖ
На следующий день благодаря рвению Дюкорно дом посольства вышел из своей летаргии. Столы, папки с бумагами, письменные принадлежности, праздничный вид всего здания, лошади, бившие копытами по мостовой двора, — все говорило о жизни там, где еще накануне все было объято спокойствием смерти.
По кварталу быстро разнесся слух, что важная особа, поверенный в делах, прибыл из Португалии этой ночью.
Этот слух, поддерживая вес наших трех мошенников, был для них вместе с тем источником всевозможных страхов.
Действительно, полиция г-на де Крона и г-на де Бретейля имела большие уши, которыми, без всякого сомнения, не преминула бы в подобном случае незамедлительно воспользоваться, и глаза Аргуса, которые она, конечно, не стала бы закрывать, когда дело касалось господ португальских дипломатов.
Но дон Мануэл заметил в разговоре с Босиром, что, действуя смело, можно помешать любопытству полиции обратиться в подозрения до истечения недели и помешать подозрениям обратиться в уверенность до истечения двух недель. Так что, следовательно, на протяжении десяти дней — если взять среднюю цифру — ничто не помешает действиям их сообщества, которое, чтобы достичь успеха, должно закончить все свои операции менее чем в шесть дней.
Заря только что занялась, когда два наемных экипажа доставили в особняк девять мошенников, которые должны были изображать персонал посольства.
Они очень быстро были устроены, или, вернее, расставлены Босиром. Одного поместили в кассу, другого в архив, а третий заменил швейцара, которого уволил сам Дюкорно под тем предлогом, что тот не знает португальского языка. Таким образом, особняк был занят этим гарнизоном, который должен был защищать посольство от всех непосвященных.
А полиция, по мнению господ, имеющих политические или иные секреты, должна принадлежать к числу наименее посвященных.
Около полудня дон Мануэл, мнимый Суза, завершив изысканный туалет, сел в тщательно вымытую карету, которую Босир нанял на месяц за пятьсот ливров, заплатив за две недели вперед.
Посол отправился в дом фирмы господ Бёмера и Боссанжа в сопровождении своего секретаря и камердинера.
Правитель канцелярии получил приказ отправлять от своего имени, как то делалось обыкновенно при отсутствии посла, все деловые бумаги, касающиеся паспортов, вознаграждений и пособий, но при этом никакие выдачи денег, уплаты по счетам не должны были производиться им без утверждения секретаря. Этим господам хотелось сохранить нетронутой сумму в сто тысяч ливров, которая представляла единственный солидный фонд всего предприятия.
Господину послу было сообщено, что придворные ювелиры живут на Школьной набережной, и около часа дня экипаж остановился у их дома.
Камердинер скромно постучал в дверь, которая была снабжена крепким замком и, точно тюремная, украшена толстыми гвоздями с большими шляпками.
Эти гвозди были искусно расположены таким образом, что образовывали более или менее красивые узоры; и вместе с тем опыт доказал, что ни бурав, ни пила, ни напильник не могли отколоть ни малейшего кусочка дерева, не сломавшись на этих гвоздях.
В ответ на стук открылось узорчатое окошечко и чей-то голос спросил камердинера, что ему нужно.
— Господин португальский посол желает поговорить с господами Бёмером и Боссанжем, — ответил камердинер.
Чье-то лицо поспешно мелькнуло в окне второго этажа, и затем раздались торопливые шаги по лестнице. Дверь открылась.
Дон Мануэл стал высаживаться из кареты, двигаясь с величавой неторопливостью.
Господин Босир вышел первым, чтобы предложить руку его превосходительству.
Человек, который торопливо шел навстречу двум португальцам, был г-н Бёмер собственной персоной. Услышав стук остановившейся кареты, он выглянул в окно, а когда до его слуха долетело слово «посол», поспешил вниз, чтобы не заставлять его превосходительство ждать.
Ювелир рассыпался в извинениях, пока дон Мануэл поднимался по лестнице.
Господин Босир заметил, что старая служанка, крепкая, коренастого сложения, задвигала засовы за ними и запирала замки, которыми в изобилии была снабжена входная дверь.
Когда Босир обратил на это внимание, преднамеренно подчеркнув свои слова, г-н Бёмер сказал ему:
— Прошу прошения, сударь, мы в нашей несчастной профессии подвергаемся таким опасностям, что некоторые меры предосторожности вошли у нас в обычай.
Дон Мануэл остался совершенно бесстрастным; Бёмер заметил это и повторил ему свою фразу, вызвавшую любезную улыбку у Босира. Однако посол по-прежнему ничего не выразил на своем лице.
— Извините, господин посол, — заговорил, несколько растерявшись, Бёмер.
— Его превосходительство не говорит по-французски, — сказал Босир, — и не может понять вас, сударь. Я передам ему ваши извинения, если только, — поспешил он добавить, — вы сами не говорите по-португальски.
— Нет, сударь, нет.
И Босир сказал несколько слов на ломаном португальском дону Мануэлу, который отвечал ему на том же языке.
— Его превосходительство господин граф да Суза, посол ее истинно верующего величества, милостиво принимает ваши извинения, сударь, и поручает меня спросить, находится ли еще в ваших руках прекрасное бриллиантовое ожерелье?
Бёмер поднял голову и окинул Босира проницательным взглядом.
Босир выдержал его, как подобает тонкому дипломату.
— Бриллиантовое ожерелье, — медленно повторил Бёмер, — прекрасное ожерелье?
— То самое, что вы предлагали французской королеве, — добавил Босир, — и о котором услышало ее истинно верующее величество.
— Вы, сударь, — сказал Бёмер, — состоите на службе при господине после?
— Я его личный секретарь, сударь.
Дон Мануэл между тем уселся с видом вельможи и разглядывал расписные простенки довольно красивой комнаты, выходившей окнами на набережную.
Светило яркое солнце, и первые тополя уже выбросили свои нежно-зеленые побеги над водами Сены, еще очень высокими и желтоватыми от недавно стаявшего снега.
Дон Мануэл перешел от осмотра живописи к обозрению пейзажа.
— Сударь, — сказал Босир, — мне кажется, что вы не слышали ни слова из того, что я говорил вам.
— Как так? — спросил Бёмер, несколько ошеломленный резким тоном говорившего.
— Да, и я вижу, что его превосходительство начинает терять терпение, господин ювелир.
— Простите, сударь, — сказал, покраснев, Бёмер, — но я не могу показывать ожерелье без участия моего компаньона господина Боссанжа.
— Ну что же, пригласите вашего компаньона.
Дон Мануэл между тем подошел и с ледяным, довольно величественным видом заговорил по-португальски с Босиром, который во время этой речи несколько раз почтительно склонял голову.
Затем посол повернулся спиной и снова подошел к окнам.
— Его превосходительство сказал мне, сударь, что вот уже десять минут, как он ждет, и что он не имеет привычки нигде ждать, даже у августейших особ.
Бёмер поклонился и дернул шнурок звонка.
Через минуту в комнату вошло новое лицо. Это был г-н Боссанж, компаньон.
Бёмер познакомил его с делом в двух словах. Боссанж окинул взглядом португальцев и затем попросил у Бёмера его ключ от денежного сундука.
«Сдается мне, эти почтенные господа, — подумал Босир, — принимают друг против друга такие же меры предосторожности, как и воры».
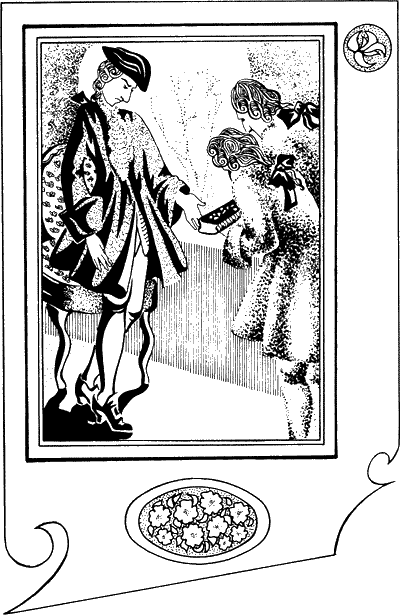
Десять минут спустя г-н Боссанж вернулся, неся футляр в левой руке; правую руку он держал под платьем, где Босир явственно рассмотрел очертания двух пистолетов.
— Мы, конечно можем делать вид, что ничего не замечаем, — произнес дон Мануэл важным тоном по-португальски, — но эти торговцы принимают нас скорее за мошенников, чем за послов.
Говоря это, он не спускал глаз с ювелира, чтобы уловить на их лицах малейший признак волнения, в случае если бы они понимали по-португальски.
Но он не увидел ничего, кроме того, что они показали ему: бриллиантовое ожерелье, такое великолепное, что блеск его слепил глаза.
Они с доверием передали этот футляр в руки дона Мануэла, однако тот внезапно разгневался.
— Скажите этим негодяям, сударь, — обратился он к своему секретарю, — что они злоупотребляют данным каждому торговцу правом быть глупым. Они мне показывают стразы, тогда как я у них спрашиваю бриллианты. Скажите им, что я пожалуюсь французскому министру и от имени моей королевы засажу в Бастилию дерзких, которые позволяют себе обманывать посла Португалии!
И с этими словами он резко швырнул футляр на прилавок.
Босиру незачем было переводить эти слова: пантомимы оказалось достаточно.
Бёмер и Боссанж рассыпались в извинениях, говоря, что во Франции обыкновенно показывают только копии украшений, сделанные из искусственных бриллиантов; этого достаточно, чтобы удовлетворить честных людей и не искушать воров.
Господин да Суза сделал энергичный жест и направился к двери на глазах встревоженных ювелиров.
— Его превосходительство поручает мне передать вам следующее, — сказал Босир, — он находит очень прискорбным тот факт, что люди, носящие звание ювелиров французской короны, не умеют отличить посла от негодяя. Его превосходительство возвращается к себе в посольство.
Господа Бёмер и Боссанж обменялись знаками и поклонились, рассыпаясь в новых заверениях своего почтения.
Но господин да Суза, едва не наступив им на ноги, величественно вышел.
Торговцы снова переглянулись в полной тревоге и принялись отвешивать поклоны чуть не до земли.
Босир гордо последовал за своим хозяином.
Старуха отомкнула дверь.
— В португальское посольство, на улицу Жюсьен! — крикнул Босир камердинеру.
— В португальское посольство, на улицу Жюсьен! — крикнул тот кучеру.
Бёмер слышал это из-за двери.
— Дело сорвалось! — проворчал камердинер.
— Дело выиграно, — сказал Босир, — через час эти господа будут у нас.
И карета помчалась точно запряженная восьмеркой лошадей.
VI
В ПОСОЛЬСТВЕ
Вернувшись в посольство, они нашли Дюкорно мирно обедающим в своей канцелярии.
Босир попросил его подняться в помещение посла и обратился к нему со следующей речью:
— Вы понимаете, дорогой правитель канцелярии, что такой человек, как господин да Суза, не совсем обычный посол.
— Я уже заметил это, — отвечал тот.
— Его превосходительство, — продолжал Босир, — желает занять видное место в Париже в кругу наиболее богатых и обладающих изысканным вкусом людей; этим я хочу сказать, что он не может поселиться в этом скверном доме на улице Жюсьен. Поэтому необходимо будет приискать для господина да Суза личную резиденцию.
— Это очень осложнит все дипломатические сношения, — заметил правитель, — нам придется постоянно бегать взад и вперед за его подписью.
— Его превосходительство даст вам карету, дорогой господин Дюкорно, — заметил Босир.
Дюкорно от радости едва не лишился чувств.
— Карету! Мне! — воскликнул он.
— Очень жаль, что пользование ею не входит в ваши привычки, — продолжал Босир, — мало-мальски уважающий себя и достойный правитель канцелярии посольства должен иметь свою карету. Но мы вернемся к этой мелочи в свое время. А теперь надо дать господину послу отчет в состоянии дипломатических дел. Где находится касса?
— Наверху, в самих апартаментах господина посла.
— Так далеко от вас?
— Это мера предосторожности: ворам труднее проникнуть на второй этаж, чем на первый.
— Ворам! — презрительно повторил Босир. — Из-за такой ничтожной суммы!
— Сто тысяч ливров! — воскликнул Дюкорно. — Черт возьми! Видно, что господин да Суза богат. Не во всех посольских кассах лежит по сто тысяч ливров.
— Давайте проверим, — продолжал Босир. — Я спешу вступить в свои обязанности.
— Сейчас же, сударь, сейчас же, — отвечал Дюкорно, покидая нижний этаж.
При проверке все сто тысяч ливров оказались налицо: одна половина была золотом, другая — серебром.
Дюкорно подал Босиру ключ, и тот некоторое время подержал его в руках, любуясь сложным трилистником и замысловатой гильошировкой.
При этом он искусно успел сделать с него восковой слепок и затем возвратил правителю.
— Господин Дюкорно, — сказал он ему, — лучше, чтобы этот ключ был в ваших руках, чем в моих. Пройдемте теперь к господину послу.
Они нашли дона Мануэла наедине с его национальным напитком — шоколадом. Он казался сильно занятым изучением какой-то бумаги, покрытой цифрами.
— Вам известен шифр прежней корреспонденции? — спросил он, заметив правителя канцелярии.
— Нет, ваше превосходительство.
— В таком случае я желаю, чтобы вы были отныне посвящены в это дело, вы меня таким образом избавите от множества разных скучных мелочей. Кстати, как касса? — спросил он Босира.
— В полной исправности, как и все, что находится в ведении господина Дюкорно, — отвечал тот.
— Сто тысяч ливров?
— Налицо, сударь.
— Хорошо. Садитесь, господин ду Корну, мне нужно получить от вас одну справку.
— Я весь к услугам вашего превосходительства, — отвечал правитель, сиявший от удовольствия.
— Государственное дело, господин ду Корну.
— О, я слушаю, монсеньер.
И достойный правитель канцелярии пододвинул свой стул ближе.
— И очень большой важности, — продолжал посол, — так что мне нужны ваши познания. Знаете ли вы в Париже сколько-нибудь честных ювелиров?
— Есть господа Бёмер и Боссанж, придворные ювелиры, — ответил Дюкорно.
— Вот именно к ним-то я и не хочу обращаться, — отвечал дон Мануэл, — я не желаю больше их видеть.
— Они имели несчастье вызвать неудовольствие вашего превосходительства?
— Глубочайшее, господин ду Корну, глубочайшее.
— О, если бы я мог позволить себе нескромность, если бы я мог осмелиться…
— Осмельтесь.
— Я спросил бы, чем могли эти господа, пользующиеся такой хорошей репутацией в своем ремесле…
— Это настоящие ростовщики, господин ду Корну, и из-за неблаговидных действий они потеряют миллион, а может быть, и два.
— О! — с жадным вниманием воскликнул Дюкорно.
— Я был послан ее истинно верующим величеством для переговоров о приобретении бриллиантового ожерелья.
— Да, да, знаменитого ожерелья, которое покойный король заказал для госпожи Дюбарри, знаю, знаю.
— Вы неоценимый человек, вы все знаете. Итак, я собирался приобрести это ожерелье, но раз дело приняло такой оборот, я не куплю его.
— Не позволите ли вы мне сделать некоторый демарш?
— Господин ду Корну!
— О монсеньер, я приступлю к делу дипломатично, очень дипломатично.
— Еще если бы вы знали этих людей…
— Боссанж — мой дальний родственник.
Дон Мануэл и Босир переглянулись. Наступило молчание. Оба «португальца» погрузились в размышления.
Вдруг один из лакеев открыл дверь и доложил:
— Господа Бёмер и Боссанж!
Дон Мануэл быстро встал.
— Выгоните вон этих людей! — воскликнул он гневным тоном.
Лакей собирался выполнить это приказание.
— Нет, выгоните их сами, господин секретарь, — продолжал посол.
— Ради самого Неба, — умоляюще заговорил Дюкорно, — позвольте мне исполнить приказание монсеньера… Я его несколько смягчу, если оно непременно должно быть исполнено.
— Делайте как хотите, — небрежно отвечал дон Мануэл.
Босир приблизился к нему в ту самую минуту, как Дюкорно поспешно вышел.
— Что же? Этому делу суждено сорваться? — спросил дон Мануэл.
— Нет, Дюкорно его поправит.
— Он только его запутает, несчастный! Мы разговаривали у ювелира по-португальски, и вы сказали, что я не понимаю ни слова по-французски. Дюкорно все испортит.
— Я побегу туда!
— Но, может быть, вам опасно показываться, Босир?
— Вы увидите, что нисколько… Предоставьте мне полную свободу.
— Ну, черт побери!
Босир вышел.
Дюкорно нашел внизу Бёмера и Боссанжа, обращение которых с той минуты, как они вошли в посольство, совершенно изменилось в смысле учтивости, по крайней мере, если не в смысле доверчивости.
Они очень мало рассчитывали встретить здесь знакомое лицо и несмело проскользнули в первые комнаты. Увидев Дюкорно, Боссанж радостно вскрикнул от изумления.
— Вы здесь! — воскликнул он и подошел к нему с распростертыми объятиями.
— А, вы очень любезны, — сказал Дюкорно, — признали меня здесь, мой богатый кузен. Потому ли это, что вы встречаете меня в посольстве?
— Правда, — отвечал Боссанж, — простите, что мы так отдалились друг от друга, но не сердитесь на меня и окажите мне услугу.
— Я для того и пришел.
— О, благодарю вас! Вы, значит, состоите при посольстве?
— Да.
— Расскажите мне…
— О чем?
— О самом посольстве.
— Я здесь правитель канцелярии.
— О, прекрасно! Мы хотим говорить с послом.
— Я пришел сюда от него.
— От него? Чтобы сказать нам…
— Что он просит вас как можно скорее уйти из его дома, господа.
Оба ювелира переглянулись, ошеломленные.
— Потому что, — продолжал с важностью Дюкорно, — вы, по-видимому, вели себя неловко и недостойно.
— Выслушайте же нас.
— Это бесполезно, — раздался неожиданно голос Босира, который показался на пороге комнаты с горделивым и холодным видом. — Господин Дюкорно, его превосходительство приказал нам удалить этих господ. Выпроводите же их.
— Господин секретарь…
— Повинуйтесь, — сказал презрительно Босир. — Прошу вас не медлить.
И он удалился.
Правитель взял своего родственника за правое плечо, а компаньона своего родственника — за левое и тихонько стал выталкивать их из комнаты.
— Вот ваше дело и не состоялось, — сказал он.
— Как эти иностранцы обидчивы, Боже мой! — пробормотал Бёмер, который сам был немец.
— Когда человек называется да Суза и имеет девятьсот тысяч ливров годового дохода, дорогой кузен, — сказал правитель канцелярии, — то он имеет право быть каким хочет.
— Ах, — вздохнул Боссанж, — я вам говорил, Бёмер, что вы слишком круты в делах.
— Э, — отвечал упрямый немец, — если мы не получим его денег, так и он ведь не получит нашего ожерелья.
Они были в это время уже недалеко от выхода.
Дюкорно рассмеялся.
— Знаете ли вы, что такое португалец? — сказал он им презрительно. — Знаете ли вы господа, что такое посол? Неужели вы думаете, что он буржуа вроде вас? Не знаете? Ну так я скажу вам. Один вельможа, фаворит одной царственной особы, господин Потемкин, покупал ежегодно к первому января корзину вишен для своей государыни и платил за нее сто тысяч экю, по тысяче ливров за каждую вишню. Это недурно, не правда ли? Так вот господин да Суза купит копи в Бразилии, чтобы найти в них бриллиант такой величины, как все ваши. Он истратит на это свои доходы за двадцать лет. Но что это значит для него? У него нет детей. Так-то.
Он уже закрывал за ними дверь, когда Боссанж вдруг спохватился.
— Поправьте это дело, — сказал он, — и вы получите…
— Здесь никого нельзя подкупить, — отвечал Дюкорно.
И закрыл дверь.
В тот же вечер посол получил следующее письмо:
«Монсеньер!
Лицо, ожидающее Ваших приказаний и желающее повергнуть к Вашим стопам глубочайшие извинения Ваших покорных слуг, находится у дверей Вашего посольства. По первому знаку Вашего Превосходительства лицо вручит одному из Ваших людей ожерелье, которое имело счастье привлечь Ваше внимание.
Удостойте принять, монсеньер, уверения в нашем глубоком уважении и проч. и проч.
— Итак, — сказал дон Мануэл, прочтя это послание, — ожерелье наше!
— Нет, еще нет, — отвечал Босир, — оно будет наше, только когда мы его купим. Купим же его!
— Каким образом?
— Ваше превосходительство, как мы решили, не говорит по-французски… Прежде всего надо спровадить канцеляриста.
— Но как?
— Самым простым способом: надо возложить на него какое-нибудь важное дипломатическое поручение. Я беру это на себя.
— Напрасно, — сказал дон Мануэл, — он будет здесь служить нам гарантией.
— Он скажет, что вы говорите по-французски, как Боссанж и я.
— Не скажет… Я попрошу его об этом.
— Хорошо, пусть остается. Пусть введут человека с бриллиантами.
Этого человека ввели: им оказался сам Бёмер, который рассыпался в любезностях и нижайших извинениях.
Затем он подал бриллианты и сделал вид, что хочет их оставить для рассмотрения.
Но дон Мануэл задержал его.
— Довольно испытаний, — сказал Босир, — вы недоверчивый купец и, значит, должны быть честны. Садитесь и поговорим, раз господин посол прощает вас.
— Уф, как трудно продавать! — вздохнул Бёмер.
«И как трудно украсть!» — подумал Босир.
VII
ТОРГ
Итак, господин посол изъявил согласие внимательно осмотреть ожерелье.
Бёмер стал показывать в отдельности каждый из бриллиантов, указывая на их красоту.
— Господин посол ничего не имеет против всех камней в совокупности, — сказал Босир, которому дон Мануэл что-то сказал по-португальски, — в общем они удовлетворяют его. Но что касается отдельных бриллиантов, то дело обстоит несколько иначе… Его превосходительство насчитал десять камней слегка поцарапанных и с небольшими пятнышками.
— О! — произнес Бёмер.
— Его превосходительство, — прервал Босир, — знает толк в бриллиантах больше вас… Знатные португальцы играют в Бразилии с бриллиантами так же, как здешние дети со стеклышками.
Дон Мануэл, действительно, указал пальцем на несколько камней один за другим и обратил внимание на такие ничтожнейшие недостатки, которые подметил бы в бриллиантах не всякий знаток.
— Тем не менее, это ожерелье, в том виде, как оно есть, — сказал Бёмер, несколько удивленный, что нашел в знатной особе такого тонкого знатока ювелирного дела, — представляет единственное собрание самых лучших бриллиантов, какие только можно найти во всей Европе в настоящее время.
— Это правда, — подтвердил дон Мануэл, и по знаку его Босир продолжал:
— Итак, господин Бёмер, вот в чем дело. Ее величество королева Португалии услышала про это ожерелье и поручило его превосходительству начать переговоры о приобретении его после того, как он осмотрит бриллианты. Камни удовлетворили его превосходительство. За какую цену вы хотите продать это ожерелье?
— Миллион шестьсот тысяч ливров, — ответил Бёмер.
Босир повторил эту цифру своему послу.
— Эта цена выше настоящей на сто тысяч ливров, — заметил дон Мануэл.
— Монсеньер, — продолжал ювелир, — невозможно определить с точностью, что мы зарабатываем на такой дорогой вещи. Чтобы составить это замечательное украшение, потребовались такие долгие розыски и столь многочисленные поездки, что тот, кто знал бы все подробности так же, как я, пришел бы в ужас.
— Вы должны скинуть сто тысяч ливров, — повторил упрямый португалец.
— И если монсеньер говорит так, — вставил Босир, — то, значит, глубоко убежден в этом, так как его превосходительство никогда не торгуется.
Бёмер, по-видимому, начал колебаться. Никто так не успокаивает подозрительность продавцов, как покупатель, который торгуется.
— Я не могу, — начал он после минутной нерешительности, — согласиться на такую скидку, поскольку она приведет к разногласиям между мною и компаньоном относительно того, остаемся мы в убытке или в прибыли.
Дон Мануэл выслушал перевод Босира и встал.
Босир закрыл футляр и отдал его Бёмеру.
— Но я все-таки скажу об этом господину Боссанжу, — сказал последний, — ваше превосходительство согласны на это?
— Что вы хотите этим сказать? — спросил Босир.
— Я хочу сказать, что господин посол, по-видимому, предложил за это ожерелье миллион пятьсот тысяч ливров?
— Да.
— Его превосходительство не отказывается от этой цены?
— Его превосходительство никогда не отказывается от своих слов, — сказал горделиво, как истый португалец, Босир, — но его превосходительству всегда надоедает торговаться самому или видеть, как торгуются с ним.
— Господин секретарь, разве вы не понимаете, что я должен переговорить с моим компаньоном?
— Прекрасно понимаю, господин Бёмер.
— Отлично, — сказал по-португальски дон Мануэл, узнав, что сказал Бёмер, — но и мне необходимо ваше быстрое решение.
— Конечно, монсеньер, если мой компаньон согласится на скидку, я принимаю ее заранее.
— Хорошо.
— Следовательно, теперешняя цена будет миллион пятьсот тысяч ливров.
— Да.
— Теперь остается только, — сказал Бёмер, — кроме согласия господина Боссанжа…
— Естественно.
— … остается только определить способ уплаты.
— Вы не встретите в этом отношении никаких затруднений, — сказал Босир. — Как вы желаете, чтобы вам заплатили?
— Ну, — смеясь, заметил Бёмер, — наличными, если возможно.
— Что вы называете наличными? — холодно спросил Босир.
— О, я знаю, что никто не в состоянии выложить сразу полтора миллиона! — со вздохом сказал Бёмер.
— И к тому же вас самих это поставило бы в затруднение, господин Бёмер.
— Тем не менее, господин секретарь, я ни за что не соглашусь вести дело иначе, чем за наличные деньги.
— Вы совершенно правы.
И он обернулся к дону Мануэлу.
— Сколько ваше превосходительство даст господину Бёмеру наличными деньгами?
— Сто тысяч ливров, — сказал Португалец.
— Сто тысяч ливров, — повторил Босир Бёмеру, — при подписании купчей.
— А остальные? — спросил Бёмер.
— Вы получите остальную сумму в такой срок, какой нужен для пересылки чека монсеньера из Парижа в Лиссабон, если только вы не предпочтете подождать, пока из Лиссабона в Париж придет подтверждение.
— О, у нас есть корреспондент в Лиссабоне, — сказал Бёмер, — стоит только написать ему…
— Вот-вот, — смеясь, иронически вставил Босир, — напишите ему и спросите его, какова кредитоспособность господина да Суза и есть ли у ее величества королевы миллион четыреста тысяч ливров?
— Сударь… — сконфуженно пробормотал Бёмер.
— Согласны вы на это или предпочитаете другие условия?
— Те условия, которые господину секретарю угодно было мне предложить, мне кажутся подходящими. В какие сроки будут произведены платежи?
— В три срока, по пятьсот тысяч ливров, господин Бёмер. Это будет для вас предлогом совершить интересное путешествие.
— В Лиссабон?
— А почему бы нет? Получение в трехмесячный срок полутора миллионов, кажется, стоит того, чтобы из-за этого побеспокоиться?
— О, конечно, но…
— К тому же вы поедете за счет посольства, и я или господин правитель канцелярии будем сопровождать вас.
— Я повезу бриллианты?
— Конечно, если вы не предпочитаете послать отсюда чеки и отправить в Португалию бриллианты без вас.
— Я не знаю… Я… полагаю, что путешествие будет не лишним… и…
— Я такого же мнения, — сказал Босир. — Купчая будет подписана здесь. Вы получите сто тысяч ливров наличными, подпишете, что продажа состоялась, и отвезете бриллианты ее величеству. Кто ваш корреспондент?
— Братья Нуньес-Бальбоа.
Дон Мануэл поднял голову.
— Это и мои банкиры, — сказал он с улыбкой.
— Это и банкиры его превосходительства, — также с улыбкой повторил Босир.
Бёмер просиял, на челе его не осталось ни облачка, и он поклонился, как бы в знак признательности и своего намерения удалиться.
Но тотчас же какая-то внезапно мелькнувшая мысль заставила его вернуться.
— Что такое? — спросил встревоженный Босир.
— Значит, вы дали слово? — спросил Бёмер.
— Да.
— Кроме как…
— Кроме как в случае несогласия господина Боссанжа; мы ведь уже решили это.
— И кроме еще одного случая, — прибавил Бёмер.
— А!
— Это деликатный пункт, сударь, и надеюсь, что честь Португалии слишком высокое понятие, чтобы его превосходительство не понял меня.
— Что за подходы? К делу!
— Вот в чем оно заключается. Ожерелье это было предложено ее величеству французской королеве.
— Которая отказалась от него. Дальше?
— Мы не можем согласиться, чтобы это ожерелье навсегда ушло из пределов Франции, пока не предупредим об этом королеву… Уважение и даже лояльность требуют, чтобы мы отдали предпочтение ее величеству королеве.
— Это справедливо, — с достоинством сказал дон Мануэл. — Я желал бы слышать от португальского купца те слова, которые слышу от господина Бёмера.
— Я очень счастлив и горд одобрением, которым меня удостоил его превосходительство. Итак, торг состоится при двух условиях: одобрение сделки Боссанжем и главное — окончательный отказ ее величества французской королевы. Я прошу у вас для этого трехдневный срок.
— А с нашей стороны условия таковы, — сказал Босир, — сто тысяч ливров наличными и три чека по пятьсот тысяч ливров в ваши руки. Вы передадите шкатулку с бриллиантами господину правителю канцелярии посольства или мне — словом, тому, кто будет сопровождать вас в Лиссабон к господам братьям Нуньес-Бальбе. Полная уплата в течение трех месяцев. Путевых издержек у вас никаких.
— Да, монсеньер, да, сударь, — сказал Бёмер, откланиваясь.
— Подождите! — произнес по-португальски дон Мануэл.
— Что такое? — спросил, возвращаясь, в свою очередь встревоженный Бёмер.
— В качестве премии, — сказал посол, — перстень в тысячу пистолей моему секретарю или правителю канцелярии — словом, вашему спутнику, господин ювелир.
— Это совершенно справедливо, — пробормотал Бёмер, — я уже мысленно учел этот расход, монсеньер.
И дон Мануэл отпустил ювелира величественным жестом вельможи.
Сообщники остались одни.
— Потрудитесь объяснить мне, — обратился с некоторым раздражением дон Мануэл к Босиру, — что за чертова идея у вас явилась не требовать, чтобы он передал нам бриллианты здесь? Путешествие в Португалию! Уж не сошли ли вы с ума? Разве нельзя было вручить деньги этим ювелирам и взамен взять их ожерелье?
— Вы принимаете слишком всерьез вашу роль посла, — отвечал Босир. — Вы еще не совсем господин да Суза для господина Бёмера.
— Полноте! Разве он стал бы вести переговоры, будь у него какие-либо подозрения?
— Согласен. Он не стал бы вести переговоры, возможно. Но каждый человек, имеющий полтора миллиона ливров, считает себя выше всех королей и всех послов в мире. Любой человек, обменивающий полтора миллиона ливров на клочки бумаги, желает знать, стоят ли чего-нибудь эти бумажки.
— Значит, вы поедете в Португалию? Не зная португальского языка! Я вам говорю, что вы с ума сошли.
— Нисколько. Вы поедете сами.
— О нет! — воскликнул дон Мануэл. — У меня есть слишком веские причины не возвращаться в Португалию. Нет, нет!
— Я говорю вам, что Бёмер никогда не отдаст свои бриллианты в обмен на бумажки.
— Бумаги за подписью да Суза!
— Ну вот, я говорю ведь, что он считает себя да Суза! — воскликнул Босир, всплеснув руками.
— Я лучше готов примириться с тем, чтобы дело сорвалось, — повторил дон Мануэл.
— Ни за что на свете! Идите сюда, господин командор, — обратился Босир к камердинеру, показавшемуся на пороге комнаты. — Ведь вы знаете, в чем дело, не так ли?
— Да.
— Вы слышали, что я говорил?
— Конечно.
— Прекрасно. Полагаете ли вы, что я сделал глупость?
— Я полагаю, что вы сто тысяч раз правы.
— А почему?
— Вот почему. Господин Бёмер никогда не перестал бы наблюдать за посольством и самим послом.
— Так что же? — спросил дон Мануэл.
— А то, что, имея в руках деньги и бриллианты, господин Бёмер совершенно отбросит в сторону все подозрения. Он спокойно поедет в Португалию.
— Мы не поедем так далеко, господин посол, — сказал камердинер. — Не правда ли, шевалье де Босир?
— Вот умный малый! — заметил любовник Олива́.
— Ну, излагайте, излагайте ваш план, — довольно холодно сказал дон Мануэл.
— В пятидесяти льё от Парижа, — начал Босир, — этот умный малый с маской на лице покажет один или два пистолета нашему почтальону. Он отнимет у нас чеки, бриллианты, исполосует ударами господина Бёмера, и дело будет сделано.
— Я представлял себе это иначе, — возразил камердинер. — Я думал, что господин Бёмер и господин Боссанж сядут в Байонне на корабль, идущий в Португалию…
— Прекрасно.
— Господин Бёмер, как все немцы, любит море и станет прогуливаться по палубе. В сильную качку он пошатнется и упадет в море. Предполагается, что футляр упадет вместе с ним, вот и все. Почему бы океану не оставить в своих глубинах на полтора миллиона бриллиантов? Ведь он хранит там галионы Индий?
— Да, я понимаю, — произнес Португалец.
— Наконец-то, — сказал Босир.
— Но, — продолжал дон Мануэл, — беда в том, что за похищение бриллиантов сажают в Бастилию, а за то, что господина ювелира окунули в море, вешают.
— За кражу бриллиантов, действительно, арестуют, — сказал командор, — но в том, что этого человека утопили, нельзя будет никого заподозрить ни на одну минуту.
— Впрочем, мы еще подумаем об этом, когда придет время, — отвечал Босир. — А теперь вернемся к нашим ролям, господа. Пусть у нас в посольстве все идет, как у истинных португальцев, чтобы про нас могли сказать: «Если они и не были настоящими послами, то очень походили на них». Это все же лестно. Подождем три дня.
VIII
ДОМ ГАЗЕТЧИКА
На другой день после заключения португальцами сделки с Бёмером и, следовательно, на третий после бала в Опере, на котором мы заметили несколько главных лиц этой истории, произошло следующее.
На улице Монторгёй, в глубине обнесенного решеткой двора, возвышался узкий и длинный дом, защищенный от уличного шума ставнями, напоминавшими о провинции.
В нижнем его этаже, куда постороннему можно было проникнуть только после некоторых розысков и перебравшись через две или три зловонные лужи, помещалось нечто вроде лавки, полускрытой даже для тех, кто преодолел решетку и двор.
Это был дом пользовавшегося некоторой известностью журналиста, или, как тогда говорили, газетчика. Редактор жил на втором этаже, а нижний служил складом для номеров его газеты. Остальные два этажа занимали спокойные люди, которые соглашались платить, правда, довольно дешево, за неприятность быть несколько раз в году свидетелями бурных сцен, разыгрывавшихся между газетчиком, с одной стороны, и полицейскими либо оскорбленными частными лицами или актерами, которых он третировал, как илотов, — с другой.
В такие дни жильцы «дома с решеткой», как прозвали его в квартале, закрывали окна фасада, чтобы лучше слышать отчаянные крики газетчика, который обыкновенно спасался от преследований через другую дверь, выходившую на улицу Старых Августинцев прямо из его комнаты.
Потайная дверь открывалась и быстро захлопывалась, шум смолкал, человек, которому грозила опасность, исчезал, а атаковавшие его сталкивались лицом к лицу с четырьмя фузилёрами французской гвардии, за которыми обыкновенно поспешно бежала к посту у рынка старая служанка.
Среди нападавших встречались иногда до того разъяренные люди, что, не находя на ком выместить свой гнев, они набрасывались на старые газеты, сложенные на нижнем этаже, и разрывали, топтали или жгли (если, на несчастье, поблизости находили огонь) некоторое количество этих провинившихся печатных листов.
Но что значит клок газеты для мстителя, требовавшего кусок кожи газетчика?
Впрочем, если не считать подобных сцен, спокойствие «дома с решеткой» вошло в поговорку.
Господин Рето выходил обыкновенно по утрам и совершал прогулку по набережным, площадям и бульварам. Он схватывал на лету разные смешные сценки, типы порочных людей и наскоро делал заметки карандашом, а затем преподносил результат своих наблюдений читателям в очередном номере.
Газета выходила раз в неделю.
Это означало, что в продолжение четырех дней сьёр Рето охотился за материалом, затем печатал его в продолжение трех дней, а день выпуска номера проводил в праздности.
В тот день, о котором мы говорим, то есть через семьдесят два часа после бала в Опере, где так приятно провела время Олива́, имевшая своим кавалером голубое домино, газета вышла в свет.
Господин Рето, проснувшись в восемь часов, получил из рук своей старой служанки свежий номер, еще сырой и пахнувший серовато-красной краской.
Он поспешил прочесть весь номер с тем глубоким вниманием, с каким нежный отец изучает достоинства и недостатки своего любимого детища.
— Альдегонда, — обратился он к служанке, окончив чтение, — вот недурной номерок. Ты читала его?
— Нет пока, у меня еще суп не готов, — отвечала та.
— Я доволен эти номером, — сказал газетчик, вытягивая на своей тощей постели свои еще более тощие руки.
— Да, — отвечала Альдегонда, — но знаете, что о нем говорят в типографии?
— А что?
— Говорят, что на этот раз вам определенно не миновать Бастилии.
Рето сел на кровати и сказал старухе спокойным тоном:
— Альдегонда, Альдегонда, приготовь мне суп повкусней и не суйся в литературу.
— Всегда то же самое, — отвечала старуха, — смел, как вольный воробей.
— Я тебе за сегодняшний номер куплю серьги, — продолжал журналист, натягивая на себя простыню довольно сомнительной белизны. — Что, уже много экземпляров раскупили?
— Нет еще, и сережек мне не видать, если так будет продолжаться. Помните, какой хороший был номер, где вы отделали господина де Брольи? Еще и десяти часов не было, как мы уже продали сто номеров.
— И я три раза выскакивал на улицу Старых Августинцев, — заметил Рето. — Малейший шум бросал меня в жар… Эти военные так грубы!
— Из этого я заключаю, — упрямо стояла на своем Альдегонда, — что сегодняшний номер не может равняться с тем, в котором был пропечатан господин де Брольи.
— Пускай, — сказал Рето, — зато мне не придется так часто убегать, и я спокойно буду есть свой суп. А знаешь ли ты, почему, Альдегонда?
— Нет, сударь.
— Потому что, вместо того чтобы обрушиваться на человека, я обрушиваюсь на целое сословие и, вместо того чтобы нападать на военного, нападаю на королеву.
— На королеву! Слава Богу, — пробормотала старуха, — тогда вам нечего опасаться… Если вы нападаете на королеву, вас будут носить на руках, мы продадим много номеров и у меня будут серьги.
— Звонят, — сказал Рето, прячась под одеяло.
Старуха побежала в лавку, чтобы встретить посетителя.
Через минуту она вернулась сияющая, торжествующая.
— Тысячу экземпляров, — сказала она. — Разом тысячу! Вот так заказ!
— На чье имя? — с живостью спросил Рето.
— Не знаю.
— Надо узнать: беги скорее.
— О, время есть. Ведь это не безделица — сосчитать, перевязать и уложить тысячу номеров.
— Беги скорее, говорю тебе, и спроси лакея… Это лакей?
— Это посыльный, крючник, по выговору овернец.
— Все равно, спроси, куда он понесет газеты.
Альдегонда поспешно вышла; шаткие деревянные ступени заскрипели под ее тяжелыми шагами и вскоре снизу донесся ее пронзительный голос, допрашивавший посыльного. Тот отвечал, что отнесет номера на улицу Нёв-Сен-Жиль в Маре графу де Калиостро.
Газетчик подскочил от радости, чуть не продавив матрац. Он поспешил встать и сам принял участие в выдаче номеров, которая была поручена единственному рассыльному, представлявшему собой какую-то голодную тень, более прозрачную, чем даже печатный лист. Тысяча экземпляров была прицеплена к крючьям овернца; тот исчез за решеткой, согнувшись под своей ношей.
Сьёр Рето принял к сведению для будущего номера успех сегодняшнего и решил посвятить несколько строк великодушному вельможе, который пожелал взять тысячу экземпляров памфлета, претендовавшего быть политическим. Господин Рето, говорим мы, поздравлял себя с таким счастливым знакомством, когда во дворе снова раздался звонок.
— Еще тысячу экземпляров, — сказала Альдегонда, разохотившаяся после первой удачной продажи. — А, сударь, это и неудивительно: как только дело коснется Австриячки, так все дружно откликаются.
— Тише, тише, Альдегонда! Не говори так громко. «Австриячка» — это такое оскорбление, за которое я могу поплатиться Бастилией, которую ты мне пророчишь.
— А что такого, — недовольно сказала старуха, — ведь она же австриячка, разве нет?
— Это словечко, которое мы, журналисты, пустили в оборот, но им нельзя злоупотреблять.
Звонок повторился.
— Поди посмотри, Альдегонда. Я не думаю, чтобы это пришли покупать номера.
— А из чего вы это заключаете? — спросила старуха, сходя вниз.
— Сам не знаю, мне кажется, что я вижу у решетки какого-то человека с угрожающей физиономией.
Тем не менее Альдегонда пошла отворить.
А господин Рето стал смотреть с тревожным вниманием, которое совершенно понятно после нашего описания и газетчика, и его лаборатории.
Альдегонда увидела за калиткой какого-то просто одетого человека, который осведомился, у себя ли редактор газеты.
— А что вам нужно сказать ему? — с некоторым недоверием спросила служанка.
И чуть-чуть приоткрыла калитку, приготовившись захлопнуть ее при малейшем намеке на опасность.
Посетитель вместо ответа стал позвякивать у себя в кармане монетами.
Их металлический звон радостно отозвался в сердце старухи.
— Я пришел, — сказал незнакомец, — заплатить за тысячу экземпляров сегодняшней «Газеты», за которыми приходили от имени графа де Калиостро.
— А, в таком случае войдите.
Посетитель прошел в калитку и только собирался закрыть ее за собой, как ее удержал другой посетитель, молодой, высокий, красивый, сказавший первому:
— Извините, сударь.
И, не спрашивая больше никакого позволения, он проскользнул вслед за посыльным графа де Калиостро.
Альдегонда между тем, поглощенная полученными деньгами и очарованная звоном экю, побежала к хозяину.
— Ну, — сказала она, — все идет хорошо… Вот пятьсот ливров за тысячу экземпляров.
— Примем же их с подобающим достоинством, — сказал Рето, подражая игре Ларива в недавно поставленной пьесе.
И он завернулся в довольно красивый халат, который достался ему от щедрот, или, вернее, от испуга, г-жи Дюгазон, у которой, со времени ее истории с наездником Эстли, газетчик выманил значительное количество самых разных подарков.
В комнату вошел посланный от графа де Калиостро, положил на стол маленький мешочек с экю по шести ливров, отсчитал сто штук и разделил их на двенадцать кучек.
Рето принялся старательно пересчитывать деньги, оглядывая каждую монету, чтобы удостовериться, что между ними нет обрезанных.
Наконец, убедившись, что все в порядке, он поблагодарил, выдал расписку в получении и с любезной улыбкой отпустил посланца, лукаво осведомившись у него, как поживает г-н граф де Калиостро.
Человек с экю спокойно поблагодарил, посчитав вопрос вполне естественным в таких обстоятельствах, и собирался удалиться.
— Скажите господину графу, что я к его услугам, когда он только пожелает, и прибавьте, что он может быть спокоен: я умею хранить тайны.
— Этого вовсе не нужно, — отвечал посланец, — господин граф де Калиостро — человек свободных убеждений и не верит в магнетизм. Он хочет, чтобы господина Месмера подняли насмех, и желает для своего удовольствия, чтобы приключение у чана стало известным.
— Хорошо, — раздался чей-то голос на пороге комнаты, — мы постараемся, чтобы немного посмеялись и над расходами господина графа де Калиостро.
И тут же господин Рето увидел появившегося в комнате другого посетителя, показавшегося ему значительно более зловещим с виду, чем первый.
Это был, как мы уже сказали, молодой, с крепкими мускулами господин; но Рето совершенно не разделял нашего мнения относительно его приятной внешности.
Он нашел, что взгляд и осанка у молодого человека угрожающие.
Действительно, посетитель держал левую руку на рукоятке шпаги, а правой сжимал набалдашник палки.
— Чем могу служить вам, сударь? — спросил Рето с невольным трепетом, охватывавшим его во всех сколько-нибудь затруднительных случаях. А поскольку такие случаи были нередки в его жизни, то и дрожать ему приходилось часто.
— Господин Рето? — спросил незнакомец.
— Это я.
— Пишущий под псевдонимом де Вилет?
— Это я, сударь.
— Газетчик?
— Да.
— Автор этой статьи? — продолжал спрашивать холодным тоном незнакомец, вытаскивая из кармана совсем свежий номер сегодняшней газеты.
— Действительно, хотя и не я ее автор, напечатал я, — сказал Рето.
— Прекрасно… Это совершенно одно и то же, так как если у вас не хватило мужества написать эту статью, то хватило трусости напечатать ее. Я говорю — трусости, — повторил холодно незнакомец, — так как, будучи дворянином, желаю быть сдержанным в своих выражениях даже в этом притоне. Но вы не должны понимать буквально моих слов, так как они не вполне выражают мою мысль. Если бы я точно выразил ее, то сказал бы: «Тот, кто написал эту статью, — подлец! Тот, кто напечатал ее, — негодяй!»
— Сударь! — произнес Рето, сильно побледнев.
— А, да, это неприятная для вас история, правда, — продолжал молодой человек, все более распаляясь. — Но слушайте, господин писака: всему своя очередь. Несколько минут назад вы получили экю, а теперь получите палочные удары.
— О, — воскликнул Рето, — это мы еще увидим!
— А что мы такое увидим? — повторил отрывистым тоном, совершенно по-военному, молодой человек и с этими словами двинулся на противника.
Но тому не в первый раз приходилось попадать в подобные переделки; он хорошо знал каждый уголок своего дома, и ему стоило только повернуться, чтобы нащупать дверь, проскочить в нее, захлопнуть, воспользовавшись ею как щитом, и перейти в соседнюю комнату, откуда был выход к знаменитой и спасительной калитке на улицу Старых Августинцев.
Оказавшись там, он был уже в безопасности. Маленькую решетчатую калитку он открывал одним поворотом ключа — а ключ у него всегда был наготове — и затем пускался бежать со всех ног.
Но этот день был положительно несчастливым для бедного газетчика: в ту минуту, как он собирался взяться за ключ, он заметил сквозь решетку калитки другого человека, который, вероятно со страху, показался ему ростом с Геркулеса. Этот незнакомец, стоя на одном месте и имея очень грозный вид, казалось, поджидал его, как некогда дракон в садах Гесперид поджидал охотников за золотыми яблоками.
Рето очень желал бы вернуться назад, но молодой человек с палкой в руке, который первым предстал перед его глазами, высадив дверь ударом ноги, погнался за беглецом, и теперь ему стоило только протянуть руку, чтобы схватить журналиста, замершего при виде ожидавшего его второго противника, вооруженного шпагой и тростью.
Рето оказался между двух огней, или, вернее, между двух палок, в маленьком безлюдном дворике, глухом и темном, находившемся между задним фасадом дома газетчика и драгоценной решеткой, что вела на улицу Старых Августинцев, то есть к спасению и безопасности, если бы путь был свободен.
— Сударь, позвольте мне, пожалуйста, пройти, — сказал Рето молодому человеку, сторожившему у решетки.
— Сударь, — закричал преследовавший Рето молодой человек, — задержите этого негодяя!
— Будьте спокойны, господин де Шарни, он не пройдет, — отвечал ему молодой человек, стоявший у калитки.
— Господин де Таверне, вы! — воскликнул Шарни, так как это он первым явился к Рето с улицы Монторгёй, вслед за посыльным от Калиостро.
Оба они, прочтя утром газету, возымели одну и ту же мысль, так как в сердце их жило одно и то же чувство, и без всякого предварительного сговора они привели свою мысль в исполнение.
План их заключался в том, чтобы отправиться к журналисту, потребовать от него удовлетворения и поколотить его палкой, если он им не даст его.
Однако, увидев друг друга, каждый из них почувствовал недовольство, так как угадал соперника в человеке, который возмутился тем же, что и он.
Вот почему г-н де Шарни произнес эти четыре слова «Господин де Таверне, вы?» довольно неприветливым тоном.
— Я самый, — отвечал Филипп с такой же недовольной ноткой в голосе, делая шаг к газетчику, который умоляюще протягивал к нему руки сквозь решетку. — Но, кажется, я пришел слишком поздно. Ну что ж, я буду только зрителем на представлении, если, впрочем, вы не будете так добры открыть мне калитку.
— На представлении? — с ужасом повторил газетчик. — На представлении? Что вы такое говорите? Разве вы меня убьете, господа?
— О, это несколько сильное выражение — сказал Шарни. — Нет, сударь, мы вас не убьем, но сначала допросим, а там посмотрим. Вы мне позволите поступать с этим человеком по своему усмотрению, господин де Таверне?
— Конечно, сударь, — отвечал Филипп, — преимущества на вашей стороне, так как вы пришли первым.
— Ну, прислонитесь к стене и не двигайтесь, — сказал Шарни газетчику, жестом поблагодарив Таверне. — Итак, вы сознаетесь, милейший, что написали и напечатали направленную против королевы шуточную сказочку, как вы ее называете, появившуюся сегодня в вашей газете?
— Сударь, она направлена не против королевы.
— Этой лжи еще недоставало!
— Ах, какое у вас терпение, сударь! — воскликнул Филипп, бесновавшийся по ту сторону решетки.
— Будьте спокойны, — отвечал Шарни, — негодяй ничего не потеряет, подождав немного.
— Да, — пробормотал Филипп, — но ведь я тоже жду.
Однако Шарни ничего не ответил Таверне, а обратился к несчастному Рето.
— «Аттенаутна» — это то же имя, что и «Антуанетта», просто переставлены буквы… О, не лгите, сударь: это было бы пошло, низко, и я вместо того, чтобы бить или сразу убить вас, содрал бы с вас живого кожу. Отвечайте же определенно. Я вас спрашиваю: единственный ли вы автор этого памфлета?
— Я не доносчик, — отвечал, выпрямляясь, Рето.
— Прекрасно, это значит, что у вас есть соучастник: хотя бы тот человек, который велел купить у вас тысячу экземпляров этой грязи, — граф де Калиостро, как вы недавно называли его. Хорошо! Граф расплатится за себя, как вы за себя.
— Сударь, сударь, я вовсе не обвиняю его! — закричал газетчик, опасаясь, что на него обрушится еще и гнев Калиостро, не говоря уже о гневе Филиппа, который, бледный от бешенства, стоял по другую сторону решетки.
— Но, — продолжал Шарни, — так как вы попались мне первым, то и расплатитесь первым.
И он поднял палку.
— Если бы только у меня была шпага, сударь! — завопил журналист.
Шарни опустил свою трость.
— Господин Филипп, — сказал он, — одолжите, прошу вас, вашу шпагу этому негодяю.
— О нет, я не могу одолжить честную шпагу этому подлецу… Вот моя палка, если вам не довольно вашей. Я, по чести, не могу больше ничего сделать ни для вас, ни для него.
— Черт возьми, палку! — воскликнул вне себя Рето. — Да знаете ли вы, господа, что я дворянин?
— В таком случае одолжите вашу шпагу мне, — продолжал Шарни, бросая свою к ногам газетчика, — к моей я больше не прикоснусь.
И он бросил свою шпагу к ногам побледневшего Рето.
Филипп не мог более возражать. Он вынул из ножен свою шпагу и передал ее через решетку Шарни.
Шарни с поклоном взял ее.
— А, ты дворянин! — сказал он, поворачиваясь к Рето. — Ты дворянин и пишешь такие гадости о французской королеве! Ну же, подними эту шпагу и докажи, что ты дворянин.
Но Рето не двинулся с места. Можно было бы подумать, что он так же боялся шпаги, как и палки, в эту минуту уже занесенной у него над его головой.
— Проклятье! — воскликнул, выйдя из себя, Филипп. — Да откройте же мне эту решетку.
— Извините, сударь, — заметил Шарни, — но ведь вы сами согласились с тем, что этот человек принадлежит мне первому.
— Так кончайте же с ним скорее, так как я горю нетерпением начать в свою очередь.
— Я должен был испробовать все способы, прежде чем приступить к крайним мерам, — сказал Шарни, — так как я нахожу, что наносить палочные удары обходится почти так же дорого, как и получать их. Но поскольку этот господин явно предпочитает палочные удары ударам шпаги, то его желание будет исполнено.

И едва только он успел закончить свою речь, как крик Рето показал, что Шарни подтверждает слова действием. Пять или шесть увесистых ударов, каждый из которых сопровождался соответствующим его силе криком боли, последовали за первым.
Эти вопли привлекли внимание старой Альдегонды; но Шарни обратил на ее крики столь же мало внимания, как и на стоны ее хозяина.
В это время Филипп, подобно изгнанному из рая Адаму, грыз себе руки от ярости, напоминая медведя, который чует запах мяса из-за решетки своей клетки.
Наконец Шарни остановился, устав наносить удары, а Рето, устав получать их, упал на землю.
— Ну, — сказал Филипп, — вы закончили, сударь?
— Да, — отвечал Шарни.
— В таком случае отдайте мне мою шпагу, оказавшуюся вам ненужной, и откройте калитку, прошу вас.
— О сударь, сударь! — взмолился Рето, посчитав теперь человека, покончившего с ним счеты, своим защитником.
— Вы понимаете, что я не могу оставить этого господина за воротами, — сказал Шарни, — поэтому я открою ему.
— О, да это убийство! — воскликнул Рето. — Убейте меня лучше сейчас же ударом шпаги, и пусть на этом все кончится!
— Успокойтесь, сударь, — отвечал Шарни, — я думаю, что этот господин не тронет вас.
— И вы совершенно правы, — сказал с глубоким презрением Филипп, вошедший во двор. — Я и не думаю его трогать. Он получил хорошую порцию ударов, это прекрасно, а закон гласит: «Non bis in idem»[6]«Не дважды за то же» (лат.). . Но ведь еще остались номера сегодняшнего издания, их необходимо уничтожить.
— А, прекрасно! — воскликнул Шарни. — Видите, два ума лучше, чем один. Я, может быть, и забыл бы об этом. Но каким образом вы очутились у этого входа, господин де Таверне?
— А вот каким, — отвечал Филипп. — Я расспросил в квартале о привычках этого негодяя и узнал, что он обыкновенно спасается бегством, когда ему угрожает палка. Тогда я справился, как он это умудряется делать, и подумал, что, войдя через потайную дверь, а не через обычный вход, и закрыв ее за собой, я захвачу лисицу в норе. Вам, как и мне, пришла мысль о возмездии, но, действуя поспешнее меня, вы получили сведения менее подробные, вошли в ту дверь, в которую входят все, и негодяй уже было ускользнул от вас, но, к счастью, вы нашли здесь меня.
— И я в восторге от этого! Пойдемте, господин де Таверне. Этот мошенник поведет нас в свою типографию.
— Но она не здесь! — воскликнул Рето.
— Ложь! — угрожающе сказал Шарни.
— Нет, — заговорил Филипп, — он прав, набор уже рассыпан. Здесь находится только готовый выпуск и, должно быть, полностью, кроме тысячи экземпляров, проданных господину де Калиостро.
— В таком случае негодяй разорвет все эти газеты при нас.
— Он сожжет их, это будет вернее.
Филипп одобрил этот способ получить удовлетворение и толкнул Рето по направлению к его лавке.
IX
КАК ДВА ДРУГА СТАНОВЯТСЯ ВРАГАМИ
Между тем Альдегонда, услышав крики своего хозяина и увидев, что дверь заперта, побежала за стражей.
Но, прежде чем она вернулась, Филипп и Шарни уже успели развести славный огонь первыми номерами газеты и затем побросать в него один за другим изорванные листы остальных экземпляров, которые тут же вспыхивали, как только пламя касалось их.
Молодые люди подвергали экзекуции последние газеты, когда вслед за Альдегондой на другом конце двора показались гвардейцы, а вместе с ними сотня мальчишек и столько же кумушек.
Первые удары ружейных прикладов раздавались по плитам ведущего от дверей коридора, когда загорелся последний экземпляр.
К счастью, Филипп и Шарни знали дорогу, которую Рето имел неосторожность показать им; они вошли в потайной ход, задвинули за собой засовы, миновали выходившую на улицу Старых Августинцев калитку, заперли ее на два оборота и бросили ключ в первую попавшуюся канаву.
В это время Рето, получивший свободу, звал на помощь и кричал, что его убивают, режут, а Альдегонда, видя на оконных стеклах отблеск горевшей бумаги, вопила: «Пожар!»
Фузилёры вошли в дом, когда молодые люди исчезли, а огонь потух; поэтому они не нашли нужным производить дальнейшие розыски, предоставили Рето класть себе на спину примочки с камфарным спиртом и возвратились в кордегардию.
Но толпа, отличавшаяся большим любопытством, чем стражи порядка, простояла на дворе г-на Рето до полудня, не теряя надежды на повторение утренней сцены.
Альдегонда в полном отчаянии поносила Марию Антуанетту, называя ее Австриячкой, и благословляла г-на де Калиостро, называя его покровителем литературы.
Когда молодые люди очутились на улице Старых Августинцев, Шарни обратился к своему спутнику.
— Сударь, — сказал он, — теперь, когда наша экзекуция окончена, могу ли я надеяться на счастье быть вам чем-нибудь полезным?
— Тысячу благодарностей, сударь, я только что хотел предложить вам тот же вопрос.
— Благодарю вас. Я приехал по личным делам, которые, вероятно, задержат меня в Париже некоторую часть дня.
— Меня также, сударь.
— Так позвольте же мне откланяться и поздравить себя с честью и счастьем, которое доставила мне встреча с вами.
— Позвольте и мне обратиться к вам с тем же приветствием и прибавить к этому мои пожелания, чтобы дело, из-за которого вы приехали, закончилось так, как вы того желаете.
И оба раскланялись с улыбкой и учтивостью, хотя нетрудно было заметить, что все эти вежливые слова, которыми они обменивались, были у них только на устах, а не в сердце.
Расставшись, они направились в противоположные стороны: Филипп пошел вверх к бульварам, а Шарни спустился к реке.
Они раза два или три оглядывались, пока не потеряли друг друга из виду окончательно. Тогда Шарни, спустившийся, как мы сказали, к реке, пошел по улице Борепер, затем по Лисьей улице, по улицам Большого Крикуна, Жан-Робер, Гравилье, Пастушки, Анжу, Перш, Кюльтюр-Сент-Катрин, Сент-Анастаз и Сен-Луи.
Затем он спустился вниз по улице Сен-Луи и направился к улице Нёв-Сен-Жиль.
Но по мере приближения к ней он все пристальнее вглядывался в подымающегося вверх по улице Сен-Луи молодого человека, показавшегося ему знакомым. Два или три раза он останавливался в нерешительности, но скоро сомневаться уже было невозможно: поднимавшийся в гору человек был Филипп.
Последний в свою очередь шел сначала по улицам Моконсей, Медвежьей, Гренье-Сен-Лазар, Мишель-ле-Конт, Вьей-Одриетт, Л’Ом-Арме, Розье, прошел мимо особняка Ламуаньон и наконец очутился на улице Сен-Луи на углу улицы Эгу-Сент-Катрин.
Оба молодых человека одновременно вступили на улицу Нёв-Сен-Жиль.
Они остановились и взглянули друг на друга так, что стало ясно: на этот раз они не желали скрывать друг от друга своих истинных чувств.
Снова возымели они одну и ту же мысль — потребовать объяснений у графа де Калиостро.
Очутившись у его дома, они уже не могли иметь никаких сомнений относительно планов каждого из них.
— Господин де Шарни, — начал Филипп, — я предоставил вам продавца, вы бы могли оставить мне покупателя. Я позволил вам нанести удары палкой, позвольте же мне нанести удар шпагой.
— Сударь, — отвечал Шарни, — вы оказали мне эту любезность, я полагаю, только потому, что я пришел первым, а не по какой-либо иной причине.
— Да, — продолжал Таверне, — но сюда я прихожу одновременно с вами и заранее заявляю вам, что не сделаю вам здесь никаких уступок.
— Да кто же вам сказал, что я их прошу? Я буду отстаивать свое право, вот и все.
— А в чем оно, по-вашему, заключается, господин де Шарни?
— Заставить господина де Калиостро сжечь тысячу экземпляров, купленных им у этого негодяя.
— Вспомните, сударь, что у меня первого явилась мысль сжечь это издание на улице Монторгёй.
— Хорошо, вы сожгли номера газеты на улице Монторгёй, а я заставлю разорвать их на улице Нёв-Сен-Жиль.
— Сударь, я в отчаянии, но мне придется вполне серьезно повторить вам, что я желаю первым иметь дело с графом де Калиостро.
— Все, что я могу сделать для вас, сударь, — это предложить довериться судьбе: я кину кверху луидор, и тот, кто выиграет, будет первым.
— Благодарю вас, сударь, мне обычно не везет, и, пожалуй, я буду иметь несчастье проиграть.
И Филипп сделал шаг вперед.
Шарни остановил его.
— Одно слово, сударь, — сказал он, — и я думаю, что мы придем к соглашению.
Филипп поспешно обернулся. В тоне Шарни ему послышалось что-то угрожающее, и это обрадовало его.
— А, — воскликнул он, — вот это хорошо!
— Почему бы нам не отправиться требовать удовлетворения от господина де Калиостро через Булонский лес? Это, я знаю, удлинило бы наш путь, но, по крайней мере, разрешило бы наши разногласия. Один из нас, вероятно, останется на дороге, а тот, кто вернется сюда, не должен будет никому отдавать отчета.
— Право, сударь, — подхватил Филипп, — вы угадали мою мысль. Да, действительно, это может нас примирить. Угодно ли вам сказать мне, где мы встретимся?
— Но если мое общество не слишком невыносимо для вас, сударь…
— Что вы!
— … то нам незачем расставаться. Я велел своей карете ждать меня на Королевской площади, а, как вам известно, это отсюда в двух шагах.
— И вы предлагаете мне место в ней?
— Конечно, с величайшим удовольствием.
Молодые люди, почувствовавшие себя соперниками с первого взгляда и ставшие врагами при первом же поводе к тому, направились быстрым шагом на Королевскую площадь. На углу улицы Па-де-ла-Мюль они увидели карету Шарни.
Последний, не давая себе труда идти дальше, махнул рукой выездному лакею. Карета подъехала. Шарни пригласил Филиппа сесть в нее, и карета поехала по направлению к Елисейским полям, но перед тем как сесть самому, Шарни написал два слова на листке записной книжки и велел своему слуге отнести это в его парижский дом.
У г-на де Шарни были великолепные лошади, и менее чем через полчаса они были в Булонском лесу.
Здесь Шарни остановил кучера у первого же подходящего места.
Погода стояла прекрасная; воздух был еще несколько прохладен, но в нем уже весьма сильно слышалось благоухание первых фиалок и молодых побегов бузины, растущей вдоль дорог и по опушке леса.
Под желтыми прошлогодними листьями уже гордо пробивались травы, украшенные колеблющимися султанами, и золотистые левкои, росшие вдоль старых стен, наклоняли свои ароматные цветы.
— Прекрасная погода для прогулки, не правда ли, господин де Таверне? — спросил Шарни.
— Да, прекрасная, сударь.
И оба вышли из кареты.
— Можете ехать, Дофен, — сказал Шарни кучеру.
— Послушайте, — начал Филипп, — не напрасно ли вы отсылаете карету? Она, очень вероятно, пригодилась бы одному из нас для возвращения домой.
— Прежде всего, сударь, надо держать все это в строжайшей тайне, — отвечал Шарни, — если же мы доверим ее лакею, то рискуем, что завтра же она станет темой для разговоров всего Парижа.
— Как вам угодно, сударь, но этот малый, который привез нас сюда, конечно, уже понял, в чем дело. Эта порода людей слишком хорошо знакома с нашими привычками, чтобы не заподозрить, что когда два дворянина велят везти себя в Булонский, или в Венсенский лес, или в Сатори, да еще с такой быстротой, с какой ехали мы, то тут речь идет не о простой прогулке. Итак, я повторяю, что ваш кучер уже все понял. Но допустим даже, что он ничего не знает. Он ведь увидит раненым, а может быть, и убитым либо меня, либо вас, и этого будет достаточно для того, чтобы он наконец прозрел, хотя и несколько поздно. Не лучше ли ему остаться тут, чтобы отвезти того, кто будет не в состоянии вернуться сам? Таким образом ни вам, ни мне не придется попасть в затруднительное положение, оставшись здесь в одиночестве.
— Вы правы, сударь, — отвечал Шарни и, обернувшись к кучеру, сказал ему: — Остановитесь, Дофен, и ждите здесь.
Дофен подозревал, что ему прикажут вернуться. Поэтому он ехал шагом и еще находился на таком расстоянии, что мог услышать голос хозяина.
Он остановился и, угадав, как предположил Филипп, что произойдет, устроился на козлах таким образом, чтобы иметь возможность видеть сквозь обнаженные еще деревья сцену, в которой, как он полагал, его хозяину предстояло стать одним из актеров.
Тем временем Филипп и Шарни постепенно углублялись все дальше в лес и минут через пять скрылись — или почти скрылись — в синеватой дали.
Филипп, шедший впереди, заметил сухое место, где на твердой земле ноги не скользили; оно представляло собой длинный четырехугольник, необыкновенно подходящий для той цели, что привела сюда молодых людей.
— Не знаю, согласны ли вы со мной, господин де Шарни, — сказал Филипп, — но мне кажется, что это очень хорошее местечко.
— Прелестное, сударь, — отвечал Шарни, сбрасывая с плеч одежду.
Филипп, в свою очередь, разделся, кинул на землю шляпу и обнажил шпагу.
— Сударь, — обратился к нему Шарни, не вынимая еще своей шпаги из ножен, — всякому другому я сказал бы: «Шевалье, одно слово если не извинения, то привета, — и мы друзья…» Но вам, смельчаку, вернувшемуся из Америки, то есть из страны, где сражаются так мужественно, я не могу…
— А я, — ответил Филипп, — сказал бы всякому другому: «Сударь, я, может быть, не прав по отношению к вам». Но вам, храброму моряку, еще недавно своим славным подвигом на войне вызвавшему восхищение всего двора, вам, господин де Шарни, я могу сказать только: «Господин граф, сделайте мне честь стать в оборонительную позицию».
Граф поклонился и, в свою очередь, обнажил шпагу.
— Сударь, — начал он, — мне кажется, что мы оба оставляем в стороне истинный повод нашей ссоры.
— Я вас не понимаю, граф, — отвечал Филипп.
— О, напротив, вы меня понимаете, сударь, вы меня прекрасно понимаете. И так как вы прибыли из страны, где не умеют лгать, то вы покраснели, заявив мне, что меня не понимаете.
— Защищайтесь же! — повторил Филипп.
Их шпаги скрестились.
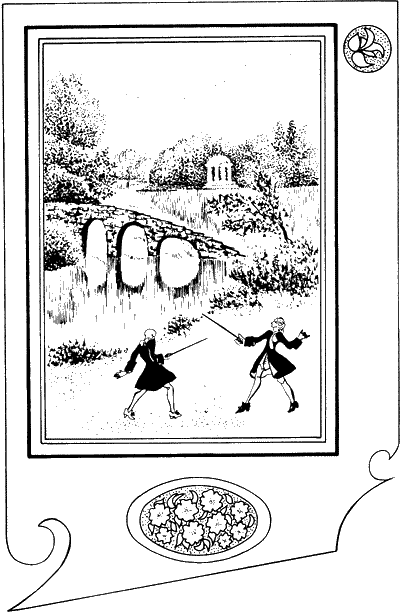
При первых же выпадах Филипп убедился, что значительно превосходит своего противника. Но эта уверенность, вместо того чтобы воодушевить, по-видимому, совершенно охладила его.
Превосходство позволило Филиппу сохранить все свое хладнокровие, и в результате он вел свою игру так спокойно, как будто находился в фехтовальном зале и вместо шпаги держал в руках учебную рапиру.
Он ограничился тем, что парировал удары и, хотя поединок длился уже с минуту, сам не нанес ни одного.
— Вы меня щадите, сударь, — заметил ему Шарни. — Могу я узнать, на каком основании?
И, внезапно сделав быстрый финт, он попытался нанести Филиппу глубокий удар.
Но Филипп с еще большей быстротой скрестил свою шпагу с оружием противника и отразил нападение.
Хотя при этом параде он заставил шпагу Шарни отклониться от прямой линии, но сам не сделал ответного выпада.
Шарни снова нанес удар, который Филипп отбил простым парадом, вынудив графа приостановиться.
Тот был моложе и, главное, более горяч, ему было стыдно видеть спокойствие противника, когда у него самого кровь кипела. Поэтому он решил вывести его из равновесия.
— Я уже сказал вам, сударь, — начал он, — что мы с вами оставили в стороне настоящую причину нашей дуэли.
Филипп не ответил.
— Я могу назвать вам эту причину: вы искали со мной ссоры и начали ее из ревности.
Филипп сохранял молчание.
— Однако, — продолжал Шарни, который все больше горячился, видя хладнокровие Филиппа, — в чем же заключается ваша игра, господин де Таверне? Не хотите ли вы просто утомить меня? Это было бы расчетом, недостойным вас. Черт возьми! Убейте меня, если можете, но убейте, по крайней мере, пока я могу драться.
Филипп покачал головой.
— Да, сударь, — сказал он, — ваш упрек заслужен: я искал ссоры с вами и был не прав.
— Теперь это не имеет значения, господин де Таверне; у вас в руке шпага, пользуйтесь ею для чего-нибудь другого, не только парируйте. А если вы не хотите нападать на меня более энергично, то защищайтесь хотя бы слабее.
— Сударь, — повторил Филипп, — я еще раз имею честь сказать вам, что был не прав и раскаиваюсь в этом.
Но Шарни был слишком возбужден, чтобы оценить великодушие своего противника, и счел его слова оскорблением.
— А, я понимаю! — воскликнул он. — Вы хотите проявить ко мне великодушие! Не правда ли, шевалье? Сегодня вечером или завтра вы будете рассказывать каким-нибудь прелестным дамам, что заставили меня выйти с вами на поединок и затем даровали мне жизнь.
— Господин граф, — отвечал Филипп, — я, право, начинаю опасаться, что вы сходите с ума.
— Вы хотели убить господина де Калиостро, чтобы заслужить расположение королевы, не правда ли? И чтобы быть еще более уверенным в ее расположении, вы хотите убить и меня, выставив при этом на посмешище?
— Это уж чересчур! — воскликнул Филипп, нахмурив брови. — Ваши последние слова доказывают мне, что у вас не такое благородное сердце, как я полагал.
— Ну что ж, пронзите это сердце! — вскричал Шарни, открывая свою грудь как раз в ту минуту, когда Филипп сделал быстрый выпад и уколол его.
Шпага скользнула по ребрам и провела кровавую борозду под тонкой полотняной рубашкой Шарни.
— Наконец-то, — радостно воскликнул тот, — я ранен! Теперь, если я вас убью, моя роль будет отлично исполнена.
— Положительно, вы совсем лишились рассудка, — отвечал Филипп. — Вы не убьете меня, и на долю вашу выпадет роль самая заурядная… Вы будете ранены без всякого повода и всякой пользы для вас, так как никто не знает, из-за чего мы дрались.
Шарни между тем сделал такой быстрый прямой выпад, что на этот раз Филипп едва успел вовремя отразить его, но при этом сильным ударом выбил шпагу из рук противника и отбросил ее на десять шагов в сторону.
Затем он подбежал к ней и сломал ее на куски ударом каблука.
— Господин де Шарни, — сказал он, — вам не к чему было доказывать мне свою храбрость… Вы, значит, сильно ненавидите меня, раз проявили такое ожесточение в поединке со мной.
Шарни не отвечал, он заметно бледнел.
Филипп несколько секунд глядел на него, надеясь услышать от него подтверждение или отрицание своих слов.
— Итак, граф, — сказал он, — жребий брошен, мы враги.
Шарни зашатался. Филипп бросился к нему, чтобы поддержать, но граф отстранил его руку.
— Благодарю вас, — сказал он, — я надеюсь, что смогу дойти до моей кареты.
— Возьмите, по крайней мере, этот платок, чтобы остановить кровь.
— Охотно, — ответил граф, взяв платок.
— Обопритесь на мою руку, сударь; вы упадете при первом же встреченном на пути препятствии, так как едва стоите на ногах, и это доставит вам совершенно лишние страдания.
— Шпага, вероятно, рассекла только мускулы, — сказал Шарни. — Я ничего не ощущаю в груди.
— Тем лучше, сударь.
— И я надеюсь быть вскоре здоровым.
— Тем лучше, повторяю. Но если вы хотите скорейшего выздоровления, чтобы возобновить наш поединок, то предупреждаю вас, что вам трудно будет принудить меня к этому.
Шарни пытался отвечать, но слова замерли у него на устах; он пошатнулся, и Филипп едва успел поддержать его.
Затем он поднял графа, как ребенка, и понес к карете: Шарни был почти в бессознательном состоянии.
Впрочем, Дофен, увидев сквозь ветви деревьев со своего места, что произошло, сократил путь своему господину, двинувшись ему навстречу.
Шарни посадили в карету; он поблагодарил Филиппа кивком головы.
— Поезжайте шагом, кучер, — сказал Филипп.
— А вы, сударь? — пробормотал раненый.
— О, не беспокойтесь обо мне.
И он с поклоном захлопнул дверцу.
Карета медленно тронулась, а Филипп остался стоять на месте, глядя ей вслед. Скоро карета исчезла, завернув за угол аллеи, и тогда Филипп направился в Париж кратчайшим путем.
Затем, обернувшись в последний раз и увидев, что экипаж вместо того, чтобы возвращаться в Париж, повернул в сторону Версаля и скрылся за деревьями, Филипп с глубокой задумчивостью произнес четыре слова, вырвавшиеся у него из сердца:
— Она будет жалеть его!
X
ДОМ НА УЛИЦЕ НЁВ-СЕН-ЖИЛЬ
У дверей караульного помещения Филипп встретил наемную карету и вскочил в нее.
— На улицу Нёв-Сен-Жиль, — сказал он кучеру, — и поживее.
Человек, только что дравшийся и сохранивший вид победителя, крепко сложенный, с благородной внешностью, осанкой напоминавший военного, хотя и был одет в городское платье, — всего этого было более чем достаточно, чтобы поощрить славного малого, чей кнут если и не был, подобно трезубцу Нептуна, скипетром, означавшим власть над миром, то, во всяком случае, Филиппу казался скипетром весьма важным.
Автомедонт, нанятый за двадцать четыре су, пожирал пространство и вскоре доставил Филиппа на улицу Нёв-Сен-Жиль, к особняку графа де Калиостро.
Дом этот поражал крайней простотой своего внешнего вида и величавой грандиозностью линий, как и большинство строений, воздвигнутых в царствование Людовика XIV на смену мраморным и кирпичным безделушкам, возведенным при Людовике XIII в стиле эпохи Возрождения.
Поместительная карета, запряженная двумя прекрасными лошадьми, с мягкими рессорами, покачивалась на обширном парадном дворе.
Кучер дремал на козлах в своем подбитом лисьим мехом широком плаще; два лакея, из которых один был вооружен охотничьим ножом, молча расхаживали у подъезда.
Помимо этих лиц, нельзя было заметить никаких признаков того, что дом обитаем.
Кучер Филиппа, получив приказание въехать во двор (невзирая на свое скромное звание возницы фиакра), позвал привратника, который немедленно открыл массивные ворота.
Филипп соскочил на землю и побежал к подъезду, обратившись с вопросом сразу к обоим лакеям:
— Господин граф де Калиостро у себя?
— Господин граф собирается выехать, — отвечал один из лакеев.
— Тем больше оснований я имею спешить, — отвечал Филипп, — так как мне нужно поговорить с ним, пока он еще не выехал. Доложите о шевалье Филиппе де Таверне.
И он последовал за лакеем таким торопливым шагом, что оказался в гостиной в одно время с ним.
— Шевалье Филипп де Таверне! — повторил за лакеем мужественный и вместе мягкий голос. — Просите!
Филипп вошел, ощущая, как в нем рождается какое-то волнение, вызванное этим столь спокойным голосом.
— Извините меня, сударь, — сказал шевалье, обращаясь с поклоном к человеку высокого роста, необыкновенно крепкого сложения и с удивительно свежей и моложавой внешностью. Это был не кто иной, как тот, кого мы видели сначала за столом у маршала де Ришелье, затем у Месмера, в комнате мадемуазель Олива́ и, наконец, на балу в Опере.
— Извинить вас, сударь? За что же? — ответил он.
— За то, что я помешал вам выехать.
— Вы имели бы основание извиняться, если бы, наоборот, явились позже, шевалье.
— Почему это?
— Потому что я вас ждал.
Филипп сдвинул брови.
— Как? Вы меня ждали?
— Да, я был предупрежден о вашем посещении.
— Вы были предупреждены о моем посещении?
— Ну да, вот уже два часа. Ведь, не правда ли, вы собирались быть у меня час или два тому назад, когда происшествие, не зависящее от вашей воли, заставило отсрочить исполнение этого намерения?
Филипп сжал кулаки; он чувствовал, что этот человек начинает приобретать над ним какую-то необъяснимую власть.
А тот продолжал, не обращая ни малейшего внимания на нервные движения Филиппа:
— Садитесь же, господин де Таверне, прошу вас.
И он подвинул Филиппу стоявшее перед камином кресло.
— Это кресло было поставлено здесь для вас, — добавил он.
— Довольно шуток, господин граф, — отвечал Филипп голосом, который он силился сделать таким же спокойным, как у хозяина, но не мог сдержать в нем легкой дрожи.
— Я не шучу, сударь; я вас ждал, повторяю вам.
— В таком случае довольно шарлатанства, сударь. Если вы ясновидящий, то я явился сюда не для того, чтобы испытывать ваш пророческий дар. Если вы ясновидящий, тем лучше для вас, так как вам уже известно, что́ я хочу сказать вам, и вы можете заранее принять меры для самозащиты.
— Для самозащиты? — повторил граф с загадочной улыбкой. — От чего же мне надо защищаться? Прошу сказать мне.
— Угадайте, если вы прорицатель.
— Хорошо. Чтобы сделать вам приятное, я избавлю вас от труда объяснять мне мотив вашего посещения. Вы приехали искать со мной ссоры.
— В таком случае вы знаете также, из-за чего?
— Из-за королевы. Теперь речь за вами, сударь. Продолжайте, прошу вас.
И эти последние слова он произнес не любезным тоном хозяина, а сухим и холодным тоном врага.
— Вы правы, сударь, — сказал Филипп, — я предпочитаю такой тон.
— Что ж, все складывается наилучшим образом.
— Сударь, существует некий памфлет…
— Памфлетов много, сударь.
— Напечатанный неким газетчиком…
— И газетчиков много.
— Подождите, этот памфлет… Газетчиком мы займемся позже.
— Позвольте мне сказать вам, сударь, — прервал его с улыбкой Калиостро, — что вы уже занялись им.
— Прекрасно; итак, я говорил, что существует некий памфлет, направленный против королевы.
Калиостро кивнул головой.
— Вам известен этот памфлет?
— Да, сударь.
— Вы даже купили тысячу экземпляров его.
— Не отрицаю.
— Но эта тысяча экземпляров, к великому счастью, не попала в ваши руки.
— Что вас заставляет так думать? — спросил Калиостро.
— Я встретил посыльного, который уносил этот тюк, подкупил его и направил к себе, где его должен был встретить мой лакей, предупрежденный заранее.
— Почему вы не доводите своих дел до конца сами?
— Что вы хотите этим сказать?
— Я хочу сказать, что они тогда были бы лучше выполнены.
— Я не мог сам довести этого дела до конца, так как, пока мой лакей был занят спасением этой тысячи экземпляров от вашей необычной библиомании, я уничтожал остаток издания.
— Итак, вы уверены, что предназначавшаяся для меня тысяча экземпляров находится у вас?
— Уверен.
— Вы ошибаетесь, сударь.
— Как так? — спросил Таверне, у которого сжалось сердце. — Почему бы им не быть у меня?
— Потому что они здесь, — спокойно отвечал граф, прислонясь спиной к камину.
Филипп сделал угрожающий жест.
— А, — продолжал граф с флегматическим спокойствием, достойным Нестора, — вы думаете, что я, ясновидящий, как вы говорите, позволю так провести себя? Вы вообразили, что вам пришла отличная идея подкупить посыльного? Знайте же, что у меня есть управляющий, и у него тоже явилась идея. Я ему плачу за это, и он все угадал; ведь вполне естественно, что управляющий прорицателя и сам способен предвидеть. Так вот, он угадал, что вы придете к газетчику, встретите там посыльного, подкупите его; он последовал за ним, пригрозил, что заставит его возвратить золото, данное вами; человек этот испугался и, вместо того чтобы продолжать свой путь к вам, последовал за моим управляющим сюда. Вы сомневаетесь в этом?
— Сомневаюсь.
— Vide pedes, vide manus![7]Взгляни на ноги, взгляни на руки! (лат.) — сказал Христос апостолу Фоме. А я скажу вам, господин де Таверне: взгляните в шкаф и ощупайте листы.
И с этими словами он открыл дубовый шкаф замечательной резьбы и показал побледневшему шевалье лежавшую в среднем отделении тысячу экземпляров газеты, еще пропитанных кислым запахом сырой бумаги.
Филипп подошел к графу. Последний не шелохнулся, хотя у шевалье был весьма угрожающий вид.
— Сударь, — сказал Филипп, — вы мне кажетесь храбрым человеком; я требую, чтобы вы дали мне удовлетворение со шпагой в руке.
— Удовлетворение за что?
— За оскорбление, нанесенное королеве, за оскорбление, соучастником которого вы являетесь, храня у себя хотя бы один экземпляр этого листка.
— Сударь, — отвечал, не меняя позы, Калиостро, — вы, право, ошибаетесь, и мне весьма это прискорбно. Я люблю всякие скандальные слухи и новости, живущие один день. Я собираю их, чтобы позднее припомнить тысячу разных мелочей, которые неминуемо забылись бы без этой предусмотрительности. Я купил газету; но из чего вы заключаете, что я оскорбил кого-нибудь, купив ее?
— Вы оскорбили меня!
— Вас?
— Да меня! Меня, сударь! Понимаете?
— Нет, не понимаю, клянусь честью.
— Я спрашиваю, почему вы проявили такую настойчивость в покупке этой мерзкой газеты?
— Я вам уже сказал, что страдаю манией составлять коллекции.
— Человек чести, сударь, не собирает гнусностей.
— Извините меня, сударь; я совершенно не согласен с определением, которое вы даете этой газете: это, может быть, памфлет, но не гнусность.
— Вы, по крайней мере, признаете, что это ложь?
— Вы снова ошибаетесь, сударь, ибо ее величество королева была у чана Месмера.
— Это неправда, сударь.
— Вы хотите сказать, что я солгал?
— Я не только хочу это сказать, но и говорю.
— Ну, в таком случае я вам отвечу в трех словах: я ее видел.
— Вы ее видели?
— Как вижу вас, сударь.
Филипп взглянул своему собеседнику прямо в глаза. Он пытался противопоставить свой открытый, благородный, чистый взгляд сверкающему взгляду Калиостро; но эта борьба утомила его, и он отвел глаза, воскликнув:
— И тем не менее я продолжаю утверждать, что вы лжете!
Калиостро пожал плечами, точно его оскорблял сумасшедший.
— Разве вы не слышите меня? — глухим голосом спросил Филипп.
— Напротив, сударь, я не пропустил ни одного вашего слова.
— Так разве вам не известно, чем отвечают на обвинение во лжи?
— Как же, сударь, — отвечал Калиостро, — во Франции даже существует поговорка, гласящая, что на это отвечают пощечиной.
— В таком случае меня удивляет одно…
— Что именно?
— Что ваша рука не поднялась к моей щеке, раз вы дворянин и знаете французскую поговорку.
— Но прежде чем сделать меня дворянином и научить французской поговорке, Бог сотворил меня человеком и приказал мне любить ближнего.
— Итак, сударь, вы отказываетесь дать мне удовлетворение со шпагой в руке?
— Я плачу́ лишь то, что должен.
— Значит, вы мне дадите удовлетворение другим путем?
— Каким?
— Я не поступлю с вами так, как не пристало обходиться дворянину с дворянином. Я всего лишь потребую, чтобы вы в моем присутствии сожгли все экземпляры, лежащие в этом шкафу.
— А я откажусь исполнить это.
— Подумайте хорошенько.
— Я подумал.
— Вы меня вынудите тогда применить к вам ту же меру, которую я использовал по отношению к газетчику.
— Ах да! К палочным ударам! — со смехом сказал Калиостро, по-прежнему неподвижный как статуя.
— Ни больше ни меньше… Ведь вы не позовете свою прислугу?
— Я? Что вы! К чему мне ее звать? Это ее не касается, я и сам справлюсь со своими делами. Я сильнее вас. Вы не верите? Клянусь вам. Поэтому подумайте в свою очередь. Вы подойдете ко мне с вашей тростью? Я вас возьму за горло и за пояс и отброшу на десять шагов; и так будет — слышите? — столько раз, сколько вы попытаетесь подойти.
— Прием английского лорда, он же прием грузчика? Ну что же, господин Геркулес, я согласен.
И, опьянев от бешенства, Филипп бросился на Калиостро, который тут же напряг руки, подобные стальным крюкам, схватил шевалье за горло и пояс и отбросил его, совершенно ошеломленного, на груду мягких подушек, лежавших на софе в углу гостиной.
Затем, проделав это чудо ловкости и силы, он встал в прежней позе у камина как ни в чем не бывало.
Филипп поднялся, весь бледный от ярости, но минута холодного размышления снова возвратила ему душевную силу.
Он выпрямился, поправил свое платье, манжеты и сказал мрачным тоном:
— Вашей силы вправду хватило бы на четверых, сударь; но ваша логика менее гибка, чем ваша рука. Поступив со мной таким образом, вы забыли, что, сраженный, униженный вами, став навсегда вашим врагом, я получил право сказать вам: «Возьмите шпагу, граф, или я убью вас».
Калиостро не двинулся с места.
— Обнажите шпагу, говорю я вам, или вы умрете, — продолжал Филипп.
— Вы еще не настолько близко от меня, сударь, чтобы я поступил с вами так, как в первый раз, — отвечал граф, — и я не допущу, чтобы вы ранили меня или убили, как беднягу Жильбера.
— Жильбера! — воскликнул, пошатнувшись, Филипп. — Какое имя вы произнесли!
— К счастью, у вас на этот раз не ружье, а шпага.
— Сударь, — воскликнул Филипп, — вы произнесли имя…
— Которое раздалось страшным эхом в вашей памяти, не правда ли?
— Сударь!..
— Имя, которое вы рассчитывали никогда более не услышать, ведь вы были одни с бедным мальчиком в той пещере на Азорских островах, когда убили его, не правда ли?
— О, — вскричал Филипп, — защищайтесь, защищайтесь!
— Если бы вы только знали, — сказал Калиостро, устремив глаза на Филиппа, — как мне легко было бы заставить вас выронить шпагу из руки.
— Своей шпагой?
— Да хотя бы и шпагой, если бы я пожелал.
— Так что же, пожалуйста!
— Я не стану подвергать себя случайностям: у меня есть более верное средство.
— Обнажите шпагу! Говорю в последний раз, или вы погибли! — воскликнул Филипп, бросившись на графа.
Калиостро, которому теперь грозило острие шпаги, находившееся не более чем в трех дюймах от его груди, вынул из кармана маленький флакончик, откупорил его и плеснул содержимое в лицо Филиппу.
Едва только жидкость коснулась шевалье, как тот зашатался, выронил шпагу, перевернулся на месте и, упав на колени, как будто ноги его разом ослабели и не могли держать его, полностью потерял сознание на несколько секунд.
Калиостро не дал ему упасть на пол, поднял, вложил его шпагу в ножны, посадил в кресло и стал ждать, пока он окончательно придет в себя.
— В ваши годы, шевалье, — сказал он ему затем, — стыдно совершать безумства; перестаньте глупить, как ребенок, и выслушайте меня.
Филипп выпрямился, оправился и пробормотал, подавив ужас, который начинал овладевать им:
— О сударь, сударь, и это вы называете оружием дворянина?
Калиостро пожал плечами.
— Вы все повторяете одно и то же, — сказал он. — Когда мы, люди благородного происхождения, открываем широко рот, чтобы произнести слово «дворянин», то думаем, что этим все сказано. Что вы называете оружием дворянина? Свою шпагу, которая сослужила вам такую плохую службу против меня? Свое ружье, которое сослужило вам такую хорошую службу против Жильбера? Что делает человека выше других, шевалье? Вы думаете, звонкое слово «дворянин»? Нет. Во-первых, рассудок, во-вторых, сила и, наконец, знание. И вот я испробовал все это на вас: своим рассудком я презрел ваши оскорбления, надеясь привести вас к тому, чтобы вы выслушали меня; своей силой я сломил вашу силу; наконец, своим знанием я разом лишил вас и физической и душевной силы. Теперь мне остается только доказать вам, что вы сделали двойную ошибку, явившись ко мне с угрозами на устах. Угодно ли вам оказать мне честь выслушать меня?
— Вы меня уничтожили, — отвечал Филипп, — я не могу сделать ни малейшего движения; вы подчинили себе мои мускулы, мои мысли и после этого просите меня слушать вас, когда я не могу иначе поступить?
Тогда Калиостро взял маленький золотой флакон, который держал стоявший на камине бронзовый Эскулап.
— Понюхайте это, шевалье, — сказал граф с мягким и полным величия выражением в голосе.
Филипп повиновался; туман, застилавший его мозг, рассеялся, и у него явилось такое ощущение, точно солнце, пронизав его череп своими лучами, осветило все его мысли.
— О, я оживаю! — сказал он.
— Вы чувствуете себя хорошо, то есть свободным и сильным?
— Да.
— И помните все, что было?
— О да!
— Итак, поскольку я имею дело с человеком благородного сердца, к тому же человеком умным, то эта вернувшаяся к вам память согласится признать мое полное превосходство в том, что произошло между нами.
— Нет, — отвечал Филипп, — потому что я действовал во имя священного принципа.
— И что же вы делали?
— Я защищал монархию.
— Вы? Вы защищали монархию?!
— Да, я.
— Вы, ездивший в Америку защищать республику! Боже мой, будьте же откровенны: или вы защищали там не республику, или защищаете здесь не монархию.
Филипп опустил глаза; в груди его поднимались сдавленные рыдания.
— Любите, — продолжал Калиостро, — любите презирающих вас, любите забывающих вас, любите обманывающих вас: великим сердцам свойственно быть обманутыми в своих лучших чувствах и привязанностях; такова заповедь Иисуса — платить добром за зло. Вы христианин, господин де Таверне?
— Сударь! — воскликнул Филипп, испуганный словами Калиостро и увидевший, что тот хорошо читает в его прошлом и настоящем. — Ни слова больше! Если я защищал не королевскую власть, то защищал королеву, то есть достойную уважения и невиновную женщину; достойную уважения, даже если бы она и утратила права на него, так как защищать слабых — закон Господа.
— Слабых! Королева, по вашему, слабое существо?! Женщина, перед которой склоняют головы и колени двадцать восемь миллионов мыслящих существ! Полноте…
— Сударь, на нее клевещут…
— Что вы об этом знаете?
— Я хочу так думать…
— Вы полагаете, что это ваше право?
— Конечно.
— Ну, а мое право верить совершенно противному.
— Вы действуете как злой гений!
— Кто вам это сказал? — воскликнул Калиостро, глаза которого внезапно сверкнули так, что, казалось, ослепили Филиппа. — Откуда у вас эта смелость думать, что вы правы, а я не прав? Откуда у вас дерзость предпочитать ваш принцип моему? Вы защищаете королевскую власть, хорошо. А если я защищаю человечество? Вы говорите: «Отдайте кесарю кесарево», а я говорю вам: «Отдайте Богу Богово». Республиканец из Америки! Кавалер ордена Цинцинната! Я призываю вас вспомнить о любви к людям, о любви к равенству. Вы попираете народы, чтобы целовать руку королев, а я попираю ногами королев, чтобы поднять хоть на одну ступень народы. Я не мешаю вам боготворить, не мешайте и мне трудиться. Я предоставлю вам дневной свет, солнце небес и королевских дворцов; оставьте мне мою тень и уединение. Вы понимаете мощь моих слов, не правда ли, как недавно поняли мощь моей личности? Вы говорили мне: «Умри ты, оскорбивший предмет моего преклонения». Я говорю вам: «Живи ты, борющийся против того, чему я поклоняюсь». И если я говорю вам это, то, значит, чувствую такую силу за собой и своим принципом, что ни вы, ни ваши единомышленники, сколько бы ни прилагали усилий, не замедлите моего движения ни на минуту.
— Сударь, вы приводите меня в содрогание, — сказал Филипп. — Я, может быть, первый в этой стране провижу, благодаря вам, пропасть, в которую стремится королевская власть.
— Будьте осторожны, если вы увидели эту пропасть.
— Говоря мне это, — отвечал Филипп, тронутый отеческим тоном Калиостро, — и открывая мне такую ужасную тайну, вы выказываете недостаток великодушия, так как хорошо знаете, что я брошусь в эту бездну раньше, чем увижу падение тех, кого защищаю.
— И все же я предостерег вас и, как наместник Тиберия, я умываю руки, господин де Таверне.
— Ну, а я, — воскликнул Филипп, подбегая с лихорадочным возбуждением к Калиостро, — я, слабый человек, сознающий ваше превосходство надо мной, употреблю против вас оружие слабых: я обращусь к вам со слезами на глазах и дрожащим голосом, простирая руки, буду просить вас даровать мне, хоть на этот раз по крайней мере, помилование для тех, кого вы преследуете. Я буду просить вас ради меня самого, слышите ли, меня, который не может, не знаю почему, видеть в вас врага; я растрогаю вас, сумею убедить, добьюсь того, что вы не оставите на моей совести мучительного раскаяния — знать, что я видел гибель бедной королевы и не смог предотвратить ее. Не правда ли, я добьюсь того, чтобы вы уничтожите этот памфлет, который заставит плакать женщину! Я добьюсь этого от вас, или, клянусь моей честью и той роковой любовью, которая известна вам, я этой самой шпагой, бессильной против вас, пронжу себе сердце у ваших ног.
— Ах, — прошептал Калиостро, смотря на Филиппа полными красноречивой скорби глазами, — отчего они не все таковы, как вы? Я был бы за них, и они не погибли бы!
— Сударь, сударь, прошу вас, отзовитесь на мою просьбу, — заклинал Филипп.
— Сосчитайте, — сказал Калиостро после некоторого молчания, — сосчитайте, вся ли тысяча экземпляров здесь, и сами сожгите их от первого до последнего.

Филипп почувствовал, что у него сердце готово разорваться от радости, он подбежал к шкафу, выхватил оттуда газеты, швырнул их в огонь и затем горячо пожал руку Калиостро.
— Прощайте, прощайте, сударь, — сказал он, — стократно благодарю вас за то, что вы сделали для меня.
И он вышел.
— Я должен был сделать это для брата в воздаяние за то, что вынесла сестра, — сказал Калиостро, глядя вслед уходившему Филиппу.
И вслед за этим крикнул:
— Лошадей!
XI
ГЛАВА СЕМЕЙСТВА ТАВЕРНЕ
Пока все это происходило на улице Нёв-Сен-Жиль, г-н де Таверне-отец прогуливался у себя в саду в сопровождении двух лакеев, кативших его кресло.
В Версале были тогда — а может быть, есть еще и теперь — старые особняки с французскими садами, которые благодаря рабскому подражанию вкусам и взглядам государей напоминали в миниатюре Версаль Ленотра и Мансара. Многие придворные, взяв, вероятно, пример с г-на де Лафельяда, устроили у себя в малом виде подземную оранжерею, пруд Швейцарцев и купальни Аполлона.
У них был также парадный двор и Трианоны, все это в масштабе один к двадцати: каждый бассейн был представлен всего лишь ведром воды.
С тех пор как его величество Людовик XV одобрил Трианоны, в версальском доме г-на де Таверне появились свои Трианоны, фруктовые сады и цветники. С тех пор как его величество Людовик XVI завел себе слесарные мастерские и токарные станки, г-н де Таверне устроил себе кузню и обзавелся плотницкими инструментами. С тех пор как Мария Антуанетта нарисовала план английских садов с искусственными реками, лужайками и хижинами, г-н де Таверне устроил в уголке сада маленький Трианон для кукол и речку для утят.
В ту минуту, когда мы застаем его, он грелся на солнце в единственной уцелевшей от великого века аллее, обсаженной липами с продолговатыми красными, как раскаленные полосы железа, жилками на листьях. Он прохаживался маленькими шажками, засунув руки в муфту, и через каждые пять минут лакеи подкатывали ему кресло, чтобы он мог отдохнуть от ходьбы.
Он наслаждался этим отдыхом, щурясь от яркого солнца, когда прибежавший из дома привратник громко крикнул:
— Господин шевалье!
— Мой сын! — воскликнул с горделивой радостью старик.
Затем, обернувшись, он заметил Филиппа, шедшего за привратником.
— Милый шевалье! — обратился он к сыну, жестом отослал лакеев и продолжал: — Иди сюда, Филипп, иди, ты пришел кстати. У меня голова полна разных счастливых идей. Э, какой у тебя вид! Ты сердишься?
— Я? Нет, сударь.
— Ты уже знаешь результаты происшествия?
— Какого происшествия?
Старик огляделся, чтобы увериться, что их не подслушивают.
— Вы можете говорить, сударь, никто не слушает, — сказал шевалье.
— Я говорю о происшествии на балу.
— Совсем ничего не понимаю.
— На балу в Опере.
Филипп покраснел. Лукавый старик заметил это.
— Неосторожный, — сказал он сыну, — ты поступаешь как плохие моряки: как только ветер становится попутным, они распускают паруса. Ну, сядем-ка здесь, на эту скамейку, и выслушай мою мораль: она может пригодиться тебе.
— Однако, сударь…
— Однако ты злоупотребляешь положением, идешь напролом. Ты, прежде такой застенчивый, деликатный и сдержанный, теперь ее компрометируешь.
Филипп встал.
— Да о ком угодно вам говорить, сударь?
— О ней, черт возьми, о ней!
— О ком о ней?
— А ты полагаешь, что мне неизвестна твоя шалость, ваша общая шалость на балу в Опере? Это было недурно.
— Сударь, уверяю вас…
— Ну, не сердись, если я тебе об этом говорю, так для твоей же пользы… Ты нисколько не остерегаешься и попадешься, черт подери! В этот раз тебя видели с ней на балу, другой раз увидят еще где-нибудь.
— Меня видели?
— Черт побери! Было на тебе голубое домино, да или нет?
Шевалье хотел было воскликнуть, что у него не было голубого домино, что все ошибаются, что он вовсе не был на балу и даже не знает, про какой бал говорит отец; но бывают люди, которым претит доказывать свою невиновность в щекотливых обстоятельствах. Энергично оправдывается только тот, кто знает, что его любят и что его оправдания рассеют заблуждение друга, который его в чем-то подозревает.
«Но к чему, — подумал Филипп, — объяснять все это отцу? К тому же я хочу все узнать».
И опустил голову, как человек, сознающий свою виновность.
— Ну, вот видишь, — торжествующе продолжал старик, — тебя узнали: я был в этом уверен. Действительно, господин де Ришелье — он тебя очень любит и был на этом балу, невзирая на свои восемьдесят четыре года, — терялся в догадках, кем могло быть голубое домино, с которым королева гуляла под руку, и не нашел, на ком остановить свои подозрения, кроме как на тебе. Ведь всех остальных он там узнал, а ты знаешь, что у маршала глаз зоркий.
— Я понимаю, что подозревают меня, — холодным тоном заметил Филипп, — но я гораздо больше удивлен, что узнали королеву.
— Да, действительно, очень трудно было узнать ее, раз она сняла маску! Это, знаешь ли, превосходит все, что можно вообразить себе! Такая смелость! Эта женщина, должно быть, без ума от тебя.
Филипп покраснел. Ему стало невыносимо поддерживать этот разговор.
— Если это не смелость, — продолжал Таверне, — то, может быть, только весьма неприятная случайность. Берегись, шевалье, есть много завистников, и опасных завистников. Быть фаворитом королевы, когда она-то и есть настоящий король, — положение, которому все завидуют.
И Таверне-отец не спеша понюхал табаку.
— Ты ведь простишь, что я читаю тебе мораль, шевалье, не правда ли? Прости мне это, дорогой мой. Я очень обязан тебе и желал бы помешать тому, чтобы от дуновения случайности — а она произошла — рухнуло здание, которое ты воздвигнул с такой легкостью.
Филипп поднялся весь в холодном поту, со сжатыми кулаками. Он собрался уйти, чтобы положить конец разговору, и испытывал уже то радостное облегчение, которое чувствуешь, раздавив змею; но его остановило мучительное любопытство, яростное желание узнать о своем несчастье — желание, которое вонзает жало в сердце, полное любви, и терзает его.
— Я ведь говорил тебе, что нам завидуют, — продолжал старик, — и это вполне понятно. Но мы еще не достигли той вершины, куда ты хочешь нас возвести. На тебе лежит славный долг — намного возвысить имя Таверне по сравнению с его нынешним скромным положением. Только будь осторожен, или мы ничего не достигнем, и твои намерения рухнут преждевременно. Это было бы, право, жаль: мы двигаемся вперед так удачно.
Филипп отвернулся, чтобы скрыть глубокое отвращение и величайшее презрение, придавшее в эту минуту такое выражение чертам его лица, которое удивило бы и, может быть, даже испугало бы старика.
— Через некоторое время, — сказал воодушевившийся старик, — ты попросишь себе видное назначение, а мне выхлопочешь королевское наместничество где-нибудь не слишком далеко от Парижа, затем ты добьешься пэрства для рода Таверне-Мезон-Руж и укажешь на меня при первом же пожаловании орденом. Ты можешь стать герцогом, пэром и генерал-лейтенантом. Если я еще буду жив через два года, ты мне устроишь…
— Довольно, довольно! — крикнул Филипп.
— О, если ты считаешь себя удовлетворенным, то я — нет. Перед тобой вся жизнь, а передо мной — едва несколько месяцев. И я хочу, чтобы эти оставшиеся месяцы вознаградили меня за мое печальное и серенькое прошлое. Впрочем, я не имею права жаловаться. Бог послал мне двоих детей. Это много для человека небогатого; но если моя дочь ничего не сделала для нашего рода, то ты вознаградишь нас за все. Ты зиждитель храма. Я вижу в тебе великого Таверне, героя… Ты мне внушаешь уважение, а это не пустяк, поверь. Это правда, что твоя тактика при дворе изумительна. О, я никогда не видел ничего более ловкого!
— Что вы имеете в виду? — спросил молодой человек, встревоженный одобрением этой змеи.
— Твой образ действий восхитителен. Ты не вызываешь зависти. Внешне ты оставляешь поле свободным для всех, но в действительности удерживаешь его за собой. Это несколько необычно, но во всяком случае говорит о твоей наблюдательности.
— Я не понимаю, — заметил Филипп, все более раздражаясь.
— Нечего скромничать. Это точь-в-точь тактика господина Потемкина, удивившего весь мир своим счастьем. Он понял, что Екатерина любит тешить свое тщеславие, меняя предметы своих увлечений, и что если ей предоставить свободу, то она будет порхать с цветка на цветок, возвращаясь неизменно к самому красивому и медоносному; если же гнаться за ней, то она совсем улетит и станет недосягаемой. Он принял решение. Именно он выставлял в лучшем свете перед императрицей новых фаворитов, которых она избирала; именно он, подчеркивая какое-то из их достоинств, умело скрывал до поры до времени их слабые стороны; именно он добивался того, что государыня уставала от очередного каприза вместо того, чтобы пресытиться достоинствами самого Потемкина. Подготавливая мимолетное правление этих фаворитов, которых в насмешку называют двенадцатью цезарями, Потемкин сделал свое собственное правление вечным и нерушимым.
— Но это непостижимая гнусность, — пробормотал несчастный Филипп, с изумлением глядя на отца.
Старик невозмутимо продолжал:
— Однако даже по системе Потемкина ты все же делаешь некоторую ошибку. Он никогда совсем не оставлял надзора, а ты слишком ослабил его. Правда, французская политика — не русская.
На эти слова, произнесенные с преувеличенной многозначительностью, перед которой стали бы в тупик самые умные дипломатические головы, Филипп, решив, что его отец бредит, промолчал и лишь довольно непочтительно пожал плечами.
— Да, да, — продолжал старик, — ты думаешь, что я не разгадал тебя? Сейчас увидишь.
— Говорите, сударь.
Таверне скрестил руки.
— Ты, может быть, станешь уверять меня, — начал он, — что усердно не подготавливаешь себе преемника?
— Преемника?
— Или станешь уверять, что тебе неизвестно, как мало постоянства в любовных чувствах королевы, когда она во власти нового увлечения, и что, предвидя такую перемену, ты не принимаешь мер, чтобы тебя не принесли в жертву и не отстранили, по обыкновению королевы: ведь она не может одновременно любить настоящее и тосковать о прошлом.
— Вы положительно говорите по-китайски, господин барон.
Старик рассмеялся тем пронзительным и зловещим смехом, который всегда заставлял Филиппа вздрагивать: ему казалось, что это голос злого гения.
— Ты станешь уверять меня, что твоя тактика заключается не в том, чтобы ладить с господином де Шарни?
— С Шарни?
— Да, со своим будущим преемником, с человеком, который, когда окажется у власти, может послать тебя в изгнание, как и ты теперь можешь изгнать господ Куаньи, Водрёя и других.
Вся кровь кинулась Филиппу в голову.
— Довольно! — снова крикнул он. — Довольно, сударь! Мне, право же, стыдно, что я так долго слушал вас! Тот, кто называет французскую королеву Мессалиной, — преступный клеветник.
— Хорошо! Прекрасно! — воскликнул старик. — Ты теперь так и должен говорить, это входит в твою роль; но уверяю тебя, что никто не может нас слышать.
— О Боже!
— А что касается Шарни, то, видишь, я понял твою игру. Как ни искусен твой план, но угадывать — это, знаешь, в крови у Таверне. Продолжай, Филипп, продолжай… Льсти, успокаивай, утешай Шарни, спокойно и без неприязни помогай ему превратиться из травы в цветок и будь уверен, что это дворянин, который позднее, в милости, отплатит тебе за то, что ты сделаешь для него.
И, сказав это, г-н де Таверне, гордый проявленной им проницательностью, сделал легкий и причудливый пируэт, будто юноша, причем юноша, обнаглевший от своего успеха.
Филипп схватил его за рукав и остановил, вне себя от бешенства.
— Вот как, — сказал он, — что ж, ваша логика поразительна!
— Я угадал, не правда ли, и ты на меня сердишься? Полно, ты простишь меня хотя бы ради внимания, которое я к тебе проявил. К тому же я люблю Шарни и очень рад, что ты так ведешь себя с ним.
— Ваш господин де Шарни сейчас настолько мой любимец, фаворит и нежный питомец, что я ему недавно всадил между ребрами целый фут вот этого клинка.
И Филипп показал отцу на свою шпагу.
— Что? — спросил Таверне, испуганный сверкающим взором сына и известием о его воинственной выходке. — Не хочешь ли ты сказать, что дрался с господином де Шарни?
— И проткнул его насквозь. Да.
— Великий Боже!
— Вот мой способ ублажать, смягчать и беречь моих преемников, — прибавил Филипп. — Теперь, когда вы узнали его, приложите свою теорию к моей практике.
И он в отчаянии повернулся, собираясь бежать. Старик уцепился за его руку.
— Филипп! Филипп! Скажи, что ты шутишь!
— Называйте это, если вам угодно, шуткой, но я сделал это.
Старик поднял глаза к небу, пробормотал несколько бессвязных слов и, оставив сына, побежал в переднюю.
— Скорее, скорее! — крикнул он. — Пусть верховой скачет узнать о здоровье господина де Шарни, который ранен, и пусть не забудет сказать, что он послан от меня.
— Предатель Филипп! — сказал он, возвращаясь. — Настоящий брат своей сестры! А я-то думал, что он исправился! О, в нашей семье была и есть лишь одна голова — моя!
XII
ЧЕТВЕРОСТИШИЕ ГРАФА ПРОВАНСКОГО
Пока все эти события происходили в Париже и Версале, король, к которому вернулось его обычное спокойствие с тех пор, как он узнал, что его флот одержал победу, а зима отступила, решал в кабинете, окруженный атласами, картами земных и небесных полушарий, разные задачи по механике и прочерчивал новые морские пути для кораблей Лаперуза.
Легкий стук в дверь вывел его из приятной задумчивости, в которой он находился после вкусного полдника.
Вслед за этим раздался чей-то голос:
— Можно войти, брат мой?
— Граф Прованский, непрошеный гость! — проворчал король, отодвигая астрономическую книгу, открытую на самых больших картах созвездий. — Войдите, — сказал он.
Толстый низенький человек с красным лицом и живыми глазами вошел в комнату походкой, слишком почтительной для брата и слишком развязной для придворного.
— Вы меня не ждали, брат мой? — сказал он.
— Нет, по правде сказать.
— Я мешаю вам?
— Нет. У вас есть что-нибудь интересное сообщить мне?
— Ходит такой странный, комичный слух…
— А, сплетня?
— Да, брат мой.
— Которая вас позабавила?
— Своей дикостью.
— Какая-нибудь злая выдумка обо мне?
— Бог мне свидетель, что я не смеялся бы, будь это так.
— Значит, о королеве?
— Государь, представьте себе, что мне говорили серьезно, да, да, совершенно серьезно… Нет, даю вам вперед сто, тысячу очков…
— Брат мой, с тех пор как мой наставник обратил мое внимание на такие ораторские вступления у госпожи Севинье как на образец жанра, я не нахожу в них ничего хорошего. К делу!
— Так вот, брат мой, — продолжал граф Прованский, несколько охлажденный такой резкой встречей, — говорят, что королева провела одну из прошлых ночей вне дворца. Ха-ха-ха!
И он сделал попытку рассмеяться.
— Это было бы очень грустно, будь это правда, — серьезным тоном сказал король.
— Но ведь это неправда, брат мой?
— Неправда.
— Значит, неправда также, что королеву видели ожидавшей у калитки Резервуаров?
— Неправда.
— В тот день, когда вы приказали закрыть ворота в одиннадцать часов, помните?
— Не помню.
— Так вот, вообразите себе, брат мой, что слух этот настаивает…
— Что значит слух? Где это? Кто это?
— Вот глубокое замечание, брат мой, очень глубокое. Действительно, что такое слух? Так вот это неуловимое, непонятное существо, называемое слухом, утверждает, что королеву видели в тот день под руку с графом д’Артуа в половине первого ночи.
— Где видели?
— Она шла по направлению к дому графа д’Артуа, к тому, что находится за конюшнями. Разве ваше величество ничего не слышали об этой чудовищной выдумке?
— Как же, брат мой, слышал, пришлось слышать.
— Как, государь?
— Да разве вы не сделали кое-чего, чтобы я услышал про эту выдумку?
— Я?
— Вы.
— А что же я такое сделал, государь?
— Написали четверостишие, которое было напечатано в «Меркурии».
— Четверостишие! — повторил граф, ставший краснее, чем был при входе в комнату.
— Ведь известно, что вы любимец муз.
— Но не настолько, чтобы…
— Сочинить четверостишие, кончающееся стихом:
Супругу доброму Елена не призналась.
— Я, государь?!
— Не отрицайте, вот автограф четверостишия. Это ваш почерк. О, я плохой знаток поэзии, но зато в почерках я эксперт.
— Государь, одно безумие влечет за собой другое.
— Граф Прованский, могу вас уверить, что безумие проявили вы один, и я удивляюсь, как мог философ совершить такое безумие; оставим этот эпитет вашему четверостишию.
— Ваше величество, вы суровы ко мне.
— Око за око, зуб за зуб, брат мой. Вместо того, чтобы сочинять свое четверостишие, вы могли бы осведомиться, где была королева, как то сделал я; и вместо четверостишия, направленного против нее, а следовательно, и против меня, вы сочинили бы какой-нибудь мадригал в честь вашей невестки. Вы возразите на это, что такая тема не располагает к вдохновению, но я предпочитаю плохие хвалебные стихи хорошей сатире. Это же сказал и Гораций, ваш любимый поэт.
— Государь, вы безжалостны…
— Если вы не были уверены в невиновности королевы, как уверен я, — продолжал с твердостью король, — то хорошо бы сделали, если бы перечитали своего Горация. Разве не он изрек эти прекрасные слова — простите, что я коверкаю латынь:
Rectius hoc est:
Hoc faciens vivam melius, sic dulcis amicis occurram.
Это значит: «Так оно лучше; именно так поступая, буду достойнее жить, стану приятен друзьям». Вы сделали бы более изящный перевод, брат мой; но, по-моему, смысл изречения именно таков.
И добрый король после этого урока, данного скорее по-отцовски, нежели по-братски, стал ждать, чтобы виновный начал свои оправдания.
Граф некоторое время обдумывал ответ; но у него был вид не столько человека, попавшего в затруднительное положение, сколько оратора, подыскивающего тонкий оборот речи.
— Государь, — начал он, — как ни сурово сделанное вашим величеством заключение, я имею средство оправдаться и надежду быть прощенным.
— Говорите, брат мой.
— Вы обвиняете меня в том, что я ошибся, не правда ли, а не в том, что у меня были дурные намерения?
— Согласен.
— Если это так, то ваше величество, понимая, что тот не человек, кто никогда не ошибается, можете признать, что я ошибся не без некоторого основания.
— Я не могу сомневаться в вашем уме, который считаю выдающимся, брат мой.
— В таком случае, государь, как мне не впасть в заблуждение, слыша все, что говорится кругом? Мы, принцы, постоянно дышим воздухом, насыщенным клеветой, мы сами пропитались им. Я не говорю, что я поверил этому, я говорю, что мне это передали.
— В добрый час, если это так, но…
— Четверостишие? О, поэты ведь странные существа, и, кроме того, не лучше ли было ответить на это мягкой критикой (что может служить предостережением), чем нахмурить брови? Грозные выражения в стихах не могут оскорблять, государь: это не то что памфлеты; недаром все собираются просить ваше величество запретить их. Памфлеты, вроде того, что я принес вам показать.
— Памфлет!
— Да, ваше величество, я убедительно прошу приказа, чтобы засадить в Бастилию презренного автора этой гнусности.
Король быстро поднялся с места.
— Посмотрим! — сказал он.
— Не знаю, должен ли я, государь…
— Конечно, должны, в таких случаях нельзя никого щадить. Памфлет с вами?
— Да, государь.
— Дайте!
Граф Прованский вынул из кармана экземпляр «Истории Аттенаутны», роковой оттиск, которому не помешали дойти до публики ни палка Шарни, ни шпага Филиппа, ни устроенный в доме Калиостро костер.
Король быстро пробежал номер, как человек, привыкший находить интересные места в книге или газете.
— Подлость! — воскликнул он. — Подлость!
— Вы видите, государь, уверяют, что сестра моя была у чана Месмера.
— Ну да, она была там!
— Была! — воскликнул граф Прованский.
— С моего разрешения.
— О, государь!
— И на основании того, что она была у Месмера, я не стану выводить заключение о ее неблагоразумии, так как я позволил ей поехать на Вандомскую площадь.
— Но ваше величество не позволяли королеве приближаться к чану для совершения опыта над своей особой…
Король топнул ногой. Граф произнес эти слова как раз в ту минуту, когда глаза Людовика XVI пробегали наиболее оскорбительное для Марии Антуанетты место, содержащее описание ее мнимого припадка, судорог, нескромного беспорядка в одежде — словом, всего, чем было отмечено пребывание мадемуазель Олива́ у Месмера.
— Этого не может быть, не может! — сказал король, побледнев. — Полиция должна знать, в чем тут дело.
Он позвонил.
— Мне нужен господин де Крон, — сказал он, — пусть пойдут за ним.
— Ваше величество, сегодня день его еженедельного доклада, и господин де Крон ожидает в Бычьем глазу.
— Пусть войдет.
— Позвольте мне, брат мой… — начал граф Прованский лицемерным тоном.
И сделал вид, будто собирается уходить.
— Останьтесь, — сказал ему Людовик XVI. — Если королева виновна — что ж, вы, как член семьи, можете знать это; если невиновна — то вы также должны узнать это, так как заподозрили ее.
Господин де Крон вошел.
Увидев графа Прованского в обществе короля, начальник полиции прежде всего засвидетельствовал свое глубочайшее почтение двум первым особам в государстве и затем обратился к королю:
— Доклад готов, ваше величество, — сказал он.
— Прежде всего, сударь, — обратился к нему Людовик XVI, — объясните мне, как мог быть напечатан в Париже такой позорный памфлет против королевы?
— «Аттенаутна»? — спросил господин де Крон.
— Да.
— Ваше величество, это дело рук газетчика по имени Рето.
— Вам известно его имя и вы не помешали публикации или не арестовали его после того, как памфлет был напечатан!
— Ваше величество, не было ничего легче этой меры; у меня даже в портфеле — я сейчас покажу вашему величеству — лежит готовый приказ о заключении его в тюрьму.
— В таком случае, отчего же он не был арестован?
Господин де Крон обернулся в сторону графа Прованского.
— Позвольте мне удалиться, ваше величество, — преднамеренно неторопливо начал последний.
— Нет, нет, — возразил король, — я вам велел остаться, так оставайтесь.
Граф поклонился.
— Говорите, господин де Крон, говорите откровенно и без утаек; говорите скорее и яснее.
— Вот в чем дело, — отвечал начальник полиции, — я не велел арестовать этого газетчика Рето потому, что предварительно мне необходимо переговорить с вашим величеством.
— Прошу вас, говорите.
— Может быть, ваше величество, лучше будет дать этому газетчику мешок с деньгами и отправить его искать виселицу в другом месте, где-нибудь подальше?
— Почему так?
— Потому, ваше величество, что когда эти негодяи пишут ложь, то публика, если ей докажут это, бывает очень довольна, видя, как виновных наказывают плетью, режут им уши и даже вешают. Но когда, на несчастье, они затронут истину…
— Истину?
Господин де Крон поклонился.
— Да, я знаю. Королева действительно была у Месмера. Это несчастье, как вы вполне справедливо сказали; но я ей позволил это.
— О ваше величество! — пробормотал г-н де Крон.
Эта растерянность почтительного подданного поразила короля еще более, чем подобное восклицание, вырвавшееся раньше из уст завистливого родственника.
— Но ведь королева, я полагаю, не погубила себя этим? — спросил он.
— Нет, ваше величество, но ее репутация пострадала.
— Господин де Крон, скажите, что вам сообщила ваша полиция?
— Ваше величество, многое, что, при всем почтении к вам и при всем благоговейном преклонении перед королевой, согласуется с некоторыми сведениями, помешенными в памфлете.
— Согласуется, говорите вы?
— И вот в чем: французская королева, в одежде обыкновенной женщины, в обществе того сомнительного люда, который привлекают магнетические фокусы Месмера, появляется одна…
— Одна! — воскликнул король.
— Да, ваше величество.
— Вы ошибаетесь, господин де Крон.
— Не думаю, ваше величество.
— Вы получили неверное донесение.
— Настолько точное, ваше величество, что я могу описать вам во всех подробностях костюм ее величества, весь ее внешний облик, каждый ее шаг, ее жесты, ее крики.
— Ее крики!
И король, побледнев, смял газетный лист.
— Даже вздохи ее были замечены моими агентами, — робко добавил г-н де Крон.
— Вздохи! Королева могла забыться до такой степени! Королева могла так легко отнестись к моей королевской чести, к своей чести женщины!
— Этого не может быть, — сказал граф Прованский, — это было бы более чем скандалом, а ее величество не способна на такой поступок.
Эта фраза заключала в себе скорее тяжкое обвинение, чем оправдание. Король почувствовал это; все существо его возмущалось.
— Сударь, — сказал он начальнику полиции, — вы настаиваете на том, что сказали?
— Увы, от первого до последнего слова, ваше величество.
— Я обязан, брат мой, — начал Людовик XVI, проводя платком по покрытому испариной лбу, — дать вам доказательство того, что я сказал ранее. Честь королевы — честь и всего моего дома. Я никогда не стану ею рисковать. Я позволил королеве поехать к Месмеру, но приказал ей взять с собой верную, безупречную, даже святую особу.
— Ах, — сказал г-н де Крон, — будь это так…
— Да, — заметил граф Прованский, — если бы такая женщина, как госпожа де Ламбаль, например…
— Вот именно, брат мой, я указал королеве на принцессу Ламбаль.
— К несчастью, государь, принцессу не взяли.
— Ну, — произнес, дрожа всем телом, король, — если таково было непослушание, то я должен строго взыскать за него и взыщу.
И глубокий вздох, отдавшийся мучительной болью у него в сердце, прервал его речь.
— Но, — понизив голос, продолжал он, — я все же сомневаюсь. Вы не разделяете моего сомнения, и это естественно: вы не король, не супруг, не друг той, которую обвиняют… А я желаю это сомнение разъяснить.
Он позвонил; явился дежурный офицер.
— Пусть узнают, госпожа принцесса де Ламбаль — у королевы или в своих апартаментах, — сказал король.
— Ваше величество, госпожа де Ламбаль прогуливается в Малом саду с ее величеством и другой дамой.
— Попросите госпожу принцессу прийти ко мне немедленно.
Офицер вышел.
— Прошу у вас еще десять минут, господа: я не могу до этого принять никакого решения.
И Людовик XVI, против своего обыкновения, нахмурил брови, бросив на двух свидетелей его глубокой скорби почти угрожающий взгляд.
Оба свидетеля хранили молчание. Господин де Крон был действительно опечален, а граф Прованский изобразил всем своим существом притворную скорбь, которая могла бы быть к лицу самому богу Мому.
Легкое шуршание шелка за дверью возвестило о приближении принцессы де Ламбаль.
XIII
ПРИНЦЕССА ДЕ ЛАМБАЛЬ
Принцесса де Ламбаль вошла, прекрасная и спокойная. Открытый лоб, гордо отброшенные к вискам непокорные локоны высокой прически; черные и тонкие брови, подобные двум черточкам сепии; голубые, прозрачные, широко открытые глаза с перламутровым отливом; прямой и правильный нос; выражение губ, одновременно целомудренное и полное неги, — вся эта красота, соединенная с несравненной красотой фигуры, очаровывала и внушала почтение.
Принцесса вносила с собой какое-то благоухание чистоты и прелести, свойственное неземному существу, напоминая этим Лавальер до возвеличения и после опалы.
Когда король увидел, что она входит, улыбающаяся и скромная, его сердце сжалось от боли.
«Увы, — подумал он, — то, что слетит с этих уст, будет бесповоротным приговором».
— Садитесь, принцесса, — сказал он ей с глубоким поклоном.
Граф Прованский подошел поцеловать ей руку.
Король молчал, собираясь с мыслями.
— Что угодно вашему величеству? — произнесла своим ангельским голосом принцесса.
— Сведений, принцесса, точных сведений, кузина.
— Я жду, ваше величество.
— В какой день вы ездили в обществе королевы в Париж? Вспомните хорошенько.
Господин де Крон и граф Прованский удивленно переглянулись.
— Понимаете, господа, — сказал им король, — вы не сомневаетесь, а я еще сомневаюсь, поэтому-то я и ставлю вопрос, как человек сомневающийся.
— В среду, государь, — ответила принцесса.
— Вы меня простите, — продолжал Людовик XVI, — но я желаю знать истину, кузина.
— Вы узнаете ее, предлагая вопросы, ваше величество, — просто отвечала г-жа де Ламбаль.
— Зачем вы ездили в Париж, кузина?
— Я ездила к господину Месмеру на Вандомскую площадь, ваше величество.
Оба свидетеля вздрогнули; король покраснел от волнения.
— Одна?
— Нет, государь, с ее величеством королевой.
— С королевой? Вы сказали, с королевой? — воскликнул Людовик XVI, жадно схватив ее руку.
— Да, ваше величество.
Граф Прованский и г-н де Крон приблизились, пораженные.
— Ваше величество разрешили это королеве, — продолжала г-жа де Ламбаль, — по крайней мере, так сказала мне ее величество.
— И ее величество сказала правду, кузина. Теперь… теперь я, кажется, могу свободно вздохнуть, так как госпожа де Ламбаль никогда не лжет.
— Никогда, ваше величество, — кротко подтвердила принцесса.
— О, никогда! — повторил г-н де Крон тоном самой почтительной уверенности. — Но в таком случае, ваше величество, позвольте мне…
— О да, позволяю, господин де Крон! Спрашивайте, допытывайтесь, я сажаю милую мою принцессу на скамью подсудимых и отдаю ее в ваши руки.
Госпожа де Ламбаль улыбнулась.
— Я готова, — сказала она, — но, ваше величество, пытки отменены.
— Да, я отменил их для других, — сказал с улыбкой король, — но их не отменили для меня.
— Ваше высочество, — сказал начальник полиции, — будьте так добры сообщить королю, что вы делали с ее величеством у господина Месмера и, прежде всего, как была одета ее величество?
— На ее величестве было жемчужно-серое платье из тафты, кисейная вышитая мантилья, горностаевая муфта, розовая бархатная шляпа с большими черными лентами.
Это были приметы, совершенно несходные с приметами Олива́.
Господин де Крон выказал живейшее удивление, а граф Прованский стал кусать губы.
Король радостно потер руки.
— И что сделала королева, войдя? — спросил он.
— Ваше величество, вы правы, употребив слово «войдя», так как мы только что успели войти…
— Вместе?
— Да, ваше величество, вместе… Итак, мы только успели войти в первую комнату, где никто не мог нас видеть, вследствие того что общее внимание было приковано к таинственным магнетическим опытам, как какая-то женщина приблизилась к ее величеству и предложила ей маску, умоляя не ходить дальше.
— И вы не пошли? — с живостью спросил граф Прованский.
— Нет, ваше высочество.
— И не переступали порога первой комнаты? — спросил г-н де Крон.
— Нет, сударь.
— И не оставляли руки королевы? — спросил король с остатком тревоги.
— Ни на секунду: рука ее величества все время опиралась на мою.
— Ну! — воскликнул король. — Что вы об этом думаете, господин де Крон? Брат мой, что вы скажете?
— Это удивительно, это сверхъестественно, — сказал месье с напускной веселостью, которая яснее всякого недоверия обнаруживала всю его досаду от услышанного.
— В этом нет ничего сверхъестественного, — поспешил ответить г-н де Крон, у которого вполне понятная радость короля вызывала некоторые угрызения совести, — все, что сказала ее высочество, не может быть ничем, кроме истины.
— Из этого вытекает?.. — спросил граф Прованский.
— Из этого вытекает, монсеньер, что мои агенты ошиблись.
— Вы говорите это серьезно? — спросил граф Прованский с нервной дрожью.
— Совершенно серьезно: мои агенты ошиблись. Ее величество ничего другого не делала, кроме только что сказанного принцессой де Ламбаль. Что касается газетчика, то, если я убежден в высшей степени правдивыми словами принцессы, так и этот негодяй, думаю, обязан поверить ей. Я сейчас же отдам приказ засадить его в тюрьму.
Госпожа де Ламбаль смотрела поочередно на всех присутствующих с полной безмятежностью невинности, желая получить разъяснение, но не выказывая ни любопытства, ни страха.
— Одну минуту, — сказал король, — одну минуту; всегда будет время повесить этого газетчика. Вы упоминали, принцесса, про женщину, остановившую королеву у входа в зал. Скажите нам, кто она такая?
— Королева, по-видимому, знает ее, государь. Я скажу даже, — так как никогда не лгу, — мне известно, что королева знает ее.
— Видите ли, кузина, я должен поговорить с этой женщиной, это необходимо. Ей известна вся истина, и только у нее ключ загадки.
— Это и мое мнение, — сказал г-н де Крон, к которому обернулся король.
— Пустые россказни… — пробормотал граф Прованский. — Эта женщина мне сильно напоминает богов трагедии, нужных для развязки. Кузина, — продолжал он громко, — королева вам созналась, что знает эту женщину?
— Ее величество не созналась, а сказала это мне, монсеньер.
— Да, да, простите.
— Мой брат хочет сказать, — вмешался король, — что если королеве эта женщина известна, то вы тоже знаете ее имя.
— Это госпожа ле Ламотт-Валуа.
— Эта интриганка! — с неудовольствием воскликнул король.
— Эта попрошайка! — сказал граф. — Черт возьми, ее будет нелегко допросить: она хитрая особа.
— Мы постараемся не уступить ей в хитрости, — сказал г-н де Крон. — К тому же всякие хитрости излишни после свидетельства принцессы де Ламбаль. И по первому же слову короля…
— Нет, нет, — уныло сказал король, — мне надоела видеть около королевы это дурное общество. Она так добра, что под предлогом своей нищеты к ней стекаются все сомнительные лица, принадлежащие к ничтожнейшим дворянским фамилиям королевства.
— Но госпожа де Ламотт действительно происходит из дома Валуа, — сказала г-жа де Ламбаль.
— Пусть она будет кем ей угодно, кузина, но я не хочу, чтобы ее нога была здесь. Я предпочитаю лучше отказаться от той безграничной радости, которую мне доставило бы полное оправдание королевы, — да, я предпочитаю отказаться от этой радости, чем видеть перед собой подобную особу.
— А между тем вы увидите ее! — воскликнула бледная от гнева и прекрасная в своем благородном негодовании королева, неожиданно появившаяся на пороге кабинета перед взором пораженного графа Прованского; он неуклюже поклонился, очутившись за створкой распахнувшейся в его сторону двери.
— Да, государь, — продолжала королева, — дело не в том, желаете вы или боитесь видеть эту особу; она свидетель, у которого ум моих обвинителей… — она взглянула на своего деверя, — … и прямота моих судей… — при этом она обернулась в сторону короля и г-на де Крона, — … наконец, ее собственная совесть, как бы ни была она извращена, должны извлечь истину. Я, обвиняемая, требую, чтобы выслушали эту женщину, и ее выслушают.
— Мадам, — с живостью сказал король, — вы понимаете, что мы не пошлем за госпожой де Ламотт, чтобы оказать ей честь дать свое показание за или против вас. Я не могу положить вашу честь на одни весы с правдивостью этой женщины.
— За госпожой де Ламотт не надо посылать, ваше величество, ибо она здесь.
— Здесь! — воскликнул король, резко оборачиваясь, точно наступил на змею. — Здесь!
— Государь, я, как вам известно, посетила эту несчастную женщину, носительницу славного имени. Это было в тот самый день, о котором так много рассказывают…
И она через плечо пристально взглянула на графа Прованского, который желал бы в ту минуту очутиться на сто футов под землей, но широкое и улыбающееся лицо его силилось выразить полное согласие со словами королевы.
— И что же? — спросил Людовик XVI.
— И в тот день я забыла у госпожи де Ламотт бонбоньерку с портретом. Она мне ее привезла сегодня; поэтому она приехала, и…
— Нет, нет… Я и без того убежден, — сказал король, — я готов удовлетвориться этим.
— Но я не удовлетворена, — подхватила королева, — я сейчас введу ее. К тому же откуда это отвращение? Что она сделала? Кто она такая? Если я не знаю этого, сообщите мне. Ну, господин де Крон, вы знаете все и вся, скажите…
— Я не знаю ничего, что говорило бы не в пользу этой дамы, — сказал начальник полиции.
— Правда?
— Совершенная правда. Она бедна, вот и все; еще, пожалуй, немножко честолюбива.
— Честолюбие — голос крови. Если вы ничего не имеете сказать против нее, кроме этого, то король может позволить ей дать свое показание.
— Не знаю, — отвечал Людовик XVI, — но я вообще подвержен предчувствиям, голосу инстинкта; я чувствую, что эта женщина принесет в мою жизнь несчастье, какую-то неприятность… Этого вполне достаточно.
— О государь, это суеверие! Позови ее, — сказала королева принцессе де Ламбаль.
Пять минут спустя Жанна — воплощение скромности и застенчивости в сочетании с изяществом манер и туалета — медленно вошла в кабинет короля.
Людовик XVI, антипатию которого к Жанне невозможно было сломить, повернулся к двери спиной. Поставив локти на письменный стол и опустив голову на руки, он казался посторонним зрителем между остальными присутствующими.
Граф Прованский впился в Жанну таким тягостным инквизиторским взглядом, что, будь скромность Жанны настоящей, эта женщина была бы парализована и ни одно слово не слетело бы с ее уст…
Но чтобы смутить Жанну, надо было нечто большее. Ни король, ни император со своими скипетрами, ни папа со своей тиарой, ни небесные силы, ни силы ада не могли бы взволновать эту железную натуру чувством страха или благоговения.
— Сударыня, — сказала ей королева, подводя ее к столу сзади короля, — потрудитесь, прошу вас, рассказать, что вы делали в день моего посещения господина Месмера; потрудитесь рассказать все подробно.
Жанна молчала.
— Не надо ни недомолвок, ни осторожных подходов. Одну только правду, точно и ясно, как вам подсказывает ваша память.
И королева села в кресло, чтобы не смущать свидетельницу взглядом.
Какая роль для Жанны! Для Жанны, которая, со свойственной ей проницательностью, угадала, что ее повелительница нуждается в ней; для Жанны, которая чувствовала, что Марию Антуанетту подозревают несправедливо и что можно опровергнуть обвинение, не уклоняясь от истины!
Всякая другая, сознавая это, непременно уступила бы приятной возможности засвидетельствовать невиновность королевы, приведя доказательств больше, чем даже нужно. Но Жанна, будучи натурой проницательной, тонкой и сильной, ограничилась голым изложением факта.
— Ваше величество, — начала она, — я отправилась к господину Месмеру из любопытства, как и все в Париже. Зрелище мне показалось несколько грубым. Я собиралась уже уходить, когда вдруг на пороге входной двери увидела ее величество, с которой имела честь встречаться два дня тому назад, не зная, кто она, но щедрость и великодушие ее величества открыли мне ее сан. Когда я увидела августейшие черты ее лица, которые никогда не изгладятся из моей памяти, мне показалось, что присутствие ее величества королевы было, быть может, не совсем удобно в таком месте, где выставлялось напоказ зрелище разных страданий и смехотворных исцелений. Я смиренно прошу прощения у ее величества за то, что осмелилась так свободно обсуждать ее способ действий, но мной руководило первое впечатление, женский инстинкт; я на коленях умоляю простить меня, если я нарушила этим почтение, которое должен возбуждать во мне всякий шаг ее величества.
Тут она остановилась, прикинувшись взволнованной, опустив голову и с неслыханным искусством изобразив удушье, предшествующее слезам.
Господин де Крон попался на эту удочку, а г-жа де Ламбаль почувствовала сердечное влечение к этой женщине, показавшейся одновременно такой деликатной, застенчивой, умной и доброй.
Граф Прованский был совершенно сбит с толку.
Королева поблагодарила Жанну взглядом, которого та просила или, скорее, исподтишка подстерегала.
— Ну, — сказала королева, — вы слышали, ваше величество?
Король не шелохнулся.
— Мне не нужно было свидетельства этой дамы, — сказал он.
— Мне велели говорить, — робко заметила Жанна, — и я обязана была повиноваться.
— Довольно! — резко сказал Людовик XVI. — Когда королева говорит что-нибудь, она не нуждается в свидетелях, чтобы проверить ее слова. Когда у королевы есть мое одобрение, ей ни от кого ничего не нужно, а мое одобрение у нее есть.
И, оканчивая эту фразу, которая совершенно уничтожила графа Прованского, он встал.
Королева не преминула присоединить к его словам презрительную улыбку. Король повернулся спиной к брату и подошел поцеловать руку у Марии Антуанетты и принцессы де Ламбаль.
Последнюю он отпустил, попросив у нее извинения за то, что напрасно побеспокоил ее.
Он не удостоил Жанну ни словом, ни взглядом, но так как ему неминуемо нужно было пройти перед ней, чтобы вернуться к своему креслу, и так как он боялся оскорбить королеву, выказав невежливое отношение к особе, которую она принимала, то он принудил себя слегка кивнуть Жанне, на что она отвечала неторопливым и глубоким реверансом, позволявшим оценить ее грациозность.
Госпожа де Ламбаль вышла из кабинета первой, за ней шла Жанна, которую королева пропустила перед собой, и, наконец, сама королева, обменявшаяся с королем почти нежным взглядом.
Через секунду в коридоре послышались голоса трех женщин, на ходу о чем-то тихо переговаривающихся между собой.
— Брат мой, — обратился тогда Людовик XVI к графу Прованскому, — я вас больше не задерживаю. Мне нужно закончить дела за истекшую неделю с господином начальником полиции. Благодарю вас за внимание, с которым вы отнеслись к доказательству полного, всецелого и неопровержимого оправдания вашей сестры. Нетрудно видеть, что вы ему радуетесь, так же как и я, а этим сказано немало. Ну, теперь приступим к делу, господин де Крон. Садитесь сюда, прошу вас.
Граф Прованский поклонился, сохраняя на губах улыбку, и вышел из кабинета, когда смолкли шаги трех дам и он мог считать себя вне риска получить насмешливый взгляд или услышать неприятное словечко.
XIV
У КОРОЛЕВЫ
Королева, выйдя из кабинета Людовика XVI, поняла, какой серьезной опасности она только что избежала.
Она сумела оценить, сколько деликатности и сдержанности вложила Жанна в свое неожиданное показание и с каким поистине замечательным тактом она после достигнутого ею успешного результата оставалась в тени.
Действительно, Жанна, благодаря какому-то небывало счастливому случаю сразу же посвященная в такие интимные тайны, за которыми самые ловкие придворные напрасно охотятся десятки лет, и имевшая отныне основание быть уверенной, что сыграла видную роль в этот важный для королевы день, не гордилась этим и не проявляла своего тщеславия разными мелкими внешними признаками, которые надменная подозрительность великих мира сего умеет угадывать на лицах тех, кто стоит ниже их.
Поэтому королева, вместо того чтобы согласиться на выраженную Жанной готовность откланяться и уйти, удержала ее любезной улыбкой.
— Право, это очень удачно случилось, графиня, — сказала она Жанне, — что вы помешали мне и принцессе де Ламбаль войти к Месмеру. Посмотрите, какая гнусность: меня видели у двери или в передней и, основываясь на этом, стали говорить, что я была в зале кризисов… Так, кажется, его называют?
— Да, зал кризисов, ваше величество.
— Но, — заметила принцесса де Ламбаль, — как могло случиться, что, хотя публика знала, где находится королева, агенты господина де Крона могли так ошибиться? На мой взгляд, в этом кроется какая-то тайна. Агенты начальника полиции уверяют, что королева действительно была в зале кризисов.
— Правда, — задумчиво произнесла королева. — Тут нет никакой предвзятости со стороны господина де Крона, он честный человек и любит меня; но агенты могли быть подкуплены, милая Ламбаль. У меня есть враги, как вы видите. Но этот слух должен основываться на чем-нибудь. Расскажите нам все подробно, графиня. Прежде всего гнусный памфлет рисует меня опьяненной, зачарованной, замагнетизированной до такой степени, что я будто бы забыла всякое женское достоинство. Что тут есть правдоподобного? Действительно ли в тот день там была какая-нибудь женщина?
Жанна покраснела. Перед ней опять встала та тайна, роковое влияние которой на судьбу королевы она могла пресечь одним словом.
Но, открывая эту тайну, Жанна теряла удобный случай быть полезной, даже незаменимой ее величеству. Это губило все ее планы на будущее; поэтому она не изменила и на этот раз своей осторожности.
— Ваше величество, — сказала она, — там действительно была одна женщина, которая привлекла всеобщее внимание своими судорогами и возбужденным состоянием. Но мне кажется…
— Вам кажется, — с живостью подхватила королева, — что это была какая-нибудь актриса или, как их называют, особа свободного поведения, но не французская королева, не правда ли?
— Да, конечно, ваше величество.
— Графиня, вы очень хорошо говорили перед королем, а теперь моя очередь поговорить о вас. В каком положении ваши дела? Когда вы надеетесь добиться признания ваших прав? Но, кажется, кто-то сюда идет, принцесса?
В комнату вошла г-жа де Мизери.
— Угодно ли вашему величеству принять мадемуазель де Таверне? — спросила первая дама покоев.
— Ее? Конечно. О, какая церемонная, никогда не отступит ни на шаг от этикета! Андре, Андре, идите же!
— Ваше величество слишком добры ко мне, — сказала та, грациозно приседая.
В это время она заметила Жанну, которая, узнав в ней вторую даму из немецкого благотворительного общества, призвала себе на помощь притворное замешательство и скромное выражение лица.
Принцесса де Ламбаль воспользовалась приходом Андре, чтобы вернуться в Со, к герцогу Пентьевру.
Андре села около Марии Антуанетты, устремив на г-жу де Ламотт свои спокойные испытывающие глаза.
— Ну, Андре, — начала королева, — вот та дама, у которой мы были в последний день холодов.
— Я узнала эту даму, — отвечала с поклоном Андре.
Жанна, уже преисполнившись гордости, поспешила взглянуть на девушку, отыскивая на ее лице какой-нибудь признак зависти, но прочла на нем только полнейшее равнодушие.
Наделенная теми же чувствами, что и королева, Андре, которая в счастье оказалась бы выше всех женщин добротой, умом и великодушием, окутывалась как броней непроницаемой скрытностью, которую весь двор принимал за гордое целомудрие Дианы-девственницы.
— Вам известно, — обратилась к ней королева, — что наговорили королю обо мне?
— Вероятно, все самое худшее, — отвечала Андре, — именно потому, что неспособны говорить ни о чем хорошем.
— Вот, — сказала Жанна с наигранной простотой, — самая прекрасная фраза, которую я когда-нибудь слышала. Я называю ее прекрасной потому, что она очень точно выражает ощущение, которое сопровождает меня всю жизнь и которое мой слабый ум никогда не сумел бы облечь в такую форму.
— Я вам это расскажу, Андре.
— О, я уже знаю, — отвечала последняя, — граф Прованский рассказывал об этом недавно, одна моя приятельница была при этом.
— Очень удобный способ, — гневно воскликнула королева, — распространять ложь, излагая чистую правду! Но оставим это. Мы с графиней обсуждали ее дела. Кто вам покровительствует, графиня?
— Вы, ваше величество, — смело сказала Жанна, — вы, позволив мне явиться сюда поцеловать вашу руку.
— У нее есть сердце, — сказала Мария Антуанетта Андре, — мне нравятся эти внезапные порывы чувства.
Андре ничего не отвечала.
— Ваше величество, — продолжала Жанна, — мало лиц дерзали оказывать мне покровительство, когда я была в неизвестности и в стесненных обстоятельствах; теперь же, после того, как меня увидели в Версале, все наперерыв будут оспаривать друг у друга право быть приятной королеве, то есть, я хочу сказать, особе, которую ее величество удостоило почтить взглядом.
— Как, — сказала, опускаясь в кресло, королева, — никто не оказался настолько храбрым или настолько испорченным, чтобы помочь вам ради вас самой?
— Мне покровительствовала сначала госпожа де Буленвилье, — отвечала Жанна, — храбрая женщина, а затем господин де Буленвилье, развращенный человек. Но со времени моего замужества никто, о, никто! — повторила она с притворным вздохом. — О, простите! Я забыла об одном благородном человеке, о щедром принце…
— О принце? Кто же он, графиня?
— Господин кардинал де Роган.
Королева сделала быстрое движение в сторону Жанны.
— Мой враг! — сказала она с улыбкой.
— Враг вашего величества? Он, кардинал? — воскликнула Жанна. — О, ваше величество!
— Вас, по-видимому, удивляет, графиня, что у королевы может быть враг? Как заметно, что вы никогда не жили при дворе!
— Но, ваше величество, кардинал боготворит вас, я так всегда думала, по крайней мере… И если я не ошибаюсь, его почтение к августейшей супруге короля равняется его преданности ей.
— Я верю вам, графиня, — отвечала Мария Антуанетта, давая волю своей обычной веселости, — я верю вам отчасти. Да, кардинал боготворит… — И с этими словами она обернулась к Андре де Таверне, громко смеясь. — Что ж, графиня, да, господин кардинал боготворит меня. И поэтому-то он мой враг.
Жанна де Ламотт постаралась изобразить на своем лице удивление провинциалки.
— Вам покровительствует господин принц-архиепископ Луи де Роган! — продолжала королева. — Расскажите-ка нам об этом, графиня.
— Это очень просто, ваше величество. Его высокопреосвященство самым великодушным и деликатным образом оказал мне помощь, выказав изобретательнейшую щедрость.
— Прекрасно. Принц Луи расточителен, в этом ему отказать нельзя. Как вы думаете, Андре, ведь господин кардинал может начать боготворить и эту хорошенькую графиню? Графиня, расскажите-ка нам об этом.
И Мария Антуанетта снова громко и весело рассмеялась, хотя мадемуазель де Таверне, по-прежнему серьезная, нисколько ее к тому не поощряла.
«Не может быть, чтобы это шумное веселье было искренним, — подумала Жанна. — Посмотрим».
— Ваше величество, — сказала она серьезным и проникновенным голосом, — имею честь уверить вас, что господин де Роган…
— Хорошо, хорошо, — прервала ее королева. — Раз вы так ревностно защищаете его… раз вы его друг…
— О, ваше величество, — пробормотала Жанна с выражением грациозной стыдливости и почтения.
— Хорошо, милая; хорошо, — продолжала королева с кроткой улыбкой. — Но спросите у него при случае, что он сделал с прядью волос, которую для него украл у меня один парикмахер, коему эта проделка обошлась дорого, так как я его прогнала.
— Ваше величество изумляет меня, — сказала Жанна. — Как! Господин де Роган мог это сделать?
— Да, из обожания, все из того же обожания… После того, как он пренебрегал мною в Вене; после того, как употребил и испробовал все средства, чтобы помешать готовящемуся браку между королем и мною, — он в один прекрасный день заметил, что я женщина и его королева, что он, великий дипломат, допустил глупейший промах, что ему придется постоянно ссориться со мной. Тогда этот милейший принц испугался за свое будущее. Он поступил как все люди его профессии, которые больше всего ласкают тех, кого больше всего боятся, и так как он знал меня юной, считал глупой и тщеславной, то прикинулся Селадоном. После вздохов и томных взглядов он принялся боготворить меня, по вашим словам. Он меня боготворит, не правда ли, Андре?
— Ваше величество! — произнесла та, опуская голову.
— Ну… Андре также не хочет высказаться откровенно, но я-то могу рискнуть. Надо же, чтобы королевский сан пригодился хоть на что-нибудь. Графиня, я знаю и вы знаете, что кардинал меня боготворит. Так и условимся; скажите ему, что я не сержусь на него за это.
Эти слова, дышавшие горькой иронией, произвели большое впечатление на испорченное сердце Жанны де Ламотт.
Будь она благородной, чистой и честной, она увидела бы в них только крайнее пренебрежение женщины с благородным сердцем, глубокое презрение возвышенной души ко всем низменным интригам, которые плетутся где-то у ее ног. Такие женщины, такие редкие ангельские души никогда не считают нужным защищать свою репутацию от ловушек, которые расставлены для них на земле. Они даже не желают знать о существовании той грязи, которая их пачкает, той липкой смолы, в которой они оставляют самые блестящие перья своих золотых крыльев.
Жанна, натура низкая и развращенная, увидела в проявлении гнева королевы по поводу поведения кардинала де Рогана лишь величайшую досаду. Она вспомнила слухи, ходившие при дворе — слухи скандального свойства, разбегавшиеся от Бычьего глаза во дворце до самого дна парижских предместий и находившие столько отголосков.
Кардинал, любивший в женщинах прежде всего их пол, говорил Людовику XV, который любил их на тот же манер, что дофина не может считаться вполне совершенной как женщина. Известны загадочные фразы Людовика XV на свадьбе внука и вопросы, заданные этим королем одному наивному послу.
Жанна, будучи совершенной женщиной, если такие существуют; Жанна, женщина с головы до ног; Жанна, гордившаяся своей внешностью вплоть до последнего волоска; Жанна, которая чувствовала потребность нравиться и побеждать, используя все свои преимущества, — не могла понять того, что женщина может придерживаться иных воззрений в этом деликатном вопросе.
«Ее величество досадует, — сказала она себе. — А если есть досада, то должно быть и нечто другое».
И, рассудив, что ударом кремня можно высечь огонь истины, она принялась защищать г-на де Рогана со всею силой ума и любопытства, которыми природа, как доброе мать, столь щедро ее наделила.
Королева молчала.
«Она слушает», — сказала себе Жанна.
Но графиня, введенная в заблуждение своей дурной натурой, даже не замечала, что королева слушает ее из великодушия, так как при дворе не принято говорить хорошее про тех лиц, о которых короли плохого мнения.
Это совершенно новое нарушение традиций, это отступление от обычаев двора радовало королеву и делало ее почти счастливой.
Мария Антуанетта видела сердце там, куда Бог вложил лишь высохшую и жаждущую влаги губку.
Королева поддерживала разговор все с той же благосклонной задушевностью. Жанна была как на иголках, ее поведение стало стесненным: она уже не видела возможности уйти, пока ее не отпустят, хотя только что у нее была отличная роль посторонней, которая просит разрешения удалиться. Но вдруг в соседней комнате раздался чей-то молодой, радостный, громкий голос.
— Граф д’Артуа! — сказала королева.
Андре тотчас же встала. Жанна собралась уйти, но принц так быстро вошел в комнату, где находилась королева, что выйти оказывалось теперь невозможным. Тем не менее г-жа де Ламотт проделала то, что на сцене называется ложным уходом.
Принц остановился, увидев эту красивую даму, и поклонился ей.
— Графиня де Ламотт, — сказала королева, представляя Жанну принцу.
— А! — произнес граф д’Артуа. — Надеюсь, что вы уходите не из-за меня, графиня?
Королева сделала знак Андре, и та удержала Жанну.
Этот знак следовало понимать так: «Я собиралась проявить щедрость к госпоже де Ламотт, но не успела; отложим это на некоторое время».
— Вы вернулись с волчьей охоты? — сказала королева, подавая своему деверю руку по английскому обычаю, входившему в моду.
— Да, сестра моя, и я очень удачно поохотился, так как убил семерых волков, а это очень много, — отвечал принц.
— Вы сами их убили?
— Я не совсем в этом уверен, — сказал он со смехом, — но, по крайней мере, мне так сказали. Кстати, сестра моя, вы знаете, что я заработал семьсот ливров?
— И каким образом?
— За голову каждого из этих ужасных зверей платят по сто ливров… Это дорого, но я охотно бы дал даже двести за голову газетчика. А вы, сестра моя?
— А, — сказала королева, — вы уже знаете эту историю?
— Граф Прованский рассказал мне ее.
— Уже третьему, — отвечала Мария Антуанетта. — Месье — рьяный, неутомимый рассказчик. Поведайте нам, в каком виде он вам это преподнес?
— В таком виде, что вы оказались белее горностая, белее Венеры-Афродиты. У нее есть еще и другое имя, которое оканчивается на «ена». Его вам могут назвать ученые. Мой брат граф Прованский, например.
— И все-таки он вам рассказал все происшествие?
— С газетчиком? Да, сестра моя. Но ваше величество вышли из него с честью. Можно даже сказать, сочинив один из тех каламбуров, какие господин де Бьевр изобретает ежедневно, — происшествие с чаном отмыто.
— Какая ужасная игра слов!
— Сестра моя, не будьте немилостивы к паладину, явившемуся предложить вам свое копье и руку. К счастью, вы ни в ком не нуждаетесь. Ах, милая сестра, вот что значит быть действительно счастливой!
— Вы называете это счастьем? Слышите, Андре?
Жанна рассмеялась. Видя, что граф не сводит с нее глаз, она расхрабрилась. Слова королевы были обращены к Андре, а отвечала на них Жанна.
— Конечно, счастьем, — повторил граф д’Артуа, — ведь легко могло случиться, дорогая сестра, во-первых, что госпожи де Ламбаль не было бы с вами.
— Разве я отправилась бы туда одна?
— А во-вторых, что госпожа де Ламотт могла не встретиться вам, чтобы помешать войти.
— А, вам известно, что графиня была там?
— Сестра моя, когда граф Прованский принимается что-нибудь рассказывать, то рассказывает все. Наконец, могло случиться, что госпожи де Ламотт не оказалось бы в Версале в нужный момент, чтобы выступить свидетельницей. Вы, вне всякого сомнения, скажете мне, что добродетель и невинность подобны фиалке, которую можно узнать и не видя ее; но из фиалок, когда их увидят, сестра моя, делают букеты и бросают их, насладившись ароматом. Вот моя мораль!
— Она великолепна!
— Какая есть… словом, я вам доказал, что счастье было за вас.
— Очень слабо доказали.
— Хотите лучших доказательств?
— Это было бы не лишним.
— Так вот, вы несправедливо обвиняете судьбу, — сказал граф, делая пируэт, чтобы опуститься на софу рядом с королевой, — так как вы счастливо избежали неприятностей от знаменитой поездки в кабриолете…
— Раз, — сказала королева, загибая один палец.
— От чана…
— Два, я веду счет. Ну дальше?
— И от эпизода на балу, — сказал он ей на ухо.
— На каком балу?
— На балу в Опере.
— Что вы сказали?
— Я сказал — на балу в Опере, сестра моя.
— Я вас не понимаю.
Граф рассмеялся.
— Как я глуп, говоря с вами о секрете!
— Секрете! В самом деле, брат мой, сразу видно, что вы говорите о маскараде: вы меня совершенно заинтриговали.
Слова «бал», «Опера» коснулись слуха Жанны. Она удвоила внимание.
— Тише! — сказал принц.
— Вовсе нет, вовсе нет! Объяснимся, — возразила королева. — Вы упоминали про эпизод в Опере; в чем было дело?
— Умоляю, сжальтесь, сестра моя.
— Я настаиваю, граф, на своем желании знать.
— А я, сестра моя, на своем желании молчать.
— Вы намерены быть со мною неучтивым?
— Никоим образом. Я сказал достаточно, чтобы вы могли понять меня, полагаю.
— Вы совсем ничего не сказали.
— О! Милая сестра, вот вы действительно интригуете меня… Ну же, по чистой совести?
— Честное слово, я не шучу.
— Вам угодно, чтобы я говорил?
— Немедленно.
— Не здесь, — продолжал он, указывая на Жанну и Андре.
— Здесь, здесь! Чем больше будет свидетелей при нашем объяснении, тем лучше.
— Остерегитесь, сестра моя!
— Я рискну.
— Вы не были на последнем балу в Опере?
— Я! — воскликнула королева. — Я! На балу в Опере!
— Тише, умоляю вас!
— Нет, напротив, об этом надо кричать, брат мой. Вы говорите, что я была на балу в Опере?
— Да, конечно, вы были там.
— Вы, может быть, меня видели? — с иронией, но все еще шутливо, спросила королева.
— Я вас видел.
— Меня! Меня?!
— Вас! Вас!
— Это невероятно.
— Тоже самое сказал я себе.
— Почему бы вам не добавить, что говорили со мной? Это было бы еще забавнее.
— Ей-Богу, я собирался заговорить с вами, но в эту минуту нас разделила нахлынувшая толпа масок.
— Вы с ума сошли!
— Я был уверен в том, что вы мне это скажете. Я не должен был давать к этому повод и теперь признаюсь в своей вине.
Королева резко встала и в волнении сделала несколько шагов по комнате.
Граф с удивлением глядел на нее.
Андре трепетала от опасений и беспокойства.
Жанна вонзила ногти в ладони, чтобы заставить себя сохранять наружное спокойствие.
Королева остановилась.
— Друг мой, — обратилась она к молодому принцу, — довольно шуток! У меня такой дурной характер, что, видите, я уже теряю терпение. Сознайтесь скорее, что вам просто захотелось позабавиться на мой счет, и я буду очень счастлива.
— Если вам угодно, я сознаюсь в этом, сестра моя.
— Будьте же серьезны, Шарль.
— Я серьезен, как рыба, сестра моя.
— Ради Бога, скажите мне, что вы сочинили всю эту сказку, правда?
Граф покосился в сторону двух дам.
— Да, сочинил, — сказал он, — соблаговолите извинить меня.
— Вы меня не поняли, брат мой, — с жаром повторила королева. — Берете ли вы в присутствии этих дам свои слова назад? Да или нет? Не лгите и не щадите меня.
Андре и Жанна скрылись за гобеленовой драпировкой.
— Ну, сестра, — тихо сказал принц, когда они удалились, — я сказал правду. Отчего вы не предупредили меня раньше?
— Вы меня видели на балу в Опере?
— Как вижу вас сейчас, и вы также меня видели.
Королева вскрикнула, позвала Жанну и Андре, сама пошла за ними и быстро вернулась из-за драпировки, ведя их обеих за руки.
— Сударыни, господин граф д’Артуа утверждает, — сказала она им, — что видел меня в Опере.
— О! — прошептала Андре.
— Теперь поздно отступать, — продолжала королева, — докажите, докажите.
— Извольте, — сказал граф. — Я был с маршалом де Ришелье, с господином де Калонном, с… клянусь честью, с целым обществом. Ваша маска упала…
— Моя маска!
— Я собирался сказать вам: «Это более чем смело, сестра моя» — но вы исчезли, вас увлек кавалер, с которым вы шли под руку.
— Кавалер! О Боже мой! Вы хотите меня с ума свести!
— В голубом домино, — добавил принц.
Королева провела рукой по лбу.
— В какой день это было? — спросила она.
— В субботу, накануне моего отъезда на охоту. Вы еще спали утром, когда я уехал, а то я тогда бы сказал вам то, что говорю сейчас.
— Боже мой, Боже мой! А в каком часу вы меня видели?
— Что-то около двух или трех часов ночи.
— Положительно, один из нас сошел с ума.
— Я вам повторяю, что это я… Я, может быть, ошибся… однако…
— Однако?
— Не расстраивайтесь так, ведь никто об этом не знает… Одну минуту я было думал, что вы с королем; но тот господин говорил по-немецки, а король знает только английский язык.
— По-немецки! Это был немец? О, у меня есть доказательство, брат мой. В субботу я была в постели в одиннадцать часов.
Граф поклонился с недоверчивой улыбкой.
Королева позвонила.
— Вам это скажет госпожа де Мизери, — сказала она.
Граф рассмеялся.
— Отчего бы вам не позвать также и Лорана, швейцарца-привратника калитки Резервуаров? Он также засвидетельствует это. Я сам отлил эту пушку, милая сестра, так не стреляйте из нее в меня.
— О! — с бешенством воскликнула королева. — Мне не верят.
— Я вам поверил бы, если бы не видел вас в таком гневе; да и нет возможности. Если я скажу «да», другие пришедшие сюда скажут «нет».
— Другие? Кто эти другие?
— Боже мой, те, что видели, как и я.
— А, это любопытно, в самом деле! Есть люди, которые видели меня! Покажите же их мне.
— Сейчас. Филипп де Таверне здесь?
— Мой брат! — воскликнула Андре.
— Он был там, мадемуазель, — продолжал принц. — Угодно ли вам, чтобы его расспросили, сестра моя?
— Я настоятельно требую этого.
— Боже мой, — прошептала Андре.
— Что такое? — обратилась к ней королева.
— Мой брат должен выступить свидетелем…
— Да, да. Я желаю этого.
Королева позвала лакея; за Филиппом сейчас же побежали в дом его отца, откуда он только что вышел после описанной нами сцены.
Филипп, оставшийся хозяином поля боя после своей дуэли с Шарни, Филипп, только что оказавший услугу королеве, весело шел в Версальский дворец.
Его встретили на пути туда, передали ему приказание королевы, и он поспешил.
Мария Антуанетта бросилась ему навстречу.
— Господин де Таверне, — сказала она, став прямо перед ним, — способны ли вы говорить правду?
— Да, ваше величество, и не способен лгать, — отвечал он.
— В таком случае говорите… говорите откровенно… Видели ли вы меня на этой неделе в каком-нибудь общественном месте?
— Да, ваше величество, — отвечал Филипп.
У всех присутствующих сердца бились так громко, что можно было слышать их удары.
— Где вы меня видели? — грозным голосом спросила королева.
Филипп молчал.
— Вам нечего щадить меня, сударь. Мой брат, находящийся здесь, говорит, что видел меня на балу в Опере. А вы, где вы меня видели?
— Как и монсеньер граф д’Артуа, на балу в Опере, ваше величество.
Королева, сраженная, упала на софу, но тотчас же вскочила, как раненая пантера.
— Это невозможно, — воскликнула она, — так как я не была там! Будьте осторожнее, господин де Таверне, я замечаю, что вы напускаете на себя важность пуританина. Это было уместно в Америке, с господином де Лафайетом, но здесь, в Версале, мы, французы, учтивые и простые люди.
— Ваше величество суровы к господину де Таверне, — сказала Андре, бледная от гнева и негодования. — Если он говорит, что видел, значит, он видел действительно.
— И вы, — воскликнула Мария Антуанетта, — вы тоже! Право, теперь недостает только того, чтобы и вы меня видели!.. Клянусь Богом, если у меня есть друзья, защищающие меня, то есть и враги, которые убивают меня! Но показания одного свидетеля еще недостаточно, господа.
— Вы заставляете меня вспомнить, — сказал граф д’Артуа, — что в ту минуту, как я увидел вас и решил, что голубое домино не король, я подумал, что это племянник господина де Сюфрена. Как зовут того храброго офицера, который отличился в этом деле с флагом? Вы так сердечно тогда его встретили, что я посчитал его вашим придворным кавалером.
Королева покраснела; Андре побледнела как смерть. Обе взглянули друг на друга, и каждая содрогнулась, поняв чувства другой.
Филипп мертвенно побледнел.
— Господин де Шарни? — прошептал он.
— Шарни, вот именно, — продолжал граф д’Артуа. — Не правда ли, господин Филипп, то голубое домино несколько напоминало фигурой господина де Шарни?
— Я не заметил, монсеньер, — задыхаясь, отвечал Филипп.
— Но, — продолжал граф д’Артуа, — я очень скоро увидел свою ошибку, так как внезапно заметил самого господина де Шарни. Он стоял около господина де Ришелье, напротив вас, сестра моя, в ту самую минуту, как ваша маска упала.
— И он видел меня? — воскликнула королева, забыв всякую осторожность.
— Если только он не слеп, — отвечал принц.
Королева сделала жест отчаяния и снова дернула за сонетку.
— Что вы делаете? — спросил принц.
— Я хочу также спросить господина де Шарни и испить чашу до дна.
— Я не думаю, чтобы господин де Шарни был в Версале, — пробормотал Филипп.
— Почему?
— Мне говорили, кажется… что он… нездоров.
— О! Дело достаточно важное, чтобы он пришел. Я также нездорова, но тем не менее готова идти хоть на край света, босая, чтобы доказать…
Сердце Филиппа разрывалось; он подошел к Андре, которая смотрела в окно, выходившее в цветник.
— Что там такое? — спросила королева, подходя к ней.
— Ничего, ничего… Говорили, что господин де Шарни болен, а между тем вот он.
— Он здесь? — воскликнул Филипп, тоже подбегая к окну.
— Да, это он.
Королева, забыв про этикет, сама с необычной силой распахнула окно и крикнула:
— Господин де Шарни!
Тот обернулся и, совершенно растерянный от удивления, направился к дворцу.
XV
АЛИБИ
Господин де Шарни вошел, немного бледный, но держась прямо и без видимых физических страданий.
При виде такого высокого общества он принял почтительную и церемонную осанку светского человека и солдата.
— Берегитесь, сестра моя, — тихо сказал граф д’Артуа королеве, — вы, на мой взгляд, допрашиваете слишком многих.
— Брат мой, я буду допрашивать весь свет, пока мне не удастся встретить человека, который сказал бы мне, что вы ошиблись.
Шарни между тем заметил Филиппа и любезно поклонился ему.
— Вы свой собственный палач, — тихо сказал Филипп своему противнику. — Выходить, будучи раненным! Вам, право, хочется умереть.
— Оцарапавшись о куст в Булонском лесу, не умирают, — отвечал Шарни, счастливый, что может отплатить своему врагу моральным уколом, который больнее, чем удар шпаги.
Королева приблизилась к ним и положила конец этому разговору, который был скорее репликами a parte[8]В сторону (итал.). , чем диалогом.
— Господин де Шарни, обратилась она к нему, — эти господа говорят, что вы были на балу в Опере?
— Да, ваше величество, — отвечал, поклонившись, Шарни.
— Скажите нам, что вы там видели?
— Ваше величество спрашивает, что я там видел или кого видел?
— Вот именно… кого вы видели? И без умолчаний, господин де Шарни, без учтивых недомолвок.
— Я должен все говорить, ваше величество?
Щеки королевы снова покрылись бледностью, уже десять раз сменившей за этот день лихорадочный румянец на ее лице.
— Я начну, следуя иерархии, как мне повелевает долг почтительности, — продолжал Шарни.
— Хорошо. Вы видели меня?
— Да, ваше величество, в ту минуту, как маска по какой-то несчастной случайности упала с вашего лица.
Мария Антуанетта нервно смяла в руках кружево шейного платка.
— Сударь, — сказала она голосом, в котором более тонкий наблюдатель подметил бы готовое вырваться рыдание, — поглядите на меня хорошенько: уверены ли вы в этом?
— Государыня, черты вашего величества запечатлены в сердцах всех ваших подданных. Увидеть ваше величество один раз — значит запомнить вас навсегда.
Филипп взглянул на Андре — Андре устремила свой глубокий взгляд на Филиппа. Эти две муки, эти две ревности заключили горестный союз.
— Сударь, — повторила королева, подходя к Шарни, — уверяю вас, что я не была на балу в Опере.
— О ваше величество, — воскликнул молодой человек, склоняясь почти до земли, — разве вы не имеете права бывать где вам угодно? Хотя бы спуститься в ад: раз нога вашего величества ступит туда, она освятит это место.
— Я не прошу вас оправдывать мой поступок, — отвечала королева, — я прошу вас поверить, что я не совершала его.
— Я поверю всему, чему ваше величество прикажет мне верить, — произнес Шарни, взволнованный до глубины души этой настойчивостью королевы, этим нежным смирением такой гордой женщины.
— Сестра моя, сестра моя, это уж слишком, — шепнул граф д’Артуа на ухо Марии Антуанетте.
Действительно, эта сцена привела в оцепенение всех присутствующих: одних потому, что они терзались любовью или оскорбленным самолюбием, а других потому, что вызывала волнение, всегда возбуждаемое видом обвиненной женщины, мужественно защищающейся от неопровержимых доказательств.
— Все этому верят! Все верят! — в гневном исступлении вскричала королева.
Сраженная, она упала в кресло, незаметно смахнув кончиком пальца слезу, которую ее гордость удержала на краешке века. И тут же резко поднялась.
— Сестра моя, — нежно сказал ей граф д’Артуа, — сестра моя, простите меня. Вы окружены преданными друзьями. Это секрет, который безмерно страшит вас, известен нам одним, и из наших сердец, где он погребен, вырвать его можно будет только вместе с нашей жизнью.
— Секрет! Секрет! — воскликнула королева. — Но я не хочу его!
— Сестра моя!
— Никаких секретов. Доказательства!
— Ваше величество, — сказала Андре, — сюда идут.
— Ваше величество, — с трудом выговорил Филипп, — это король.
— Король! — возгласил в передней придверник.
— Король! Тем лучше. Король — мой единственный друг, и он не счел бы меня виноватой, даже если бы ему казалось, что он видел меня на месте преступления. Добро пожаловать!
Король вошел. Его спокойный вид представлял резкий контраст с расстроенными и взволнованными лицами тех, кто окружал королеву.
— Государь! — воскликнула она. — Вы пришли как нельзя более кстати: на меня возводят новую клевету, новое оскорбление, которое должно быть опровергнуто.
— В чем дело? — спросил, подходя, Людовик XVI.
— Слух, сударь, гнусный слух, который может распространиться. Помогите мне; помогите мне, государь, так как на этот раз меня обвиняют уже не враги, а мои друзья.
— Ваши друзья?
— Вот эти господа: мой брат… извините, граф д’Артуа, господин де Таверне, господин де Шарни уверяют, что видели меня на балу в Опере.
— На балу в Опере! — воскликнул король, нахмурясь.
— Да, государь.
В комнате воцарилось тяжелое молчание.
Госпожа де Ламотт заметила мрачную озабоченность короля. Она видела смертельную бледность королевы; одним словом, одним-единственным словом она могла положить конец этой скорбной муке; она могла одним словом уничтожить все прежние обвинения и спасти королеву от будущих тревог.
Но сердце не подсказало ей этого, а личная выгода удержала ее. Она сказала себе, что все равно теперь поздно, так как она уже раз солгала в истории с чаном Месмера; отказавшись же теперь от своих слов, дав возможность уличить себя во лжи и показав королеве, что она ничего не сделала для того, чтобы снять с нее первое обвинение, новая фаворитка сразу погубит себя, в зародыше убьет выгоду своего будущего положения… Она смолчала.
Король повторил голосом, полным тревоги:
— На балу в Опере? Кто говорил об этом? Графу Прованскому это известно?
— Но это неправда! — воскликнула королева искренним тоном невиновного человека, доведенного до отчаяния. — Это неправда; граф д’Артуа ошибается, господин де Таверне ошибается. Вы ошибаетесь, господин де Шарни. Ведь ошибка возможна.
Все молча поклонились.
— Ну, — воскликнула королева, — пусть позовут моих людей, всех! Пусть их допросят. Этот бал был в субботу, не так ли?
— Да, сестра моя.
— Что я делала в субботу? Пусть мне это скажут, потому что, право, я схожу с ума, и если это будет так продолжаться, то я сама поверю, что была на этом гадком балу в Опере… Ведь если бы я действительно была на нем, господа, я бы сказала это.
Вдруг король подошел к ней с полными радости глазами, улыбаясь и простирая руки.
— Это было в субботу, — спросил он, — в субботу, не так ли, господа?
— Да, государь.
— В таком случае, — продолжал король, все более успокаиваясь и сияя все большей радостью, — об этом надо спросить ни у кого другого, как у нашей горничной Мари. Может быть, она вспомнит, в котором часу я вошел к вам в тот день; кажется, это было около одиннадцати часов вечера.
— Ах! — воскликнула королева вне себя от радости. — Да, это правда, государь.
Она бросилась в его объятия; потом, внезапно покраснев и сконфузившись от сознания, что все взоры устремлены на нее, спрятала свое лицо на груди короля, который нежно поцеловал ее чудесные волосы.
— Ну, — воскликнул граф д’Артуа, совершенно растерявшись от изумления и радости, — я куплю себе очки. Но видит Бог, я даже за миллион не уступил бы права быть очевидцем этой сцены; не правда ли, господа?
Филипп прислонился к стене, бледный как смерть. Шарни, холодный и бесстрастный, отер со лба пот.
— Вот поэтому-то, господа, — сказал король, счастливый оттого, что может подчеркнуть произведенное его словами впечатление, — вот поэтому-то королева никоим образом не могла быть в эту ночь на балу в Опере. Думайте, впрочем, как вам угодно; королеве, я уверен, достаточно того, что ей верю я.
— Пусть граф Прованский думает, что хочет, — сказал граф д’Артуа, — но я могу ручаться, что его жена не сможет доказать таким же образом его алиби в тот день, когда его будут обвинять, что он провел ночь вне дома.
— Брат мой!
— Государь, целую ваши руки.
— Шарль, я иду с вами, — сказал король, поцеловав королеву.
Филипп не тронулся с места.
— Господин де Таверне, — сурово сказала ему королева, — разве вы не сопровождаете графа д’Артуа?
Филипп быстро выпрямился. Вся кровь бросилась ему в виски и прилила к глазам. Он чуть не лишился чувств. Он едва имел силу поклониться, взглянуть на Андре, бросить страшный взгляд на Шарни и сдержаться, чтобы его лицо не выдало безумного страдания.
Он вышел.
Королева оставила возле себя Андре и г-на де Шарни.
Мы не могли до сих пор описать состояния Андре, поставленной между братом и королевой, между дружбой и ревностью, потому, что нам тогда пришлось бы замедлить ход этой драматической сцены, которую король своим появлением привел к счастливому концу.
Однако ничто не заслуживало нашего внимания больше, чем эти страдания молодой девушки: она чувствовала, что Филипп отдал бы жизнь, чтобы помешать королеве остаться вдвоем с Шарни, и признавалась сама себе, что ее сердце разбилось бы, если, последовав за Филиппом, чтобы утешить его, как она должна была бы сделать, ей пришлось бы оставить Шарни свободно общаться с г-жой де Ламотт и королевой, то есть еще более свободно, чем если бы он оставался с королевой наедине. Она угадывала это по скромному и вместе с тем фамильярному виду Жанны.
Как объяснить себе ее чувства?
Была ли это любовь? «О, любовь, — сказала бы себе Андре, — не зарождается, не растет с такой быстротой в холодной атмосфере придворных чувств. Любовь, этот редкий цветок, охотнее распускается в великодушных, чистых, нетронутых сердцах. Он не пускает корней в сердце, оскверненном воспоминаниями, на почве, обледеневшей от слез, годами скоплявшихся в ней». Нет, то, что мадемуазель де Таверне чувствовала к г-ну де Шарни, была не любовь. Она усиленно прогоняла такую мысль, так как поклялась себе, что никогда никого не полюбит на этом свете.
Но тогда почему же она так страдала, когда Шарни сказал королеве несколько почтительных и дышавших преданностью слов? Несомненно, этому виной была ревность.
Да, Андре признавалась себе, что она ревнует и завидует, но не той любви, которую мужчина мог чувствовать к другой женщине, а не к ней; завидует женщине, которая могла внушить, принять и позволить эту любовь.
Она с грустью видела, как сменялись перед ней все прекрасные влюбленные нового двора — эти мужественные, полные страсти люди, которые совершенно не понимали ее и удалялись, воздав ей дань почтительного поклонения: одни потому, что ее холодность не была придуманной, не была порождением некой философии, другие потому, что эта холодность представляла странный контраст с той легкомысленной атмосферой прошлого, из которой, казалось бы, возникла Андре.
И, кроме того, мужчины, ищут ли они только наслаждений или мечтают о любви, остерегаются холодности двадцатипятилетней женщины, которая красива, богата, любима королевой и между тем, застывшая, молчаливая и бледная, совершает в уединении свой путь по той дороге, где высшую радость и высшее счастье доставляет возможность наделать как можно больше шуму.
В том, чтобы быть живой загадкой, нет ничего привлекательного. Андре отлично это заметила: она видела, как глаза людей мало-помалу перестали обращать внимание на ее красоту, а их умы начинали не доверять ее уму или отрицать его. Она увидела даже нечто большее: это отчуждение вошло в привычку у прежних знакомых и сделалось инстинктивным у новых. Подойти и заговорить с мадемуазель де Таверне считалось теперь так же необычным, как подойти в версальском парке к Латоне или Диане, окруженным холодным поясом черной воды. Поклонившись мадемуазель де Таверне, каждый, сделав пируэт, шел улыбаться другой женщине, считая, что исполнил свой долг.
Все эти оттенки не ускользали от зорких глаз молодой девушки. Она, чье сердце испытало все горести, не узнав ни одной радости; она, чувствующая, что годы идут, ведя за собой череду бесцветной скуки и черных воспоминаний, про себя чаще взывала к тому, кто карает, чем к тому, кто прощает, и в мучительной бессоннице, рисуя себе наслаждения, щедро предоставляемые счастливым любовникам Версаля, вздыхала со смертельной горечью:
— А я! Боже мой! А я!
Когда она встретилась с Шарни в тот морозный вечер, она увидела, что глаза молодого человека с любопытством останавливались на ней, мало-помалу окутывая ее сетью симпатии, столь непохожей на странную сдержанность, которую проявляли по отношению к ней все придворные. Для этого мужчины она была женщиной. Он разбудил в ней молодость, оживил умершее, вызвал румянец на мраморе Дианы и Латоны.
Вот почему мадемуазель де Таверне сразу ощутила привязанность к тому, кто возродил ее, сумел сделать так, что она почувствовала в себе жизненную силу. Вот почему для нее было счастьем смотреть на этого молодого человека, для которого она не была загадкой. Вот почему для нее было несчастьем думать, что другая женщина с минуты на минуту обрубит крылья ее лазурной иллюзии, отнимет у нее мечту, только что вылетевшую из золотых ворот.
Надеемся, нам простят это долгое объяснение причины, по которой Андре не покинула вслед за Филиппом кабинет королевы, хотя она страдала от нанесенного ему оскорбления, хотя брат был для нее идолом, предметом религиозного почитания, чуть ли не обожания.
Мадемуазель де Таверне, не хотевшая, чтобы королева осталась наедине с Шарни, не намеревалась участвовать в разговоре после удаления брата.
Она села у камина, почти спиной к группе, которую составляли сидящая королева, склонившийся в полупоклоне Шарни и г-жа де Ламотт, стоявшая в амбразуре окна, где искала убежище ее притворная скромность, а вернее — искало удобный наблюдательный пункт ее любопытство.
Королева несколько минут молчала: она не знала, как возобновить разговор после только что происшедшего весьма деликатного объяснения.
У Шарни был страдальческий вид, и это, пожалуй, нравилось королеве.
Наконец Мария Антуанетта прервала молчание, отвечая одновременно на собственную мысль и на мысли присутствующих.
— Вот доказательство, — внезапно сказала она, — что у нас немало врагов. Кто бы мог подумать, что такие низости могут иметь место при французском дворе, сударь! Кто бы мог это подумать!
Шарни не ответил.
— Какое счастье, — продолжала королева, — жить на ваших кораблях под открытым небом, в открытом море! Нам, горожанам, рассказывают про гнев и ярость волн. Ах, сударь, сударь, взгляните на себя! Разве волны океана, самые неистовые волны не бросали в вас пену своего гнева? Разве их грозный натиск никогда не сбивал вас с ног на мостике судна? А между тем посмотрите на себя: вы здоровы, молоды, осыпаны почестями.
— Ваше величество!
— Разве англичане, — продолжала, постепенно воодушевляясь, королева, — не посылали на вас в неистовстве огонь и картечь, опасные для жизни; не так ли? Но что вам до того? Вы невредимы, вы сильны; эта ярость врагов, которых вы победили, привела к тому, что вас поздравил и обласкал король, народ знает ваше имя и любит вас.
— Что же из этого, ваше величество? — пробормотал Шарни, с беспокойством следивший за лихорадочным возбуждением Марии Антуанетты.
— Что я хочу этим сказать? — переспросила она. — А вот что: да будут благословенны враги, посылающие против нас огонь, железо, кипящие пеной волны; да будут благословенны враги, грозящие нам только смертью!
— Боже мой, ваше величество, — отвечал Шарни, — для вас не существует врагов, они для вас то же, что змея для орла… Все, что пресмыкается внизу, будучи приковано к земле, не может мешать тем, кто парит в облаках.
— Сударь, — с живостью возразила королева, — вы, я знаю, вышли целым и невредимым из сражений, вышли целым и невредимым из бурь; вы вышли из них победителем, любимым… Те же, чье доброе имя какой-нибудь враг — а враги есть — пачкает слизью своей клеветы, нисколько не рискуют жизнью, это верно, но стареют после каждой бури; они привыкают склонять голову, опасаясь натолкнуться, как пришлось мне сегодня, на двойное оскорбление: со стороны друзей и врагов, сплотившихся для нападения. К тому же, если бы вы знали, сударь, как тяжело, когда тебя ненавидят!
Андре с тревогой ждала ответа молодого человека; она трепетала, ожидая услышать то сердечное утешение, которого, казалось, просила королева.
Но Шарни вместо ответа отер лоб платком и в поисках опоры облокотился о спинку кресла, сильно побледнев.
— Может быть, здесь слишком жарко? — сказала, глядя на него, королева.
Госпожа де Ламотт открыла окно своей маленькой ручкой, дернув задвижку с такой силой, которая была бы впору руке крепкого мужчины. Шарни с наслаждением вдохнул воздух.
— Господин де Шарни привык к морским ветрам; он будет задыхаться в версальских будуарах.
— Нет, ваше величество, — отвечал Шарни, — это вовсе не от того… Но я сегодня дежурный с двух часов, и если только вы не прикажете мне оставаться здесь…
— Нет, нет, сударь, — отвечала королева, — мы знаем, что такое приказ, не правда ли, Андре?
Затем она обернулась к Шарни.
— Вы свободны, сударь, — сказала она ему несколько обиженным тоном.
И жестом отпустила молодого человека.
Шарни торопливо поклонился и исчез за портьерой.
Через несколько секунд в передней послышалось сначала что-то вроде стона, а затем какой-то шум, как будто туда торопливо сбежалось несколько человек.
Королева была около двери — то ли случайно, то ли потому, что ей хотелось проследить взглядом за Шарни, поспешный уход которого показался ей странным.
Она приподняла портьеру, тихо вскрикнула и, казалась, готова была броситься в переднюю.
Но Андре, не терявшая ее из виду, очутилась между ней и дверью.
— О, ваше величество! — сказала она.
Королева устремила на Андре пристальный взгляд, который та твердо выдержала.
Госпожа де Ламотт вытянула шею.
Между королевой и Андре был небольшой просвет, и через него Жанна увидела, что г-н де Шарни лежит без чувств; его приводили в себя слуги и гвардейцы.
Королева, заметив движение г-жи де Ламотт, поспешно закрыла дверь.
Но было слишком поздно: г-жа де Ламотт все видела.
Мария Антуанетта, нахмурясь, задумчиво вернулась и села в кресло; она была погружена в мрачную озабоченность, которая обыкновенно является на смену сильному волнению. Казалось, она забыла о том, что вокруг нее есть живые существа.
Андре со своей стороны, хотя и осталась стоять у стены, казалась не менее рассеянной, чем королева.
Наступило минутное молчание.
— Это все же странно, — заговорила королева, и звук ее голоса заставил вздрогнуть от неожиданности и удивления Андре и Жанну, — господин де Шарни, мне кажется, еще сомневается…
— В чем, ваше величество? — спросила Андре.
— В том, что я была во дворце в ночь бала.
— О, ваше величество!
— Не правда ли, графиня, — сказала королева, — не правда ли, я права и господин де Шарни все еще сомневается?
— Несмотря на слова короля! О, это невозможно, ваше величество, — продолжала Андре.
— Ведь можно подумать, что король из самолюбия пришел ко мне на выручку. Он не верит, нет, он не верит! Это легко заметить.
Андре закусила губы.
— Мой брат не так недоверчив, как господин де Шарни, — сказала она, — он казался совершенно убежденным.
— О, это было бы дурно, — продолжала королева, не слушая слов Андре. — В таком случае, у этого молодого человека не такая прямая, чистосердечная натура, как мне показалось. Но в конце концов, — воскликнула королева, гневно хлопнув в ладоши, — если он видел, то с чего бы он стал верить? Господин граф д’Артуа тоже видел; господин Филипп тоже видел, во всяком случае так он говорит; все видели, и нужно было слово короля, чтобы они поверили мне, или скорее сделали вид, что поверили. О, за всем этим что-то скрывается, и я должна выяснить, что именно, так как никто не думает об этом. Не правда ли, Андре, я должна поискать и найти причину всего этого?
— Ваше величество правы, — отвечала Андре, — и я уверена, что госпожа де Ламотт одного мнения со мной и также полагает, что ваше величество должны искать, пока не найдете. Не правда ли, сударыня?
Госпожа де Ламотт, захваченная врасплох, вздрогнула и не отвечала.
— Итак, говорят, что меня видели у Месмера, — продолжала королева.
— Ваше величество были там, — поспешно вставила с улыбкой г-жа де Ламотт.
— Пусть так, — отвечала королева, — но я вовсе не делала того, о чем говорится в памфлете. Затем меня видели в Опере, а там я вовсе не была.
Она задумалась, затем вдруг с живостью воскликнула:
— А, я напала на истину!
— Истину? — пробормотала графиня.
— О, тем лучше! — сказала Андре.
— Пусть позовут господина де Крона, — с радостным видом обратилась королева к вошедшей г-же де Мизери.
XVI
ГОСПОДИН ДЕ КРОН
Господин де Крон, человек весьма учтивый, оказался в величайшем замешательстве после объяснения между королем и королевой.
Ведь немалая трудность — досконально знать все секреты женщины, особенно если эта женщина королева и на тебя возложена миссия блюсти интересы короны и заботиться о репутации высоких особ.
Начальник полиции чувствовал, что ему придется вынести гнев женщины и негодование королевы; но он мужественно прикрылся долгом службы, а его всем известная вежливость должна была служить ему панцирем для смягчения первых ударов.
Он спокойно вошел с улыбкой на губах.
Но королева не улыбалась.
— Ну, господин де Крон, — сказала она, — теперь наш черед объясниться с вами.
— Я всецело к услугам вашего величества.
— Вы должны знать причину того, что происходит со мною, начальник полиции!
Господин де Крон огляделся с несколько озадаченным видом.
— Не беспокойтесь, — продолжала королева, — вы прекрасно знаете обеих дам. Вы ведь знаете всех.
— Приблизительно, — отвечал начальник полиции. — Я знаю людей, знаю последствия, но не знаю причины того, о чем говорит ваше величество.
— В таком случае я буду иметь неудовольствие сообщить вам ее, — отвечала королева, рассерженная его спокойствием. — Я, конечно, могла бы поделиться с вами моим секретом один на один или тихонько, как принято поступать в таких случаях. Но я решилась раз навсегда действовать при ярком свете и во весь голос. Так вот, я приписываю эти последствия, как вы их называете, — последствия, на которые я приношу жалобу, — неблаговидному поведению какой-то особы, похожей на меня и выставляющей себя напоказ всюду, где вы, сударь, или ваши агенты будто бы видели меня.
— Сходство! — воскликнул г-н де Крон; слишком поглощенный тем, чтобы выдержать атаку королевы, он не заметил мимолетного смущения Жанны и восклицания, вырвавшегося у Андре.
— Разве вы находите это предположение невозможным? Вы предпочитаете думать, что я ошибаюсь или обманываю вас?
— Ваше величество, я этого не говорил… Но каково бы ни было сходство между какой угодно женщиной и вашим величеством, различие настолько велико, что ни один опытный глаз не сможет ошибиться.
— Сможет, сударь; ведь уже ошибаются.
— И я привела бы вашему величеству пример такого сходства, — вставила Андре.
— А!
— Когда мы жили в Таверне-Мезон-Руж с отцом, у нас в услужении была одна девушка, которая по странной игре случая…
— Походила на меня?
— О, ваше величество, до такой степени, что ее можно было принять за вас.
— И что же сталось с этой девушкой?
— Мы еще не знали тогда великодушия, благородства и возвышенности вашего ума; мой отец испугался, что это сходство вызовет недовольство королевы, и когда мы были в Трианоне, то прятали эту девушку от глаз всего двора.
— Видите, господин де Крон? А, вас это заинтересовало!
— Очень, ваше величество.
— Продолжайте, милая Андре.
— Этой девушке, ваше величество, которая была очень беспокойного и честолюбивого характера, наскучило сидеть взаперти; она, несомненно, завела дурное знакомство, и однажды вечером, перед тем как ложиться спать, я, к своему удивлению, напрасно ждала ее. Ее стали искать, но безуспешно. Она исчезла.
— И что же, мой двойник что-нибудь украл у вас?
— Нет, ваше величество, у меня не было ничего ценного.
Жанна слушала этот разговор с вниманием, которое легко понять.
— Так вам это не было известно, господин де Крон? — спросила королева.
— Нет, ваше величество.
— Итак, существует женщина, поразительно похожая на меня, и вы этого не знаете? Факт такой важности имеет место в королевстве, производит в нем серьезные смуты, и вы не знаете этого первым? Сознайтесь же, сударь, что полиция организована очень дурно.
— Уверяю вас, ваше величество, что нет. Пусть в глазах простонародья должность начальника полиции представляется чем-то вроде должности Господа Бога; но вашему величеству, восседающей много выше меня на этом земном Олимпе, хорошо известно, что королевские чиновники только люди. Я не повелеваю событиями; между ними бывают порой такие загадочные, что их едва может постичь ум человеческий.
— Сударь, когда человек облечен всей возможной властью, чтобы читать даже мысли людей, когда он через своих агентов оплачивает шпионов, когда через шпионов он может увидеть все, вплоть до движений, которые я делаю перед своим зеркалом, то если этот человек не управляет событиями…
— Ваше величество, когда вы провели ночь не в своих апартаментах, я это знал. Хорошо устроена моя полиция, не так ли? В тот день ваше величество ездили к этой даме, на улицу Сен-Клод, в Маре. Но это меня не касается. Когда вы появились у чана Месмера с госпожой де Ламбаль, — а вы туда ездили, я знаю, — то мои агенты видели вас: значит, моя полиция хорошо устроена. Когда вы ездили в Оперу…
Королева с живостью подняла голову.
— Позвольте мне досказать, ваше величество. Я говорю «вы», как то говорил и господин граф д’Артуа. Если деверь ошибается, когда дело идет о наружности его невестки, то тем легче ошибиться моему агенту, получающему жалкое экю в день. Агенту показалось, что он видел вас; он и сказал это. Значит, и на этот раз моя полиция была хороша! Можете ли вы сказать, ваше величество, что мои агенты плохо проследили дело газетчика Рето, которого так славно вздул господин де Шарни?
— Господин де Шарни! — воскликнули в один голос Андре и королева.
— Это случилось совсем недавно, ваше величество, и палочные удары еще не зажили на плечах газетчика. Такого рода приключения были триумфом для господина де Сартина, моего предшественника, когда он остроумно рассказывал о них покойному королю или фаворитке.
— Господин де Шарни имел дело с этим негодяем?
— Я это узнал только через мою полицию, на которую возводят столько обвинений, ваше величество, и вы согласитесь, что этой полиции необходима была некоторая сообразительность, чтобы разведать о дуэли, состоявшейся после этого происшествия.
— Дуэль господина де Шарни! Господин де Шарни дрался! — воскликнула королева.
— С газетчиком? — в волнении спросила Андре.
— О нет, газетчик был так избит, что не смог бы нанести господину де Шарни тот удар шпагой, от которого он потерял сознание в передней вашего величества.
— Ранен! Он ранен! — воскликнула королева. — Ранен! Но когда, как? Вы ошибаетесь, господин де Крон.
— Ах, ваше величество, вы достаточно часто упрекаете меня в этом, чтобы позволить мне не ошибаться хотя бы на этот раз.
— Но ведь он только что был здесь.
— Я это знаю.
— Но я же, — вставила Андре, — заметила, что он страдает.
И она произнесла эти слова таким тоном, в котором королева тотчас же почувствовала враждебность и поспешно обернулась к ней.
Взгляд королевы был похож на ответный удар, который Андре стойко выдержала.
— Что вы говорите? — спросила Мария Антуанетта. — Вы заметили, что господин де Шарни страдает, и не сказали мне этого!
Андре не отвечала. Жанна решила прийти на помощь любимице королевы, которую нужно было расположить к себе.
— Мне также, — вставила она, — показалось, что господин де Шарни с трудом стоял, когда ваше величество оказывали ему честь говорить с ним.
— Да, с трудом, — подтвердила гордая Андре, даже взглядом не поблагодарив графиню.
Господин де Крон, вызванный для допроса, вволю наслаждался наблюдениями над тремя женщинами, из которых ни одна, кроме Жанны, не подумала о том, что рядом с ней стоит начальник полиции.
— А с кем и из-за чего дрался господин де Шарни, сударь? — спросила наконец королева.
Тем временем Андре удалось вернуть себе выдержку.
— С дворянином, который… Но, Боже мой, это теперь совсем неважно… Оба противника в настоящее время находятся в прекрасных отношениях, так как только что разговаривали между собой в присутствии вашего величества.
— При мне… здесь?!
— Именно здесь. Победитель первым вышел отсюда минут пятнадцать тому назад.
— Господин де Таверне! — воскликнула королева, гневно сверкнув глазами.
— Мой брат! — прошептала Андре, упрекая себя, что в своем эгоизме не поняла всего еще раньше.
— Кажется, господин де Шарни дрался именно с господином Филиппом де Таверне, — заметил г-н де Крон.
Королева с силой хлопнула в ладоши, что означало у нее крайнюю вспышку гнева.
— Это неприлично… неприлично… — сказала она. — Как? Переносить в Версаль американские нравы! О нет, я не примирюсь с этим!
Андре опустила голову, г-н де Крон тоже.
— Значит, оттого, что человек рыскал где-то там с господином Лафайетом и Уашентоном, — королева подчеркнуто произнесла эту фамилию на французский манер, — мой двор превратят в арену турниров шестнадцатого столетия! Нет, еще раз нет! Андре, вы должны были знать, что ваш брат дрался.
— Я это только что узнала, ваше величество, — отвечала она.
— А из-за чего он дрался?
— Мы могли бы это спросить у господина де Шарни, который дрался с ним, — отвечала Андре, бледная и со сверкающими глазами.
— Я спрашиваю не о том, что сделал господин де Шарни, — надменно сказала королева, — а о том, что сделал господин Филипп де Таверне.
— Если мой брат дрался на дуэли, — сказала Андре, медленно роняя одно слово за другим, — то, конечно, исполняя свой долг по отношению к вашему величеству.
— Хотите ли вы этим сказать, что господин де Шарни дрался, нарушая этим свой долг по отношению ко мне, мадемуазель де Таверне?
— Я имею честь заметить вашему величеству, — отвечала Андре тем же тоном, — что говорю королеве только о моем брате, а не о ком-либо другом.
Мария Антуанетта постаралась сохранить спокойный вид, для чего ей потребовалась вся сила воли, на какую она была способна.
Она встала, прошлась по комнате, сделала вид, что смотрится в зеркало, взяла с лакированной этажерки книгу, пробежала семь-восемь строчек и бросила ее.
— Благодарю вас, господин де Крон, — сказала она начальнику полиции, — вы убедили меня. Меня несколько взволновали и спутали все эти донесения, все эти предположения. Да, ваша полиция очень хороша, сударь; но прошу вас, подумайте про это сходство, о котором я вам говорила, хорошо, сударь? Прощайте.
Она с обворожительной грацией протянула ему руку, и он удалился, вдвойне осчастливленный и вдесятеро лучше, чем прежде, осведомленный о положении дел.
Андре поняла смысл слова «прощайте» и сделала глубокий, торжественный реверанс.
Королева небрежно, но не проявляя видимого раздражения, простилась с ней.
Жанна низко склонилась перед королевой, как верующий перед алтарем, собираясь удалиться в свою очередь.
Вошла г-жа де Мизери.
— Ваше величество, — сказала она королеве, — вы назначили аудиенцию господам Бёмеру и Боссанжу?
— Ах да, правда, милая моя Мизери, правда. Пусть они войдут. Останьтесь, госпожа де Ламотт. Мне хочется, чтобы король вполне помирился с вами.
Произнося эти слова, королева следила в зеркале за выражением лица Андре, медленно направлявшейся к двери просторного кабинета.
Ей хотелось, может быть, возбудить в девушке ревность, оказывая такую милость графине, впервые оказавшейся при дворе.
Но Андре исчезла за портьерой, не моргнув, не дрогнув.
— Сталь! Сталь! — воскликнула со вздохом королева. — Да, эти Таверне точно выкованы из стали, но вместе с тем и из золота. А, господа ювелиры, здравствуйте. Что вы мне принесли новенького? Вы ведь знаете, что у меня нет денег.
XVII
ИСКУСИТЕЛЬНИЦА
Госпожа де Ламотт вновь заняла свой пост; она держалась в сторонке как женщина скромная, но напрягла внимание как женщина, которой позволили остаться и слушать.
Господа Бёмер и Боссанж явились на аудиенцию в парадных платьях. Они вошли, отвешивая на ходу низкие поклоны, пока не приблизились к креслу Марии Антуанетты.
— Ювелиры, — прервала молчание королева, — являются только затем, чтобы говорить о драгоценностях. Но вы попадаете в неудачное время.
Заговорил г-н Бёмер: оратором в товариществе был он.
— Мадам, — сказал он, — мы явились вовсе не для того, чтобы предлагать товары вашему величеству: мы опасались быть неделикатными.
— О, — воскликнула королева, уже раскаиваясь, что проявила слишком большое мужество, — ведь посмотреть на драгоценности еще не значит купить их.
— Конечно, ваше величество, — отвечал Бёмер, стараясь уловить ее мысль. — Но мы явились сюда исполнить долг, и это придало нам смелости.
— Долг… — повторила с удивлением королева.
— Речь идет опять о том прекрасном бриллиантовом ожерелье, которое ваше величество не удостоили взять.
— А, об ожерелье… Опять мы к нему возвращаемся! — воскликнула со смехом королева.
Но Бёмер остался серьезным.
— Оно действительно великолепно, господин Бёмер, — продолжала королева.
— Настолько великолепно, — робко заметил Боссанж, — что только ваше величество достойны носить его.
— Меня утешает одно, — сказала Мария Антуанетта с легким вздохом, не укрывшимся от г-жи де Ламотт, — что оно стоило… полтора миллиона, не правда ли, господин Бёмер?
— Да, ваше величество.
— И что в наше прекрасное время, — продолжала королева, — когда сердца народов охладели, как и Божье солнце, нет ни одного государя, который мог бы купить бриллиантовое ожерелье ценой в полтора миллиона ливров.
— Полтора миллиона ливров! — как верное эхо повторила г-жа де Ламотт.
— Поэтому, господа, того, что я не могла и не должна была купить, не получит никто… Вы мне ответите, что все камни его в отдельности очень хороши. Это правда; но я не стану завидовать никому из-за двух-трех бриллиантов, я могла бы позавидовать из-за шестидесяти.
Королева потирала руки с некоторым удовольствием, к которому примешивалось желание немного подразнить господ Бёмера и Боссанжа.
— Именно в этом ваше величество заблуждается, — сказал Бёмер, — и нас привел сюда долг, обязывающий сообщить вашему величеству, что ожерелье продано.
— Продано! — воскликнула, оборачиваясь, королева.
— Продано! — повторила г-жа де Ламотт, которой быстрое движение ее покровительницы внушило некоторое сомнение в искренности самоотречения королевы.
— Кому же? — спросила королева.
— Ваше величество, это государственная тайна.
— Государственная тайна? Ну, нам остается только посмеяться над ней, — весело воскликнула Мария Антуанетта. — Часто то, о чем не говорят, — это то, о чем нечего сказать, не правда, Бёмер?
— Ваше величество…
— О, государственными тайнами нас не удивишь. Берегитесь, Бёмер, если вы не поведаете мне своей тайны, то я заставлю какого-нибудь агента господина де Крона похитить ее у вас.
И она принялась смеяться от души, откровенно выразив свое мнение относительно мнимой тайны, не позволяющей Бёмеру и Боссанжу открыть имя покупателей ожерелья.
— С вашим величеством, — важно сказал Бёмер, — мы не смеем поступать как с обыкновенными клиентами. Мы явились сказать вашему величеству, что ожерелье продано, потому что оно действительно продано; и мы принуждены утаить имя покупателя, потому что покупка в самом деле совершена секретно при посредстве прибывшего инкогнито посла.
Услышав слово «посол», королева снова разразилась смехом.
— Восхитительнее всего в Бёмере то, — сказала она, повернувшись к г-же де Ламотт, — что он сам способен поверить тому, что сейчас сказал мне. Ну, Бёмер, назовите мне хотя бы страну, откуда явился этот посол? Нет, это уж слишком, — смеясь, продолжала она, — скажите мне первую букву ее названия, больше мне ничего не надо.
И она продолжала неудержимо хохотать.
— Это господин посол Португалии, — сказал Бёмер, понизив голос словно для того, чтобы спасти этот секрет, по крайней мере, от ушей г-жи де Ламотт.
При этом точном и определенном указании королева сразу перестала смеяться.
— Португальский посол! — повторила она. — Но у нас нет здесь такого, Бёмер.
— Он специально приехал, ваше величество.
— К вам… инкогнито?
— Да, ваше величество.
— Кто же?
— Господин да Суза.
Королева молчала, покачивая головой; через несколько мгновений она сказала, по-видимому приняв решение:
— Ну что же, тем лучше для ее величества португальской королевы; бриллианты очень хороши. Не будем больше говорить об этом.
— Напротив, если ваше величество соблаговолит позволить мне говорить… Позволит нам… — поправился Бёмер, взглянув на своего компаньона.
Боссанж поклонился.
— Вы не видели эти бриллианты, графиня? — воскликнула королева, взглянув на Жанну.
— Нет, ваше величество.
— Великолепные бриллианты!.. Жаль, что эти господа не принесли их.
— Вот они, — поспешно произнес Боссанж.
И он вынул из недр шляпы, которую держал под мышкой, маленький плоский футляр, в котором лежало ожерелье.
— Посмотрите, посмотрите, графиня… Вы женщина, вас это развлечет, — сказала королева.
И она немного отодвинулась от севрского столика, на который Бёмер положил камни так искусно, что дневной свет, падая на них, заиграл на их гранях еще ярче.
Жанна вскрикнула от восхищения. И действительно, ничто не могло быть великолепнее: перед ней сверкали как бы огненные языки, то зеленые, то красные, то подобные самому свету. Бёмер слегка покачивал футляр, заставляя струиться самые прекрасные из этих текучих огней.
— Бесподобно! Бесподобно! — воскликнула Жанна, вся во власти исступленного восторга.
— Полтора миллиона ливров, которые могут поместиться на ладони, — произнесла королева с напускным философским спокойствием, какое г-н Руссо из Женевы проявил бы в подобных обстоятельствах.
Но Жанна увидела в этом пренебрежении нечто другое, так как не теряла надежды убедить королеву.
— Господин ювелир был прав, — сказала она, вдоволь налюбовавшись бриллиантами, — на свете есть только одна королева, достойная носить это ожерелье: это ваше величество.
— И тем не менее мое величество не будет его носить, — ответила Мария Антуанетта.
— Мы не могли позволить ему уйти из Франции, ваше величество, не повергнув к вашим стопам наше глубокое сожаление. Это драгоценность, которую знает теперь вся Европа и которую все оспаривают друг у друга. Наша национальная гордость смирится с тем, что после отказа от него французской королевы им украсит себя та или иная государыня, только в том случае, если мы получим от вас, ваше величество, вторичный, окончательный, бесповоротный отказ.
— Я уже раз произнесла этот отказ, и он был предан гласности, — отвечала королева. — Меня слишком превозносили за это, чтобы я могла раскаиваться в своем поступке.
— Ваше величество, — сказал Бёмер, — если народ нашел прекрасным, что вы предпочли корабль ожерелью, дворянство — а ведь это также французы — ничего не нашло бы удивительного в том, что французская королева купила и ожерелье и корабль.
— Не будем больше говорить об этом, — сказала Мария Антуанетта, бросая последний взгляд на футляр.
Жанна вздохнула, чтобы поддержать вздох королевы.
— А, вы вздыхаете, графиня. Но будь вы на моем месте, вы поступили бы как я.
— Не знаю, — прошептала Жанна.
— Вы довольно налюбовались? — поспешно спросила королева.
— Я любовалась бы вечно, ваше величество.
— Не мешайте этой любопытной, господа: она восхищается. Ведь это ничего не отнимает у бриллиантов, которые, к несчастью, стоят по-прежнему полтора миллиона ливров.
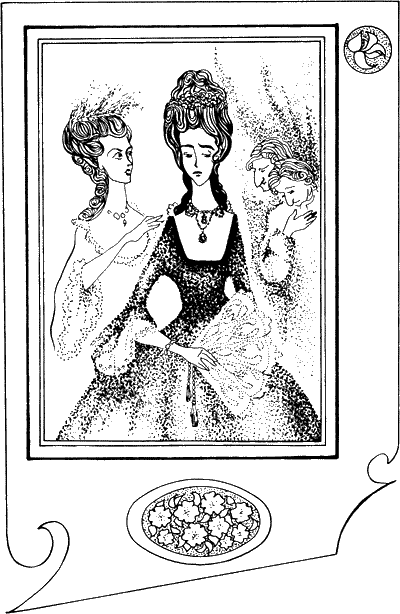
Эти слова подсказали графине, что представился удобный случай.
Королева жалеет, значит, ей хотелось купить ожерелье. А если ей хотелось этого, значит, хочется и теперь, так как желание ее не было осуществлено. Такова была, вероятно, логика Жанны, так как она добавила:
— Полтора миллиона ливров, ваше величество, которые на вашей шее заставили бы умереть от зависти каждую женщину, будь она Клеопатрой или Венерой.
И, выхватив из футляра великолепное ожерелье, она так ловко, так искусно застегнула его на атласной нежной шее Марии Антуанетты, что последняя мгновенно оказалась охваченной фосфорическим пламенем, отливавшим всеми цветами.
— О, ваше величество, как вы великолепны! — воскликнула Жанна.
Мария Антуанетта поспешно подошла к зеркалу: она была ослепительна.
Ее тонкая, гибкая, как у Джейн Грей, шея, эта нежная, изящная, как стебель лилии, шея, которой, как и цветку у Вергилия, было предназначено пасть под ножом, грациозно поднималась, обрамленная золотистыми завитыми локонами, над светящимся потоком бриллиантов.
Жанна осмелилась приоткрыть плечи королевы, так что последние ряды ожерелья легли на перламутр груди. Королева была лучезарна, женщина была великолепна. Влюбленные или подданные — все поверглись бы перед ней в прах.
Мария Антуанетта, забывшись, с минуту любовалась собой. Но тотчас же, охваченная испугом, хотела сорвать ожерелье с своих плеч.
— Довольно, — сказала она, — довольно!
— Оно коснулось вашего величества, — воскликнул Бёмер, — и теперь не может более принадлежать никому другому.
— Это невозможно, — решительно сказала королева. — Господа, я немного поиграла с этими бриллиантами, но продолжать игру было бы уже ошибкой.
— У вашего величества есть время, чтобы свыкнуться с этой мыслью, — вкрадчиво заметил Бёмер, — мы вернемся завтра.
— Платить позже — все равно платить. И затем, к чему это делать с отсрочкой? Вы, наверное, торопитесь. Вам, без сомнения, другие заплатят на более выгодных условиях.
— Да, ваше величество, наличными, — ответил торговец, снова становясь торговцем.
— Уберите, уберите! — воскликнула королева. — Спрячьте в футляр бриллианты. Скорее, скорее!
— Ваше величество, может быть, забывает, что такая драгоценность — деньги и что через сто лет это ожерелье будет стоить то же, что и теперь.
— Дайте мне полтора миллиона ливров, графиня, — натянуто улыбаясь, сказала королева, — тогда мы посмотрим.
— Если бы я их имела, о!..
Жанна замолчала. Длинные фразы всегда стоят меньше удачной недомолвки.
Тщетно Бёмер и Боссанж целых четверть часа упаковывали и запирали свои бриллианты: королева не шелохнулась.
По ее напускному спокойствию и молчанию видно было, что впечатление было сильным и она выдерживает мучительную борьбу.
По своему обыкновению, королева, как всегда в минуты досады, протянула руку к книге и перелистала несколько страниц, не читая.
Ювелиры откланялись со словами:
— Ваше величество отказывается?
— Да… и да, — вздохнула королева, причем на этот раз во всеуслышание.
Ювелиры вышли.
Жанна заметила, что Мария Антуанетта нервно постукивает ногой по бархатной подушке, оставляя на ней вдавленный след.
«Она страдает!» — подумала графиня, не двигаясь с места.
Королева внезапно встала, прошлась по комнате и остановилась перед Жанной, взгляд которой притягивал ее.
— Графиня, — отрывистым тоном сказала она, — король, по-видимому, не придет. Наша маленькая просьба откладывается до следующей аудиенции.
Жанна почтительно поклонилась и стала пятиться к двери.
— Но я подумаю о вас, — милостиво добавила королева.
Жанна прижалась губами к ее руке, будто вручая королеве свое сердце, и вышла, оставив Марию Антуанетту во власти досады и смятения.
«Досада от своего бессилия, смятение от желания! — сказала себе Жанна. — И это королева! О нет, она женщина!»
И графиня удалилась.
XVIII
ЧЕСТОЛЮБИЕ, ЧТО ХОЧЕТ ПРОСЛЫТЬ ЛЮБОВЬЮ
Жанна также была женщиной, хотя не была королевой.
Вследствие этого обстоятельства, сев в карету, она сразу стала сравнивать прекрасный Версальский дворец, его богатую, пышную обстановку со своим пятым этажом на улице Сен-Клод, а великолепных лакеев — со своей старой служанкой.
Но почти тотчас же убогая мансарда и старуха-служанка скрылись в тени минувшего, подобно одному из тех видений, что исчезают, словно никогда не существовали; и Жанна увидела свой маленький домик в Сент-Антуанском предместье, такой изысканный, изящный, такой комфортабельный, как сказали бы в наше время, с лакеями хоть не в таких расшитых ливреях, как у версальских слуг, но столь же почтительными и исполнительными.
Этот дом и эти лакеи были ее Версалем; она была там королевой не меньше, чем Мария Антуанетта, и ее желания (при единственном условии — уметь ограничивать их рамками пусть не необходимого, а разумного), исполнялись так же хорошо и быстро, как если бы она держала скипетр.
Жанна вернулась к себе поэтому с сияющим лицом и улыбкой на устах. Было еще довольно рано; она взяла бумагу, перо и чернила, написала несколько строк, вложила листок в тонкий надушенный конверт, надписала адрес и позвонила.
Еще последняя волна звука не успела замереть, как дверь открылась и на пороге показался лакей, молча ожидая приказаний.
— Я была права, — прошептала Жанна, — самой королеве не служат лучше. Это письмо монсеньеру кардиналу де Рогану, — сказала она, протягивая руку.
Лакей подошел, взял письмо и вышел, не проронив ни слова, с тем безмолвным повиновением, какое подобает слуге в хорошем доме.
Графиня погрузилась в глубокую задумчивость, которая не явилась только что, а была продолжением ее размышлений во время пути.
Не прошло и пяти минут, как в дверь легко постучали.
— Войдите, — сказала госпожа де Ламотт.
На пороге появился тот же лакей.
— Ну что? — спросила г-жа де Ламотт с легким нетерпеливым жестом, видя, что ее приказание не исполнено.
— В ту минуту как я выходил из дому, чтобы исполнить приказание госпожи графини, — сказал лакей, — монсеньер подъехал к воротам. Я сказал, что шел к нему. Он взял письмо графини, прочел его и вышел из кареты, сказав: «Хорошо; доложите обо мне!»
— А затем?
— Монсеньер здесь, он ожидает, когда госпоже угодно будет принять его.
Легкая улыбка мелькнула на губах графини. Она помедлила с ответом.
— Попросите войти, — сказала она через несколько секунд с явным удовлетворением.
Для чего ей были нужны эти несколько секунд? Для того, чтобы заставить князя Церкви ждать в передней, или для того, чтобы обдумать до конца свой план?
Принц показался на пороге.
Итак, вернувшись к себе, послав за кардиналом, почувствовав такую сильную радость при известии, что кардинал приехал к ней, Жанна действовала по заранее обдуманному плану?
Да, ибо прихоть королевы, подобная одному из тех блуждающих огоньков, которые озаряют целую долину во время мрачных событий, эта прихоть королевы и прежде всего женщины, обнажила перед взорами интриганки-графини все тайные изгибы души Марии Антуанетты — души, слишком гордой к тому же, чтобы принимать большие предосторожности из опасения быть разгаданной.
Из Версаля в Париж путь долгий, и когда его совершаешь в обществе демона алчности, то у него хватит времени на то, чтобы нашептать вам на ухо самые смелые расчеты.
Жанну совершенно опьянила эта цифра в полтора миллиона ливров, расцветшая в бриллиантах, покоившихся на белом атласе футляра господ Бёмера и Боссанжа.
Полтора миллиона ливров! Разве это не княжеское богатство, особенно для бедной нищенки, которая всего месяц тому назад протягивала руку к великим мира сего за подаянием?
Конечно, Жанну де Валуа с улицы Сен-Клод от Жанны де Валуа Сент-Антуанского предместья отделяло большее расстояние, чем Жанну де Валуа Сент-Антуанского предместья от Жанны де Валуа, обладательницы ожерелья.
Следовательно, она прошла уже больше половины пути, ведущего к богатству.
И это богатство, которого так страстно желала Жанна, было не иллюзией наподобие слова в контракте или владения землей: это вещи, конечно, первостепенные, но чтобы ощутить их, требуется дополнительное усилие умственных способностей или зрения.
Нет, это ожерелье было совсем не то, что контракт или земля: это ожерелье было зримым богатством. Поэтому-то оно неотступно стояло перед ней, сверкая огнями и чаруя ее. Если королева желала его, то Жанне де Валуа позволительно было помечтать о нем; если королева смогла отказаться от него, то г-жа де Ламотт могла ограничить свое честолюбие им одним.
Поэтому тысяча бессвязных мыслей, тех причудливых призраков с туманными контурами, которые, по словам Аристофана, уподобляются людям в минуты страстей, тысяча желаний, тысяча нестерпимых мук, рожденных стремлением владеть, терзали Жанну во время этой дороги из Версаля в Париж подобно волкам, лисицам и крылатым змеям.
Кардинал, который должен был привести эти мечты в исполнение, прервал их, ответив своим неожиданным появлением на желание г-жи де Ламотт видеть его.
У него также были свои мечты и свое честолюбие, которое он таил под маской предупредительности, под видом любви.
— А, милая Жанна, — сказал он, — вот и вы. Вы, право, стали мне так необходимы, что для меня весь день был омрачен мыслью, что вы далеко от меня. Вернулись ли вы, по крайней мере, совершенно здоровой из Версаля?
— Как видите, монсеньер.
— И довольной?
— В восторге.
— Значит, королева приняла вас?
— Как только я приехала, меня провели к ней.
— Вам повезло. Бьюсь об заклад, судя по вашему торжествующему виду, что королева говорила с вами.
— Я провела около трех часов в кабинете ее величества.
Кардинал вздрогнул и едва удержался, чтобы не повторить вслед за Жанной с таким пафосом, как она: «Около трех часов!»
— Вы положительно волшебница, — сказал он, — и никто не может устоять против вас.
— О, вы преувеличиваете, принц.
— Нет, нисколько. Так вы говорите, что провели три часа с королевой?
Жанна утвердительно кивнула головой.
— Три часа! — с улыбкой повторил кардинал. — Сколько всего может сказать за три часа умная женщина, как вы!
— О, ручаюсь вам, монсеньер, что не потеряла времени даром.
— Держу пари, — отважился спросить кардинал, — что за эти три часа вы ни одной минуты не думали обо мне?
— Неблагодарный!
— Неужели! — воскликнул кардинал.
— Я не только думала о вас, но сделала еще больше.
— Что же именно?
— Я говорила о вас.
— Говорили обо мне? Кому же? — спросил прелат с бьющимся сердцем. В голосе его, несмотря на все его самообладание, послышалось волнение.
— Кому же, как не королеве!
И, произнося столь драгоценные для кардинала слова, Жанна было настолько умна, что не смотрела на него, точно ее мало заботил эффект, который должны были они вызвать.
Господин де Роган весь затрепетал.
— А! — сказал он. — Ну же, дорогая графиня, расскажите мне об этом. Право, я интересуюсь всем, что происходит с вами, и не хочу, чтобы вы опускали даже малейшую подробность.
Жанна улыбнулась: она так же хорошо знала, что́ интересует кардинала, как и он сам.
Но так как она заранее приготовила в уме подробнейший рассказ и сама приступила бы к нему, если даже кардинал не просил бы ее об этом, то начала не торопясь, растягивая каждое слово; она рассказала все о свидании и разговоре, доказывая каждым своим словом, что по одной из тех счастливых случайностей, которые создают придворную карьеру, она попала в Версаль при таких исключительных обстоятельствах, когда посторонняя особа обращается за один день в почти необходимую приятельницу. Действительно, в один день Жанна де Ламотт оказалась посвященной во все горести королевы, во все бессилие королевского сана.
Господин де Роган, казалось, запоминал во всем рассказе только то, что королева говорила по адресу Жанны.
А Жанна исключительно упирала на то, что королева сказала по адресу г-на де Рогана.
Рассказ только что был окончен, когда вошел все тот же лакей и доложил, что ужин подан.
Жанна взглядом пригласила кардинала; тот знаком принял приглашение.
Он предложил руку хозяйке дома, весьма быстро освоившейся со своим положением, и провел Жанну в столовую.
Когда ужин был завершен, когда прелат медленными глотками отведал надежду и любовь из двадцать раз возобновляемых и двадцать раз прерываемых рассказов обольстительницы, он понял, что ему придется поневоле считаться с этой женщиной, державшей теперь в своих руках сердца сильных мира сего.
Он с изумлением, похожим на испуг, заметил, что, вместо того чтобы держаться с самомнением особы, в ком нуждаются и перед кем заискивают, Жанна сама шла навстречу желаниям своего собеседника с обходительностью, весьма отличной от облика гордой львицы, в котором она явилась на последнем ужине на том же месте и в том же доме.
На этот раз Жанна играла роль хозяйки как женщина, не только вполне владеющая собой, но и имеющая власть над другими. Никакого замешательства во взгляде, никакой сдержанности в голосе. Разве не вращалась она целый день в обществе цвета французской знати, которая могла преподать ей высшую школу аристократизма; разве королева, не имевшая себе равных, не звала ее «милая графиня»?
Кардинал, сам человек выдающийся, подчинился ее превосходству, даже не пытаясь сопротивляться.
— Графиня, — сказал он, взяв ее руку, — в вас две женщины.
— Как так? — спросила графиня.
— Вчерашняя и сегодняшняя.
— И какую же предпочитает ваше высокопреосвященство?
— Не знаю. Но сегодняшняя — это Армида, Цирцея, женщина, которой нельзя сопротивляться.
— И которой вы, монсеньер, надеюсь, не будете пытаться сопротивляться, хоть вы и принц?
Принц, соскользнув со стула, упал к ногам г-жи де Ламотт.
— Вы просите милостыни? — спросила она.
— И жду, чтобы вы подали мне ее.
— Сегодня день щедрот, — ответила Жанна, — графиня де Валуа заняла подобающее ей положение в обществе, она стала придворной дамой; в скором времени она будет считаться одной из самых благородных женщин в Версале. Поэтому она может разжать руку и протянуть ее кому ей заблагорассудится.
— Хотя бы и принцу? — спросил г-н де Роган.
— Хотя бы и кардиналу, — отвечала Жанна.
Кардинал запечатлел долгий и страстный поцелуй на ее хорошенькой капризной ручке и затем встал, чтобы найти ответ на свой немой вопрос во взгляде и улыбке графини. Пройдя в переднюю, он сказал два слова своему скороходу.
Через две минуты послышался стук отъезжавшей кареты.
Графиня подняла голову.
— Клянусь честью, графиня, — сказал кардинал, — я сжег свои корабли.
— И в этом нет большой заслуги, — отвечала графиня, — так как вы в гавани.
XIX
ГЛАВА, В КОТОРОЙ ИЗ-ПОД МАСОК НАЧИНАЮТ ПОЯВЛЯТЬСЯ ЛИЦА
Продолжительные беседы составляют счастливую привилегию людей, которым нечего сказать друг другу. После счастья молчать или выражать желание междометием, бесспорно, самое большое счастье — долго разговаривать без слов.
Через два часа после того, как карета была отослана, кардинал и графиня дошли именно до той точки, о которой мы говорим. Графиня уступила, кардинал победил; однако кардинал был рабом, а триумфатором была графиня.
Двое мужчин обманывают друг друга, обмениваясь рукопожатием. Мужчина и женщина обманывают друг друга, обмениваясь поцелуем.
Но в данном случае обман произошел только потому, что обе стороны желали быть обманутыми.
Каждый имел свою цель. Чтобы достичь ее, необходимо было сближение. Таким образом каждый достигал своей цели.
Поэтому кардинал даже не трудился скрывать своего нетерпения. Он ограничился маленькой уловкой, чтобы снова перевести разговор на Версаль и на почести, ожидавшие там новую любимицу королевы.
— Она щедра, — сказал он, — и ни за чем не постоит для тех, кого любит. У нее есть редкое умение давать немного многим и давать много немногим друзьям.
— Вы, значит, считаете ее богатой? — спросила г-жа Ламотт.
— Она умеет изыскивать себе средства одним словом, жестом, улыбкой. Никогда ни один министр, кроме разве одного Тюрго, не имел мужества отказать королеве в том, что она просила.
— Ну, а я, — сказала г-жа де Ламотт, — вижу, что она менее богата, чем вы думаете, эта бедная королева, или, вернее, бедная женщина!
— Почему так?
— Разве человек может называться богатым, если ему приходится подвергать себя лишениям?
— Лишениям! Расскажите, в чем дело, милая Жанна.
— О Боже мой, я вам передам только то, что видела, ни больше ни меньше.
— Говорите, я вас слушаю.
— Вообразите себе два ужасных мучения, которые пришлось вынести этой несчастной королеве.
— Два мучения? Какие же?
— Знаете ли вы, что такое женское желание, милый принц?
— Нет, не знаю, но очень хотел бы, чтобы вы обучили меня, графиня.
— Так вот, у королевы есть одно желание, которое она не может удовлетворить.
— Желание кого-то?
— Нет, чего-то.
— Какое же?
— Бриллиантовое ожерелье.
— Подождите-ка, я знаю. Не хотите ли вы сказать о бриллиантах Бёмера и Боссанжа?
— Вот именно.
— О, это старая история, графиня.
— Стара она или нова, но скажите, разве не приводит королеву в настоящее отчаяние невозможность владеть тем, что едва не досталось простой фаворитке? Проживи Людовик XV еще две недели, и Жанна Вобернье получила бы то, чего не может иметь Мария Антуанетта.
— Вот в этом вы ошибаетесь, милая графиня: королева имела уже пять или шесть случаев получить эти бриллианты и всякий раз отказывалась от них.
— О!
— Я же говорю вам, что король предлагал ей бриллианты и она отказалась принять их из рук самого короля.
И кардинал рассказал ей историю про корабль.
Жанна с жадностью выслушала ее.
— Ну и что же из этого? — спросила она, когда кардинал кончил.
— Как что из этого?
— Ну да, что это доказывает?
— Что она не пожелала ожерелья, так мне кажется.
Жанна пожала плечами.
— Вы знаете женщин, вы знаете двор, вы знаете королей и даете провести себя таким образом?
— Но я просто свидетельствую отказ.
— Мой дорогой принц, это свидетельство только одного: королеве надо было произнести блестящее, приносящее популярность слово, и она сделала это.
— Прекрасно, — сказал кардинал, — вот как вы верите в королевские добродетели! Ах, скептик! Да апостол Фома был верующим по сравнению с вами!
— Пускай я буду скептиком или верующей, но я хочу убедить вас в одном.
— В чем же именно?
— Что королева едва успела отказаться от ожерелья, как ее охватило безумное желание иметь его.
— Вы все это выдумываете, милая моя; прежде всего знайте одно: при всех недостатках у королевы есть неоценимое достоинство.
— Какое же?
— Она бескорыстна! Она не любит ни золота, ни серебра, ни драгоценных камней. Она ценит минералы по их достоинствам; для нее цветок у корсажа равноценен бриллиантам в ушах.
— Не спорю. Но только в данном случае я утверждаю, что королеве хочется надеть себе на шею несколько бриллиантов.
— О! Докажите, графиня.
— Нет ничего легче: только что я видела это ожерелье.
— Вы?
— Да, и не только видела, но и прикасалась к нему.
— Где?
— Все там же, в Версале.
— В Версале?
— Да, его привозили туда ювелиры, пытаясь в последний раз соблазнить королеву.
— И оно красиво?
— Оно удивительно.
— И вы, как истинная женщина, понимаете, что о нем можно мечтать?
— Я понимаю, что оно может отнять сон и аппетит.
— Увы, почему я не могу подарить королю корабль?
— Корабль?
— Да, тогда он подарил бы мне ожерелье, а получи я его, вы могли бы спать и есть спокойно.
— Вы смеетесь?
— Нет, клянусь вам.
— В таком случае я сейчас скажу вам одну вещь, которая вас очень удивит.
— Скажите.
— Я не хотела бы иметь это ожерелье!
— Тем лучше, графиня, так как я не мог бы подарить вам его.
— Увы, ни вы, ни кто-нибудь другой; это сознает королева, потому-то и желает его.
— Но я повторяю вам, что король предлагал ей его.
Жанна сделала быстрый жест, как бы говоря, что ей надоело это слушать.
— А я, — сказала она, — говорю вам, что женщины особенно ценят такие подарки от тех, кто не заставляет принимать их.
Кардинал внимательнее поглядел на Жанну.
— Я вас не совсем понимаю, — сказал он.
— Тем лучше; прекратим разговор. И прежде всего что вам за дело до этого ожерелья, раз мы не можем его иметь?
— О, будь я королем, а вы королевой, я бы заставил вас принять его!
— Ну вот, не будучи королем, заставьте королеву взять его, и вы увидите, так ли она рассердится на это насилие, как вы думаете!
Кардинал снова посмотрел на Жанну.
— Право, — сказал он, — вы уверены, что не ошибаетесь и что у королевы есть это желание?
— Страстное. Послушайте, милый принц, не говорили ли вы мне — или от кого-то я это слышала, — что вы были бы не прочь стать министром?
— Очень возможно, что я говорил это, графиня.
— В таком случае побьемся об заклад, милый принц…
— Относительно чего?
— Что королева сделает министром того человека, который сумеет повести дело так, чтобы это ожерелье через неделю лежало на ее туалетном столе.
— О, графиня!
— Я знаю, что говорю. Или вы предпочитаете, чтобы я думала про себя?
— О нет, конечно.
— К тому же то, что я говорю, не касается вас. Вполне понятно, что вы не бросите полтора миллиона на удовлетворение прихоти королевы; это значило бы, право, слишком дорого заплатить за портфель, который вы получите даром и на который имеете право. Примите же все сказанное мною за пустую болтовню. Я как попугай: меня ослепил солнечный свет, вот я все и твержу, что мне жарко. Ах, монсеньер, какое это тяжелое испытание для скромной провинциалки пользоваться целый день высочайшей милостью! Надо быть орлом, как вы, чтобы, не опуская глаз, смотреть на это ослепительное солнце.
Кардинал погрузился в раздумье.
— Ну вот, — сказала Жанна, — вы теперь плохо обо мне думаете и находите меня такой жалкой и вульгарной, что даже не удостаиваете говорить со мной.
— Это почему?
— Мое суждение о королеве основано на личном взгляде.
— Графиня!
— Что вы хотите? Мне показалось, что она желает иметь бриллианты, потому что она вздохнула, увидев их… А показалось мне это потому, что, будь я на ее месте, я желала бы иметь их. Простите мне эту слабость.
— Вы очаровательная женщина, графиня… Вы по какому-то странному совпадению одарены слабостью сердца, как вы признались, и вместе с тем силой ума; в иные минуты вы так мало напоминаете женщину, что это страшит меня. В другие же минуты вы бываете так очаровательны, что я благословляю Небо и вас.
И галантный кардинал заключил эту любезность поцелуем.
— Ну перестанем говорить об этом, — сказал он.
«Хорошо, — прошептала про себя Жанна, — но, кажется рыба клюнула».
Сказав только что: «Перестанем говорить об этом» — кардинал между тем первый вернулся к этой же теме.
— Так вы думаете, что Бёмер сделал новую попытку? — спросил он.
— Вместе с Боссанжем, — невинным голосом подтвердила г-жа де Ламотт.
— Боссанжем? Погодите-ка, — сказал кардинал, точно что-то соображая, — кажется, Боссанж — его компаньон?
— Да, такой высокий, худой.
— Вот-вот.
— И живет он…
— Где-то на набережной Железного Лома или на Школьной набережной, право, не знаю… Во всяком случае в окрестностях Нового моста.
— Нового моста, да, вы правы… Я прочла их имена над дверью одного дома, проезжая мимо в карете.
«Ну-ну, — сказала себе Жанна, — рыба клюет все сильнее и сильнее».
Жанна не ошибалась: крючок был проглочен весьма глубоко.
На другой день, выйдя из маленького домика в Сент-Антуанском предместье, кардинал приказал вести себя прямо к Бёмеру. Он рассчитывал остаться неузнанным, но Бёмер и Боссанж были придворными ювелирами и поэтому при первых же произнесенных им словах стали величать его монсеньером.
— Ну да, я монсеньер, — сказал кардинал, — но если вы меня узнали, то примите, по крайней мере, предосторожности, чтобы другие не узнали меня.
— Монсеньер может быть спокоен. Мы ожидаем ваших приказаний, монсеньер.
— Я приехал к вам затем, чтобы купить бриллиантовое ожерелье, которые вы показывали королеве.
— Мы поистине в отчаянии, монсеньер, но вы опоздали.
— Как так?
— Оно продано.
— Этого не может быть, так как еще вчера вы его снова предлагали ее величеству.
— Которая снова отказалась от него, монсеньер, и поэтому прежняя сделка остается в силе.
— А с кем была заключена сделка? — спросил кардинал.
— Это секрет, монсеньер.
— Слишком много секретов, господин Бёмер.
И кардинал встал.
— Но, монсеньер…
— Я полагал, сударь, — продолжал кардинал, — что ювелир французского двора должен быть довольным, продав эти чудесные камни во Франции. Вы предпочитаете Португалию… Как вам угодно, господин Бёмер.
— Монсеньеру все известно! — воскликнул ювелир.
— Что же вы видите в этом удивительного?
— Но если монсеньеру все известно, значит, он узнал это не иначе как от самой королевы!
— А если бы и так? — спросил г-н де Роган, не оспаривая предположения, льстившего его самолюбию.
— О, это многое меняет, монсеньер.
— Объяснитесь, я не понимаю.
— Монсеньер позволит говорить совершенно свободно?
— Говорите.
— Так вот: королева хочет иметь наше ожерелье.
— Вы думаете?
— Мы уверены в этом.
— А в таком случае почему она не покупает его?
— Потому что она отказалась принять его от короля, а изменить свое решение, за которое ее величество слышала столько похвал, значило бы проявить каприз.
— Королева выше всяких толков.
— Да, когда дело идет о народе или о придворных. Но когда дело касается мнения короля…
— Король, как вам известно, собирался подарить королеве это ожерелье.
— Конечно; но он поспешил выразить королеве свою благодарность, когда она отказалась от него.
— Так что же вы заключаете из всего этого, господин Бёмер?
— Что королева желала бы иметь ожерелье, но так, чтобы казалось, что не она покупала его.
— Ну, вы ошибаетесь, — отвечал кардинал. — Дело вовсе не в этом.
— Очень жаль, монсеньер, потому что это единственная уважительная причина для нас нарушить слово, данное господину послу Португалии.
Кардинал задумался.
Как бы ни была искусна игра дипломатов, дипломатия купцов всегда ее превосходит… Прежде всего потому, что дипломат почти всегда торгуется о ценностях, которыми не обладает; купец же держит, сжимает в когтях желанную вещь, и купить ее у него, даже дорого, — почти то же, что ограбить его.
— Сударь, — сказал кардинал де Роган, видя, что находится во власти этого человека, — предполагайте, если хотите, что королеве желательно иметь это ожерелье.
— Это меняет все дело, монсеньер. Я могу нарушить все заключенные сделки, раз дело идет о том, чтобы отдать предпочтение королеве.
— За сколько вы продаете это ожерелье?
— За полтора миллиона ливров.
— Как должна быть произведена уплата?
— Португалец должен был уплатить мне задаток, а я отвез бы сам ожерелье в Лиссабон, чтобы получить остальную сумму.
— Такой способ уплаты у нас не практикуется, господин Бёмер, но задаток вы получите; конечно, в разумных пределах.
— Сто тысяч ливров.
— Их можно найти. А остальное?
— Ваше высокопреосвященство хотели бы отсрочки? — сказал Бёмер. — При поручительстве вашего высокопреосвященства это возможно. Но ведь отсрочка влечет за собой убыток, потому что, заметьте, монсеньер, при такой крупной операции цифры растут совершенно произвольно. Проценты на полтора миллиона ливров, считая по пяти на сто, составляют семьдесят пять тысяч ливров, а пять процентов равносильны разорению для нас, купцов. Десять процентов — вот самое меньшее, на что можно согласиться.
— Значит, по вашим подсчетам, это составило бы полтораста тысяч?
— Да, монсеньер.
— Договоримся, что вы продаете это ожерелье за миллион шестьсот тысяч ливров, господин Бёмер, и разделим уплату остальных полутора миллионов ливров на три взноса в годичный срок. Согласны?
— Монсеньер, мы теряем на такой сделке пятьдесят тысяч ливров.
— Не думаю, сударь. Если бы вам предстояло завтра получить полтора миллиона ливров, вы оказались бы в затруднительном положении: ювелир не покупает земель такой стоимости.
— Нас двое, монсеньер: мой компаньон и я.
— Согласен; но все равно вам будет гораздо удобнее получать по пятьсот тысяч ливров каждую треть года, то есть по двести пятьдесят тысяч ливров на каждого.
— Монсеньер забывает, что бриллианты не принадлежат нам. О, если бы они были наши, то мы были бы достаточно богаты для того, чтобы не беспокоиться ни о платежах, ни о размещении поступающих средств.
— А кому же они принадлежат?
— Чуть ли не десяти кредиторам: мы покупали эти камни по отдельности. За один мы должны в Гамбурге, за другой в Неаполе; за один в Буэнос-Айросе, за два в Москве. Наши кредиторы ждут продажи ожерелья, чтобы получить свои деньги. Только прибыль, которую мы получим, будет нашей собственностью. Но увы, монсеньер, с тех пор как это несчастное ожерелье находится в продаже, то есть вот уже два года, мы потеряли двести тысяч ливров в виде процентов. Судите же, в выигрыше ли мы?
Кардинал де Роган прервал Бёмера.
— Кстати, — сказал он, — ведь я еще не видел ожерелья.
— Правда, монсеньер, вот оно.
И Бёмер со всеми осторожностями показал драгоценное украшение.
— Великолепно! — воскликнул кардинал, с любовью дотрагиваясь до застежки, которая прикасалась к шее королевы.
Когда, наконец, его пальцы насытились поисками симпатических токов, которые могли остаться на камнях ожерелья, он сказал:
— Итак, сделка заключена?
— Да, монсеньер, и я сейчас же отправляюсь в посольство, чтобы взять назад свое слово.
— Я не знал, что в Париже сейчас находится португальский посол.
— Да, монсеньер; господин да Суза сейчас здесь: он приехал инкогнито.
— Для переговоров об этом деле, — сказал кардинал, смеясь.
— Да, монсеньер.
— О, бедный Суза! Я его хорошо знаю. Бедный Суза!
И кардинал снова расхохотался.
Господин Бёмер почел долгом присоединиться к веселью своего клиента.
И, глядя на футляр с ожерельем, они долго потешались над португальцем.
Господин де Роган собрался уезжать. Бёмер остановил его:
— Монсеньер, угодно ли вам будет сообщить мне, как мы будем производить расчет?
— Да очень просто.
— Через управляющего монсеньера?
— Нет, нет; никого, кроме меня. Вы будете вести дело только со мной.
— А когда?
— Завтра же.
— И сто тысяч ливров?..
— Я привезу их сюда завтра.
— Хорошо, монсеньер. А векселя?
— Я подпишу их здесь завтра.
— Прекрасно, монсеньер.
— И так как вы любите секреты, господин Бёмер, то хорошенько запомните, что в ваших руках находится один из важнейших.
— Монсеньер, я понимаю это и буду достоин вашего доверия, так же как и доверия ее величества королевы, — тонко добавил тот.
Господин де Роган покраснел и вышел, смущенный, но счастливый, как всякий человек, который разоряется под влиянием сильной страсти.
На другой день г-н Бёмер с важным видом отправился в португальское посольство.
В ту минуту как он собирался постучать в дверь, г-н де Босир, первый секретарь, принимал счета от г-на Дюкорно, правителя канцелярии, а дон Мануэл да Суза, посол, объяснял новый план действий своему сообщнику, камердинеру.
С тех пор как Бёмер посетил в последний раз улицу Жюсьен, здесь многое преобразилось.
Весь персонал, высадившийся, как мы видели, из двух почтовых карет, разместился в соответствии со степенью нужности каждого и теми функциями, которые предстояло ему выполнять в доме нового посла.
Надо сказать, что сообщники, поделив между собой роли, прекрасно ими разыгрываемые, собираясь вскоре их сменить, могли сами охранять свои интересы, что всегда придает бодрость духа, даже когда приходится исполнять самые тяжелые обязанности.
Господин Дюкорно, очарованный сообразительностью всех этих слуг, одновременно восхищался тем, что новый посол был так мало заражен национальными предрассудками, что набрал весь штат исключительно из французов, начиная с первого секретаря и кончая камердинером.
Вот почему, проверяя счета с г-ном де Босиром, он затеял разговор, восхваляя за это главу посольства.
— Видите ли, фамилия да Суза, — сказал Босир, — не принадлежит к тем закоснелым португальцам, которые придерживаются образа жизни четырнадцатого столетия: таких вы много встретите в наших провинциях. Да Суза — дворяне-путешественники с миллионным состоянием; они, если бы пожелали, могли бы стать где-нибудь королями.
— Но у них не появляется такого желания, — тонко заметил г-н Дюкорно.
— К чему им это, господин правитель канцелярии? Разве, обладая известным числом миллионов и знатным именем, они не равны королям?
— О, какое у вас философское мировоззрение, господин секретарь, — сказал с удивлением Дюкорно. — Я никак не ожидал услышать эти максимы равенства из уст дипломата.
— Мы составляем среди дипломатов исключение, — ответил Босир, досадуя на себя за вырвавшееся у него несвоевременное замечание. — Не будучи вольтерьянцами или армянами на манер Руссо, мы знакомы все-таки с философией и знаем о естественных теориях неравенства сословий и способностей людей.
— А знаете, — с жаром воскликнул правитель канцелярии, — все-таки счастье, что Португалия — небольшое государство!
— Почему это?
— А потому, что, имея таких лиц во главе правления, она очень скоро стала бы великой, сударь.
— О, вы льстите нам, дорогой правитель канцелярии. Нет, мы занимаемся философской политикой. Это красиво выглядит, но малоприменимо. Однако довольно об этом. Итак, вы говорите, что в кассе сто восемь тысяч ливров?
— Да, господин секретарь, сто восемь тысяч ливров.
— И никаких долгов?
— Ни денье.
— Вот образцовый порядок! Позвольте мне ведомость выдачи денег, пожалуйста.
— Вот она. А когда представление ко двору, господин секретарь? Должен вам сказать, что в квартале это стало предметом любопытства, бесконечных толков и, я бы сказал, чуть не беспокойства.
— А!
— Да, время от времени вокруг посольства прохаживаются люди, которые очень хотели бы, конечно, чтобы двери у нас были стеклянными.
— Люди?.. — спросил Босир. — Местные жители?
— И другие. Так как миссия у господина посла секретная, то вы понимаете, что полиция, наверное, сразу займется выяснением ее целей.
— Я тоже думал об этом, — сказал Босир, достаточно встревоженный.
— Посмотрите, господин секретарь, — сказал Дюкорно, подводя Босира к решетчатому окну, выходившему на срезанный угол одного из флигелей дома. — Посмотрите; видите ли вы на улице этого человека в грязном коричневом балахоне?
— Вижу.
— Как он смотрит сюда, а?
— Действительно. Кто это, как вы полагаете?
— Откуда мне знать… Может быть, шпион господина де Крона.
— Возможно.
— Между нами, господин секретарь, господин де Крон далеко уступает в способностях господину де Сартину. Вы знавали господина де Сартина?
— Нет, сударь, нет!
— О, тот десять раз уже разгадал бы вашу тайну. Правда, вы принимаете предосторожности.
В эту минуту раздался звонок.
— Господин посол зовет меня, — поспешно сказал Босир, которого этот разговор начинал несколько беспокоить.
И с силой распахнув дверь, он толкнул обеими ее створками двух сообщников, которые — один с пером за ухом, другой с половой щеткой в руке, ибо один был третьестепенным писцом, а другой лакеем, — находили разговор слишком продолжительным, чтобы не принять в нем участия, хотя бы подслушивая его.
Босир понял, что его подозревают, и обещал себе удвоить бдительность.
Он поднялся к послу, обменявшись втихомолку рукопожатием со своими приятелями и сообщниками.
XX
ГЛАВА, В КОТОРОЙ ГОСПОДИН ДЮКОРНО ПЕРЕСТАЕТ ПОНИМАТЬ, ЧТО ПРОИСХОДИТ ВОКРУГ
Дон Мануэл да Суза был менее желт, чем обыкновенно, то есть был более красен. Он только что имел с господином командором-камердинером неприятное объяснение.
Это объяснение еще не кончилось.
Когда Босир вошел, оба петуха продолжали вырывать друг у друга последние перья.
— В чем дело? — спросил секретарь, принимая позу третейского судьи и обменявшись взглядом с послом, своим естественным союзником.
— Вы знаете, — начал камердинер, — что сегодня придет господин Бёмер, чтобы покончить дело с ожерельем?
— Знаю.
— И что ему надо отсчитать сто тысяч ливров?
— Знаю и это.
— Эти сто тысяч ливров составляют собственность нашего товарищества, не так ли?
— Кто же в этом сомневается?
— Видите! Господин де Босир согласен со мной! — обратился командор к дону Мануэлу.
— Подождите, подождите! — сказал Португалец, жестом призывая его к терпению.
— Я согласен с вами лишь в том, что эти сто тысяч ливров принадлежат членам товарищества, — сказал Босир.
— Вот и все, мне больше ничего и не надо. В таком случае касса, в которой они лежат, не должна стоять в единственном помещении посольства, которое примыкает к спальне посла.
— Почему это? — спросил Босир.
— И господин посол, — продолжал командор, — должен дать каждому из нас ключ от этой кассы.
— Нет, этого не будет, — сказал Португалец.
— Почему?
— Да, почему? — переспросил Босир.
— Мне не доверяют, — сказал Португалец, поглаживая свой подбородок, — почему же и мне не быть недоверчивым по отношению к другим? Мне кажется, что если меня могут обвинять в намерении обокрасть товарищество, то и я могу подозревать товарищество в том же. Мы все друг друга стоим.
— Согласен, — сказал камердинер, — но именно потому наши права равны.
— Ну, любезнейший, если вы желали устанавливать здесь равенство, то вам надо было условиться, чтобы мы все по очереди играли роль посла. Это, возможно, выглядело бы менее правдоподобно в глазах публики, но зато все члены товарищества были бы спокойны. Вот и все, не так ли?
— И прежде всего, — вмешался Босир, — вы, господин командор, действуете не по-товарищески… Разве сеньор дон Мануэл не пользуется неоспоримым преимуществом как придумавший это дело?
— Да, — сказал посол, — и это преимущество разделяет со мной господин де Босир.
— О! — ответил командор, — пока дело не завершено, никто не придает значения никаким преимуществам.
— Согласен, но продолжают придавать значение способу действий, — сказал Босир.
— Я пришел заявить это требование не только от себя, — пробормотал несколько пристыженный командор, — все наши товарищи думают так же, как я.
— И они ошибаются, — ответил Португалец.
— Они ошибаются, — подтвердил Босир.
Командор поднял голову.
— Я сам, кажется, ошибся, спросив мнения господина де Босира, — с досадой заметил он. — Секретарь не мог не быть заодно с послом.
— Господин командор, — сказал Босир с удивительным спокойствием, — вы негодяй, которому я обрезал бы уши, если бы они у вас еще были, но их вам и так уже много раз обрезали.
— Что? — выпрямляясь, спросил командор.
— Здесь, в кабинете господина посла, нас не потревожат и мы можем покончить это дело с глазу на глаз. Итак, вы меня только что оскорбили, сказав, что я решил действовать заодно с доном Мануэлом.
— И оскорбили также меня, — холодно вставил Португалец, приходя на помощь Босиру.
— И за это придется ответить, господин командор.
— О, я не хвастун, как вы! — воскликнул тот.
— Я это вижу, — ответил Босир, — и поэтому вздую вас, командор.
— На помощь! — закричал командор, схваченный возлюбленным мадемуазель Олива́ и чуть не задушенный Португальцем.
Но в ту минуту как оба первых лица собирались мстить за себя, звонок внизу возвестил о прибытии посетителя.
— Оставим его, — сказал дон Мануэл.
— И пусть он исполняет свои обязанности, — продолжал Босир.
— Товарищи узнают об этом! — воскликнул командор, приводя себя в порядок.
— О! Говорите, говорите им что угодно: мы знаем, что им ответить.
— Господин Бёмер! — крикнул снизу швейцар.
— Ну вот и развязка всего дела, дорогой командор, — сказал Босир, давая своему противнику легкий подзатыльник.
— Нам не придется больше ссориться из-за этих ста тысяч ливров, так как они сейчас исчезнут вместе с господином Бёмером. Ну, ступайте служить, господин камердинер!
Командор с ворчанием вышел из комнаты и принял обычный скромный вид, собираясь ввести к послу придворного ювелира.
Пользуясь его отсутствием, Босир и Португалец обменялись взглядом, еще более многозначительным, чем первый.
Бёмер вошел в сопровождении Боссанжа. Оба выглядели смиренными и озадаченными, что не могло ускользнуть от зорких посольских наблюдателей.
Пока ювелиры усаживались по приглашению Босира, последний продолжал свои наблюдения и старался поймать взгляд дона Мануэла, чтобы обменяться впечатлениями.
Дон Мануэл сохранял официальное, полное достоинства выражение лица.
Бёмер, как человек решительный, первым начал трудный разговор.
Он объяснил, что политические причины величайшей важности не позволяют ему продолжить начатые переговоры.
Дон Мануэл вскрикнул.
Босир произнес: «Гм!»
Бёмер все более путался в словах.
Дон Мануэл велел ему передать, что сделка заключена и деньги для уплаты уже приготовлены.
Бёмер стоял на своем.
Посол, также через посредство Босира, ответил, что его правительство осведомлено или вот-вот будет осведомлено о заключенной сделке, что нарушение договора почти равносильно оскорблению ее величества португальской королевы.
Господин Бёмер заметил, что он взвесил все последствия этих соображений, но никак не может вернуться к своим прежним намерениям.
Босир, все еще не решаясь примириться с разрывом сделки, объявил Бёмеру прямо, что отказываться от слова недостойно честного купца, человека слова.
Тогда заговорил Боссанж, вступившись за оклеветанное в его лице и в лице его компаньона торговое сословие. Но он не выказал большого красноречия.
Босир заставил его замолчать единственной фразой:
— Вам набавили цену?
Ювелиры, которые были не очень сильны в политике и имели очень высокое мнение о дипломатии вообще и о португальских дипломатах в частности, покраснели, думая, что их мысли разгаданы.
Босир увидел, что удар его попал в цель, и так как для него очень важно было покончить с этим делом, которое сулило ему целое состояние, то он сделал вид, что совещается по-португальски с послом.
— Господа, — сказал он затем ювелирам, — вам предложили большую прибыль: это вполне естественно; это доказывает, что бриллианты очень ценны. Ну что же? Ее величество португальская королева не желает покупать их дешево в ущерб честным негоциантам. Угодно вам получить еще пятьдесят тысяч ливров?
Бёмер отрицательно покачал головой.
— Сто тысяч? Полтораста тысяч ливров? — продолжал Босир, решив, что может без всякой опасности для себя предложить еще хоть миллион, чтобы получить свою долю от полутора миллионов.
Ошеломленные ювелиры смутились на минуту, затем, посоветовавшись, сказали Босиру:
— Нет, господин секретарь, не трудитесь нас искушать… Сделка расторгнута, и воля, более могущественная, чем наша, заставляет нас продать ожерелье в этой стране. Вы, конечно, понимаете… Извините: это не мы отказываемся, и не сетуйте на нас за это. Препятствие исходит от лица более высокопоставленного, чем вы и мы.
Босир и дон Мануэл не нашли что возразить на это, Напротив, они даже сказали ювелирам какую-то любезность и постарались принять равнодушный вид.
Но этот разговор настолько поглотил их внимание, что они не заметили в передней командора-камердинера, который подслушивал у дверей.
Сей достойный сообщник был, однако, так неловок, что, наклонившись к двери, поскользнулся и упал, с шумом ударившись о филенку.
Босир бросился в переднюю и нашел бедного слугу в сильном испуге.
— Что ты тут делаешь, несчастный? — крикнул Босир.
— Я нес утреннюю почту, сударь, — ответил командор.
— Хорошо! — сказал Босир. — Иди.
И, взяв депеши, отослал командора.
Эти депеши составляли канцелярскую переписку посольства; это были письма из Португалии или Испании, в большинстве случаев совершенно незначительные, составлявшие предмет ежедневных трудов г-на Дюкорно; но, проходя через руки Босира или дона Мануэла, прежде чем попасть в канцелярию, они успевали снабдить обоих первых лиц полезными сведениями о делах посольства.
Услышав слово «депеши», ювелиры встали с облегчением, как люди, которые получили позволение удалиться после тягостной аудиенции.
Ювелиров отпустили, и камердинер получил приказание проводить их до двора.
Едва они сошли с лестницы, как дон Мануэл и Босир быстро обменялись взглядом из числа тех, что предшествуют быстрым действиям, и подошли друг к другу.
— Ну, — сказал дон Мануэл, — дело сорвалось.
— Окончательно, — подтвердил Босир.
— Из ста тысяч ливров — очень скромной добычи — каждому из нас приходится по восемь тысяч четыреста ливров.
— Игра не стоит свеч, — ответил Босир.
— Не правда ли? Между тем как здесь, в кассе… — и он показал на кассу, составляющую предмет столь сильных вожделений командора, — здесь, в кассе, сто восемь тысяч ливров.
— По пятьдесят четыре тысячи на каждого.
— На том и решим, — ответил дон Мануэл. — Разделим их пополам.
— Хорошо, но командор не отстанет от нас ни на минуту теперь, когда он знает, что дело не удалось.
— Я найду способ, — сказал многозначительно дон Мануэл.
— А я уже нашел его, — сказал Босир.
— Какой?
— Вот какой. Командор сейчас вернется?
— Да.
— И будет требовать доли для себя и товарищей?
— Да.
— И нам придется рассчитываться со всеми?
— Да.
— Позовем командора как будто бы для того, чтобы сообщить ему один секрет, и предоставьте остальное мне.
— Кажется, я догадываюсь, — сказал дон Мануэл. — Подите к нему навстречу.
— Я только что собирался попросить вас об этом.
Ни тот ни другой не хотел оставлять «друга» наедине с кассой. Доверие — редкая драгоценность.
Дон Мануэл ответил, что его положение посла не позволяет ему этого.
— Вы для него не посол, — заметил Босир. — Но все равно.
— Вы идете?
— Нет, я позову его из окна.
Действительно, Босир окликнул господина командора из окна; тот собирался уже вступить в разговор со швейцаром.
Командор, услышав зов, поднялся наверх.
Он нашел обоих первых лиц в комнате, смежной с той, где находилась касса.
Босир обратился к нему с улыбкой.
— Давайте биться об заклад, — сказал он, — что я знаю, о чем вы разговаривали со швейцаром.
— Я?
— Да. Вы ему рассказали, что дело с Бёмером сорвалось.
— Честное слово, нет.
— Вы лжете.
— Клянусь вам, нет.
— Тем лучше, так как если бы вы это сказали, то сделали бы весьма большую глупость и потеряли бы весьма кругленькую сумму.
— Как так? — с удивлением спросил командор. — Какую сумму?
— Вы, конечно, понимаете, что разговор с Бёмером известен только нам троим.
— Правда.
— И что поэтому мы трое имеем в своем распоряжении сто восемь тысяч ливров, поскольку все думают, что Бёмер и Боссанж унесли эту сумму.
— Черт возьми! — вне себя от радости воскликнул командор. — Это правда!
— Тридцать три тысячи триста тридцать три франка шесть су на каждого, — сказал дон Мануэл.
— Больше! Больше! — воскликнул командор. — Еще остается восемь тысяч ливров.
— Правда, — сказал Босир. — Вы согласны?
— Согласен ли я? — воскликнул, потирая руки, камердинер. — Еще бы! Вот что значит рассуждать дельно.
— Это значит рассуждать как негодяй! — крикнул громовым голосом Босир. — Ведь я вам говорил, что вы мошенник! Ну, дон Мануэл, вы такой сильный, возьмите-ка этого негодяя и выдадим его с головой нашим компаньонам.
— Пощадите! Пощадите! — завопил несчастный. — Я хотел пошутить!
— Нечего, нечего, — продолжал Босир, — спрячьте его в темную комнату в ожидании дальнейшего суда!
— Пощадите! — опять закричал командор.
— Осторожнее, — сказал Босир дону Мануэлу, который сдавил несчастного командора. — Берегитесь, как бы не услышал господин Дюкорно!
— Если вы меня не выпустите, — кричал командор, — я вас всех выдам!
— А я тебя задушу! — гневным голосом воскликнул дон Мануэл, толкая камердинера к расположенной рядом гардеробной. — Ушлите господина Дюкорно, — сказал он на ухо Босиру.
Тот не заставил повторять. Он поспешно прошел в комнату, смежную с комнатой посла, между тем как последний запирал командора в глухую темницу.
Прошла минута, Босир не возвращался.
У дона Мануэла мелькнула в голове мысль: он был один, касса в десяти шагах; открыть ее, взять из нее сто восемь тысяч ливров кредитными билетами, выскочить из окна и удрать через сад с добычей — на это всякому умелому вору требовалось всего десять минут.
Дон Мануэл рассчитал, что Босир потеряет не менее пяти минут на то, чтобы услать Дюкорно и вернуться.
Он бросился к двери комнаты, где стояла касса. Дверь эта оказалась запертой на ключ. Дон Мануэл был силен и ловок: он мог бы отпереть городские ворота ключиком от часов.
«Босир не доверяет мне, — подумал он, — потому что у меня одного есть ключ. Он запер дверь, и он совершенно неправ».
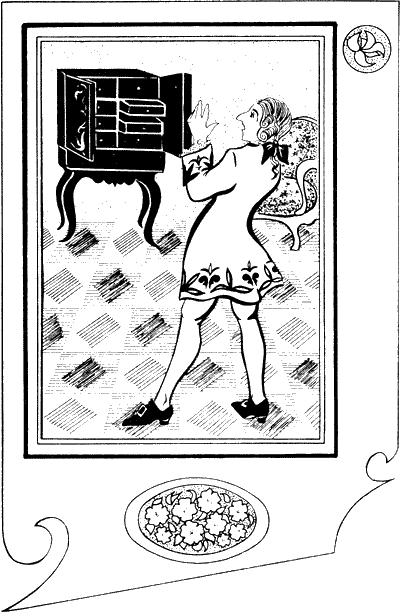
Дон Мануэл взломал замок двери острием шпаги, вошел в комнату и испустил страшный крик. Касса была похожа на широко разинутый беззубый рот. В ее зияющих недрах не было ничего!
Босир, запасшись вторым ключом, вошел через другую дверь и похитил все деньги.
Дон Мануэл как сумасшедший побежал в швейцарскую. Швейцар спокойно напевал что-то.
Босир опередил дона Мануэла на пять минут.
Когда Португалец своими криками и сетованиями оповестил весь дом о случившемся и, чтобы опереться на чье-то свидетельство, выпустил на свободу командора, то встретил только недоверие и озлобленность.
Его обвинили в том, что он подстроил все это вместе с Босиром, который убежал первый, унося половину суммы с собой.
Не было больше масок, не было больше тайн, и почтенный г-н Дюкорно перестал понимать людей, с которыми оказался связан. Он едва не лишился чувств, увидев, что эти дипломаты собираются повесить в каретном сарае дона Мануэла, совершенно беззащитного в их руках!
— Повесить господина да Суза? — кричал правитель канцелярии. — Но это же оскорбление величества. Берегитесь!
Было решено бросить его в подвал: он кричал слишком громко.
В эту минуту три торжественных удара в ворота заставили компаньонов задрожать.
Мгновенно воцарилось молчание.
Три удара повторились.
Затем резкий голос крикнул по-португальски:
— Именем господина посла Португалии отворите!
— Посол! — ужаснулись мошенники и в панике рассеялись по всему дому; через несколько минут они обратились в беспорядочное бегство кто через сады, кто через соседние стены, кто по крышам.
Настоящий посол, действительно только что прибывший в Париж, смог проникнуть к себе лишь при помощи вооруженных полицейских, которые выломали дверь в присутствии огромной толпы, привлеченной любопытным зрелищем.
Затем полицейские обшарили все вокруг и арестовали г-на Дюкорно; его препроводили в Шатле, где ему пришлось ночевать.
Так закончилось приключение с самозваным португальским посольством.
XXI
ИЛЛЮЗИИ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Если бы посольский швейцар побежал за Босиром, как ему приказывал дон Мануэл, то, надо сознаться, ему предстояла бы нелегкая работа.
Босир, выбравшись из вертепа, сразу пустился галопом по улице Кокийер и из нее по улице Сент-Оноре.
Опасаясь погони, он запутывал следы, бежал галсами по улицам, которые без всякого порядка и смысла опоясывают парижский Хлебный рынок. По прошествии нескольких минут он мог быть почти уверен, что никому не удалось проследить за ним, как и в том, что его силы истощены и что большего расстояния не пробежала бы и хорошая лошадь для охоты.
На улице Виарм, огибавшей рынок, Босир сел на мешок зерна и сделал вид, что с величайшим интересом разглядывает колонну Медичи, которую Башомон купил, чтобы спасти от молотка разрушителей, и подарил ратуше.
Но на самом деле г-н де Босир не смотрел ни на колонну г-на Филибера Делорма, ни на солнечные часы, которыми украсил ее г-н Пенгре. Он с трудом извлекал из глубины легких, точно из ослабевших кузнечных мехов, резкое и хриплое дыхание.
В течение нескольких мгновений ему не удавалось набрать воздуха, который надо было вытолкнуть из гортани, чтобы справиться с удушьем.
Когда ему это удалось, он так глубоко вздохнул, что его
непременно бы услышали обитатели улицы Виарм, не будь они так поглощены продажей и взвешиванием зерна.
«О, — подумал Босир, — наконец-то моя мечта осуществилась и я богат!»
Он снова вздохнул.
«Теперь я могу стать вполне почтенным человеком; мне уже кажется, что я толстею».
И в самом деле, он если и не растолстел, то напыжился.
«Я сделаю из Олива́, — продолжал он свой мысленный монолог, — такую же почтенную женщину, как я сам. Она красива, вкусы ее бесхитростны».
(Бедный Босир!)
«Ей не будет ненавистна уединенная жизнь в провинции, на красивой ферме, которую мы будем называть нашей землей, вблизи маленького городка, где легко можем сойти за важных господ.
Николь добра, у нее только два недостатка: леность и тщеславие».
(Только два недостатка! Бедный Босир! Два смертных греха!)
«И удовлетворив эти две ее слабости, я, Босир, человек сомнительной репутации, сделаю из нее идеальную жену для себя».
Он не стал продолжать; дыхание его успокоилось.
Он отер лоб, убедился, что сто тысяч ливров по-прежнему у него в кармане, и, отдохнув больше телом, чем духом, вновь принялся раздумывать.
На улице Виарм его не станут искать, но вообще искать будут. Господа из посольства не такие люди, чтобы с легким сердцем отнестись к потере своей доли в добыче.
Они разобьются на несколько шаек и прежде всего обследуют дом похитителя.
Тут главная загвоздка. В этом доме жила Олива́. Ей расскажут обо всем, может быть, дурно обойдутся с нею. Как знать? Они способны довести свою жестокость до того, чтобы захватить ее в качестве заложницы.
Почему бы этим негодяям не знать, что мадемуазель Олива́ — возлюбленная Босира, а зная это, не спекулировать на его страсти?
Босир едва не сошел с ума, оказавшись на краю этих двух смертельных опасностей.
Но любовь одержала над ним верх.
Он не мог допустить, чтобы кто-нибудь прикоснулся к предмету его страсти, и как стрела пустился к дому на улице Дофины.
Впрочем, Босир безгранично доверял быстроте своего бега: его враги, как бы они ни были проворны, не могли опередить его.
К тому же он вскочил в фиакр и, показав кучеру экю в шесть ливров, сказал:
— К Новому мосту.
Лошади не бежали, а летели.
Уже вечерело.
Босир велел подвезти себя на площадку моста, за статуей Генриха IV. В те времена туда подъезжали в экипажах. Это было место свиданий — достаточно банальное, но обычное.
Осторожно высунув голову из-за занавески, он стал всматриваться в улицу Дофины.
Босир до известной степени приноровился к полицейским: он потратил десять лет, учась их распознавать, чтобы в нужное время и в нужном месте ускользать от них.
На спуске с моста, около улицы Дофины, он увидел двух людей, стоявших на некотором расстоянии друг от друга и вытягивающих шеи по направлению к этой улице, точно приглядываясь к чему-то.
Это были сыщики. Увидеть их на Новом мосту не было редкостью; пословица того времени гласила: «Кто хочет в любую минуту увидеть прелата, женщину легкого поведения и белую лошадь, тому стоит только пройти по Новому мосту».
А белые лошади, священнические сутаны и женщины легкого поведения всегда были предметом особого внимания со стороны господ полицейских.
Босир был смущен и раздосадован; он весь сгорбился и, хромая на обе ноги, чтобы изменить свою походку, пробрался через толпу на улицу Дофины.
На ней не было заметно ничего тревожного. Он уже видел издали дом, в окнах которого так часто показывалась его звезда, красавица Олива́.
Окна были закрыты: без сомнения, она отдыхала на софе, читала какую-нибудь глупую книгу или грызла какое-нибудь лакомство.
Вдруг Босиру почудилось, что в проходе, прямо перед домом, мелькнул стеганый камзол полицейского стражника.
Мало того, другой солдат показался в окне его маленькой гостиной.
У Босира выступил пот на лбу — холодный пот, вредный для здоровья. Но отступать было поздно: надо было пойти к дому.
Босир собрался с духом и, проходя мимо, посмотрел на дом.
Какая картина представилась ему!
Весь проход был забит солдатами парижской полицейской стражи, и среди них находился сам комиссар из Шатле, весь в черном.
Эти люди, как сразу заметил Босир, имели смущенный, растерянный и разочарованный вид. Не у всех есть привычка читать на лицах полицейских; но когда такая привычка есть, как она была у Босира, то одного взгляда достаточно, чтобы догадаться, что у этих господ дело сорвалось.
Босир сказал себе, что г-н де Крон, несомненно предупрежденный — неважно как и кем, — хотел захватить Босира, а нашел одну Олива́. Inde irae[9]Отсюда гнев (лат.). .
Конечно, они были разочарованы. При обычных обстоятельствах, не имея в кармане ста тысяч ливров, Босир бросился бы в середину альгвасилов и крикнул, как Нис: «Вот я! Вот я, тот, кто сделал все это!»
Но мысль, что эти люди получат его сто тысяч ливров и всю свою жизнь будут потешаться над ним, мысль, что смелая и ловкая проделка его, Босира, послужит на пользу одним только агентам начальника полиции, — эта мысль восторжествовала над всеми его, скажем так, сомнениями и заглушила огорчения любовника.
«Логика такова, — сказал он себе: — я дам схватить себя… Дам захватить сто тысяч ливров. И не помогу Олива́… Я буду разорен… Докажу ей, что люблю ее как безумный… И заслужу, чтобы она сказала мне: «Вы дурак; надо было меньше меня любить и спасти меня». Решительно, надо дать тягу и припрятать в безопасное место деньги, источник всего: свободы, счастья и философии».
С этими словами Босир прижал банковские билеты к сердцу и пустился бежать к Люксембургскому саду: он за этот час руководствовался только своим инстинктом, и так как ему сто раз приходилось ходить за Олива́ в этот сад, то ноги и понесли его туда.
Но для человека, столь упорного в логике, это было не очень разумно.
Действительно, полицейские, которым известны привычки воров, как Босиру были известны привычки полицейских, естественно должны были пойти на розыски Босира в Люксембургский сад.
Но Небо или дьявол решили, чтобы г-ну де Крону не удалось поймать Босира на этот раз.
Едва возлюбленный Николь завернул за угол улицы Сен-Жермен-де-Пре, как чуть не попал под великолепную карету, мчавшуюся к улице Дофины.
Босир едва успел благодаря проворству парижанина, недоступному остальным европейцам, избежать удара дышлом. Правда, ему не удалось избегнуть ругательств кучера и удара кнутом; но обладатель ста тысяч ливров не останавливался из-за пустяков вроде подобного дела чести, особенно когда за ним по пятам гонятся компаньоны с улицы Железной Кружки и полицейская стража города Парижа.
Итак, Босир бросился в сторону, но в эту минуту увидел в карете Олива́ и весьма красивого господина, занятых оживленным разговором.
Он слегка вскрикнул, что лишь еще более разгорячило лошадей. Он охотно побежал бы за каретой, но она ехала к улице Дофины, к той единственной парижской улице, на которой Босиру в эту минуту никак не хотелось оказаться.
И кроме того, если даже ему почудилось, что именно Олива́ сидела в карете, — это все-таки была иллюзия, галлюцинация, нелепость, ведь в глазах у него мутилось и двоилось.
А потом надо было взять в соображение, что Олива́ не могла быть в этой карете, поскольку полицейская стража арестовала ее дома, на улице Дофины.
Несчастный Босир, затравленный нравственно и физически, бросился по улице Фоссе-Месье-ле-Пренс в Люксембург, прошел весь уже опустевший квартал и, миновав заставу, нашел себе убежище в маленькой комнатушке, хозяйка которой выказывала ему всяческое уважение.
Он устроился на ночлег в этом чулане, спрятал банковские билеты под плитой пола, поставил на эту плиту ножку кровати и улегся весь в поту, отчаянно ругаясь; правда, его богохульства перемежались благодарностями Меркурию, а приступы лихорадочного отвращения ко всему — вливаниями подслащенного вина с корицей, напитка вполне пригодного, чтобы избавиться от испарины и вселить в сердце уверенность.
Он был уверен, что полиции уже не найти его. Он был уверен, что никто у него не отнимет его денег.
Он был уверен, что Николь, даже если ее арестовали, не виновна ни в каком преступлении и что прошло время беспричинных вечных заточений.
Он был уверен, наконец, что эти сто тысяч ливров послужат ему даже на то, чтобы освободить из тюрьмы Олива́, свою неразлучную спутницу, если ее оставят там.
Оставались его сообщники из посольства; с ними труднее было свести счеты.
Но Босир придумал искусный ход. Он оставит их всех во Франции, а сам, как только мадемуазель Олива́ будет свободна, уедет в Швейцарию, страну свободную и нравственную.
Но ничто из того, о чем размышлял Босир, попивая горячее вино, не сбылось по его предвидениям: так было предначертано.
Человек почти всегда ошибается, воображая, что видит что-то, когда в действительности этого не видит. И он еще более ошибается, воображая, что не видел чего-то, когда на самом деле видел.
Мы сейчас поясним читателю это рассуждение.
XXII
ГЛАВА, В КОТОРОЙ МАДЕМУАЗЕЛЬ ОЛИВА́ НАЧИНАЕТ СПРАШИВАТЬ СЕБЯ, ЧТО ЖЕ С НЕЙ ХОТЯТ СДЕЛАТЬ
Если бы г-н де Босир доверился своим глазам, которые прекрасно видели, вместо того чтобы напрягать ум, который был у него затуманен, то он уберег бы себя от многих огорчений и разочарований.
Действительно, он видел в карете Олива́, а рядом с нею человека, которого не узнал, взглянув на него мельком, но которого, без сомнения, узнал бы, если бы взглянул на него вторично. Олива́, совершив, по своему обыкновению, утреннюю прогулку в Люксембургском саду, не вернулась в два часа к обеду, потому что ее встретил, заговорил с ней и стал задавать вопросы загадочный друг, с которым она познакомилась в день бала в Опере.
Действительно, в ту минуту, когда она, улыбаясь, расплачивалась с хозяином кофейни, где была постоянной клиенткой, к ней подошел появившийся из боковой аллеи Калиостро и взял ее под руку.
Она слегка вскрикнула.
— Куда вы идете? — спросил он.
— К себе, на улицу Дофины.
— Это будет очень на руку людям, ожидающим вас там, — ответил незнакомец.
— Людям… ожидающим меня?.. Что это значит? Меня никто не ждет.
— О нет! Вас ждет дюжина посетителей.
— Дюжина посетителей! — со смехом воскликнула Олива́. — Почему тогда уж не целый полк?
— Да если бы было возможно послать на улицу Дофины целый полк, он был бы там.
— Вы удивляете меня!
— Я удивлю вас еще больше, если позволю вам пойти на улицу Дофины.
— Почему это?
— Потому что вас там арестуют, милая моя.
— Арестуют?! Меня?
— Обязательно. Те двенадцать человек, что ждут вас, — стрелки, посланные господином де Кроном.
Олива́ вздрогнула: некоторые люди всегда боятся некоторых вещей.
Но она тотчас же овладела собой, более или менее старательно проверив свою совесть.
— Я ничего не сделала, — сказала она. — За что же меня могут арестовать?
— За что арестовывают женщин? За интриги, за пустяки.
— У меня нет интриг.
— Но, может быть, были?
— О, этого я не отрицаю.
— Ну, словом, эти господа, безусловно, не правы, собираясь вас арестовывать, но они хотят это сделать… Это несомненно. Так как же? Мы все-таки пойдем на улицу Дофины?
Олива́ остановилась, бледная и взволнованная.
— Вы играете со мной, как кот с бедной мышью, — сказала она. — Послушайте, если вы что-нибудь знаете, скажите мне. Не замешан ли тут Босир?
И она умоляюще взглянула на Калиостро.
— Весьма возможно. Я подозреваю, что его совесть далеко не так чиста, как ваша.
— Бедный малый!..
— Жалейте о нем, но если он попался, то не следуйте его примеру и не позволяйте, чтобы захватили и вас.
— Но что у вас за интерес покровительствовать мне? Что у вас за интерес заниматься мной? Право, — вызывающе продолжала она, — неестественно, чтобы такой человек, как вы…
— Не договаривайте, вы скажете глупость, а минуты дороги, так как агенты господина де Крона, видя, что вы не возвращаетесь, способны прийти за вами сюда.
— Сюда! Они знают, что я здесь?!
— Какая, подумаешь, трудная задача — узнать это! Ведь знаю же я! Итак, продолжаю. Если я интересуюсь вашей особой и желаю вам добра, то остальное вас не касается. Скорее, пойдемте на улицу Анфер. Моя карета ожидает вас там. А, вы еще колеблетесь?
— Да.
— Ну, в таком случае мы совершим довольно неосторожный поступок, но это, надеюсь, окончательно убедит вас. Мы проедем мимо вашего дома в моей карете, и когда вы увидите этих господ — не настолько близко, конечно, чтобы попасться им в руки, но настолько, чтобы судить об их планах, — то оцените по заслугам мои добрые намерения.
С этими словами он повел Олива́ к воротам, выходившим на улицу Анфер. Карета подъехала, Калиостро и Олива́ сели в нее и направились на улицу Дофины, к тому месту, где их увидел Босир.
Конечно, закричи он в этот миг, последуй за каретой, Олива́ сделала бы все возможное, чтобы приблизиться к нему, спасти его, если за ним гонятся, или спастись вместе с ним, если он свободен.
Но Калиостро заметил этого несчастного и отвлек внимание Олива́, показав ей толпу, которая из любопытства собралась вокруг наряда полиции.
Как только Олива́ различила полицейских, вторгшихся в ее дом, она бросилась на грудь своему покровителю в порыве отчаяния, которое растрогало бы всякого другого, но не этого железного человека.
Он удовольствовался тем, что пожал руку молодой женщины и опустил штору, чтобы спрятать свою спутницу от любопытных.
— Спасите меня! Спасите меня! — повторяла между тем бедная Олива́.
— Обещаю вам это, — сказал он.
— Но если вы говорите, что полиция все знает, то она всюду найдет меня.
— Нет, нет; в том месте, куда я вас спрячу, вас никто не найдет… Если они пришли арестовывать вас в вашем доме, то ко мне они не придут.
— О, — с ужасом воскликнула она, — к вам?.. Мы едем к вам?
— Вы с ума сошли! — ответил он. — Можно подумать, вы забыли, о чем мы с вами условились. Я не любовник ваш, красавица моя, и не хочу им быть.
— Значит, вы предлагаете мне тюрьму?
— Если вы предпочитаете больницу, то вы свободны в своем выборе.
— Ну, — испуганно сказала она, — я отдаюсь в ваши руки. Делайте со мной что хотите.
Калиостро отвез ее на улицу Нёв-Сен-Жиль, в дом, где, как мы видели, он принимал Филиппа де Таверне.
Здесь он устроил ее далеко от прислуги и чьих-либо взоров, в маленьком помещении на третьем этаже.
— Нужно, чтобы вы были более счастливой, чем будете здесь.
— Счастливой! Разве это возможно? — со стесненным сердцем спросила она. — Быть счастливой без свободы, без прогулки! Здесь так все уныло. Даже сада нет. Я умру здесь от тоски.
И она бросила кругом рассеянный взгляд, полный отчаяния.
— Вы правы, — сказал он, — я не хочу, чтобы вы терпели в чем-нибудь лишения… Вам здесь будет плохо, и к тому же мои люди в конце концов увидят вас и будут стеснять.
— Или продадут меня, — добавила она.
— Что касается этого, то не бойтесь… Моя прислуга продает только то, что я у нее покупаю, милое дитя мое. Но чтобы вы полностью обрели желанный покой, я постараюсь найти вам другое помещение.
Олива́, по-видимому, немного утешилась этим обещаниям. К тому же обстановка новой квартиры понравилась ей. Она была удобна, здесь были занимательные книги.
— Я вовсе не хочу уморить вас, милое дитя, — сказал Олива́ ее покровитель, уходя. — Если вы пожелаете видеть меня, позвоните, и я явлюсь сейчас же, если буду у себя, или тотчас же по возвращении, если меня не будет дома.
Он поцеловал ей руку и собрался выйти.
— Ах, — воскликнула она, — главное, доставьте мне скорее известия о Босире!
— Это прежде всего, — ответил граф и запер ее в комнате.
«Поселить ее в доме на улице Сен-Клод будет святотатством, — сказал он себе в раздумье, спускаясь с лестницы. — Но надо, чтобы ее никто не видел, а там ее никто не увидит. Если же, наоборот, мне будет необходимо, чтобы одно лицо увидело ее, то оно может увидеть ее только в этом доме на улице Сен-Клод. Принесем еще и эту жертву. Потушим последнюю искру факела, ярко горевшего в былые дни».
Граф надел широкий плащ, взял в секретере ключи, выбрал из них несколько, на которые взглянул растроганно, и вышел из своего дома, направляясь один пешком по улице Сен-Луи-дю-Маре.
XXIII
ПУСТЫННЫЙ ДОМ
Господин де Калиостро в одиночестве дошел до старинного дома на улице Сен-Клод, который, вероятно, не совсем забыт нашими читателями. Когда он остановился перед его воротами, уже стемнело и на бульваре виднелось всего несколько прохожих.
Цокот лошадиных копыт на улице Сен-Луи, громкий стук старых железных петель захлопнувшегося окна — вот и все звуки, раздававшиеся в этом мирном квартале в тот час, о котором мы говорим.
Собака лаяла, или, скорее, выла, в тесном дворике монастыря, и порыв прохладного ветра доносил до улицы Сен-Клод заунывный бой часов на церкви святого Павла, отбивавших три четверти.
Было без четверти девять.
Граф, как мы сказали, подошел к воротам дома, вынул из-под плаща толстый ключ и вставил его в замочную скважину, разминая скопившийся в ней за многие годы сор, нанесенный ветром.
Сухая соломинка, занесенная в стрельчатое отверстие скважины; маленькое семечко, летевшее на юг, чтобы превратиться в желтый левкой или мальву, и заточенное однажды в это темное вместилище; осколок камня, долетевший с соседней стройки; мошкара, в течение десяти лет размещавшаяся в этом железном приюте и в конце концов заполнившая своими тельцами его глубину, — все это скрипело и перемалывалось в пыль под давлением ключа.
Когда ключ завершил свое движение в замке, оставалось только открыть ворота.
Но время сделало свое дело. Дерево разбухло, ржавчина въелась в петли. Во всех промежутках между плитами выросла трава, и ее влажные испарения покрыли зеленью низ ворот; щели повсюду были словно проконопачены какой-то замазкой, наподобие той, из которой ласточки строят гнезда, и мощные заросли древесных грибов, этих наземных кораллов, скрывали доски под своей многолетней плотью.
Калиостро почувствовал, что ворота не уступают. Он надавил на них сначала кулаком, потом всей рукой, наконец, плечом, и проломил эту баррикаду, которая поддалась с недовольным треском.
Когда ворота раскрылись, перед взором Калиостро предстал печальный двор, заросший мхом, как заброшенное кладбище.
Он закрыл за собой ворота, и его шаги отпечатались на упрямом густом пырее, захватившем поверхность самих плит.
Никто не видел, как он вошел сюда, и никто не видел его за этими высокими стенами. Он мог остановиться на минуту и понемногу вернуться в свою прошлую жизнь, как он вернулся в этот дом.
Его жизнь была теперь пуста и безотрадна, а дом разрушен и необитаем.
Крыльцо, имевшее прежде двенадцать ступенек, сохранило в целости только три из них.
Остальные, подрытые работой дождевых вод, корней постенниц и захватчиков-маков, вначале расшатались, а затем откатились далеко от своих опор. Падая, плиты раскололись, а трава покрыла их обломки и гордо, точно знамена опустошения, распустила над ними свои султаны.
Калиостро взошел на крыльцо, качавшееся у него под ногами, и с помощью второго ключа проник в огромную переднюю.
Там только решился он зажечь фонарь, который предусмотрительно захватил с собой; но когда он, соблюдая все предосторожности, зажег свечу, зловещее дыхание дома сразу потушило ее. Веяние смерти мощно боролось против жизни: тьма убивала свет.
Калиостро снова зажег фонарь и продолжал свой путь.
В столовой поставцы почти потеряли свою первоначальную форму и едва удерживались на скользких плитах пола. Все двери в доме были открыты, давая возможность мыслям и взору свободно охватывать зловещую вереницу комнат, куда они уже впустили смерть.
Граф почувствовал, как по телу его пробежала дрожь: в конце гостиной, там, где некогда начиналась лестница, послышался какой-то шум.
Этот шум, прежде говоривший о присутствии дорогого для него существа, пробуждал во всех чувствах хозяина этого дома жизнь, надежду, счастье. Этот шум, ничего не означавший теперь, напоминал ему обо всем, что было в прошлом.
Калиостро, нахмурив брови, сдерживая дыхание, с похолодевшими руками, направился к статуе Гарпократа, около которой находилась пружина потайной двери — таинственного, неуловимого звена, соединяющего два дома: один — видимый для всех, другой — тайный.
Пружина действовала без труда, хотя источенная червями деревянная обшивка, поворачиваясь, дрожала. И едва граф поставил ногу на потайную лестницу, как снова послышался тот же странный шум. Калиостро вытянул вперед руку с фонарем, желая понять причину, и увидел большого ужа, медленно ползшего вниз по лестнице, хлеща хвостом по гулким ступеням.
Рептилия спокойно устремила на Калиостро свой черный глаз, затем спокойно скользнула в ближайшую дыру обшивки и исчезла.
Без сомнения, то был дух опустевшего дома.
Граф пошел дальше.
Всюду в этом подъеме вслед за ним шло воспоминание, или, вернее, шла тень минувшего; и всякий раз как свет обрисовывал на стене движущийся силуэт, граф вздрагивал, и ему казалось, что это не его тень, а кто-то посторонний, вставший из гроба, тоже намерен посетить это таинственное жилище.
Так, погруженный в раздумье, он дошел до чугунной доски камина, который служил проходом из оружейной комнаты Бальзамо в благовонное убежище Лоренцы Феличиани.
Стены были голы, комнаты пусты. Все так же зиял очаг, где покоилась огромная груда пепла, среди которого мерцало несколько крошечных золотых и серебряных слитков.
Этот тонкий пепел, белый и душистый, был тем, что осталось от обстановки Лоренцы — обстановки, которую Бальзамо сжег до последней частицы. То были шкафы с черепаховой отделкой, клавесин и ларец из розового дерева; дивная кровать, испещренная украшениями из севрского фарфора, от которого осталась слюдистая пыль, похожая на мельчайший мраморный порошок; то были чеканные и резные металлические украшения, расплавившиеся на сильном огне закрытой печи; то были занавески и обои из шелковой парчи; то были шкатулки из алоэ и сандалового дерева, чей резкий запах, вылетавший из труб во время пожара, наполнил благоуханием всю ту часть Парижа, над которой проносился дым, так что в течение двух дней прохожие поднимали головы, чтобы вдохнуть эти необычные ароматы, смешавшиеся с нашим парижским воздухом, и приказчик с Рынка или гризетка из квартала Сент-Оноре жили опьяненные этими неистовыми и пламенными атомами, которые бриз разносит по склонам Ливана и долинам Сирии.
Эти ароматы, говорим мы, еще хранила покинутая и холодная комната. Калиостро нагнулся, взял щепотку пепла и долго, с какой-то дикой страстью вдыхал его.
— Если бы я мог, — прошептал он, — так же впитать то, что осталось от души, когда-то общавшейся с тем, что стало этой золой!
Затем он окинул взором железные решетки, унылый двор соседнего дома и осмотрел с лестницы разрушительные следы пожара, уничтожившего верхний этаж этого потайного помещения.
Зловещее и прекрасное зрелище! Комната Альтотаса исчезла: от стены осталось только семь или восемь зубцов, которые во время пожара лизали огненные, всепожирающие языки, оставляя свой черный след.
Для всякого, кому даже не была известна грустная история Бальзамо и Лоренцы, невозможно было не пожалеть об этом разрушении. Все в этом доме дышало павшим величием, минувшим блеском, потерянным счастьем.

Калиостро между тем погрузился в свои думы. Этот человек сошел с высот своей философии, чтобы на миг возродить в себе ту частицу мягкой человечности, что зовется сердечными чувствами, чуждыми рассудочности.
Но, вызвав из уединения сладостные тени и отдав дань Небу, он решил на этом покончить счеты с человеческой слабостью. Вдруг взор его остановился на каком-то предмете, блеснувшем среди всего этого горестного разгрома.
Он нагнулся и увидел в щели паркета наполовину погребенную в пыли маленькую серебряную стрелку, которая, казалось, только что выпала из волос женщины.
Это была одна из тех итальянских шпилек, которыми тогдашние дамы любили закалывать локоны прически, становившейся слишком тяжелой от пудры.
Философ, ученый, пророк, презиравший человечество и хотевший, чтобы само Небо считалось с ним; человек, сумевший побороть столько душевных мук в себе и исторгший столько капель крови из сердец других, — Калиостро, атеист, шарлатан, насмешливый скептик, поднял эту шпильку, поднес ее к губам и, уверенный, что никто не может видеть его, позволил слезе появиться на глазах.
— Лоренца! — прошептал он.
И больше ничего. В этом человеке было что-то демоническое.
Он искал борьбы, и в ней было для него счастье.
Пылко поцеловав эту священную реликвию, он открыл окно, просунул руку через решетку и бросил хрупкий кусочек металла за ограду соседнего монастыря — на ветки, в воздух, в пыль, неведомо куда.
Он хотел этим наказать себя за то, что дал волю сердцу.
«Прощай! — сказал он крохотному предмету, терявшемуся, может быть, навсегда. — Прощай воспоминание, посланное мне для того, чтобы растрогать меня и, несомненно, ослабить мои силы. Отныне я буду думать только о земном.
Да, этот дом будет осквернен. Что я говорю? Он уже осквернен! Я открыл эти двери, внес свет в эти стены, увидел внутренность гробницы, разрыл пепел смерти.
Поэтому дом осквернен! Пусть же он будет осквернен до конца и для какой-нибудь благой цели!
Другая женщина пройдет по этому двору, ступит ногой на лестницу, быть может, станет петь под этими сводами, где еще звучит последний вздох Лоренцы!
Пусть будет так. Но все эти святотатства совершатся ради одной цели — послужить моему делу. Если Бог здесь теряет, то Сатана только выигрывает».
Он поставил фонарь на лестницу.
— Эта лестничная клетка будет снесена, — сказал он. — Точно так же и все это внутреннее помещение. Тайна рассеется, дом останется скрытым убежищем, но перестанет быть святилищем.
Он наскоро набросал на листке записной книжки несколько слов:
«Господину Ленуару, моему архитектору.
Расчистить двор и вестибюли; поправить каретные сараи и конюшни; сломать внутренний павильон; снизить дом до трех этажей. Срок: неделя».
— Теперь, — сказал он, — посмотрим, хорошо ли видно отсюда окно милейшей графини.
И он подошел к окну на третьем этаже.
Отсюда глаз охватывал все фасады на противоположной стороне улицы Сен-Клод, возвышающиеся над воротами.
Напротив, не дальше как в шестидесяти футах, виднелось жилище Жанны де Ламотт.
— Это неизбежно: обе женщины увидят друг друга, — сказал Калиостро. — Прекрасно.
Он взял фонарь и спустился с лестницы.
Через час с небольшим он вернулся к себе и послал план работ архитектору.
Остается сказать, что на следующий день дом наполнился пятьюдесятью рабочими, молотки, пилы и кирки застучали повсюду; трава, сложенная в большую кучу, дымилась в углу двора; вечером, возвращаясь домой, прохожий, верный привычке к ежедневным наблюдениям, увидел, что большая крыса висит во дворе, повешенная за лапку под кружалом, а вокруг нее собрались каменщики и подручные, потешающиеся над седыми усами и почтенной полнотой своей жертвы.
Эта молчаливая обитательница дома сначала была заживо замурована в своей норе упавшей каменной плитой. Когда же плита была поднята лебедкой, то полумертвую крысу вытащили за хвост и отдали на потеху молодым овернцам — подручным каменщиков. От стыда или от удушья, но крыса тут же закончила свое существование.
А прохожий произнес над ней следующее надгробное слово:
— Вот кто был счастлив в течение десятилетия!
Sic transit gloria mundi[10]Так проходит мирская слава (лат.). .
Дом через неделю был восстановлен так, как приказал Калиостро архитектору.
XXIV
ЖАННА В РОЛИ ПОКРОВИТЕЛЬНИЦЫ
Кардинал де Роган получил через два дня после посещения Бёмера записку следующего содержания:
«Его высокопреосвященство господин кардинал де Роган, без сомнения, знает, где он будет ужинать сегодня вечером».
— От прелестной графини, — сказал он, понюхав листок. — Я поеду к ней.
Вот для чего г-жа де Ламотт попросила об этой встрече.
Из пяти лакеев, нанятых к ней на службу его высокопреосвященством, она выделила одного — черноволосого, кареглазого и, судя по цвету лица, сангвиника с изрядной примесью желчи. По мнению наблюдательницы, налицо были все признаки активной, смышленой и упорной натуры.
Она позвала его к себе и в какие-нибудь четверть часа вытянула из его послушания и его проницательности все, что хотела.
Этот человек проследил за кардиналом и донес Жанне, что видел, как его высокопреосвященство дважды за два дня ездил к господам Бёмеру и Боссанжу.
Теперь Жанна знала достаточно. Такой человек, как г-н де Роган, не станет торговаться; такие ловкие купцы, как Бёмер, не упустят покупателя. Ожерелье, должно быть, уже продано.
Продано Бёмером. Куплено г-ном де Роганом! А тот ни звуком не обмолвился о том своей поверенной, своей любовнице!
Это было серьезным знаком. Жанна наморщила лоб, закусила свои тонкие губы и написала кардиналу уже известную записку.
Господин де Роган приехал вечером. Но перед этим он отправил корзинку с токайским вином и разными гастрономическими редкостями, точно ехал на ужин к Гимар или к мадемуазель Данжевиль.
Эта деталь не ускользнула от Жанны, как и ничто не ускользало от нее; она нарочно не велела подавать к столу ничего из присланного кардиналом. Оставшись с ним наедине, она начала разговор в довольно нежном тоне.
— По правде говоря, меня очень огорчает одно, монсеньер, — сказала она.
— О, что именно, графиня? — спросил г-н де Роган с выражением подчеркнутой досады, которое не всегда служит признаком досады действительной.
— Вот в чем причина моей досады, монсеньер: я вижу… нет, речь не о том, что вы больше не любите меня, вы меня никогда не любили…
— Графиня, что вы говорите?!
— Не оправдывайтесь, монсеньер, это было бы потерянным временем.
— Для меня, — любезно подсказал кардинал.
— Нет, для меня, — резко возразила г-жа де Ламотт. — Да к тому же…
— О графиня… — начал кардинал.
— Не приходите в отчаяние, монсеньер: мне это совершенно безразлично.
— Люблю я вас или нет?
— Да.
— А почему же вам это безразлично?
— Да потому, что я вас не люблю.
— Знаете, графиня, то, что я имею честь слышать от вас, не очень любезно.
— Действительно, надо сознаться, что мы начинаем разговор не с нежностей. Это факт — признаем его.
— Какой факт?
— Что я вас никогда не любила, монсеньер, как и вы меня.
— О, что касается меня, то вы не должны говорить этого! — воскликнул принц почти искренним тоном. — Я к вам питал большую привязанность, графиня. Не мерьте меня той же меркой, как себя.
— Послушайте, монсеньер, будем уважать друг друга настолько, чтобы говорить правду.
— А в чем заключается эта правда?
— В том, что между нами есть связь, которая гораздо прочнее любви.
— Какая же именно?
— Выгода.
— Выгода?! Фи, графиня!
— Монсеньер, я вам скажу то же, что крестьянин-нормандец говорил своему сыну о виселице: «Если ты сам чувствуешь к ней отвращение, не отбивай охоту в других». Фи! Выгода! Как вы скоры на суждение, монсеньер.
— Ну, хорошо, послушайте, графиня: предположим, что мы оба имеем какой-нибудь расчет. Каким же образом я могу служить вашим интересам, а вы моим?
— Сначала и прежде всего, монсеньер, мне хочется упрекнуть вас.
— Упрекните, графиня.
— Вы выказали по отношению ко мне недостаток доверия и, следовательно, уважения.
— Я? Когда же это, помилуйте?
— Когда? Вы не станете отрицать, что, ловко выпытав от меня все подробности, которые мне смертельно хотелось сообщить вам…
— Подробности? О чем же, графиня?
— О желании некой высокопоставленной особы иметь одну вещь, и теперь у вас есть возможность удовлетворить это желание, не сказав мне ни слова.
— Выпытать подробности, угадать желание какой-то дамы иметь какую-то вещь, удовлетворить его! Графиня, вы положительно загадка, сфинкс. Я видел голову и шею женщины, но не видел еще львиных когтей. Вы, по-видимому, собираетесь теперь показать мне их? Ну что же, пусть будет так.
— О нет, я вам не буду ничего показывать, монсеньер, так как вы вовсе не желаете что-либо видеть. Я просто разъясняю вам загадку: подробности касались всего того, что произошло в Версале, некая дама — это королева, а удовлетворение ее желания — это покупка вами вчера у Бёмера и Боссанжа знаменитого ожерелья.
— Графиня! — прошептал кардинал, вздрогнув и побледнев.
Жанна устремила на него свой самый светлый взгляд.
— Ну что вы смотрите на меня так испуганно? Разве вы вчера не покончили дело с ювелирами на Школьной набережной?
Роганы не лгут, даже женщинам. Кардинал промолчал.
И так как он готов был покраснеть, а обиду такого рода мужчина никогда не прощает женщине, вызвавшей ее, то Жанна поспешила взять кардинала за руку.
— Простите меня, принц, — сказала она, — мне хотелось поскорее высказать вам, что вы ошибались на мой счет. Вы меня считали глупой и злой?
— О графиня…
— Но…
— Ни слова больше; позвольте теперь говорить мне. Может быть, мне удастся убедить вас, так как я сейчас ясно вижу, с кем имею дело. Я ожидал встретить в вас красивую, умную женщину, очаровательную любовницу, но нашел нечто лучшее. Слушайте.
Жанна подвинулась к кардиналу, оставив свою руку в его руке.
— Вы согласились быть моей, не любя меня. Вы сами сказали мне это, — продолжал г-н де Роган.
— И снова повторяю вам то же самое, — сказала г-жа де Ламотт.
— Значит, у вас была цель?
— Конечно.
— Какая же, графиня?
— Нужно, чтобы я объяснила вам ее?
— Нет, я сам близок к истине. Вы хотите устроить мое счастье. Не ясно ли, что, в случае удачи, моей первой заботой было бы устроить и вашу будущность? Верно это? Я не ошибся?
— Вы не ошиблись, монсеньер, и моя цель именно такова. Поверьте только одному, и без лишних слов: идя к этой цели, мне не пришлось испытать антипатии или отвращения — путь был приятен.
— Вы очаровательная женщина, графиня, и говорить с вами о делах — одно удовольствие. Итак, я сказал, что вы угадали верно. Вы знаете, что мое сердце полно почтительной привязанности к кому-то?
— Я это увидела на балу в Опере, принц.
— Эта привязанность всегда будет неразделенной. О, Боже меня сохрани думать иначе!
— Э, — возразила графиня, — женщина не всегда остается королевой, и, насколько я знаю, вы вполне стоите кардинала Мазарини.
— Это был к тому же очень красивый мужчина, — со смехом сказал г-н де Роган.
— И прекрасный первый министр, — добавила совершенно спокойно Жанна.
— Графиня, в вашем присутствии можно даже не думать, а не то что высказывать свою мысль вслух. Вы думаете и говорите за своих друзей. Да, я хочу стать первым министром. Все меня побуждает к этому: и мое происхождение, и знание дел, и известное расположение ко мне иностранных дворов, и значительная симпатия французского народа.
— Словом, все, — сказала Жанна, — кроме одного.
— Кроме отвращения одного лица, хотите вы сказать.
— Да, королевы; и это отвращение — главное препятствие. Все, что любит королева, в конце концов полюбит и король; что она ненавидит, того и он не терпит.
— А меня она ненавидит?
— О!
— Будем откровенны. Я не думаю, чтобы нам следовало останавливаться на прекрасном пути — говорить только правду.
— Ну, монсеньер, королева вас не любит.
— В таком случае я погиб! Никакое ожерелье тут не поможет.
— Вот в этом вы можете ошибиться, принц.
— Ожерелье куплено!
— По крайней мере, королева увидит, что если она не любит вас, то вы любите ее.
— О, графиня!
— Мы же условились, монсеньер, называть вещи своими именами.
— Хорошо. Так вы говорите, что не отчаиваетесь видеть меня когда-нибудь первым министром?
— Я уверена, что вы им будете.
— Я никогда не простил бы себе, если бы не спросил вас в свою очередь, к чему стремится ваше честолюбие.
— Я вам скажу это, принц, когда вы будете в состоянии удовлетворить его.
— Разумно. Я жду вас в тот же день.
— Благодарю. А теперь давайте ужинать.
Кардинал взял руку Жанны и пожал ее так, как графиня того горячо желала несколько дней тому назад. Но теперь было слишком поздно.
Она отняла руку.
— Что это значит, графиня?
— Давайте ужинать, монсеньер, я уже сказала вам.
— Но я уже не голоден.
— Тогда будем беседовать.
— Но мне больше нечего сказать вам.
— Ну так расстанемся.
— Вот что вы называете нашим союзом? Вы меня прогоняете?
— Чтобы действительно принадлежать друг другу, монсеньер, — ответила Жанна, — будем вполне принадлежать сами себе.
— Вы правы, графиня; простите, что я опять ошибся в вас. О, клянусь вам, что это будет в последний раз.
Он почтительно поцеловал ее руку и не заметил насмешливой, дьявольской улыбки графини, когда говорил, что в последний раз ошибся в ней.
Жанна встала и проводила принца до передней. Там он остановился и тихо спросил ее:
— А продолжение, графиня?
— Оно будет очень простое.
— Что мне делать?
— Ничего. Подождите меня.
— А вы поедете?
— В Версаль.
— Когда?
— Завтра.
— И я получу ответ?
— Немедленно.
— Ну, моя покровительница, я полагаюсь на вас.
— Предоставьте мне действовать.
Она вернулась с этими словами к себе и легла в постель, рассеянно устремив взор на красавца Эндимиона, ожидавшего Диану.
«Положительно, свобода лучше», — прошептала она.
XXV
ЖАННА В РОЛИ ПОКРОВИТЕЛЬСТВУЕМОЙ
Владея такой тайной и имея перед собой такое блестящее будущее, Жанна чувствовала в себе достаточно силы, чтобы перевернуть мир.
Она дала себе двухнедельный срок, чтобы затем полностью вкусить сочную гроздь, которую фортуна повесила у нее над головой.
Являться ко двору уже не в качестве просительницы или бедной нищенки, которую приютила г-жа де Буленвилье, а носительницей имени Валуа, обладательницей ста тысяч ливров годового дохода, женой герцога и пэра; называться фавориткой королевы; в эти полные интриг и бурь дни править государством, управляя королем через Марию Антуанетту, — вот вкратце панорама, развертывавшаяся перед неиссякаемым воображением графини де Ламотт.
Едва наступил день, она помчалась в Версаль. У нее не было приглашения на аудиенцию; но она стала так верить в свою удачу, что уже не сомневалась: этикет смирится перед ее желанием.
И она не ошиблась.
Все дворцовые служители, столь сильно озабоченные, как бы лучше угодить вкусам повелителей, уже заметили удовольствие, которое доставляло Марии Антуанетте общество красивой графини.
Этого было достаточно, чтобы по приезде ее один умный и желавший выдвинуться привратник встал на пути королевы, возвращающейся из часовни, и как бы невзначай громко сказал дежурному придворному:
— Сударь, как быть с госпожой графиней де Ламотт-Валуа, у которой нет приглашения на аудиенцию?
Королева тихо разговаривала с г-жой де Ламбаль. Имя Жанны, столь ловко названное этим человеком, заставило ее прервать разговор.
Она обернулась.
— Кто-то сказал, что здесь госпожа де Ламотт-Валуа? — спросила она.
— Кажется, что так, ваше величество, — ответил придворный.
— Кто это сказал?
— Вот этот привратник, ваше величество.
Привратник почтительно поклонился.
— Я приму госпожу де Ламотт-Валуа, — сказала королева, продолжая свой путь. — Вы ее проведете в ванную, — прибавила она, удаляясь.
Королева ушла.
Жанна, которой привратник откровенно рассказал, как он просто все устроил, тотчас же взялась за кошелек, но привратник остановил ее с улыбкой:
— Госпожа графиня, пусть этот долг останется за вами; вы вскоре сможете возвратить мне его с большими процентами.
Жанна спрятала деньги в карман.
— Вы правы, друг мой, благодарю вас.
«Почему бы, — сказала она себе, — не оказать покровительство привратнику, который оказал покровительство мне? Ведь делаю я то же самое для кардинала».
Вскоре Жанна оказалась перед лицом своей королевы.
Мария Антуанетта была серьезна и, по-видимому, не в особенно хорошем расположении духа, может быть, именно потому, что оказывала графине слишком большую милость этим непредвиденным приемом.
«Вот в чем суть, — подумала подруга г-на де Рогана, — королева воображает, что я буду опять просить милостыню. Но не успею я сказать двух десятков слов, как она или перестанет хмуриться, или велит меня прогнать».
— Сударыня, — начала королева, — я еще не имела случая поговорить с королем.
— О ваше величество, вы и так были слишком добры ко мне, и я не жду ничего более. Я пришла…
— Зачем? — спросила королева, умевшая улавливать переход от одной мысли к другой. — Вы не просили у меня аудиенции. Вероятно, что-то срочное… для вас?
— Срочное… да, но дело не во мне.
— Значит, во мне. Ну, говорите, графиня.
И королева повела Жанну в ванную, где ждали ее прислужницы.
Графиня, видя, сколь велико окружение королевы, не начинала разговор.
Сев в ванну, королева отпустила своих приближенных.
— Ваше величество, — сказала Жанна, — видите ли, я в большом затруднении.
— Почему? Ведь я только что вам сказала…
— Вашему величеству известно — я, кажется, говорила вам, — с какой сердечной добротой помогает мне господин кардинал де Роган?
Королева нахмурила брови.
— Я ничего не знаю об этом, — сказала она.
— Я полагала…
— Все равно… Говорите.
— Ваше величество, третьего дня его высокопреосвященство оказал мне честь своим посещением.
— А!
— Он приехал по поводу одного благотворительного учреждения, председательницей которого состою я.
— Прекрасно, графиня, прекрасно. Я также дам… на ваше доброе дело.
— Ваше величество ошибаетесь. Я имела уже счастье сказать вам, что ничего не прошу. Господин кардинал, по своему обыкновению, стал говорить мне про доброту королевы, про ее неисчерпаемое милосердие.
— И просил, чтобы я покровительствовала тем, кому он покровительствует?
— Прежде всего, ваше величество.
— Я это сделаю, но не для господина кардинала, а для несчастных, которым я всегда готова помочь, от чьего бы имени они ко мне ни явились. Однако скажите его высокопреосвященству, что я очень стеснена в средствах.
— Я это сказала ему, ваше величество, и в этом-то, увы, кроется причина затруднения, о котором я докладывала вашему величеству.
— А!
— Я рассказала господину кардиналу, каким пламенным состраданием наполняется сердце вашего величества при известии о чьем-либо несчастье, с каким великодушием королева постоянно опустошает свой кошелек, сама не имея избытка в деньгах.
— Прекрасно, прекрасно…
— «Вот вам пример, монсеньер, — сказала я ему. — Ее величество становится рабой своей собственной доброты. Она жертвует собой ради бедных. Добро, которое она творит, обращается для нее лично во зло». При этом я указала на себя.
— Как так, графиня? — спросила королева, внимательно слушавшая Жанну то ли потому, что та сумела угадать слабую струнку королевы, то ли потому, что Мария Антуанетта, с ее недюжинным умом, поняла: под этим длинным предисловием и под этими подготовительными фразами таится нечто весьма для нее интересное.
— Я ему сообщила, ваше величество, что несколько дней назад вы дали мне значительную денежную сумму и что подобные вещи вашему величеству случалось делать, по крайней мере, тысячу раз за эти два года. Будь королева менее отзывчива, менее великодушна, сказала я, у нее было бы в шкатулке два миллиона, и тогда никакие соображения не могли бы помешать ей приобрести то великолепное ожерелье, от которого она отказалась так благородно, так мужественно, но — позвольте мне заметить, ваше величество, — так неоправданно.
Королева покраснела и снова взглянула на Жанну. Несомненно, эти заключительные слова были самыми важными из сказанного. Не было ли в них какой-нибудь западни? Или это была только лесть? Бесспорно, если вопрос ставится так, то уже в нем самом неизбежна опасность для любой королевы. Но ее величество прочла на лице Жанны столько кротости, чистосердечной доброжелательности, безупречной правдивости, что невозможно было заподозрить вероломство или лесть.
А так как душа самой королевы была полна истинного великодушия — в великодушии всегда заключается сила, а с силой же нераздельна и истина, — то Мария Антуанетта не могла удержать вздоха.
— Да, — сказала она, — ожерелье великолепно, то есть было великолепно, хочу сказать, и я очень рада, что женщина с изящным вкусом хвалит меня за то, что я отказалась от этой драгоценности.
— Если бы вы знали, ваше величество, — воскликнула Жанна, найдя случай вставить нужное слово, — как, в конце концов, нетрудно разгадать чувства людей, когда сам чувствуешь расположение к тем, кого эти люди любят!
— Что вы хотите сказать?
— Я хочу сказать, ваше величество, что, узнав о вашем самоотверженном отказе от ожерелья, господин де Роган — я это видела — побледнел.
— Побледнел?
— Его глаза сразу наполнились слезами. Не знаю, ваше величество, действительно ли господин де Роган такой красивый мужчина и образованный вельможа, как говорят многие, но я знаю, что выражение его лица, озаренного в тот миг сиянием его души, залитого слезами, что были вызваны вашим великодушным бескорыстием, — да что я говорю! — вашей высокой самоотверженностью, никогда не изгладится в моей памяти.
Королева на минуту остановила воду, бежавшую из клюва золоченого лебедя, украшавшего ее мраморную ванну.
— Ну, графиня, — сказала она, — если господин де Роган показался вам таким прекрасным и совершенным, как вы только что сказали, то я советую не показывать ему этого. Это светский прелат, пастырь, который вербует овец в свое стадо столько же для себя самого, сколько во имя Господа.
— О ваше величество…
— А что? Разве я клевещу на него? Разве не такова его репутация? И не гордится ли он ею? Разве вы не видели, как, совершая богослужение в торжественные дни, он поднимает над головой свои руки, действительно очень красивые, чтобы они казались еще белее? Не видели, как набожные дамы устремляют на его руки со сверкающим пастырским перстнем свои глаза, которые горят при этом еще ярче, чем бриллиант на руке кардинала?
Жанна опустила голову.
— Победы кардинала, — запальчиво продолжала королева, — многочисленны. Некоторые вызвали настоящий скандал. Это прелат-волокита, какие были во времена Фронды. Пусть его хвалит за это кто хочет, но я этого не сделаю.
— Ну, ваше величество, — заметила Жанна, ободренная этим дружеским тоном, а также состоянием чисто физического удовольствия, в котором находилась ее собеседница, — не знаю, думал ли господин кардинал о своих прихожанках в то время, как с таким пылом говорил мне о добродетелях королевы; знаю только, что его красивые руки, вместо того чтобы быть поднятыми над головой, были прижаты к сердцу.
Королева покачала головой и принужденно рассмеялась.
«Вот так-так! — подумала Жанна. — Не обстоит ли дело лучше, чем мы полагали? Не станет ли досада нашей помощницей? Тогда нам будет совсем просто».
Королева снова приняла равнодушный, полный достоинства вид.
— Продолжайте, — сказала она.
— Ваше величество своей холодностью сковывает мне язык; эта скромность, заставляющая вас отвергать даже похвалу…
— Кардинала? О да!
— Но почему же ваше величество?
— Потому, что она мне кажется подозрительной, графиня.
— Я не смею, — ответила Жанна тоном глубочайшего почтения, — защищать того, кто имел несчастье впасть в немилость вашего величества. Кардинал, ни на минуту не сомневаюсь, очень виновен, если не угодил королеве.
— Господин де Роган не угодил мне? Он меня просто оскорбил. Но я королева и христианка и, следовательно, вдвойне обязана забывать обиды.
Королева произнесла эти слова с величественной добротой, свойственной ей одной.
Жанна промолчала.
— Вы ничего больше не имеете сказать мне?
— Я могу разбудить подозрение ее величества, подвергнуться немилости и неодобрению, если выскажу мнение, несогласное с вашим.
— Ваше мнение о кардинале противоположно моему?
— Совершенно, ваше величество.
— Вы не говорили бы этого, если бы однажды узнали, как враждебно поступал по отношению ко мне принц Луи.
— Я знаю только то, что видела — его поступки, которыми он желал служить вашему величеству.
— Любезности?
Жанна молча поклонилась.
— Учтивости, пожелания, комплименты? — продолжала королева.
Жанна промолчала.
— Вы чувствуете горячую дружбу к господину де Рогану, графиня; я не буду больше нападать на него при вас.
— Ваше величество, — сказала Жанна, — мне было приятнее видеть ваш гнев, чем эти насмешки. Чувства господина кардинала к вашему величеству полны такой почтительности, что он, я уверена, умер бы, если бы видел, что королева смеется над ним.
— О, значит, он очень переменился.
— Ваше величество недавно соблаговолили сами сказать мне, что уже десять лет господин де Роган страстно…
— Я шутила, графиня, — строго перебила ее королева.
Жанна, принужденная замолчать, решилась, как показалось королеве, отказаться от дальнейшей борьбы. Но Мария Антуанетта глубоко ошибалась. Для таких женщин, как Жанна, с натурой тигра и змеи, момент, когда они отступают, лишь прелюдия к нападению: сосредоточенная неподвижность предшествует броску.
— Вы говорили об этих бриллиантах, — неосторожно сказала королева. — Сознайтесь, что вы думали о них?
— Днем и ночью, ваше величество, — подхватила Жанна с радостью полководца, который замечает роковую ошибку неприятеля. — Они так прекрасны и так пойдут вашему величеству!
— Как?
— Да, да, вашему величеству.
— Но они проданы!
— Да, проданы.
— Португальскому послу?
Жанна слегка покачала головой.
— Нет? — радостно спросила королева.
— Нет, ваше величество.
— Кому же?
— Их купил господин де Роган.
Королева сделала порывистое движение, но тотчас же сдержалась.
— А! — сказала она.
— Ваше величество, — сказала Жанна с жаром и увлечением, — поступок господина де Рогана прекрасен. Это великодушный, добросердечный порыв. Кардиналом руководило благородное побуждение. Душа, подобная вашей, не может не сочувствовать всему доброму и великодушному. Как только господин де Роган узнал — от меня, сознаюсь, — о временном финансовом затруднении вашего величества, он воскликнул: «Как! Французская королева отказывает себе в том, от чего не решилась бы отказаться жена генерального откупщика? Как! Королеве, чего доброго, в один прекрасный день придется увидеть госпожу Неккер, украшенную этими бриллиантами?»
Господин де Роган еще не знал, что их хочет купить португальский посол. Я сообщила ему это. Его негодование еще больше возросло.
«Дело, — сказал он, — уже не в том, чтобы доставить удовольствие королеве: дело в королевском достоинстве… Я знаю дух тщеславия и суетности, царящий при иностранных дворах; там станут смеяться над французской королевой, у которой уже нет денег для удовлетворения вполне законного желания. И я потерплю, чтобы насмехались над французской королевой? Нет, никогда!»
И он поспешно вышел. Час спустя я узнала, что он купил бриллианты.
— За полтора миллиона ливров?
— За миллион шестьсот тысяч ливров.
— Зачем же он купил их?
— Им руководила та мысль, что если они не могут принадлежать вашему величеству, то, по крайней мере, никогда не будут собственностью никакой другой женщины.
— И вы уверены, что господин де Роган купил их не для того, чтобы преподнести их какой-нибудь своей любовнице?
— Я уверена, что он скорее уничтожит эти камни, но не допустит, чтобы они блестели на шее какой-нибудь другой женщины, кроме королевы.
Мария Антуанетта задумалась, и на ее благородном лице можно было безошибочно прочесть все, что творилось в ее душе.
— То, что сделал господин де Роган, прекрасно, — сказала она. — Это благородный поступок, доказывающий деликатность и преданность.
Жанна жадно впитывала эти слова.
— Поблагодарите от меня господина де Рогана, — продолжала королева.
— О да, ваше величество!
— И прибавьте, что я получила доказательство его дружбы, и я, как порядочная женщина, — если выразиться словами Екатерины, — принимаю его дружбу и считаю себя обязанной отплатить за нее. Поэтому я принимаю не подарок господина де Рогана…
— А что же?
— Его ссуду. Господин де Роган, чтобы доставить мне Удовольствие, пожелал ссудить меня деньгами или служить
мне своим кредитом. Я рассчитаюсь с ним. Бёмер, кажется, спрашивал известную сумму наличными?
— Да, ваше величество.
— Сколько? Двести тысяч ливров?
— Двести пятьдесят тысяч ливров.
— Это содержание, которое дает мне король, за три месяца. Мне сегодня прислали его — правда, раньше срока, я знаю, — но так или иначе прислали.
Королева поспешно позвала своих прислужниц, которые одели ее, окутав предварительно нагретым тонким батистом.
Оставшись в своей комнате наедине с Жанной, королева сказала ей:
— Откройте этот ящик, прошу вас.
— Первый?
— Нет, второй. Видите там бумажник?
— Вот он, ваше величество.
— В нем двести пятьдесят тысяч ливров. Пересчитайте их.
Жанна повиновалась.
— Отвезите их кардиналу. Еще раз поблагодарите его. Скажите ему, что я постараюсь устроить свои дела так, чтобы платить ему по столько же каждый месяц. Мы также определим размер процентов. Таким образом, у меня будет ожерелье, которое мне так нравилось, и если мне придется стеснить себя немного, чтобы расплатиться за него, то, по крайней мере, я не стесню короля.
Она с минуту молчала, точно что-то обдумывая.
— И кроме того, я получу ту выгоду, что буду знать, — продолжала она, — что у меня есть деликатный друг, оказавший мне услугу.
Она снова остановилась.
— И приятельница, которая угадала мое желание, — закончила она, подавая Жанне руку, которую та бросилась целовать.
Затем, когда Жанна собралась уходить, королева после некоторого колебания сказала совсем тихо, как будто боялась собственных слов:
— Графиня, передайте господину де Рогану, что он будет желанным гостем в Версале и что я хочу выразить ему свою благодарность.
Жанна выбежала из апартаментов королевы не просто опьянев, но обезумев от восторга и удовлетворенной гордости.
Она прижала к груди банковские билеты, как гриф — похищенную добычу.
XXVI
БУМАЖНИК КОРОЛЕВЫ
Никто не ощутил размеров — в прямом и переносном смысле — богатства, которое увозила Жанна де Валуа, в большей степени, чем лошади, увозившие ее из Версаля.
Никогда кони, стремящиеся завоевать приз, не летели таким карьером, как эти бедные клячи, запряженные в наемную карету.
Подгоняемый графиней, кучер заставил их поверить, что они легконогие скакуны с полей Элиды и должны выиграть своему возничему два таланта золотом, а себе — тройную порцию очищенного ячменя.
Кардинал еще не выходил из дому, когда к нему явилась г-жа де Ламотт — прямо в его особняк, полный прислуги.
Она велела доложить о себе более церемонно, чем сделала это у королевы.
— Вы из Версаля? — спросил он.
— Да, монсеньер.
Он посмотрел на нее, но она была непроницаема.
Она видела его трепет, его грусть и тревогу, но ничто не возбудило в ней жалости.
— Ну что? — спросил он.
— Скажите, чего вы желали, монсеньер? Говорите прямо, чтобы мне не пришлось слишком упрекать себя.
— А, графиня, вы это говорите с таким выражением!..
— Наводящим грусть, неправда ли?
— Убийственным.
— Вы хотели, чтобы я видела королеву?
— Да.
— Я ее видела… Вы хотели, чтобы она мне позволила говорить о вас, хотя много раз выказывала свое неприязненное отношение к вам и свое неудовольствие при одном вашем имени?
— Я вижу, что если хотел этого прежде, то нужно отказаться теперь от надежды видеть исполнение этого желания.
— Нет, королева говорила со мной о вас.
— Вернее, вы были так добры, что говорили обо мне?
— Да, это правда.
— И ее величество слушала вас?
— Это требует пояснений.
— Не говорите мне больше ни слова, графиня, я вижу, с каким отвращением ее величество…
— Нет, я не заметила особенного отвращения… Я осмелилась заговорить об ожерелье.
— Вы сказали, что у меня явилась мысль…
— Купить его для нее? Да.
— Графиня, это чудесно! И она выслушала вас?
— Конечно.
— Вы ей сказали, что я ей предлагаю эти бриллианты?
— Она наотрез отказалась от них.
— Я погиб.
— Отказалась принять в подарок. Но в долг…
— В долг? Вы сумели облечь мое предложение в такую деликатную форму?
— Настолько деликатную, что она согласилась.
— Я даю взаймы королеве, я? Возможно ли это, графиня?
— Это лучше подарка, не правда ли?
— В тысячу раз лучше.
— Я так и думала. Во всяком случае, ее величество выразила согласие.
Кардинал встал и снова сел. Наконец он подошел к Жанне и взял ее руки в свои.
— Не обманывайте меня, — сказал он, — подумайте, ведь вы одним словом можете сделать меня самым несчастным из людей.
— С глубокими чувствами не играют, монсеньер, это возможно только, если человек смешон… А человек вашего положения и ваших достоинств никогда не может возбуждать смех.
— Действительно. Значит, то, что вы мне говорите…
— Истинная правда.
— У меня есть с королевой общая тайна?
— Тайна… и губительная.
Кардинал вновь подбежал к Жанне и нежно пожал ей руку.
— Мне нравится это рукопожатие, — сказала графиня, — точно мужчина пожимает руку мужчине.
— Нет, это счастливый человек — своему ангелу-хранителю.
— Монсеньер, не надо ничего преувеличивать.
— О, моя радость, моя признательность… никогда…
— Вы преувеличиваете и то и другое. Ссудить королеве полтора миллиона — ведь вам это-то и нужно было?
Кардинал вздрогнул.
— Бекингем попросил бы чего-нибудь другого у Анны Австрийской, монсеньер, когда рассыпал жемчуг по паркету королевской комнаты.
— Того, что имел Бекингем, графиня, я не смею желать даже во сне.
— Вы объяснитесь по этому поводу с самой королевой, монсеньер, так как она приказала мне передать вам, что с удовольствием увидит вас в Версале.
Это было неосторожно: она не успела еще договорить, как кардинал побледнел, словно юноша от первого любовного поцелуя.
Неверными движениями, точно пьяный, он нащупал стоявшее рядом кресло и сел в него.
«А! — подумала Жанна. — Дело еще серьезнее, чем я думала. Я мечтала о герцогском и пэрском достоинстве, о ста тысячах ливров дохода. Теперь я могу рассчитывать на княжеский титул и на полмиллиона дохода. Ведь господином де Роганом руководит не честолюбие и не алчность, а истинная любовь!»
Кардинал быстро пришел в себя. Радость — болезнь непродолжительная… Будучи человеком трезвого ума, он решил заговорить с Жанной о делах, чтобы заставить ее забыть, что он только что говорил о любви.
Она не мешала ему.
— Друг мой, — начал он, сжимая Жанну в объятиях, — что же намерена делать королева с тем займом, который вы ей предложили сделать?
— Вы спрашиваете меня об этом потому, что у королевы, как принято думать, нет денег?
— Вот именно.
— Она собирается расплачиваться с вами так же, как расплачивалась бы с Бёмером, с той только разницей, что, купи она ожерелье у Бёмера, это знал бы весь Париж, а такое было бы немыслимо после ее известной фразы о корабле; если короля это заставит только надуться, то вся Франция скорчит гримасу. Королева хочет иметь бриллианты и платить за них по частям. Вы даете ей возможность сделать это; вы для нее умеющий хранить тайну кассир, обладающий личной кредитоспособностью, которая может оказаться полезной в случае финансового затруднения у нее, — вот и все. Она счастлива и будет платить вам — не требуйте большего.
— Она будет платить! Каким образом?
— Королева, как женщина, все понимает и знает, что у вас есть долги, монсеньер; кроме того, она горда. Это ведь не какая-нибудь подруга сердца, которая охотно принимает подарки… Когда я ей сказала, что вы ссудили ей двести пятьдесят тысяч ливров…
— Вы это сказали ей?
— Почему бы нет?
— Потому что вы сразу ставите ее перед невозможностью вести со мной дело.
— Напротив, этим я дала ей способ и основание согласиться на ваши условия. «Ничего даром» — вот девиз королевы.
— Господи!
Жанна спокойно опустила руку в карман и вынула бумажник ее величества.
— Что это? — спросил кардинал.
— Бумажник, где лежат банковские билеты на двести пятьдесят тысяч ливров, которые королева с глубокой признательностью поручила передать вам.
— Неужели?
— Вся сумма здесь полностью. Я сама пересчитала деньги.
— Как будто в этом дело!
— Что вы так разглядываете?
— Я смотрю на этот бумажник, которого раньше не видел у вас.
— Он вам нравится? А между тем он ни красив, ни роскошен.
— Он мне нравится, сам не знаю почему.
— У вас хороший вкус.
— Вы смеетесь надо мной? Почему это вы заговорили про мой хороший вкус?
— Он несомненно хорош, ибо совпадает со вкусом королевы.
— Этот бумажник…
— Принадлежал королеве, монсеньер…
— Вы им очень дорожите?
— Очень.
Господин де Роган вздохнул.
— Это понятно, — сказал он.
— Но если это вам доставит удовольствие… — произнесла графиня с улыбкой, которая свела бы с ума святого.
— Вы не можете в этом сомневаться, графиня; но я не хочу лишать вас его.
— Возьмите.
— Графиня! — в порыве радости воскликнул кардинал. — Вы самая драгоценная подруга, самая умная, самая…
— Да, да…
— И мы соединены…
— На жизнь и на смерть! Так всегда говорят. Нет, у меня только одна заслуга.
— Какая же?
— Что я занялась вашими делами довольно счастливо и с большим рвением.
— Если бы у вас было только это счастье, друг мой, я мог бы сказать, что в рвении почти не уступаю вам, так как, пока вы, дорогая моя, ездили в Версаль, я также трудился для вас.
Жанна с удивлением взглянула на кардинала.
— О, пустяк, — продолжал он. — Ко мне приходил один человек, мой банкир, и предложил мне акции какого-то предприятия не то по осушению, не то по использованию болот.
— А!
— Дело прибыльное; я согласился.
— И хорошо сделали.
— О, вы сейчас увидите, что всегда занимаете первое место в моих мыслях.
— Хотя бы и второе — и то больше, чем я заслуживаю. Так в чем же дело?
— Мой банкир дал мне двести акций, четвертую часть их — последние акции — я взял на ваше имя.
— О, монсеньер!
— Погодите. Через два часа он вернулся. Одно то, что удалось разместить эти акции за один день, повысило их курс вдвое и принесло мне сто тысяч ливров.
— Прекрасная спекуляция!
— Вот ваша часть, дорогая графиня, то есть я хотел сказать — дорогой друг.
И из пачки билетов в двести пятьдесят тысяч ливров, данных королевой, он положил в руку Жанны двадцать пять тысяч ливров.
— Хорошо, монсеньер, услуга за услугу. Мне больше всего льстит то, что вы подумали обо мне.
— Так будет всегда, — ответил кардинал, целуя ей руку.
— И с моей стороны также, — ответила Жанна. — До скорого свидания в Версале, монсеньер.
И Жанна уехала, передав кардиналу лист бумаги, на котором были перечислены сроки уплаты, назначенные королевой; первый взнос, через месяц, был в пятьсот тысяч ливров.
XXVII
ГЛАВА, ГДЕ МЫ СНОВА ВСТРЕЧАЕМСЯ С ДОКТОРОМ ЛУИ
Быть может, наши читатели, вспомнив, в каком затруднительном положении мы оставили г-на де Шарни, будут нам признательны, если мы снова приведем их в ту переднюю малых версальских апартаментов, куда храбрый моряк, никогда не страшившийся ни людей, ни стихий, убежал, боясь лишиться чувств в присутствии трех дам: королевы, Андре и г-жи де Ламотт.
Дойдя до середины передней, г-н де Шарни действительно почувствовал себя не в силах идти дальше и, шатаясь, протянул руки вперед. Находившиеся поблизости заметили, что силы оставляют его, и поспешили к нему на помощь.
Молодой офицер лишился чувств и пришел в себя только через несколько минут, не подозревая, что королева видела его и, может быть, подбежала бы к нему под первым впечатлением тревоги, если бы ее не остановила Андре, сделавшая это скорее из пылкой ревности, чем из холодного чувства приличия.
Но какими бы чувствами ни был продиктован совет Андре, королева хорошо сделала, что последовала ему, так как, едва закрылась дверь за ней, она услышала возглас придверника:
— Король!
Действительно, король шел из своих апартаментов на террасу, чтобы до начала совета осмотреть свои охотничьи экипажи, которые за последнее время, на его взгляд, пришли в довольно плохое состояние.
Войдя в переднюю, король, которого сопровождали несколько офицеров свиты, остановился: он увидел человека, привалившегося к подоконнику; его неподвижная поза вызвала большую тревогу у хлопотавших около него двух гвардейцев: они не привыкли видеть офицера падающим в обморок без всякой причины.
Поэтому они, поддерживая г-на де Шарни, наперебой спрашивали его:
— Сударь! Сударь! Что с вами?
Но Шарни не в силах был ответить им: голос ему изменил.
Король, поняв по этому молчанию всю опасность положения, ускорил шаги.
— Да, — сказал он, — да, кто-то потерял сознание.
При звуке голоса короля оба гвардейца обернулись и непроизвольно выпустили из рук г-на де Шарни, который, собрав остаток сил, сумел не упасть, а опуститься со стоном на пол.
— О господа, что же вы делаете? — воскликнул король.
Все бросились к упавшему. Он совершенно потерял сознание; его осторожно подняли и уложили в кресло.
— Да это господин де Шарни! — воскликнул король, узнав молодого офицера.
— Господин де Шарни? — повторили присутствующие.
— Да, племянник господина де Сюфрена.
Эти слова произвели магическое действие. Голову Шарни сейчас же смочили ароматной водой, словно он оказался в обществе, по крайней мере, десятка дам. Послали за доктором, который поспешно стал осматривать больного.
Король, интересовавшийся всеми науками и отзывчивый ко всем страданиям, не пожелал уйти и остался при осмотре.
Первым делом доктора было расстегнуть верхнее платье и раскрыть рубашку молодого человека, чтобы тому было свободнее дышать; но при этом он нашел то, чего не искал.
— Рана! — сказал король с удвоенным интересом и подошел ближе, чтобы все видеть собственными глазами.
— Да, да, — прошептал г-н де Шарни, стараясь приподняться и обводя собравшихся слабеющим взглядом, — это открылась старая рана. Это ничего… ничего…
И его рука незаметно сжала пальцы доктора.
Врач понимает и должен понимать все с полуслова. Но этот доктор был не придворным медиком, а хирургом для низших служащих в Версале. Он решил придать себе вес.
— О, старая! Это вам угодно так говорить, сударь; края слишком еще свежие, да и кровь совсем алая: эту рану нанесли вам сегодня.
Шарни, которому это возражение вернуло силы, сказал, встав на ноги:
— Полагаю, не вы станете объяснять мне, когда я получил эту рану; я вам сказал и повторяю, что это старая рана.
В эту минуту он увидел и узнал короля. Он тотчас же застегнул свое платье, точно ему было совестно, что такое высокое лицо было свидетелем его слабости.
— Король! — воскликнул он.
— Да, господин де Шарни, это я, и благословляю Небо, что пришел вовремя и могу принести вам какое-то облегчение.
— Это царапина, ваше величество, — прошептал Шарни, — старая рана, больше ничего.
— Старая или новая, — ответил Людовик XVI, — но эта рана дала мне случай увидеть вашу кровь, драгоценную кровь храброго дворянина.
— Которому два часа в постели вернут здоровье, — прибавил Шарни.
Он хотел снова встать, но слишком понадеялся на свои силы. В голове у него шумело, ноги дрожали, и он в изнеможении снова упал в кресло.
— Ну, — сказал король, — он серьезно болен.
— О да, — сказал тонко и дипломатично врач, уже предчувствовавший, как подаст петицию о повышении по службе, — однако его можно спасти.
Король был порядочным человеком; он догадался, что Шарни что-то скрывает. Но чужая тайна была свята для него. Всякий другой стал бы расспрашивать врача, который горел желанием раскрыть ее, но Людовик XVI предпочел оставить тайну ее хозяину.
— Я не хочу, — сказал он, — чтобы господин де Шарни подвергался какому-либо риску, возвратившись к себе. Его будут лечить в Версале. Пусть поскорее позовут его дядю, господина де Сюфрена, и, поблагодарив за труды этого господина, — король указал на услужливого врача, — пошлют за моим хирургом доктором Луи. Он, кажется, живет где-то недалеко.
Один из офицеров побежал исполнять приказания короля. Два других подняли Шарни и перенесли его в конец галереи, в комнату дежурного офицера гвардии.
Эта сцена заняла меньше времени, чем разговор королевы с г-ном де Кроном.
Распорядились послать за г-ном де Сюфреном, и доктор Луи был приглашен к больному вместо врача, вызванного в первую минуту.
Мы уже знакомы с доктором Луи, этим честным, мудрым и скромным человеком, обладающим не столько блестящим, сколько полезным умом, с этим мужественным тружеником на обширном поле науки, где одинаково почетно и собирать урожай, и прокладывать борозду.
За спиной хирурга, уже склонившегося над своим пациентом, в волнении стоял бальи де Сюфрен, которого только что известили о случившемся эстафетой.
Прославленный моряк решительно ничего не понимал в этом обмороке, в этом внезапном недомогании.
— Странно, странно, — говорил он, взяв руку Шарни и взглянув на его тусклые глаза. — Знаете, доктор, ведь мой племянник никогда не бывал болен.
— Это ничего не доказывает, — ответил доктор.
— Значит, версальский воздух очень душен, так как повторяю вам, я в течение десяти лет видел Оливье на море всегда бодрым и, как мачта, крепким.
— Дело в его ране, — сказал один из присутствующих офицеров.
— Как в его ране?! — воскликнул адмирал. — Оливье никогда еще не был ранен.
— Простите, — ответил офицер, указывая на окровавленную повязку, — я полагал…
Господин де Сюфрен увидел кровь.
— Ну, хорошо, хорошо, — сказал с добродушной резкостью доктор, пощупав пульс больного, — стоит ли спорить о причинах болезни? Он болен, это несомненно, и постараемся вылечить его, если возможно.
Бальи любил определенные ответы, и хирурги его кораблей не были приучены смягчать свои слова.
— Это очень опасно, доктор? — спросил он с большим волнением, чем желал показать.
— Не больше, чем царапина бритвой на подбородке.
— Хорошо. Поблагодарите короля, господа. Оливье, я еще приду навестить тебя.
Оливье слегка шевельнул веками и пальцами, точно желая поблагодарить дядю за то, что он уходит, и доктора, заставившего его решиться оставить племянника.
Затем, чувствуя себя счастливым оттого, что он может вытянуться на кровати и что он находится на попечении умного и сердечного человека, Оливье притворился спящим.
Доктор отослал всех.
Оливье вскоре действительно заснул, поблагодарив Небо за то, что с ним случилось, или скорее за то, что с ним не случилось ничего дурного в таких серьезных обстоятельствах.
Им овладела лихорадка — эта чудесная восстановительница человеческой природы, вечная сила, которая цветет в крови и, служа предначертаниям Бога, то есть природы человека, пускает ростки здоровья в больном или уносит живого в расцвете здоровья.
В пылу лихорадки, перебрав в уме сцену с Филиппом, сцену с королевой, сцену с королем, Оливье попал в страшный круг, в ту сеть, которую неистовая кровь набрасывает на разум… Он бредил.
Три часа спустя его голос можно было слышать из галереи, где прогуливались несколько гвардейцев; заметив это, доктор позвал своего лакея и приказал ему поднять Оливье. Больной жалобно застонал.
— Окутай ему голову одеялом.
— А как я это сделаю? — спросил лакей. — Он очень тяжел и страшно отбивается. Я попрошу кого-нибудь из господ гвардейцев помочь мне.
— Ты мокрая курица, если боишься больного, — сказал старый доктор.
— Сударь…
— Если ты находишь его слишком тяжелым, значит, ты не так силен, как я думал. Поэтому я тебя отошлю назад в Овернь.
Угроза оказала действие. Шарни, который кричал, ругался, бредил и сильно размахивал руками, был поднят овернцем, как перышко, на глазах гвардейцев.
Последние обступили доктора Луи с вопросами.
— Господа, — крикнул доктор как можно громче, чтобы заглушить голос Шарни, — вы понимаете, что я не стану каждый час делать целое льё, чтобы навещать больного, которого доверил мне король. Ваша галерея находится на краю света.
— Куда же вы его несете, доктор?
— К себе, потому что я очень ленив. У меня здесь, как вам известно, две комнаты; я уложу его в одной из них, и послезавтра, если никто не будет беспокоить его, я дам вам отчет о его здоровье.
— Но, доктор, сказал офицер, — уверяю вас, что тут больному будет очень хорошо. Мы все любим господина де Сюфрена и…
— Да, да, я знаю, что значит уход за больным товарищем. Раненому хочется пить, и по доброте душевной ему дают напиться, а он от этого умирает. К черту уход господ гвардейцев! Мне уже сгубили таким образом десяток больных.
Доктор продолжал свою речь, хотя бреда Оливье никто уже не мог слышать.
«Конечно, — размышлял про себя достойный врач, — это я хорошо сделал и прекрасно придумал. Но вся беда в том, что король пожелает, наверное, видеть больного… А если он его увидит… то и услышит… Дьявол! Колебаться нельзя. Расскажу обо всем королеве; она даст мне совет».
Добрый доктор, приняв такое решение с быстротой человека, привыкшего дорожить каждой секундой, освежил лицо раненого холодной водой и уложил его на кровати так, чтобы тот не убил себя, если будет шевелиться или падать. Затем запер висячим замком ставни, два раза повернул ключ в двери и, спрятав его в карман, отправился к королеве, предварительно послушав снаружи и убедившись, что из коридора нельзя разобрать криков Оливье.
Само собой разумеется, что для большей безопасности овернец был заперт вместе с больным.
У самой двери доктор встретил г-жу де Мизери, которую послала королева, чтобы справиться о раненом.
Она непременно хотела войти.
— Пойдемте, пойдемте, сударыня, — сказал ей доктор. — Я ухожу.
— Но, доктор, королева ждет!
— Я сам иду к королеве, сударыня.
— Королева желает…
— Королева узнает все, что ей угодно знать; уверяю вас в этом. Пойдемте…
И он зашагал так скоро, что первой даме покоев Марии Антуанетты пришлось почти бежать, чтобы не отстать от него.
XXVIII
AEGRI SOMNIA[11]Сновидения страдальца (лат.).
Королева ждала ответа от г-жи де Мизери, но не ждала доктора.
Тот вошел со своей обычной непринужденностью.
— Ваше величество, — громко сказал он, — состояние больного, которым интересуются король и ваше величество, настолько хорошо, насколько это возможно при лихорадке.
Королева хорошо знала доктора и все его отвращение к людям, которые, по его словам, кричат во весь голос, когда испытывают только полустрадание.
Она вообразила себе, что г-н де Шарни несколько преувеличил свое нездоровье. Сильные женщины склонны считать слабыми сильных мужчин.
— Раненый, — сказала она, — решил пошутить.
— Гм-гм! — отвечал доктор.
— Царапина…
— Нет, нет, ваше величество; но все равно, царапина или рана, все, что я знаю, — это то, что у него лихорадка.
— Бедный юноша! И лихорадка сильная?
— Ужасная.
— А! — с испугом произнесла королева. — Я не думала, что так… сразу… может появиться лихорадка…
Доктор в течение нескольких секунд смотрел на королеву.
— Лихорадки бывают разные, — ответил он.
— Послушайте, милый Луи, вы меня пугаете. Вы обыкновенно так любите всех успокаивать, а сегодня с вами происходит что-то особенное.
— Ничего особенного.
— Как бы не так! Вы все оглядываетесь по сторонам, смотрите то направо, то налево, у вас вид человека, который хочет сообщить мне важную тайну.
— Очень может быть.
— Вот как! Тайну по поводу лихорадки!
— Да.
— Лихорадки господина де Шарни?
— Да.
— И вы меня желали видеть из-за этой тайны?
— Да.
— В таком случае скорее к делу. Вы знаете, что я любопытна. Начинайте же с начала.
— Как Жан Малыш, не правда ли?
— Да, милейший доктор.
— Ну, ваше величество…
— Ну, я жду, доктор.
— Нет, я жду.
— Чего?
— Чтобы вы меня спрашивали, ваше величество. Я сам не сумею рассказать, но когда меня спрашивают, я отвечаю на вопросы как по книге.
— Так вот, я вас спрашиваю, в каком положении лихорадка господина де Шарни?
— Нет, это нехорошее начало. Спросите меня прежде, каким образом господин де Шарни оказался у меня, в одной из моих двух маленьких комнат, вместо того, чтобы лежать в галерее или в комнате караульного офицера.
— Хорошо, я спрашиваю это. Действительно, это странно.
— Так вот, ваше величество: я не хотел оставить господина де Шарни в галерее или в караульной комнате, потому что мой больной страдает не совсем обыкновенной формой лихорадки.
Королева сделала удивленный жест.
— Что вы хотите сказать?
— Господин де Шарни в лихорадке все время бредит.
— О! — сказала королева, сжимая руки.
— А когда он бредит, — продолжал доктор, подходя ближе к королеве, — то бедный молодой человек говорит о многих крайне деликатных вещах, не совсем удобных для того, чтобы их слышали господа королевские гвардейцы или вообще кто-либо.
— Доктор!
— Не надо было меня спрашивать, если вы не хотели, чтобы я отвечал.
— Продолжайте, милый доктор.
И королева взяла за руку доброго ученого.
— Этот молодой человек, вероятно, атеист и кощунствует в бреду?
— Нет, нет. Наоборот, он очень религиозен.
— Может быть, он сильно возбужден чем-нибудь?
— Возбужден, вот именно.
Королева придала своему лицу подходящее к случаю выражение надменного хладнокровия, всегда сопровождающее действия королей, привыкших к почтению окружающих и к собственному самоуважению; эта способность необходима великим мира сего, чтобы властвовать над другими и не выдавать своих чувств.
— Мне рекомендовали господина де Шарни, — сказала она, — он племянник господина де Сюфрена, нашего героя. Он оказал мне некоторые услуги; я хочу относиться к нему как родственница или друг. Скажите же мне всю правду; я должна и хочу ее слышать.
— Но я-то не могу ее сказать вам, — ответил Луи, — и если вашему величеству непременно хотелось бы узнать ее, то я знаю только одно средство: ваше величество должны сами услышать бред больного. Таким образом, если у молодого человека вырвутся какие-нибудь неосторожные слова, то королева не будет сердиться ни на нескромность того, кто позволит проникнуть в эту тайну, ни на опрометчивость того, кто ее скроет.
— Ваша дружба меня трогает, — воскликнула королева, — и я теперь верю, что господин де Шарни говорит в бреду странные вещи!..
— Которые ваше величество непременно должны услышать, чтобы судить о них, — ответил добрый доктор и бережно взял трепетную руку королевы.
— Но прежде всего будьте осторожны! — воскликнула королева. — Я здесь не могу сделать ни шагу без того, чтобы за мной не шел какой-нибудь добровольный шпион.
— Сегодня вечером за вами буду следовать только я. Нужно пройти по моему коридору, который с обеих сторон кончается дверями. Я запру ту, через которую мы войдем, и никого рядом с нами не будет, ваше величество.
— Я доверяюсь вам, милый доктор, — сказала королева.
И, опершись на руку Луи, она выскользнула из своих апартаментов, вся дрожа от любопытства.
Доктор сдержал обещание. Ни одному королю, идущему в бой или на рекогносцировку в охваченном войной городе, ни одной королеве, сопровождаемой на какое-нибудь рискованное приключение, не указывал дорогу с более привычным видом капитан гвардии или высокопоставленный придворный.
Доктор запер первую дверь и, подойдя к своей двери, приложил ухо.
— Так ваш больной здесь? — спросила королева.
— Нет, ваше величество, он во второй комнате. О, будь он здесь, вы бы его слышали уже с другого конца коридора. Послушайте пока у этой двери.
Из-за нее действительно доносилось неясное жалобное бормотание.
— Он стонет, он страдает, доктор.
— Нет, нет, он вовсе не стонет. Он просто разговаривает. Подождите, я сейчас открою эту дверь.
— Но я не хочу входить к нему! — воскликнула королева, отпрянув назад.
— Я вам не предлагаю этого, — сказал доктор. — Я предлагаю вам только войти в первую комнату, и оттуда, не боясь увидеть или быть увиденной, вы услышите все, что будет говориться в комнате раненого.
— Вся эта таинственность, эти приготовления пугают меня, — прошептала королева.
— Что же будет, когда вы услышите его! — ответил доктор.
И он один вошел к Шарни.
Раненый был одет в форменные панталоны, на которых доктор заботливо расстегнул пряжки; его сильные и стройные ноги были обтянуты шелковыми чулками с узором из перламутрово-опаловых спиралей; руки в измятых батистовых рукавах вытянулись и застыли, как у трупа. Он пытался приподнять с подушки тяжелую, точно налитую свинцом голову.
По лбу его струился горячий бисерный пот, приклеивая к вискам развившиеся локоны.
Поверженный, раздавленный, неподвижный, он стал уже только мыслью, только чувством, только отражением; тело его жило лишь в том огоньке, что все время сам собой вспыхивал, колеблясь, в его мозгу, как огарок в алебастровом ночнике.
Мы не напрасно выбрали такое сравнение, потому что этот огонек — единственное, что оставалось в сознании Шарни, — фантастически и мягко освещал отдельные подробности, которые память сама по себе не могла бы превратить в долгие поэмы.
Он рассказывал сам себе о встрече и поездке в фиакре из Парижа в Версаль с немецкой дамой.
— Немка! Немка! — повторял он.
— Да, немка. Мы это знаем, — сказал доктор. — Дорога в Версаль.
— Французская королева! — внезапно воскликнул больной.
— Э! — сказал Луи, заглянув в комнату, где находилась королева. — Вот так. Что вы об этом скажете, ваше величество?
— Вот что ужасно, — шептал Шарни, — любить ангела, женщину, любить безумно, быть готовым отдать за нее жизнь и, подойдя к ней, увидеть перед собой только королеву, одетую в бархат и золото, увидеть металл, ткань, но не сердце!
— О! — с принужденным смехом произнес доктор.
Шарни не обратил внимания на реплику.
— Я любил бы замужнюю женщину, — продолжал он. — Я любил бы ее безумной любовью, которая заставляет забыть обо всем. И я сказал бы этой женщине: «Нам остается несколько несравненных дней счастья на земле, и стоят ли этих дней те, что ждут нас вне любви? Приди же, моя возлюбленная! Пока ты будешь любить меня, а я тебя, — это будет жизнью избранных душ. А потом — что ж! — потом наступит смерть, то есть та жизнь, которую мы живем в эту минуту. Поэтому насладимся же дарами любви…»
— Рассуждение построено недурно для лихорадочного мозга, — пробормотал доктор, — хотя мораль довольно свободная.
— Но ее дети!.. — вдруг с неистовством воскликнул Шарни. — Она не оставит своих двух детей.
— Вот оно, препятствие, hic nodus[12]В этом вся трудность (буквально: «здесь узел»; лат.). , — отирая пот со лба Шарни, заметил Луи, в тоне которого прозвучала благородная смесь насмешки и сострадания.
— О, — продолжал, оставаясь ко всему безразличным, молодой человек, — дети! Да ведь их можно унести под полой дорожного плаща!..
Ну, Шарни, если ты уносишь мать, которая в твоих объятиях будет не тяжелее перышка малиновки, если ты поднимаешь ее и вместо тяжести чувствуешь только любовный трепет, то почему бы тебе не унести и детей Марии… Ах!
Он пронзительно закричал.
— Дети короля — это такая тяжесть, что от их потери почувствуется пустота в половине вселенной.
Луи оставил своего больного и подошел к королеве.
Она стояла похолодевшая и дрожащая.
— Вы были правы, — сказала она. — Это больше чем бред. Если бы кто-нибудь услышал этого молодого человека, то это грозило бы ему серьезной опасностью.
— Слушайте, слушайте! — продолжал доктор.
— Нет, больше ни слова.
— Он успокаивается. Смотрите, он молится.
Действительно, Шарни приподнялся и сложил руки, устремив широко раскрытые, удивленные глаза куда-то в смутную, призрачную бесконечность.
— Мария, — говорил он звенящим, тихим голосом, — Мария, я почувствовал, что вы меня любите. О, я не стану больше говорить об этом. Ваша нога, Мария, прикоснулась к моей в фиакре, и я почувствовал, что умираю. Ваша рука легла в мою… Нет, нет, я не скажу об этом: это тайна моей жизни. Как бы ни текла кровь из моей раны, Мария, тайна не выйдет вместе с ней наружу.
Мой враг омочил свою шпагу в моей крови, но если он отчасти и отгадал мою тайну, то не отгадал вашей. Не бойтесь же ничего, Мария; не говорите мне даже, что вы меня любите; это бесполезно. Если вы краснеете, вам незачем что-то мне говорить.
— О-о! Это уже не только лихорадка — воскликнул доктор. — Смотрите, как он спокоен. Это…
— Это?.. — с беспокойством спросила королева.
— Это экстаз, ваше величество: экстаз похож на воспоминание… Это и в самом деле память души, вспоминающей о Небе.
— Я достаточно наслушалась, — прошептала королева, в смущении собираясь бежать.
Доктор резко остановил ее.
— Ваше величество, — сказал он, — что вы намерены сделать?
— Ничего, доктор; ничего.
— Но если король захочет увидеть его?
— Ах, да… О, это было бы большим несчастьем.
— Что же я скажу?
— Доктор, у меня нет ни мыслей, ни слов; это ужасное зрелище сокрушило меня.
— И вы от этого исступленного заразились лихорадкой, — тихо сказал доктор, — ваш пульс делает не меньше ста ударов.
Королева ничего не ответила, высвободила свою руку и скрылась.
XXIX
ГЛАВА, В КОТОРОЙ НАГЛЯДНО ПОКАЗАНО, ЧТО БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА ТРУДНЕЕ ПОНЯТЬ, ЧЕМ БОЛЕЗНЬ ТЕЛА
Доктор постоял некоторое время в задумчивости, глядя вслед удалявшейся королеве.
— В этом дворце, — прошептал он затем, покачав головой, — есть тайны, которые не входят в область науки. Против одних я вооружаюсь ланцетом и вскрываю вены, чтобы исцелить, против других я вооружаюсь порицанием и проникаю в сердца; но удастся ли мне их вылечить?
Затем, поскольку приступ лихорадки у Шарни миновал, доктор прикрыл его глаза с блуждающим взглядом, освежил ему виски водой и уксусом, окружил его всеми теми заботами, которые превращают жгучий воздух вокруг больного в отрадный рай.
Увидев, что черты лица раненого принимают спокойное выражение, рыдания переходят во вздохи и с губ срываются только неясные звуки вместо неистовых речей, доктор сказал:
— Да, да, тут было не только влечение, но и влияние; этот бред возрастал, как бы идя навстречу визиту, который был нанесен больному. Да, человеческие атомы перемещаются, как оплодотворяющая пыльца в царстве растений; да, у мысли есть незримые пути передачи, между сердцами есть тайные связи.
Вдруг доктор вздрогнул и слегка повернулся к двери, прислушиваясь и одновременно всматриваясь.
— Это еще кто? — прошептал он.
Действительно, в другом конце коридора послышался едва различимый шелест платья.
«Не может быть, чтобы это была королева, — подумал доктор, — она не изменит своего решения, вероятно бесповоротного. Посмотрим, кто это».
Он тихо открыл вторую дверь, также выходившую в коридор, и, осторожно высунув голову, увидел в десяти шагах от себя женщину в длинном, свободно падавшем складками платье, стоявшую неподвижно, точно холодная, неподвижная статуя Отчаяния.
Была ночь; слабый огонек, горевший в коридоре, не мог осветить его от одного конца до другого. Но лунный луч из окна падал на эту фигуру и делал ее видимой до тех пор, пока облако не заслоняло луны.
Доктор осторожно вернулся к себе, перешел к первой двери и поспешно, но бесшумно отворил ее.
Женщина, притаившаяся за ней, вскрикнула, вытянула вперед руки и встретила руки доктора Луи.
— Кто там? — спросил он голосом, в котором было больше сострадания, чем угрозы, так как по неподвижности этой тени он угадал, что она слушает скорее сердцем, чем ухом.
— Я, доктор, я, — ответил ему чей-то кроткий и печальный голос.
Хотя этот голос и был знаком доктору, но вызвал в нем только смутное и отдаленное воспоминание.
— Я, Андре де Таверне, доктор.
— Ах, Боже мой, что случилось? — воскликнул тот. — Она почувствовала себя дурно?
— Она? — воскликнула Андре, — Кто это она?
Доктор понял свою неосторожность.
— Простите, я видел, как недавно по коридору проходила женщина. Может быть, это были вы?
— Ах так, — сказала Андре, — сюда до меня приходила женщина, не так ли?
Андре произнесла эти слова со жгучим любопытством, которое не оставляло никакого сомнения в вызвавшем их чувстве.
— Милое мое дитя, — сказал доктор, — мне кажется, что мы с вами играем в недомолвки. О ком вы мне говорите? Чего вы от меня хотите? Объяснитесь.
— Доктор, — начала Андре таким печальным голосом, что он тронул ее собеседника до глубины сердца, — добрый доктор, вам не удастся обмануть меня, потому что вы привыкли говорить мне только правду… Сознайтесь, что здесь недавно была женщина, сознайтесь, тем более что я ее видела.
— А кто вам сказал, что сюда никто не приходил?
— Да, но женщина, женщина, доктор.
— Несомненно, женщина, если только вы не собираетесь защищать тезис, что женщина остается женщиной лишь до сорокалетнего возраста.
— Той, что приходила, было сорок лет, доктор? — воскликнула Андре, впервые вздохнув с облегчением. — А!..
— Говоря «сорок», я еще сбавляю ей добрых пять-шесть лет; но к друзьям надо относиться любезно, а госпожа де Мизери принадлежит к числу моих друзей, и даже добрых друзей.
— Госпожа де Мизери?
— Само собой разумеется.
— Сюда приходила действительно она?
— А почему, черт возьми, я стал бы скрывать от вас, если сюда приходил кто-нибудь другой?
— О, потому что…
— Положительно, все женщины одинаковы: их невозможно понять. А между тем я думал, что знаю хоть вас, по крайней мере. Но нет! Оказывается, что я вас знаю не лучше, чем других! Это хоть кого может свести с ума.
— Добрый, милый доктор!
— Ну довольно. Перейдем к делу.
Андре с беспокойством взглянула на него.
— Ей стало хуже? — спросил он.
— Кому?
— Да королеве же, черт возьми!
— Королеве?
— Ну да, королеве, к которой звала меня только что приходившая за мной госпожа де Мизери. У королевы снова удушье и сердцебиение. Неприятная болезнь, милая барышня Андре, неизлечимая. Дайте же мне последние сведения о ее положении, если вы пришли от нее, и вернемся к ней.
При этом доктор Луи сделал движение, говорившее о его намерении покинуть место, где он находился.
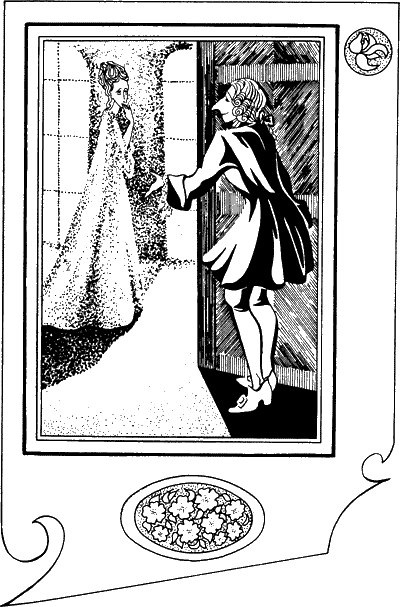
Но Андре, у которой отлегло от сердца, тихо остановила его.
— Нет, милый доктор, — сказала она. — Я пришла сюда не от королевы. Я даже не знала о ее страданиях. Бедная королева! Если бы я знала… Послушайте, доктор, простите меня, я сама не понимаю, что говорю.
— Я это вижу.
— И не только то, что говорю, но и то, что делаю.
— О, я-то знаю, что вы делаете: вы собираетесь упасть в обморок.
Действительно, Андре выпустила руку доктора, ее похолодевшая рука бессильно повисла вдоль тела, она пошатнулась, холодная и бледная как смерть.
Доктор подхватил ее, привел в чувство, постарался ободрить.
Андре сделала над собой страшное усилие. Эта стойкая душа, которую никогда не могло сломить ни физическое, ни нравственное страдание, напрягла свою стальную силу.
— Доктор, — сказала Андре, — вы знаете, что я нервная и что темнота наводит на меня жуткий страх. Я заблудилась в темноте, отсюда мое странное состояние.
— А на кой черт вы лезете в темноту? Кто вас заставляет? Ведь никто вас сюда не посылал, ничто вас не заставляло.
— Я не сказала «ничто», доктор, я сказала «никто».
— Ах-ах! Это тонкости, моя милая больная. Здесь не очень-то удобно ими заниматься. Пойдемте куда-нибудь в другое место, особенно если вы пришли сюда надолго.
— Десять минут, доктор, больше я у вас не прошу.
— Десять минут, договорились; но не стоя. Мои ноги положительно отказываются от такого способа разговаривать. Пойдемте, сядем.
— Где?
— На банкетке в коридоре, если хотите.
— Вы думаете, нас никто не услышит, доктор? — со страхом спросила Андре.
— Никто.
— Даже раненый, что лежит там? — продолжала она тем же тоном, указывая на едва освещенную мягким голубоватым светом комнату, в которую пытался проникнуть ее взгляд.
— Нет, — ответил доктор, — и даже этот бедный малый; если нас и услышит кто-нибудь, то уж, наверно, не он.
Андре стиснула руки.
— О Боже мой! Ему, значит, очень плохо? — спросила она.
— Да, не особенно хорошо. Но поговорим о том, что вас привело сюда… Скорее, дитя мое, скорее! Вы же знаете, что королева ждет меня.
— Но, доктор, — со вздохом произнесла Андре, — ведь мы об этом, кажется, и говорим.
— Как? О господине де Шарни?
— Да, доктор, речь идет о нем, и я пришла узнать, в каком он состоянии.
Доктор ответил ледяным молчанием на эти слова, которые, между тем, должен был ожидать. Он в эту минуту сравнивал поведение Андре и королевы; он видел, что обе женщины исполнены одним и тем же чувством, а по симптомам полагал, что это чувство — страстная любовь.
Андре, которая не знала о визите королевы и не могла прочесть в мыслях доктора всю его грустную благожелательность и милосердную жалость, приняла это молчание за порицание, может быть несколько сурово выраженное; этот укор, хотя и немой, заставил ее принять обычный гордый вид.
— По-моему, вы можете простить мне этот поступок, доктор, — сказала она, — так как господин де Шарни страдает от раны, полученной на дуэли, а нанес эту рану мой брат.
— Ваш брат! — воскликнул доктор Луи. — Господина де Шарни ранил господин Филипп де Таверне?
— Да.
— О! Но я не знал этого обстоятельства.
— Зато теперь, когда вы знаете его, вы понимаете, что я была обязана узнать, в каком положении здоровье господина де Шарни?
— Конечно, дитя мое, — сказал добряк-доктор, радуясь случаю проявить снисходительность. — Я не знал и не мог угадать настоящей причины.
Он сделал на двух последних словах особенное ударение, желая показать Андре, что принимает ее объяснение лишь с большими оговорками.
— Послушайте, доктор, — сказала Андре, положив обе руки на руку своего собеседника и глядя ему прямо в глаза, — отчего вы не высказываете вашу мысль до конца?
— Я уже высказал ее. Зачем бы мне оставлять ее недоговоренной?
— Дуэль между дворянами весьма обычное дело, такие происшествия случаются ежедневно.
— Единственное, что могло бы придать некоторое значение этой дуэли, — это если бы наши молодые люди дрались из-за женщины.
— Из-за женщины, доктор?
— Да. Из-за вас, например.
— Из-за меня! — с глубоким вздохом произнесла Андре. — Нет, доктор, господин де Шарни дрался не из-за меня.
Доктор сделал вид, что удовольствовался этим ответом, но ему захотелось так или иначе получить объяснение вздоху.
— В таком случае я понимаю, — сказал он, — это ваш брат послал вас, чтобы иметь точные известия о здоровье раненого…
— Да, меня послал брат. Да, доктор! — воскликнула Андре.
Теперь доктор взглянул ей в глаза.
«Я все-таки узнаю, что у тебя на сердце, непреклонная душа», — подумал он.
— Я вам сейчас скажу всю правду, — продолжал он громко, — как сказал бы каждому, кто заинтересован в том, чтобы ее знать. Передайте же мои слова вашему брату, и пусть он примет соответствующие меры… Вы понимаете…
— Нет, доктор, я не могу понять, что вы хотите сказать этими словами: «Пусть он примет соответствующие меры».
— Вот в чем дело. Дуэль, даже в настоящее время, не может быть приятна королю. Король не требует соблюдения эдиктов о дуэлях — это правда; но если дуэль получает слишком большую огласку, то его величество ссылает или сажает в тюрьму ее участников.
— Это верно, доктор.
— А когда, на несчастье, дело кончается смертью… О, тогда король неумолим. Так вот, посоветуйте вашему брату скрыться куда-нибудь на некоторое время.
— Доктор, — воскликнула Андре, — значит, господин де Шарни очень плох?
— Послушайте, милая барышня, я вам обещал сказать всю правду. Вот она: вы видите этого бедного юношу, который спит, или, скорее, хрипит, в той комнате?
— Да, доктор, — сказала Андре сдавленным голосом, — и что же?..
— Так вот, если завтра к этому часу он не будет вне опасности, если только что начавшаяся и пожирающая его лихорадка не прекратится, то, повторяю, завтра в этот час господин де Шарни будет покойником.
Андре, чувствуя, что готова громко вскрикнуть, сдавила себе горло и глубоко вонзила ногти в тело, чтобы физической болью немного заглушить муку, раздиравшую ее сердце.
Луи не мог прочесть на ее лице этой мучительной борьбы.
Андре держалась как спартанка.
— Мой брат не станет бежать, — сказала она. — Он дрался с господином де Шарни в честном бою; если он имел несчастье ранить его, то сделал это защищая себя; если он убил, то один Бог будет ему судьей.
«Она пришла не ради себя, — сказал себе доктор. — Значит, ради королевы. Посмотрим, была ли королева настолько легкомысленна?»
— А как смотрит на эту дуэль королева? — спросил он.
— Королева? Не знаю, — ответила Андре. — Что королеве до этого?
— Но ведь, я полагаю, господин де Таверне пользуется ее расположением?
— Что ж, он остался невредим; будем надеяться, что ее величество выступит сама в защиту моего брата, если его будут обвинять.
Луи, видя, что его двойная гипотеза разбита с обеих сторон, признал себя побежденным.
«Я не психолог, — сказал он себе, — я только хирург. Какого черта мне, так хорошо знающему игру мускулов и нервов, соваться в игру женских прихотей и страстей?».
— Мадемуазель, вы узнали то, что вас интересовало. Заставите вы господина де Таверне бежать или нет — это ваше дело. Что касается меня, то мой долг постараться спасти этой ночью раненого; иначе смерть, спокойно делающая свое дело, похитит его у меня через двадцать четыре часа. Прощайте.
И он осторожно, но решительно захлопнул перед ней дверь.
Андре судорожным движением провела рукой по лбу и увидела, что осталась одна, наедине с ужасной действительностью. Ей почудилось, что смерть, о которой только что так холодно говорил доктор, уже опускается над этой комнатой и проходит в белом саване по темному коридору.
Ледяное дыхание зловещего призрака сковало ее члены; она убежала в свою комнату, заперлась на ключ и бросилась на колени перед своей кроватью.
— Господи! — воскликнула она с безумным жаром, проливая потоки жгучих слез, — Господи! Ты не можешь быть несправедливым, ты не можешь быть безрассудным, ты не можешь быть жестоким, Господи! Ты всесилен, ты не позволишь умереть этому молодому человеку, который не делал зла и которого любят на этой земле. Господи! Мы, ничтожные люди, истинно верим лишь в могущество твоих благодеяний, хотя всегда трепещем перед могуществом твоего гнева. Но я, я, умоляющая тебя, — достаточно испытала на этой земле, достаточно страдала, не совершив никакого преступления, и никогда не жаловалась тебе, никогда не сомневалась в тебе. И если сегодня, когда я прошу тебя, когда заклинаю тебя, когда требую, когда хочу, чтобы этот молодой человек остался жив, — если сегодня ты откажешь мне, о Господи, то я скажу, что ты против меня употребил во зло все свои силы, что ты — бог черного гнева, бог неведомого мщения, я скажу… О, я богохульствую, прости меня! Я богохульствую… и ты меня не караешь! Прости, прости! Ты воистину бог милосердия и сострадания.
Андре почувствовала, что взгляд ее гаснет, тело слабеет; она упала навзничь, безжизненная, с разметавшимися волосами, и лежала на паркете словно мертвая.
Когда она пробудилась от ледяного сна, когда к ней вернулись и сознание, и видения, и муки, она с каким-то зловещим выражением прошептала:
— Господи, ты был немилосерден: ты наказал меня тем, что я люблю его! О да, я его люблю; разве этого не достаточно? Неужели теперь ты еще отнимешь его у меня?
XXX
БРЕД
Бог, вне сомнения, услышал молитву Андре. Господин де Шарни не умер от приступа лихорадки.
На следующий день, пока Андре жадно впитывала доносившиеся до нее новости о раненом, сам он благодаря попечениям доброго доктора Луи переходил от смерти к жизни. Воспаление отступило перед жизненной энергией и лекарствами. Начиналось выздоровление.
Как только Шарни мог считаться спасенным, Луи стал заниматься им вполовину меньше: пациент утратил для него прежний интерес. Для врача человек мало что значит, особенно если он выздоравливает или хорошо себя чувствует.
Лишь через неделю, в течение которой Андре совсем успокоилась, Луи, у которого было тяжело на сердце от откровений больного во время приступа, счел за благо приказать перенести Шарни в более отдаленное место; он хотел обмануть бред переменой обстановки.
Однако Шарни при первых же попытках удалить его взбунтовался. Подняв на доктора сверкающие гневом глаза, он заявил, что находится у короля и что никто не имеет права выгонять человека, которому дал приют его величество.
Доктор, не отличавшийся терпением с несговорчивыми больными, просто-напросто позвал четырех лакеев и приказал им унести больного.
Но Шарни вцепился в деревянную раму кровати, сильно ударил одного из лакеев и, совсем как Карл XII в Бендерах, пригрозил тем же остальным.
Доктор Луи попробовал воздействовать уговорами. Шарни сначала рассуждал довольно логично, но, так как лакеи не оставляли его в покое, он так напряг свои силы, что рана открылась и вместе с хлынувшей кровью его стал покидать разум. Начался новый приступ бреда, более сильный, чем первый.
Он стал кричать, что его хотят удалить, чтобы лишить видений, посещавших его во сне, но что это ни к чему не приведет: видения будут всегда улыбаться ему, он любим, его будут навещать наперекор доктору; женщина, любящая его, занимает такое положение, что не боится ничьих запретов.
При этих словах доктор, дрожа, поспешил отослать лакеев и снова принялся за рану, повторив все с самого начала. Решив позаботиться сперва о теле, а потом уже о рассудке, он привел тело в удовлетворительное состояние, но не мог остановить бред, что начинало его пугать, поскольку помутнение разума у больного могло перейти в безумие.
За один день положение настолько ухудшилось, что доктор Луи стал думать о сильнодействующих средствах. Больной губил не только себя, но и королеву; он не говорил, а кричал, не вспоминал, а выдумывал и, что хуже всего, в светлые минуты — а их случалось немало — был безумнее, чем в бреду.
В этом крайне затруднительном положении Луи, который не мог опереться на авторитет короля, поскольку на него ссылался сам больной, решил пойти к королеве и все рассказать ей. Для этого он выбрал момент, когда Шарни спал, устав рассказывать свои сны и призывать свое видение.
Доктор нашел Марию Антуанетту задумчивой и в то же время обрадованной его приходу: она предполагала, что доктор сообщит ей хорошие вести о больном.
Поэтому она очень удивилась, когда на первый же ее вопрос Луи резко ответил, что больному очень плохо.
— Как? — воскликнула королева. — Вчера ему было совсем хорошо.
— Нет, ваше величество, ему было очень плохо.
— Но я посылала Мизери, и вы дали ей о больном утешительные сведения.
— Я ошибался и хотел вас тоже ввести в заблуждение.
— Что это значит? — сильно побледнев, ответила королева. — Если ему плохо, к чему скрывать это от меня? Чего мне бояться, доктор, разве только несчастья, увы, весьма обычного?
— Ваше величество…
— А если ему лучше, то зачем возбуждать во мне беспокойство, вполне естественное, когда речь идет о верном слуге короля?.. Отвечайте же мне откровенно и определенно. Как обстоит дело с болезнью? Как обстоит дело с больным? Есть ли опасность?
— Для него опасность меньше, чем для других, ваше величество.
— Опять начинаются загадки, доктор, — нетерпеливо сказала королева. — Объяснитесь.
— Это не очень легко, ваше величество, — ответил доктор. — Все, что я могу сообщить вам, — это то, что болезнь графа де Шарни чисто душевная. Рана лишь дополнение к его страданиям, она только повод для бреда.
— Душевная болезнь! У господина де Шарни!
— Да, ваше величество; я называю душевной всякую болезнь, которую нельзя определить при помощи скальпеля. Избавьте меня, ваше величество, от дальнейших разъяснений.
— Вы хотите сказать, что граф… — настаивала королева.
— Вы желаете слышать это? — спросил доктор.
— Конечно, желаю.
— В таком случае я хочу сказать, что граф влюблен, — вот что я хочу сказать. Ваше величество требует объяснения, я его даю.
Королева слегка передернула плечами, точно желая сказать: «Велика беда!»
— Вы думаете, что от этого выздоравливают, как от раны, ваше величество? — продолжал доктор. — Нет, болезнь становится все тяжелее, и из проходящего бреда господин де Шарни впадет в смертельную мономанию. И тогда…
— Тогда, доктор?
— Вы погубите этого молодого человека, ваше величество.
— Право, доктор у вас удивительная манера выражаться. Я погублю этого молодого человека! Разве я виновата в том, что он безумствует?
— Конечно.
— Вы меня положительно возмущаете, доктор.
— Если вы не виноваты в этом сейчас, — продолжал неумолимый доктор, пожимая плечами, — то будете виноваты впоследствии.
— Дайте же мне совет… Это ваша обязанность как доктора, — несколько смягчившись сказала королева.
— То есть вы хотите, чтобы я прописал рецепт?
— Если вам угодно.
— Вот он. Молодой человек должен быть излечен или целебным бальзамом, или железом; женщина, имя которой он ежеминутно призывает, должна или убить, или исцелить его.
— Вы всегда впадаете в крайности, — сказала с прежним нетерпением королева. — Убить… исцелить… Какие громкие слова! Разве человека убивают суровостью? Разве несчастного безумца исцеляют улыбкой?
— Ну, если вы так недоверчивы, — сказал доктор, — то мне остается только засвидетельствовать вашему величеству мое нижайшее почтение.
— Но, послушайте, прежде всего во мне ли дело?
— Я ничего об этом не знаю и не хочу знать; я только повторяю вам, что господин де Шарни — разумный безумец, которого рассудок может сделать безумным и убить, а безумие — сделать разумным и исцелить. Так что, если вы желаете освободить этот дворец от криков, видений и скандала, вам придется принять какое-то решение.
— Какое?
— Ну вот, какое? Я только прописываю рецепты, я не даю советов. Разве я могу быть вполне уверен в том, что действительно слышал то, что слышал, и видел то, что видели мои глаза?
— Ну, предположим, что я вас поняла. Что же из этого выйдет?
— Два счастливых исхода. Один — лучший и для вас, и для всех нас — состоит в том, что больной, пораженный в сердце ударом непогрешимого стилета, именуемого рассудком, увидит, как прекращается его начавшаяся агония; другой… что ж, другой… Простите, ваше величество, я ошибался, видя два выхода из этого лабиринта. Для Марии Антуанетты, для французской королевы, может быть только один выход.
— Я понимаю вас; вы высказались откровенно, доктор. Женщина, из-за которой господин де Шарни потерял рассудок, должна ему вернуть его добровольно или насильно.
— Прекрасно. Именно так.
— Она должна иметь мужество пойти и вырвать у него эти видения, эту грызущую его змею, свернувшуюся клубком на дне его души.
— Да, ваше величество.
— Скажите, чтобы предупредили мадемуазель де Таверне, например.
— Мадемуазель де Таверне? — переспросил доктор.
— Да. Вы позаботитесь о том, чтобы больной мог принять нас в приличной обстановке.
— Это уже сделано, ваше величество.
— И надо действовать без пощады?
— Это необходимо.
— Но, — прошептала королева, — идти затем, чтобы принести человеку жизнь или смерть, — это тяжелее, чем вы думаете.
— Я делаю это ежедневно, когда мне приходится встречаться с неизвестной болезнью. Как мне бороться с ней: лекарством, убивающим болезнь, или лекарством, убивающим больного?
— А вы уверены в том, что убьете больного? — дрожа спросила королева.
— Э! — мрачно отозвался доктор. — Почему бы не умереть одному человеку ради чести королевы, когда такое множество людей умирает ежедневно из-за прихоти короля? Пойдемте, ваше величество, пойдемте!
Андре не смогли найти, и королева, вздохнув, последовала за доктором.
Было одиннадцать часов утра. Шарни, одетый, спал в кресле после волнений страшной ночи. Тщательно закрытые ставни едва пропускали слабый дневной свет. Все было приспособлено к тому, чтобы щадить нервную чувствительность больного — главную причину его страданий.
Никаких звуков, никаких прикосновений, ничего раздражающего зрение. Доктор Луи искусно уничтожал любой повод, который мог вызвать обострение болезни; и все же, решив нанести ей сильный удар, он не отступил перед возможностью приступа, который мог убить больного. Правда, он же мог его и спасти.
Королева, одетая в утреннее платье и причесанная с непринужденным изяществом, поспешно вошла в коридор, который вел к комнате Шарни. Доктор советовал ей не колебаться, не раздумывать, а войти решительно и быстро для того, чтобы произвести более сильное впечатление.
Поэтому королева так энергично повернула резную ручку первой двери, ведущей в переднюю, что женщина, закутанная в мантилью и нагнувшаяся у двери комнаты Шарни, едва успела выпрямиться и принять спокойный вид, с которым не вязалось ее расстроенное лицо и дрожащие руки.
— Андре? — с изумлением спросила королева. — Вы здесь?
— Я? — побледнела и смутилась Андре, — я? Да, ваше величество. Но ведь и ваше величество сами здесь?
— О, дело осложняется, — прошептал доктор.
— Я вас везде искала, — продолжала королева. — Где же вы были?
В этих словах королевы не слышалось ее обычной доброты. Они казались прелюдией допроса, симптомом подозрения.
Андре встревожилась; больше всего на свете она боялась, как бы ее неосторожный поступок не послужил ключом к разгадке ее чувств, которых она сама страшилась. Поэтому, при всей своей гордости, она решила солгать.
— Здесь, вы видите.
— Конечно, вижу; но каким образом вы очутились здесь?
— Ваше величество, — ответила Андре, — мне сказали, что вы велели искать меня; я пришла.
Королева, еще не отказываясь от подозрений, продолжала настаивать:
— Но как вы угадали, куда я шла? — спросила она.
— Это было легко, ваше величество. Вы были с господином доктором Луи, и так как вас видели проходящей по малым апартаментам, то вы могли направляться только в этот флигель.
— Вы отгадали верно, — заметила королева, все еще колеблясь, но уже с меньшей суровостью, — да, верно.
Андре сделала последнее усилие.
— Ваше величество, — сказала она, улыбаясь, — если у вас есть намерение скрываться, то не следует показываться в открытых галереях, как вы только что сделали, идя сюда. Когда королева проходит по террасе, мадемуазель де Таверне видит ее из своей комнаты, и вовсе не трудно, заметив кого-то издали, последовать за ним и даже опередить.
«Она права, — сказала себе королева, — сто раз права. У меня несчастная привычка никогда не угадывать; мало размышляя сама, я не думаю о сообразительности других».
Королева почувствовала необходимость быть снисходительной, может быть, потому, что ощущала потребность в наперснице.
Ее душа, впрочем, не была смесью кокетства и недоверия, как душа обычных женщин; королева верила в тех, к кому была привязана, ибо знала, что сама может любить. Женщины, которые не доверяют себе, еще больше не доверяют другим. Великое несчастье, наказывающее кокеток, — то, что они никогда не верят в чувства своих возлюбленных.
Поэтому Мария Антуанетта очень скоро забыла о впечатлении, которое произвела на нее мадемуазель де Таверне перед дверью Шарни. Взяв за руку Андре, она заставила ее повернуть ключ этой двери, и, поспешно пройдя вперед, вошла в комнату больного, оставив снаружи доктора и Андре.
Та, увидев, что королева скрылась, подняла к нему взгляд, полный гнева и скорби, похожий на неистовое проклятие.
Доктор взял ее под руку и, шагая вместе с ней взад и вперед по коридору, спросил:
— Как вы думаете, это ей удастся?
— Что такое удастся, Боже мой? — сказала Андре.
— Перевести в другое место бедного безумца, который умрет здесь, если продолжится его лихорадка.
— А в другом месте он выздоровеет? — воскликнула Андре.
Доктор взглянул на нее с изумлением и тревогой.
— Думаю, что да.
— О, тогда пусть ей это удастся! — сказала бедная девушка.
XXXI
ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ
Между тем королева подошла прямо к креслу Шарни.
Больной поднял голову, услышав стук каблуков по паркету.
— Королева! — прошептал он, пытаясь встать.
— Да, королева, сударь, — поспешно сказала Мария Антуанетта, — королева, которой известно, как старательно вы теряете тут рассудок и жизнь; королева, которую вы оскорбляете в своих сновидениях; королева, которую вы оскорбляете наяву; королева, которая заботится о своей чести и о вашей безопасности! Вот почему она пришла к вам, сударь, и не так вы должны были бы встретить ее.
Шарни поднялся, весь дрожа, в полном смущении; при последних словах королевы он упал на колени, настолько раздавленный физическими и нравственными страданиями, что, виновато склонясь, и не мог, и не хотел подняться.
— Может ли быть, — продолжала королева, тронутая этим почтением и молчанием, — может ли быть, чтобы дворянин, который прежде считался одним из самых верных, стал, как враг, посягать на доброе имя женщины? Заметьте, господин де Шарни, что с самой первой нашей встречи та, которую вы увидели, та, что предстала перед вами, не была королевой, она была женщиной, и вы никогда не должны этого забывать.
Шарни, увлеченный этими словами, вырвавшимися из сердца, хотел попытаться произнести хотя бы слово в свою защиту, но Мария Антуанетта не дала ему на это времени.
— Что же станут делать мои враги, — продолжала она, — если вы подаете пример предательства?
— Предательства… — прошептал Шарни.
— Сударь, извольте выбирать. Или вы безумец — и тогда я лишу вас возможности делать зло; или вы предатель — и тогда я накажу вас.
— Ваше величество, не говорите, что я предатель. В устах королей это обвинение предшествует смертному приговору, в устах женщины оно покрывает человека позором. Как королева убейте меня, но как женщина пощадите.
— В здравом ли вы уме, господин де Шарни? — изменившимся голосом спросила королева.
— Да, ваше величество.
— Сознаете ли вы свою вину по отношению ко мне и свое преступление против… короля?
— Боже мой! — прошептал несчастный.
— Потому что вы все, господа дворяне, слишком легко забываете, что король — супруг той женщины, которую вы все оскорбляете, осмеливаясь поднимать на нее глаза; король — отец вашего будущего государя, моего дофина. Король выше и лучше вас всех, это человек, которого я почитаю и люблю.
— О, — прошептал Шарни с глухим стоном; чтобы не упасть, он должен был опереться одной рукой о паркет.
Стон Шарни пронзил сердце королевы. В угасшем взоре молодого человека она прочла, что полученный им удар станет смертельным, если она тотчас же не вырвет из раны пущенную ею стрелу.
Вот почему, будучи милосердной и доброй, королева испугалась бледности и слабости виновного; был момент, когда она готова была позвать на помощь.
Но, сообразив, что доктор и Андре неправильно истолкуют этот обморок Шарни, она подняла его собственноручно и сказала:
— Поговорим: я — как подобает королеве, вы — как подобает мужчине. Доктор Луи пытался вас вылечить; эта рана, которая была пустяком, становится все серьезнее вследствие неуравновешенности ваших мыслей. Когда же эта рана излечится? Когда вы перестанете доставлять доброму доктору неприличное зрелище безумия, вызывающего в нем тревогу? Когда вы уедете из дворца?
— Ваше величество, — прошептал Шарни, — вы прогоняете меня… я ухожу, я ухожу.
Он сделал такое порывистое движение к двери, что потерял равновесие и, покачнувшись, упал прямо на руки королевы, стоявшей на его пути.
Едва только он почувствовал прикосновение горячей груди, остановившей его падение, едва оказался в невольном объятии поддерживавших его рук, как рассудок совершенно оставил его, губы открылись, из них вырвался пламенный вздох, который не был словом и не дерзал быть поцелуем.
Королева, взволнованная этим прикосновением и смягченная этой слабостью, едва успела опустить неподвижное тело в кресло и хотела убежать. Но голова Шарни откинулась назад; она билась о спинку кресла, на губах показалась розоватая пена, а со лба на руку Марии Антуанетты упала теплая красноватая капля.
— О, тем лучше, — прошептал он, — тем лучше! Я умираю, убитый вами.
Королева забыла обо всем. Она опять подошла к нему, обняла его, прижала его безжизненную голову к своей груди и приложила холодную как лед руку к сердцу молодого человека.
Любовь сделала чудо. Шарни воскрес. Он открыл глаза: сознание вернулось к нему. Женщина ужаснулась при мысли, что оставляет воспоминание там, где хотела сказать последнее «прости».
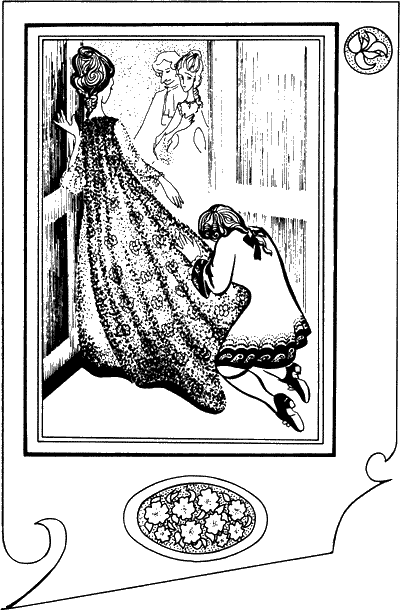
Она сделала три шага к двери с такой поспешностью, что Шарни едва успел удержать ее за край платья, воскликнув:
— Ваше величество, во имя моего благоговения перед Богом, хотя оно меньше моего благоговения перед вами…
— Прощайте, прощайте! — сказала королева.
— Ваше величество, о, простите меня!
— Я прощаю вас, господин де Шарни.
— Ваше величество, один последний взгляд.
— Господин де Шарни, — сказала королева, дрожа от волнения и гнева, — если вы не худший из людей, то сегодня вечером или завтра утром вы либо умрете, либо оставите этот дворец.
Когда королева приказывает такими словами — она просит. Шарни в экстазе сложив руки, на коленях подполз к ногам Марии Антуанетты.
Она уже открыла дверь, чтобы скорее убежать от опасности.
Андре, с самого начала разговора не спускавшая жадного взгляда с этой двери, увидела молодого человека коленопреклоненным, а королеву — близкой к обмороку; она увидела, что его глаза сияют надеждой и гордостью, между тем как померкшие глаза королевы потуплены.
Пораженная в самое сердце, отчаявшаяся, полная ненависти и презрения, Андре все же не склонила голову. Когда она смотрела на возвращавшуюся королеву, ей казалось, что Господь излишне щедро одарил эту женщину, дав ей вдобавок трон и красоту: ведь он только что подарил ей эти полчаса с г-ном де Шарни.
Доктор же видел слишком многое, чтобы замечать подробности.
Думая только об успехе переговоров, предпринятых королевой, он ограничился вопросом:
— Ну что, ваше величество?
Королеве понадобилась целая минута, чтобы прийти в себя и вновь обрести голос, заглушенный ударами ее сердца.
— Что он сделает? — повторил доктор.
— Он уедет, — прошептала королева.
И не обращая внимания на нахмурившую брови Андре и на потиравшего руки Луи, она быстро прошла по коридору, машинально закуталась в накидку с кружевными рюшами и вернулась в свои апартаменты.
Андре пожала руку доктора, который поспешил к своему больному; потом торжественным, как у призрака, шагом она вернулась в свою комнату — с опущенной головой, остановившимся взглядом, без единой мысли.
Она даже не подумала спросить о приказаниях королевы. Для такой натуры, как Андре, королева — ничто, соперница — все.
Шарни, вновь порученный заботам Луи, казался совсем другим человеком, чем накануне.
Стараясь преувеличить свои силы, показывая себя смелым до бахвальства, он обратился к доктору с такими торопливыми и энергичными расспросами о своем выздоровлении, о режиме, которого надо придерживаться, о способе перевозки, что Луи заподозрил еще более опасный рецидив болезни, вызванный новой навязчивой идеей.
Но Шарни скоро вывел его из заблуждения; он был похож на раскаленное в огне железо, краснота которого уменьшается на глазах по мере ослабления огня. Оно черное, и уже ничего не говорит взору; но оно еще достаточно горячо, чтобы истребить все, что к нему поднесут.
Луи видел, что к молодому человеку вернулись спокойствие и здравомыслие. Шарни в самом деле стал так рассудителен, что счел необходимым объяснить медику внезапную перемену своего решения.
— Королева, — сказал он, — пристыдив, исцелила меня больше, чем могла бы это сделать ваша наука, милый доктор, самыми лучшими лекарствами. Видите ли, подействовать на мое самолюбие — значит укротить меня, как укрощают лошадь удилами.
— Тем лучше, тем лучше, — прошептал доктор.
— Да, я помню, один испанец — они ведь все порядочные хвастуны, — говорил мне, желая доказать силу своей воли, как на одной дуэли, на которой он был ранен, ему достаточно было пожелать, чтобы его кровь не текла, так как вид ее доставлял удовольствие его противнику, и она останавливалась. Я смеялся тогда над этим испанцем, а между тем я теперь немного напоминаю его; если бы моя лихорадка и этот бред, который вы мне ставите в упрек, пожелали вернуться, то бьюсь об заклад, что я прогнал бы их, сказав: «Бред и лихорадка, вы больше не появитесь».
— Мы знаем примеры такого явления, — серьезно заметил доктор. — Во всяком случае, позвольте мне вас поздравить. Вы исцелились и душевно?
— О да!
— В таком случае вы не замедлите увидеть, как велика связь между психическим и физическим миром человека. Это прекрасная теория, и я изложил бы ее в книге, если бы у меня было время. Здоровый духом, вы через неделю выздоровеете и телом.
— Благодарю вас, милый доктор!
— И для начала вы уедете отсюда?
— Когда вам будет угодно. Хоть сию минуту.
— Подождем до вечера, не будем торопиться. Крайности всегда опасны.
— Подождем до вечера, доктор.
— Вы поедете далеко?
— На край света, если нужно.
— Это слишком далеко для первого выезда, — с прежним невозмутимым спокойствием сказал доктор. — Удовольствуемся пока Версалем, а?
— Хорошо, Версалем, если вам это угодно.
— Мне кажется, чтобы вылечиться от раны, незачем высылать вас в чужие страны, — заметил доктор.
Это притворное хладнокровие окончательно заставило Шарни быть настороже.
— Правда, доктор. У меня есть свой дом в Версале.
— Вот то, что нам нужно. Вас туда перенесут сегодня вечером.
— Но вы меня не так поняли, доктор; я собирался объехать свои поместья.
— Так я вам и поверю! Ваши поместья, черт возьми! Но они не на краю же света.
— Они на границе Пикардии, в пятнадцати или восемнадцати льё отсюда.
— Вот как!
Шарни пожал руку доктору, как бы благодаря его за деликатность.
Вечером те же четыре лакея, которых Шарни так грубо выпроводил прежде, донесли его на руках до кареты, ожидавшей у служебных ворот.
Король, проведя весь день на охоте, только что поужинал и лег спать. Шарни, которого несколько беспокоила мысль, что он уедет, не простившись с королем, совершенно успокоился, когда доктор обещал объяснить отъезд больного необходимостью переменить место.
Перед тем как сесть в карету, Шарни доставил себе мучительное удовольствие — смотреть до последней минуты на окна апартаментов королевы. Никто не мог этого увидеть: один из лакеев, несший факел, освещал дорогу, а не лицо молодого человека.
На ступеньках Шарни встретил лишь нескольких своих друзей-офицеров; их предупредили заранее, так что его отъезд не выглядел бегством.
Провожаемый до кареты этими веселыми товарищами, Шарни мог позволить своим глазам бродить по окнам: у королевы они сияли огнями. Ее величество, чувствуя себя не совсем здоровой, принимала своих дам в спальне.
Окна Андре, мрачные и темные, скрывали за складками камковых занавесок женщину, охваченную тревогой и дрожью; оставаясь незамеченной, она следила за каждым движением больного и его свиты.
Наконец карета отъехала, но так медленно, что можно было слышать цокот каждой подковы на гулких плитах.
— Если он не мой, — прошептала Андре, — то, по крайней мере, и ничей теперь.
— Если у него снова явится желание умереть, — говорил, возвращаясь к себе, доктор, — то, по крайней мере, он умрет не у меня и не на моих руках. Черт побери душевные болезни! Я ведь не врач Антиоха и Стратоники, чтобы исцелять такие заболевания.
Шарни доехал до своего дома целым и невредимым. Вечером его пришел навестить доктор и нашел его состояние настолько хорошим, что поспешил заявить: это его последний визит.
Больной поужинал мясом цыпленка и ложкой орлеанского варенья.
На другой день Шарни навестил его дядя, г-н де Сюфрен, потом г-н де Лафайет, наконец, один из придворных, посланный королем. Примерно то же повторилось на следующий день, а затем им перестали интересоваться.
Он начал вставать и выходить в сад.
Через неделю он уже выезжал на спокойной лошади; силы вернулись к нему. Поскольку его дом был все-таки недостаточно уединенным, он попросил врача своего дяди и заочно доктора Луи позволить ему отправиться в свои поместья.
Луи уверенно ответил, что передвижение есть последняя стадия излечения ран, что у г-на де Шарни превосходный экипаж, что дорога в Пикардию ровна, как зеркало, и что оставаться в Версале, имея возможность столь хорошо и столь счастливо путешествовать, было бы безумием.
Шарни велел нагрузить вещами целый фургон, простился с королем, осыпавшим его милостями, и попросил г-на де Сюфрена засвидетельствовать его почтение королеве, которая в тот вечер была нездорова и не принимала. Затем он сел в дорожный экипаж у самых ворот королевского дворца и поехал в городок Виллер-Котре, откуда должен был направиться в замок Бурсон, расположенный в одном льё от этого городка, воспетого в первых стихотворениях Демустье.
XXXII
ДВА КРОВОТОЧАЩИХ СЕРДЦА
На следующий день после того, как королева бежала от коленопреклоненного Шарни, мадемуазель де Таверне вошла, по своему обыкновению, в комнату королевы в час малого туалета, перед ранней мессой.
Королева еще никого не принимала. Она только что прочла записку г-жи де Ламотт и была в веселом настроении.
Андре была еще бледнее, чем накануне; во всем ее облике ощущалась та серьезность, та холодная сдержанность, которая невольно привлекает внимание и заставляет самых великих мира сего считаться с самыми малыми.
Одетая просто, если не сказать строго, Андре походила на вестницу несчастья, кому бы она его ни предрекала — себе или другим.
Королева была рассеянна и потому не обратила никакого внимания на медленную и суровую поступь Андре, на ее покрасневшие глаза, на матовую бледность ее висков и рук.
Она повернула голову ровно настолько, чтобы можно было расслышать ее дружеское приветствие:
— Здравствуй, милая.
Андре ждала, когда королева даст ей случай заговорить. Она ждала, твердо уверенная, что дождется этого, так как ее молчание и неподвижная поза в конце концов должны были обратить на себя взор Марии Антуанетты.
Так и случилось. Не получив другого ответа, кроме глубокого реверанса, королева полуобернулась и, глянув вбок, увидела застывшее скорбное лицо Андре.
— Боже мой! Что такое, Андре? — спросила она, обернувшись к ней совсем. — С тобой случилось несчастье?
— Большое несчастье, да, ваше величество, — ответила девушка.
— Что такое?
— Я покидаю ваше величество.
— Ты уезжаешь?
— Да, ваше величество.
— Но куда же? И что за причина этого стремительного отъезда?
— Ваше величество, я несчастлива в моих привязанностях…
Королева подняла голову.
— …семейных, — добавила, краснея, Андре.
Королева покраснела тоже, и их взгляды скрестились, точно блестящие лезвия двух шпаг.
Королева пришла в себя первая.
— Я не очень вас понимаю, — сказала она. — Ведь еще вчера вы, как мне кажется, были счастливы?
— Нет, ваше величество, — твердо ответила Андре, — вчерашний день был одним из самых несчастливых в моей жизни.
— А! — задумчиво произнесла королева и добавила: — Объяснитесь.
— Мне пришлось бы затруднять ваше величество разными подробностями, не заслуживающими вашего внимания. Моя жизнь в семье не удовлетворяет меня; мне нечего надеяться на земные блага, и я пришла просить ваше величество отпустить меня, чтобы я посвятила себя спасению своей души.
Королева встала и, хотя ей пришлось для этого сломить свою гордость, взяла Андре за руку.
— Что означает это вздорное решение? — спросила она. — Ведь и вчера, как сегодня, у вас были брат и отец? Что же, вчера они были вам менее тягостны и неприятны, чем сегодня? Неужели вы считаете меня способной оставить вас в затруднительном положении? Разве я не мать, возвращающая семью тем, у кого ее нет?
Андре задрожала всем телом, точно преступница, и, склонившись перед королевой, ответила:
— Доброта вашего величества трогает меня, но не может переубедить. Я решила покинуть двор, мне необходимо вернуться к уединенной жизни; не считайте, что я изменила своим обязанностям по отношению к вам, — я не чувствую к ним призвания.
— И все это со вчерашнего дня?
— Умоляю ваше величество не приказывать мне говорить об этом.
— Вы свободны, — с горечью сказала королева. — Однако у меня к вам было всегда столько доверия, что и вы могли бы иметь его ко мне. Впрочем, безрассудно было бы требовать ответа от того, кто не хочет говорить. Оставьте при себе свои тайны, мадемуазель; будьте вдали от меня счастливее, чем были здесь. Помните только, что я не отнимаю своей дружбы у людей, несмотря на их капризы, и вы останетесь для меня по-прежнему другом. А теперь идите, Андре, вы свободны.
Андре сделала придворный реверанс и пошла к выходу. У двери королева ее окликнула:
— А куда вы отправляетесь?
— В аббатство Сен-Дени, ваше величество, — ответила мадемуазель де Таверне.
— В монастырь! — воскликнула королева. — О, это хорошо, мадемуазель; может быть, вам и не в чем упрекнуть себя, разве только в неблагодарности и забывчивости, что тоже немало! Вы достаточно виноваты передо мной; ступайте, мадемуазель де Таверне, ступайте.
Вслед за этим, не давая дальнейших объяснений, на которые рассчитывало доброе сердце королевы, не проявив ни смирения, ни растроганности, Андре поспешила воспользоваться разрешением королевы и исчезла.
Мария Антуанетта могла заметить и заметила, что мадемуазель де Таверне тотчас покинула дворец.
Действительно, она отправилась в дом своего отца и, как и думала, застала Филиппа в саду. Брат мечтал, в то время как сестра действовала.
Увидев Андре, которую обязанности должны были удерживать в этот час во дворце, Филипп пошел к ней навстречу, удивленный и почти испуганный.
Испуганный прежде всего мрачным выражением лица сестры, которая всегда встречала его нежной дружеской улыбкой, он начал так же, как и королева: с расспросов.
Андре объявила ему, что сейчас только отказалась от своей службы при королеве, что ее отставка принята и что она уходит в монастырь.
Филипп всплеснул руками, как человек, на которого неожиданно обрушивается несчастье.
— Как? — воскликнул он. — И ты тоже, сестра?
— Как и я тоже? Что ты хочешь этим сказать?
— Над отношениями нашей семьи с домом Бурбонов тяготеет какое-то проклятие! — продолжал он. — Ты считаешь, что вынуждена произнести монашеский обет! Ты — монахиня по влечению и по душе, ты — наименее светская из женщин и вместе с тем наименее способная к вечному повиновению требованиям аскетизма? Но в чем ты упрекаешь королеву?
— Королеву не в чем упрекнуть, Филипп, — холодно ответила Андре. — А разве ты сам еще недавно не был полон надежд на милости при дворе? Разве ты не имел больше оснований, чем кто-либо, рассчитывать на них? Отчего же ты не остался там? Отчего пробыл только три дня? Я провела там три года!
— Королева бывает иногда капризна, Андре.
— Если это и так, то ты, Филипп, как мужчина, мог бы переносить ее капризы, а я, как женщина, не должна и не хочу терпеть их. Для капризов у нее есть служанки.
— Все это, сестра, — сдержанно сказал молодой человек, — не объясняет мне, каким образом ты поссорилась с королевой.
— У нас не было ни малейшей ссоры, клянусь тебе; а разве ты поссорился с нею, Филипп, ты, отдалившийся от нее? О, она неблагодарна, эта женщина!
— Ее надо простить, Андре. Ее немного испортила лесть, но, в сущности, у нее доброе сердце.
— Доказательством может служить то, что она сделала тебе, Филипп.
— А что она сделала?
— Ты уже забыл? О, у меня память лучше твоей. Поэтому я в один и тот же день, одним и тем же решением отплатила ей и за себя и за тебя, Филипп.
— Мне кажется, ты заплатила слишком дорогой ценой, Андре; не в твои годы, не с твоей красотой отказываться от света. Берегись, дорогой мой друг, ты покидаешь его молодой и пожалеешь о нем в старости; ты вернешься в него, когда будет уже поздно, огорчив своих друзей, с которыми безрассудство разлучит тебя.
— Ты не рассуждал так прежде, храбрый офицер, всегда исполненный чести и чувства, но мало заботившийся о своей славе или своем богатстве, так что там, где сотня других приобрела себе титулы и золото, ты сумел только наделать долгов и испортить себе карьеру. Ты не рассуждал так прежде, когда говорил мне: «Она капризна, Андре, она кокетка, она коварна, я не хочу служить у нее!» И, подтверждая эту теорию практикой, ты прежде меня отказался от света, хотя и не сделался монахом; поэтому из нас двоих ближе к нерасторжимому обету не я, собирающаяся его произнести, а ты, уже принявший его.
— Ты права, сестра моя, и не будь нашего отца…
— Нашего отца! Ах, Филипп, не говори этого, — с горечью перебила его Андре, — разве отец не должен быть опорой детей или принимать поддержку от них? Только при этих условиях он может быть отцом. А что делает наш отец, спрашиваю я тебя? Приходило ли тебе когда-нибудь в голову доверить господину де Таверне какую-либо тайну? Считаешь ли ты его способным призвать тебя к себе, чтобы поведать один из своих секретов? Нет, — с грустью продолжала Андре, — нет, господин де Таверне создан для того, чтобы жить на свете одиноким.
— Согласен, Андре; но он создан не для того, чтобы умереть одиноким.
Эти слова, произнесенные с мягкой суровостью, напомнили девушке, что она уделяет в своем сердце слишком много места собственному гневу, собственной горечи, собственной злобе на весь мир.
— Я не хочу, — сказала она, — чтобы ты считал меня бессердечной дочерью; ты знаешь, что я нежная сестра; но в этом мире каждый хотел убить во мне инстинкт любви к отцу. Бог дал мне при рождении, как и каждому человеческому существу, тело и душу; этой душой и этим телом каждый может распоряжаться ради счастья в этом мире или в ином. Но Бальзамо, человек, которого я не знала, взял мою душу. Жильбер, которого я едва знала и не считала за человека, взял мое тело. Повторяю тебе, Филипп, чтобы быть доброй и почтительной дочерью, мне недостает всего лишь отца. Но поговорим о тебе и посмотрим, что принесла тебе служба великим мира сего, тебе, любившему их.
Филипп опустил голову.
— Избавьте меня от этого, — сказал он, — великие мира сего были в моих глазах просто людьми, подобными мне; я любил их, ведь Бог заповедал нам любить друг друга.
— О, Филипп! — ответила Андре. — На этой земле не бывает так, чтобы любящее сердце откликнулось тому, кто любит. Те, кого мы избираем, избирают себе других.
Филипп поднял голову и долго смотрел на сестру; его бледное лицо не выражало ничего, кроме удивления.
— Зачем ты мне это говоришь? К чему ты клонишь? — спросил он.
— Ни к чему, ни к чему, — великодушно ответила Андре, отступая перед мыслью снизойти до подробных рассказов или излишней откровенности, — Меня поразил тяжелый удар, брат, и мне кажется, мой рассудок помрачился… Не придавай никакого значения моим словам.
— Однако…
Андре подошла к Филиппу и взяла его за руку.
— Довольно об этом, дорогой и любимый брат мой. Я пришла попросить тебя отвезти меня в монастырь. Я выбрала Сен-Дени, но я не произнесу там монашеского обета, будь спокоен. Если будет нужно, то я сделаю это со временем. Я не буду искать в обители того, что хочет найти там большинство женщин, — забвения; я иду в монастырь затем, чтобы во мне ожили воспоминания. Мне кажется, что я слишком забыла Господа. Он наш единственный властитель и господин, единственный утешитель и вместе с тем единственный судия. Приблизившись к нему — сегодня я это понимаю, — я сделаю больше для своего счастья, чем если бы все богатства, вся сила, вся власть, все радости этого мира сговорились создать мне счастливую жизнь. Я ухожу в уединение, брат мой, в уединение, в это преддверие вечного блаженства!.. В уединении Бог говорит с сердцем человека; в уединении человек говорит с сердцем Бога.
Филипп остановил Андре жестом.
— Помни, — сказал он, — что я всей душой противлюсь этому отчаянному решению: ты не дала мне возможности судить о причинах твоего отчаяния…
— Отчаяние! — с глубоким презрением повторила она. — Ты так сказал! Нет, благодарение Богу, я ухожу из мира не с этим чувством! Скорбеть и отчаиваться! Нет! Тысячу раз нет!
И движением, исполненным неистовой гордости, она набросила на плечи шелковую накидку, лежавшую возле нее на кресле.
— Сам этот избыток презрения выдает в тебе состояние, которое не может долго длиться, — заметил Филипп, — тебе не нравится слово «отчаяние», Андре, так замени его словом «досада».
— Досада! — ответила девушка, и ее сардоническая улыбка превратилась в надменную. — Надеюсь, ты не думаешь, брат, что мадемуазель де Таверне настолько слаба, чтобы уступить свое место в этом мире под влиянием минутной досады? Досада — слабость кокеток или дур. Взор, зажженный досадой, тотчас же увлажняется слезами, и пожар потушен. У меня нет досады, Филипп. Я очень хотела бы, чтобы ты мне поверил, а для этого достаточно лишь, чтобы ты, собираясь высказать мне упрек, заглянул в себя. Ответь мне, Филипп: если бы завтра ты удалился к траппистам или стал картезианцем, то как назвал бы ты причину, подвигнувшую тебя на это решение?
— Я назвал бы эту причину неизлечимой тоской, сестра, — ответил Филипп со спокойным величием горя.
— Отлично, Филипп; вот слово, которое мне подходит и которое я принимаю. Да будет так: именно неизлечимая тоска побуждает меня к уединению.
— Ну что ж, — сказал Филипп, — в жизни брата и сестры не будет различия. Одинаково счастливые, они всегда будут и несчастливы одинаково. Так и должно быть в хорошей семье, Андре.
Андре подумала, что Филипп в порыве волнения задаст ей какой-нибудь новый вопрос и ее непреклонное сердце может не устоять перед объятием братской любви.
Но Филипп знал по опыту, что сильным душам достаточно самих себя: он не стал беспокоить душу Андре в укреплении, которое она избрала.
— А когда и в котором часу ты намерена уехать? — спросил он.
— Завтра, сегодня даже, если бы еще было время.
— Не прогуляешься ли ты со мной по парку в последний раз?
— Нет, — ответила она.
Он хорошо понял по пожатию руки, сопровождавшему отказ, что отказывается она не от его общества, а от возможности расчувствоваться.
— Когда ты меня известишь, я буду готов, — сказал он.
И поцеловал ей руку, не прибавив ни слова, чтобы не вырвалась наружу горечь, переполнявшая их сердца.
Андре, завершив первые приготовления, ушла в свою комнату, где получила записку от Филиппа:
«Ты можешь увидеться с нашим отцом сегодня в пять часов вечера. Прощание необходимо. Иначе господин де Таверне станет кричать, что его бросили, что с ним плохо поступили».
Она ответила:
«В пять часов я буду у господина де Таверне, одетая в дорожное платье. В семь часов мы можем быть в Сен-Дени. Подаришь ли ты мне свой вечер?»
Вместо ответа Филипп крикнул в окно, находившееся достаточно близко от комнаты Андре, чтобы она могла его слышать:
— В пять часов подать дорожный экипаж!
XXXIII
МИНИСТР ФИНАНСОВ
Мы уже видели, что перед приходом Андре королева читала записку г-жи де Ламотт и улыбалась. В этой записке, кроме обычных приветствий, значилось следующее:
«…Ваше величество можете рассчитывать на кредит и быть уверены, что покупка будет предоставлена Вам с полным доверием».
Королева улыбнулась и сожгла маленькую записку Жанны.
Ее настроение несколько омрачилось после свидания с мадемуазель де Таверне. Вскоре г-жа де Мизери доложила королеве, что г-н де Калонн ожидает чести быть допущенным к ее величеству.
Кстати, нелишне рассказать читателю об этом новом герое нашего повествования. История достаточно знакомит нас с этим человеком. Однако роман, который менее точно рисует перспективу и великие деяния, быть может, сумеет дать какую-то деталь, больше говорящую воображению.
Господин де Калонн был умный, и даже необыкновенно умный человек; он принадлежал к поколению второй половины XVIII века, не привыкшему лить слезы, хотя и умевшему рассуждать, и составил себе определенный взгляд на бедствие, грозившее Франции. Он смешивал свой интерес с общественным, говорил, как Людовик XV: «После нас хоть конец света» — и всюду разыскивал цветы, чтобы украсить ими свой последний день.
Он разбирался в делах и был царедворцем. Всем дамам, известным своим умом, богатством или красотой, он заботливо оказывал знаки внимания, подобно пчеле, увивающейся около каждого сочного и благоухающего растения.
В то время разговор семи-восьми мужчин и десяти-двенадцати женщин являл собою сумму всех знаний. Господин де Калонн был способен производить вычисления с д’Аламбером, рассуждать с Дидро, смеяться с Вольтером и мечтать с Руссо. Наконец, он обладал достаточными познаниями, чтобы открыто смеяться над популярностью г-на Неккера.
Хорошенько понаблюдав со всех сторон за мудрым и глубокомысленным г-ном Неккером, отчет которого, казалось, просветил Францию, Калонн в конце концов сделал его автора смешным даже в глазах тех, кто больше всего ему верил; король и королева, которых это имя заставляло вздрагивать, не без трепета привыкли слушать, как издевается над ним изящный и остроумный государственный деятель, который в ответ на множество точных цифр говорил лишь: «Зачем доказывать, когда ничего нельзя доказать?»
Действительно, Неккер доказал только одно: невозможность управлять дальше финансами Франции. Господин де Калонн же принял их как слишком легкую для его плеч ношу, но с первых же минут, можно сказать, согнулся под ее тяжестью.
Чего хотел Неккер? Реформ. Но эти частичные реформы пугали все умы. Мало кто выиграл бы от них, да и те, что выиграл, получили бы очень немного; наоборот, большинство проиграли бы, и проиграли очень много. Когда Неккер хотел произвести справедливое распределение налогов, когда он намеревался нанести удар по землям дворянства и доходам духовенства, он насильственно намечал контуры некоей невозможной революции. Он дробил нацию и заранее ослаблял ее, когда нужно было сплотить все ее силы, чтобы привести ко всеобщему обновлению.
Эту цель Неккер объявил и уже одним этим сделал ее недостижимой. Разве говорить об искоренении злоупотреблений с теми, кто не желает эти злоупотребления исправлять, не значит навлечь на себя противодействие тех, кто в них заинтересован? Следует ли предупреждать неприятеля о часе, когда начнется штурм крепости?
Вот что понял Калонн, в данном случае более истинный друг нации, чем женевец Неккер, больший друг, скажем мы, в том, что касалось совершившихся фактов, ибо вместо того, чтобы предотвращать неизбежное зло, Калонн ускорял приход бедствия.
Его план был смелым, гигантским, надежным; речь шла о том, чтобы за два года довести короля и дворянство до банкротства, которое иначе они могли бы замедлить на десять лет. А когда банкротство произойдет, сказать: «Теперь, богатые, платите за бедных, ибо они голодны и пожрут тех, кто не станет их кормить».
Как мог король не понять сразу последствий этого плана, не понять самого плана? Как мог он, дрожавший от ярости при чтении отчета Неккера, не содрогнуться, разгадав своего министра? Почему он не сделал выбора между двумя системами и предпочел отдаться на волю судьбы? Вот единственный реальный счет, по которому Людовик XVI как политический деятель должен уплатить потомству. Здесь был налицо тот известный принцип, которому всегда противится любой, у кого нет достаточной власти, чтобы пресечь уже укоренившееся зло.
А чтобы стало понятно, почему у короля оказалась на глазах такая плотная повязка, почему королева, столь проницательная и столь определенная в своих суждениях, проявила ту же слепоту, что и ее супруг, в отношении действий министра, история (вернее было бы сказать, роман: именно здесь он желанный гость) снабдит нас некоторыми необходимыми подробностями.
Господин де Калонн вошел к королеве.
Он был красив, высокого роста, с благородными манерами; он умел смешить королев и доводить до слез своих любовниц. Уверенный, что Мария Антуанетта послала за ним по срочному делу, он явился с улыбкой на устах. Столько людей на его месте пришли бы с нахмуренным лицом, чтобы их согласие затем имело двойную цену! Королева тоже была очень любезна, усадила министра и сначала поговорила с ним о тысяче пустяков.
— Есть ли у нас деньги, милый господин де Калонн? — спросила она наконец.
— Деньги? — воскликнул г-н де Калонн. — Конечно, есть, ваше величество, они всегда у нас есть.
— Вот это чудесно, — сказала королева. — Я не знаю никого, кроме вас, кто давал бы такой ответ на просьбу о деньгах. Вы несравненный финансист.
— Какая сумма требуется вашему величеству? — спросил Калонн.
— Объясните мне сначала, прошу вас, что вы сделали, чтобы найти деньги там, где, как господин Неккер уверял нас, их нет?
— Господин Неккер говорил правду, ваше величество, в казне не было больше денег; и это настолько верно, что в день моего вступления в министерство, пятого ноября тысяча семьсот восемьдесят третьего года — такое не забывается, ваше величество, — осматривая государственную казну, я нашел только два мешка по тысяче двести ливров. Но ни на денье меньше.
Королева засмеялась.
— Итак? — сказала она.
— Итак, ваше величество, если бы господин Неккер, вместо того чтобы говорить: «Денег больше нет» — стал бы, подобно мне, делать займы, в сто миллионов в первый год и в сто двадцать миллионов во второй, если бы он мог быть уверен, как я, в возможности на третий год занять еще восемьдесят миллионов, то господин Неккер был бы настоящим финансистом. Всякий сумеет ответить: «В кассе денег больше нет». Но не всякий сумеет ответить: «Они в ней есть».
— Именно это я вам говорила; именно с этим я вас поздравляла, сударь. Но как же мы расплатимся? Вот в чем затруднение.
— О ваше величество, — ответил Калонн с улыбкой, глубокое и страшное значение которой не смог бы измерить никакой человеческий взгляд, — ручаюсь вам, что мы расплатимся.
— Полагаюсь в этом на вас, — сказала королева. — Но продолжим наш разговор о финансах. С вами эта наука кажется необыкновенно интересной. В руках других она — терновый куст, а в ваших — плодоносное дерево.
Калонн поклонился.
— Нет ли у вас каких-нибудь новых планов? — спросила королева. — Поделитесь ими со мной первой.
— У меня есть один план, ваше величество, благодаря которому французы положат себе в карман двадцать миллионов, а в ваши карманы… Прошу извинить меня, в казну его величества, он принесет семь или восемь миллионов.
— Эти миллионы будут и там и тут очень желанными. Но откуда они явятся?
— Вашему величеству известно, что золотая монета имеет неодинаковую ценность в европейских государствах?
— Да, я знаю это. В Испании, например, золото дороже, чем во Франции.
— Ваше величество совершенно правы, и говорить с вами о финансах одно удовольствие. В Испании последние пять-шесть лет марка золота ценится на восемнадцать унций дороже, чем во Франции. Вследствие этого те, что вывозят золото из Франции, наживают на каждой марке приблизительно стоимость четырнадцати унций серебра.
— Это немало, — заметила королева.
— Так что через год, — продолжал министр, — если бы финансисты знали то, что знаю я, у нас не осталось бы ни одного луидора.
— Но вы помешаете этому?
— Немедленно, ваше величество. Я повышу ценность золота до пятнадцати марок четырех унций, что составит прибыль на одну пятнадцатую. Ваше величество понимает, что в сундуках не останется ни одного луидора, когда станет известным, что на монетном дворе эта прибыль выдается предъявителям золотых монет. А мы переплавим все это золото, и в каждой марке, содержащей теперь тридцать луидоров, будет содержаться их тридцать два.
— Прибыль в настоящем, прибыль в будущем! — воскликнула королева. — Это чудесная идея, которая произведет фурор.
— Полагаю, ваше величество. И я очень счастлив, что она получила ваше полное одобрение.
— Имейте всегда подобные идеи, и я буду уверена, что вы оплатите все наши долги.
— Позвольте мне, ваше величество, — сказал министр, — вернуться к тому, чего вы желаете от меня.
— Можно ли было бы, сударь, сейчас получить…
— Какую сумму?
— О, может быть, слишком крупную.
Калонн улыбнулся, что придало королеве смелости.
— Пятьсот тысяч ливров, — сказала она.
— Ах, ваше величество! — воскликнул он. — Как вы напугали меня! Я думал, что дело идет о сумме действительно крупной.
— Так вы можете?
— Конечно.
— И так, чтобы король не…
— Ах, ваше величество, вот это невозможно. Все мои отчеты представляются ежемесячно на рассмотрение короля; но не было случая, чтобы он просматривал их, чем я и горжусь.
— Когда я могу рассчитывать на эту сумму?
— А к какому дню она нужна вашему величеству?
— Скажем, пятого числа будущего месяца.
— Ассигновки будут написаны второго числа, а третьего деньги будут у вас.
— Благодарю, господин де Калонн.
— Угодить вашему величеству — величайшее счастье для меня. Умоляю вас никогда не стесняться с моей кассой. Это будет только удовольствием для самолюбия вашего генерального контролера финансов.
Он встал и грациозно поклонился. Королева протянула ему руку для поцелуя.
— Еще одно слово, — сказала она.
— Я слушаю, ваше величество.
— Эти деньги возбуждают во мне угрызения совести.
— Угрызения совести… — повторил он.
— Да. Они нужны мне для удовлетворения моей прихоти.
— Тем лучше, тем лучше… В таком случае, по крайней мере, половина этой суммы составит чистую прибыль для нашей промышленности, торговли и увеселений.
— Действительно, это правда, — прошептала королева, — и ваш способ утешать меня очарователен, сударь.
— Слава Богу, ваше величество; не будем никогда иметь иных угрызений совести, кроме ваших, и мы попадем прямо в рай.
— Дело в том, господин де Калонн, что с моей стороны было бы слишком жестоко заставлять бедный народ расплачиваться за мои прихоти.
— Оставим сомнения, ваше величество, — ответил министр со зловещей улыбкой и делая особенное ударение на каждом слове, — клянусь вам, что заплатит за них не бедный народ.
— Почему? — с удивлением спросила королева.
— Потому что у бедного народа уже ничего нет, — невозмутимо ответил министр, — а там, где ничего нет, сам король теряет свои права.
Он поклонился и вышел.
XXXIV
ВЕРНУВШИЕСЯ ИЛЛЮЗИИ. УТРАЧЕННАЯ ТАЙНА
Едва г-н де Калонн успел пройти по галерее, чтобы вернуться к себе, как ноготь чьей-то руки торопливо заскребся в дверь будуара королевы.
Появилась Жанна.
— Ваше величество, — сказала она, — он здесь.
— Кардинал? — спросила королева, несколько удивленная словом «он», так много означающим в устах женщины.
Она не успела договорить. Жанна уже ввела г-на де Рогана и удалилась, незаметно пожав руку своему покровителю, которому теперь сама покровительствовала.
Принц остался в трех шагах от королевы и почтительно поклонился ей по всем требованиям этикета.
Королева, видя эту полную такта сдержанность, была тронута; она протянула руку кардиналу, который все еще не поднимал на нее глаза.
— Сударь, — сказала она, — мне сообщили о вашем поступке, который зачеркивает многие ваши провинности.
— Позвольте мне, — произнес принц, весь дрожа от непритворного волнения, — позвольте мне уверить вас, что мои провинности, о которых говорит ваше величество, покажутся значительно меньше после нескольких слов объяснения между вами и мной.
— Я вам не запрещаю оправдываться, — с достоинством ответила королева, — но все, что вы скажете, набросило бы тень на мою любовь и уважение к моей стране и семье. Вы можете оправдываться, только нанеся мне оскорбление, господин кардинал. Но не будем дотрагиваться до этого еще не совсем погасшего огня: он может обжечь пальцы вам или мне. Видеть вас в новом свете, услужливым, почтительным, преданным…
— … до самой смерти, — вставил кардинал.
— В добрый час. Однако, — сказала Мария Антуанетта с улыбкой, — пока дело идет не о смерти, а только о разорении. Вы мне преданы до того, что способны разориться, господин кардинал? Это красиво, даже весьма красиво. К счастью, я все устроила. Вы и останетесь в живых, и не будете разорены, если только не разоритесь, как рассказывают, по собственной воле.
— Ваше величество…
— Это ваше дело. Но все же по-дружески — так как мы теперь добрые друзья, — я дам вам совет: будьте бережливы — это пастырская добродетель. Король будет больше любить вас бережливым, чем расточительным.
— Я сделаюсь скупым, чтобы угодить вашему величеству.
— Король, — сказала с деликатным намеком королева, — не любит также и скупых.
— Я буду таким, как угодно вашему величеству, — прервал королеву кардинал с почти нескрываемой страстью.
— Так я говорила вам, — резко оборвала его королева, — что вы не разоритесь из-за меня. Вы поручились за меня, я благодарна вам за это, но я имею возможность расплатиться сама. Поэтому не беспокойтесь больше об этом деле, которое начиная с первого взноса будет касаться только меня одной.
— Чтобы совершенно покончить с этим делом, ваше величество, — сказал кардинал с низким поклоном, — мне остается только вручить вашему величеству ожерелье.
И с этими словами он достал из кармана футляр и подал его королеве.
Она даже не взглянула на ожерелье, что как раз ясно говорило о страстном желании поскорее полюбоваться им, и, вся дрожа от радости, положила футляр на шифоньерку у себя под рукой.
Кардинал попытался обратиться к ней с несколькими любезными фразами, которые были приняты очень милостиво, и затем вернулся к тому, что сказала королева насчет их примирения.
Но так как она дала себе слово не смотреть на бриллианты в присутствии кардинала и вместе с тем горела желанием их увидеть, то слушала его уже рассеянно. Так же рассеянно она протянула ему руку, которую он с нескрываемым восторгом поцеловал. Затем он откланялся, опасаясь стеснить ее своим присутствием, и это ее крайне обрадовало. Обычный друг никогда не стесняет; тот, к кому равнодушны, стесняет еще меньше.
Так прошла эта встреча, от которой затянулись все сердечные раны кардинала. Он вышел от королевы воодушевленный, опьяненный надеждой и готовый засвидетельствовать г-же де Ламотт безграничную признательность за переговоры, которые она столь счастливо привела к благополучному окончанию.
Жанна ожидала кардинала в его карете, в ста шагах перед заставой; там она приняла пылкие заверения в дружбе.
— Ну, — сказала она после первого взрыва благодарности, — кем вы будете: Ришелье или Мазарини? Что посулила вам австрийская губа: удовлетворение вашего честолюбия или нежного чувства? Во что вы бросаетесь — в политику или любовную интригу?
— Не смейтесь, милая графиня, — сказал принц. — Я схожу с ума от счастья.
— Уже!
— Помогите мне, и через три недели министерство будет в моих руках.
— Проклятье! Через три? Как это долго! Срок первой уплаты через две недели.
— О! Удачи не приходят поодиночке. У королевы есть деньги, она заплатит сама. У меня останется только заслуга моего намерения. Это слишком мало, графиня, клянусь честью, слишком мало. Бог мне свидетель, что я охотно бы заплатил за это примирение пятьсот тысяч ливров!
— Будьте спокойны, — прервала его с улыбкой графиня, — у вас будет и эта заслуга помимо прочих. Вы очень хотели бы этого?
— Сознаюсь, что предпочел бы заплатить; королева, став моей должницей…
— Монсеньер, я предчувствую, что вы насладитесь этим удовольствием. Вы готовы к уплате?
— Я велел продать мои последние земли и заложил мои доходы и бенефиции на будущий год.
— Значит, у вас есть пятьсот тысяч ливров?
— Да; но после этого взноса я уже не буду знать, что делать.
— После этого взноса, — воскликнула Жанна, — мы можем быть спокойны целых три месяца! А за это время столько событий может произойти, великий Боже!
— Правда, но король велел передать мне, чтобы я больше не делал долгов.
— За два месяца пребывания во главе министерства вы внесете порядок в ваши дела.
— О, графиня…
— Не возмущайтесь. Если вы этого не сделаете, то вместо вас это сделают ваши кузены.
— Вы всегда правы. Куда вы едете?
— Обратно к королеве, чтобы узнать, какое впечатление вы произвели на нее.
— Прекрасно. Я возвращаюсь в Париж.
— Зачем? Вы могли бы продолжить игру сегодня вечером. Это было бы прекрасной тактикой; не покидайте поле сражения.
— К несчастью, у меня назначено свидание; я узнал о нем сегодня утром, перед тем как выехать из дому.
— Свидание?
— И довольно серьезное, если судить по содержанию переданной мне записки. Прочтите…
— Мужской почерк! — сказала графиня. И прочла:
«Монсеньер, некто желает поговорить с Вами относительно получения крупной суммы. Это лицо явится сегодня вечером к Вам в Париж и надеется на честь быть принятым».
— Анонимная записка… Какой-нибудь попрошайка.
— Нет, графиня, никто не отважится так легкомысленно на опасность быть избитым моей прислугой за сыгранную со мной шутку.
— Вы думаете?
— Не знаю почему, но мне кажется, что я знаю этот почерк.
— В таком случае поезжайте, монсеньер. Ведь в разговоре с людьми, обещающими денег, нет большого риска. Самое худшее, что может случиться, это то, что они не заплатят их. Прощайте, монсеньер.
— Счастлив буду снова увидеть вас, графиня.
— Кстати, монсеньер, еще о двух вещах.
— Каких же?
— Если вдруг он явится, чтобы неожиданно вернуть вам крупную сумму?..
— То что же, графиня?
— … что-нибудь потерянное; находку, клад…
— Понимаю, плутовка, вы хотите сказать — пополам?
— Честное слово, монсеньер!..
— Вы приносите мне счастье, графиня. Почему бы мне не рассчитаться с вами за это? Так я и сделаю. Теперь вторая просьба.
— Вот она. Не растратьте эти пятьсот тысяч ливров.
— Этого не бойтесь.
Они расстались. Кардинал, полный неземного блаженства, вернулся в Париж.
В самом деле, два часа назад жизнь повернулась к нему другой стороной. Если он был всего лишь влюблен, то королева только что дала ему больше, чем он смел надеяться; если он был честолюбив, то она обнадежила его еще больше.
Король, умело направляемый своей женой, становился орудием карьеры, которую отныне ничто не смогло бы остановить. Принц Луи чувствовал, что он полон идей; у него был талант к политике, каким не обладал ни один из его соперников; он понимал, как улучшить положение дел; он хотел воссоединить духовенство и народ, чтобы образовать прочное большинство, которое будет править долго с помощью силы и закона.
Поставить во главе этого реформаторского движения королеву, которую он обожал, и превратить постоянно растущую неприязнь к ней в не имеющую равных популярность — такова была мечта прелата, и одно-единственное ласковое слово королевы Марии Антуанетты могло сделать эту мечту реальностью.
Итак, ветреник отказывался от своих легких побед, светский человек делался философом, любитель праздности становился неутомимым тружеником. Сильным характерам нетрудно сменить бледность развратника на усталость труженика. Господин де Роган мог многого достичь, увлекаемый горячей упряжкой коней, которых именуют любовью и честолюбием.
Вернувшись в Париж, он почувствовал себя в рабочем настроении, сразу сжег целую шкатулку любовных записочек, позвал управляющего, отдал соответствующие его новым намерениям распоряжения и велел секретарю очинить перья, чтобы приступить к составлению памятной записки об английской политике, которую превосходно понимал. Проработав над этим около часа, он начал уже понемногу приходить в себя, когда раздавшийся в кабинете звонок известил его о каком-то важном посетителе.
Вошел слуга.
— Кто там? — спросил прелат.
— Лицо, писавшее сегодня утром монсеньеру.
— Без подписи?
— Да, монсеньер.
— Но у этого лица есть же имя. Спросите его.
Слуга через минуту вернулся.
— Господин граф де Калиостро.
Принц вздрогнул.
— Пусть войдет.
Граф вошел; дверь за ним закрылась.
— Боже великий! — воскликнул кардинал. — Кого я вижу!
— Не правда ли, монсеньер, — с улыбкой сказал Калиостро, — я нисколько не изменился?
— Возможно ли? — пробормотал г-н де Роган. — Джузеппе Бальзамо жив; он, которого считали погибшим при том пожаре?! Джузеппе Бальзамо…
— Граф де Феникс, живой, да, монсеньер, и живой больше, чем когда-либо.
— Но, сударь, под каким именем вы явились ко мне? И почему вы не сохранили старое?
— Именно потому, монсеньер, что оно старое и вызывает — прежде всего во мне, да и в других тоже — много печальных и неприятных воспоминаний. Взять хотя бы вас, монсеньер: ведь вы отказались бы принять Джузеппе Бальзамо?
— Я! Нет, сударь, нет!
Кардинал, еще не придя в себя от изумления, забыл даже предложить Калиостро сесть.
— Значит, — продолжал гость, — у вашего высокопреосвященства память лучше и честности больше, чем у всех других людей вместе взятых.
— Сударь, вы мне когда-то оказали такую услугу…
— Не правда ли, монсеньер, — прервал его Бальзамо, — что я не постарел и по-прежнему представляю прекрасный пример действия моего эликсира жизни?
— Признаю это, сударь; но вы стоите выше всего человечества, щедро наделяя всех золотом и здоровьем.
— Здоровьем — пожалуй, да, монсеньер, — но золотом… нет, о нет!..
— Вы больше не делаете золота?
— Нет, монсеньер.
— Но почему же?
— Потому что я потерял последнюю частичку одного необходимого ингредиента, данного мне моим учителем, мудрым Альтотасом, после его отъезда из Египта. Это единственный рецепт, который не принадлежал мне.
— Он оставил его при себе?
— Нет… то есть да, он оставил его при себе или унес в могилу, как вам будет угодно.
— Он умер?
— Я лишился его.
— Но почему же вы не продлили жизнь этому человеку, необходимому хранителю необходимого рецепта, между тем как себе самому сохранили жизнь и молодость в течение многих веков, как вы мне говорили?
— Потому что я могу все в борьбе с болезнью или раной, но я бессилен против несчастных случаев, отнимающих жизнь прежде, чем меня позовут.
— Так, значит, дни Альтотаса оборвал несчастный случай?
— Вы должны были слышать об этом, если знали о моей смерти.
— Тот пожар на улице Сен-Клод, пожар, в котором вы исчезли…
— … погубил одного Альтотаса; вернее, мудрец, устав от жизни, пожелал умереть.
— Это странно.
— Нет, это естественно. Я и сам сто раз подумывал так же прекратить свою жизнь.
— Да, но вы, однако, продолжаете жить.
— Потому что я выбрал для себя молодой возраст, когда прекрасное здоровье, страсти и физические наслаждения мне еще доставляют некоторое развлечение. Альтотас же, напротив, выбрал себе старческий возраст.
— Он должен был последовать вашему примеру.
— Нет, это был глубокий, высший ум; из всего земного ему нужно было лишь одно знание. А эта молодость с властно бурлящей кровью, эти страсти, эти наслаждения отвлекали бы его от постоянного созерцания. Важно, монсеньер, всегда быть свободным от лихорадки в крови; чтобы хорошо мыслить, надо уметь погружать себя в ничем не возмущаемую сонливость.
Старик размышляет лучше, чем молодой человек; поэтому, когда стариком овладевает тоска, лекарства уже не существует. Альтотас умер жертвой своей преданности науке. А я живу как светский человек, трачу впустую свое время и решительно ничего не делаю. Я растение… не смею сказать цветок: не живу, а дышу.
— О! — прошептал кардинал. — С воскресшим человеком возрождается все мое изумление. Вы возвращаете меня, сударь, в то время, когда магия ваших слов, сверхъестественность ваших поступков удваивали все мои способности, возвышали в моих глазах ценность человека. Вы напомнили мне о двух мечтах моей молодости. Ведь, знаете, прошло десять лет с тех пор, как вы явились передо мной.
— Знаю, мы оба постарели, подумайте сами. Монсеньер, я уже не мудрец, а только ученый. Вы не красивый молодой человек, а красивый принц. Помните ли вы, монсеньер, тот день, когда в моем кабинете, который теперь обновлен благодаря обоям, я обещал вам любовь одной женщины, на белокурые волосы которой смотрела моя ясновидящая?
Кардинал сначала побледнел, потом внезапно покраснел. Его сердце замерло сначала от ужаса, потом от радости.
— Помню, — сказал он, — но смутно…
— Ну, — с улыбкой произнес Калиостро, — посмотрим, могу ли я еще сойти за волшебника. Подождите, дайте мне сосредоточиться на этой мысли.
Он задумался.
— Это белокурое дитя, предмет ваших любовных мечтаний, — сказал он наконец, — где она? Что она делает? А, действительно, я вижу ее, да… И вы сами видели ее сегодня. Даже больше: вы только что приехали от нее.
Кардинал положил холодную как лед руку к сильно бьющемуся сердцу.
— Сударь, — произнес он так тихо, что Калиостро едва мог расслышать его слова, — умоляю вас…
— Не угодно ли вам, чтобы мы переменили разговор? — любезно продолжил чародей. — О, я полностью к вашим услугам, монсеньер. Располагайте мной, прошу вас.
И он уселся в довольно небрежной позе на софу, куда кардинал забыл пригласить его сесть в начале этого интересного разговора.
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления