Онлайн чтение книги
Война с саламандрами. Мать. Рассказы. Юморески
Действие первое
Кабинет отца. Окна открыты настежь. На средней стене большой портрет отца в офицерской форме, справа и слева от него — шашки, рапиры, револьверы, ружья, трубки с длинными чубуками, всякие достопримечательности из колониальных стран — копья, щиты, луки и стрелы, кривые кинжалы, а также оленьи рога, черепа антилоп и другие охотничьи трофеи. Боковые стены заняты книжными полками, резными шкафами и стойкой с начищенными до блеска ружьями; тут же висят восточные материи, звериные шкуры и географические карты. Вообще комната обставлена на мужской лад: тяжелый письменный стол, на столе — словари, глобус, коробки с табаком, трубки, шрапнельные стаканы, заменяющие пресс-папье, и т. д.; турецкий диван, потертые кресла и стулья, мавританский столик с шахматной доской и столик с граммофоном. На шкафах — офицерские фуражки и каски. Кроме того, всюду разная экзотика — негритянские маски и другие мелочи, какие лет тридцать тому назад обычно привозили домой из колоний и других отдаленных стран. Все это имеет довольно старомодный вид и порядком обветшало; кабинет похож скорее на семейный музей, чем на жилую комнату. На диване, забравшись туда с ногами и высоко подняв колени, сидит Тони; на коленях у него толстая книга; на книгу он положил лист бумаги и что-то пишет. Время от времени шепотом читает написанное, отбивая такт рукой; иногда недовольно качает головой, что-то вычеркивает, исправляет и снова принимается тихо скандировать.
Входит Петр, насвистывая песенку.
Петр. А, Тони! Ну, как дела? (Подходит к письменному столу и, продолжая насвистывать, рассеянно вертит глобус.)
Тони. Что?
Петр. Стихи сочиняешь?
Тони. И не думаю! (Поспешно прячет в книгу исписанный листок бумаги.) А тебе, собственно, какое дело?
Петр. Никакого. (Засунув руки в карманы, подходит к Тони и, посвистывая, смотрит на него.) Ну-ка, покажи!
Тони (делаявид, будто читал книгу). Что ты, что ты! Такой вздор…
Петр. Гм!.. (Шутливо дергает Тони за волосы.) Ну, ну, ладно. Эх ты… (Медленно возвращается к письменному столу, открывает одну из коробок с табаком и набивает себе трубку.) Лучшего занятия, видно, не нашел? (Выдвигает средний ящик стола.)
Тони. Ну, а ты чем так занят?
Петр. Я? Ничем. (Вынимает из ящика растрепанную книжку и перелистывает ее.) Если можно так выразиться, лихорадочным ничегонеделанием. Мой час еще не пробил, Тони! (Подходит к шахматному столику и садится за него.) Посмотрим теперь эту задачку; отец начал было решать, да так и не успел. Попробуем мы… (Расставляет несколько белых и черных фигур и проверяет их расположение по книжке.)
Тони (нерешительно). Петр, ты ничего не знаешь?..
Петр (рассеянно). Да?
Тони. Насчет Иржи.
Петр. А что?
Тони. Он не собирается… поставить сегодня какой-то рекорд?
Петр. Почему ты думаешь?
Тони. Понимаешь, вчера вечером он вдруг сказал: «Тони, помахай мне завтра рукой на счастье. Я собираюсь сделать одну вещь». Он говорил — часа в три…
Петр. Часа в три? (Смотрит на часы.) Тогда, значит, совсем скоро! Нам он не сказал ни слова… (Продолжает, посвистывая, расставлять фигуры на доске.) Должно быть, не хотел, чтобы мама знала. Она всегда так волнуется, когда Иржи летает… Ты при ней не говори, слышишь? (Заглядывает в книжку, потом задумывается над шахматной доской.) Гм, дэ пять… дэ пять… Папа здесь отметил, что первый ход должен быть на дэ пять, но, по-моему, тут что-то не так… Знаешь, Тони, я иногда думаю: как, должно быть, томился отец в колониях; поэтому он и занимался там шахматными задачами.
Тони. А ты что? Тоже томишься?
Петр. Невероятно. Такой бестолковщины, как сейчас, не знало еще ни одно столетие. (Оборачивается к Тони.) Ну-ка, Тони, довольно фокусов, показывай свои стихи!
Тони. Что ты! Какие там стихи!.. Они еще не готовы!
Петр (подходит к нему). Ладно, ладно!
Тони ( отдает ему исписанный листок бумаги). Да у меня ничего не получилось! Ты будешь смеяться!
Петр. Я только посмотрю, нет ли там орфографических ошибок. (Медленно, внимательно читает стихи.)
Входит Корнель с винтовкой в руке.
Корнель. А, вы, оказывается, здесь? (Щелкает затвором.) Пришлось, понимаете, эту подлую штуку разобрать на части, но зато теперь она как игрушечка — одно удовольствие! (Ставит винтовку на стойку.) Надо бы испробовать ее, Петр… Так чем вы здесь занимаетесь, ребятки? (Берет со стойки другую винтовку и проверяет затвор.)
Тони (не отрывая глаз от Петра). Да ничем…
Петр. Тут у тебя, Тони, в одном стихе два лишних слога.
Тони. В каком? Покажи!
Петр. В том, которое начинается словами: «Но вот прекрасная приходит незнакомка…»
Корнель (старательно дует на затвор). А, муки творчества! Наш Тони снова во власти рифм? (Кладет ружье на стол, вынимает из ящика ружейное масло и паклю.)
Петр. Скажи, пожалуйста, кто же эта «прекрасная незнакомка»?
Тони (вскакивает и старается вырвать у него листок). Дай сюда! Я знаю, что у меня ничего не вышло! Пусти, я сожгу!
Петр. Да подожди! Я спрашиваю совершенно серьезно. Не валяй дурака, Тони! Кстати, стихи далеко не так плохи.
Тони. Нет, в самом деле?
Петр (читает про себя). Кроме шуток. Звучит, право, недурно, юный Арион!
Тони. Тогда ты должен сам догадаться, кто эта незнакомка.
Петр. Ты воспеваешь… смерть? (Возвращает ему стихи.)
Тони. Зачем же ты спрашиваешь, если понял сам?
Петр. Я просто удивляюсь, что ты так страстно призываешь смерть. Ведь ты еще совсем мальчишка!
Корнель (чистит винтовку на письменном столе). Именно потому, что мальчишка. У Тони — мировая скорбь. «О прекрасная незнакомка, утоли мою печаль!» А я решительно не понимаю, что может быть прекрасного в смерти? Разве только…
Петр. Разве только — когда есть за что умереть. Так ведь?
Корнель. Правильно! Золотые слова, Петршичек! Например, за вашу черную тряпку на шесте! Смерть на баррикадах — не иначе! Дешевле наш Петр не уступит. Трах-тара-рах!
Тони (чуть не плача). Перестаньте! Опять вы поссоритесь!
Петр (усаживается за шахматную доску). Не будем, не будем, малыш. По крайней мере, я не собираюсь. Стану я обращать внимание на то, что говорит это дряхлое, озлобленное, ретроградное ископаемое! Ничего не поделаешь, он родился на полчаса раньше меня. И как раз тут прошла граница между поколениями, понимаешь? Но колесо истории остановить нельзя! Уже слышны шаги нового поколения, родившегося на полчаса позже… (Делает ход на шахматной доске.) Н-да, дэ пять… дэ пять. Нет, пожалуй, если ходить, как думал папа, ничего не выйдет. (Ставит фигуру обратно.)
Корнель. А мне ты свои стихи не покажешь, Тони?
Тони. Сначала мне надо отшлифовать их как следует.
Корнель (вытирает пальцы паклей). Оставь, как есть. Чем больше что-нибудь переделываешь, тем хуже получается.
Тони (протягивает ему листок бумаги). Но ты не станешь меня вышучивать, Корнель?
Петр (склонившись над шахматной доской). Будь спокоен, Корнель шутить не любит. Он только проверит, нет ли там у тебя каких-нибудь разрушительных тенденций, например — свободного стиха…
Тони. Да нет же, это написано обыкновенным стихом!
Петр. Твое счастье, Тони. Иначе Корнель объявил бы тебя государственным изменником и большевиком. Ты не должен заниматься ниспровержением основ. Предоставь это мне. В нашей семье обязанности пугала исполняю я… А что, если пойти этим слоном? (Отрицательно качает головой.) Нет, тогда я обнажил бы свою грудь и белые нанесли бы мне удар прямо в сердце. Стоп!.. «Но вот прекрасная приходит незнакомка…»
Тони. Не мешай Корнелю читать!
Петр. Прости, я не заметил, что рассуждаю вслух. До чего доводит человека ораторский талант!
Корнель (возвращает стихи). Ужасно!
Тони. Так плохо?
Корнель. Просто возмутительно! Петр, из этого мальчишки выйдет поэт!.. В таком почтенном офицерском семействе… Как ты думаешь, не всыпать ли ему как следует?
Тони (ликуя). Нет, скажи, они в самом деле тебе нравятся?
Корнель (треплет ему волосы). Тебе придется еще поучиться. Но смерть оставь в покое! Это не по твоей части — не для маменькина сынка. Можно прекрасно сочинять стихи и о жизни…
Тони. Так, по-твоему, мне стоит продолжать?..
Корнель (снова берется за винтовку). Да… как тебе сказать… В нашей семье ведь каждый на свой образец. Такая уж злосчастная семейка!
Петр. Ты знаешь, что наш Иржи намерен поставить сегодня рекорд?
Корнель (отрывается от винтовки). Кто тебе сказал?
Петр. Тони. Иржи просил его помахать ему рукой на счастье.
Тони. Ай-ай-ай, я совсем забыл! (Поспешно машет рукой.)
Корнель (высовывается в окно). Погода прекрасная. А если к этому немного удачи…
Тони. Какой это рекорд?
Петр. Высотный.
Корнель. И притом с грузом… (Снова склоняется над винтовкой.)
Тони. Изумительное, должно быть, чувство… Летать так высоко. Крушить в поднебесье, где нет ничего, кроме лазури, и при этом петь: «Все выше и выше!»
Петр. Прежде всего, братец, там невероятно мерзнут руки.
Корнель. Держу пари, что рано или поздно Иржи поставит этот рекорд. Наш Иржи пошел в отца.
Тони. Чем?
Петр (не отрываясь от шахмат). Отвагой.
Корнель (продолжая возиться с винтовкой). Дисциплинированностью, Петр.
Тони. Вы, по крайней мере, хоть знали отца, а я… Скажите мне, наш Ондра тоже был такой, как отец?
Корнель. Тоже. Поэтому он и погиб.
Тони. А ты?
Корнель. Я стараюсь, Тони. Делаю, что могу.
Тони. А Петр?
Корнель. Ну, этот прилагает все усилия к тому, чтобы как можно меньше походить на него.
Петр. Я? Друг мой, я прилагаю все усилия к тому, чтобы решить до конца его шахматную задачу.
Корнель. Да, разве вот только это. А в остальном… Бедный папа, наверно, только руками бы развел. Кавалерийский офицер, майор, а сын, изволите видеть, хочет весь мир перевернуть. Форменная семейная драма… Отчего это папины винтовки так ржавеют?
Петр. Не верь ему, братец. Отец всегда был с теми, кто шел вперед. И в этом отношении я весь в него. (Делает ход на шахматной доске.) Итак, черная пешка ходит на эф четыре. Белые вынуждены защищаться.
Корнель. Белые вынуждены защищаться? Покажи-ка! (Подходит к столику.)
Петр. Черные идут в атаку. Белые отступают.
Корнель (нагнувшись над доской). Нет, постой, это не годится. Отец хотел пойти тем конем на дэ пять.
Петр. Может быть. Но сейчас другое время. Отец был кавалерист, а мое сердце — на стороне пехотинцев. Пешки всегда идут вперед. Пешка может пасть, но она не может двигаться назад. Пешки всего мира, объединяйтесь!
Корнель. Но если пойти конем на дэ пять…
Петр. Не путай мою задачу!
Корнель. Это папина задача. И вот смотри: если конь стоит на дэ пять, то белые в три хода дают мат.
Петр. Но этого-то я как раз и не хочу, дружочек. Я хочу разгромить белых. Черная пешка поднимается на баррикаду и прогоняет белого коня.
Корнель. Ах, черт, в самом деле! Очевидно, в задаче какая-то ошибка. Эта возможность там не учтена.
Петр. Вот видишь! Да, ваше превосходительство, задача допускает два решения.
Корнель. Первое решение — это папино.
Петр. А второе — революционное. Вперед, угнетенные пешки! Твердыня неприятеля — белая ладья — под угрозой. Готовьтесь к бою!
Корнель. Послушай, Петр, отставь эту пешку назад. Ты испортишь всю игру.
Петр. Какую игру?
Корнель. Папину. Папа пошел бы на дэ пять.
Петр. Папа был солдат, мой милый. Он сказал бы: «Молодцы черные, не сдаются». И ринулся бы в бой на белых…
Корнель. Да отставь ты эту пешку назад!
Петр. С какой стати?
Корнель. Я хочу посмотреть, как сыграл бы здесь отец.
Петр. Нет, брат, здесь идет другая игра. Теперь играет уже не отец. Теперь играем мы. Напрасно пробуешь брыкаться, белый конь! Ничто не остановит черного бойца на его пути! Через четыре хода он превратится во всемогущего ферзя. Мы, впрочем, называем это иначе…
Корнель. Как?
Петр (сразу делается серьезным). Новой властью, мой милый. Властью черных. И она придет!
Корнель. Этого не будет, Петр. У нас остается еще один ход.
Петр. Какой?
Корнель. Вот этот! (Сбрасывает рукой фигуры с доски.)
Петр. Ага! Это называется путь насилия. (Встает.) Ну, что ж, ладно! Тогда будем действовать иначе!
Тони (который до сих пор читал, примостившись на диване, поднимает голову и полуистерически кричит). Да бросьте вы свою политику! Это просто невыносимо!
Корнель. Ведь это же игра, успокойся, ты, недотрога! Мы просто хотим немного пофехтовать — правда, Петр?
Тони. Нет, это вовсе не игра! Я знаю, о чем идет речь!
Петр. Правильно, Тони. Это очень серьезное дело. Бой между старым и новым миром. Но не бойся, я насажу Корнеля на шпагу, как жука на булавку. Долой тиранов! (Нахлобучивает один из шлемов.) Да сгинет проклятый старый мир! У-у-у, Корнель!
Корнель (надевает кавалерийскую каску). Я готов! (Снимает со стены две рапиры.) Благоволите выбрать, уважаемый противник.
Петр (сгибает одну из рапир). Годится. Но борьбы равным оружием теперь не бывает. Это страшно старомодно. (Оба становятся в позицию.) Ну, Тони, командуй!
Тони (зарывшись в книгу и заткнув уши пальцами). Не хочу!
Корнель. Внимание. Раз, два… три!
Петр и Корнель фехтуют, посмеиваясь.
Петр. Ла-ла!
Корнель. Ала!
Петр. Долой тиранов! Долой предателей! Ла-ла!
Корнель. Ла-ла!
Петр. Есть! Первый удар!
Корнель. В плечо. Легкая рана. Бой продолжается с переменным успехом.
Петр. «Добьемся мы освобожденья!..»
Корнель. Подождешь!.. Есть! Тронул!
Петр. Просто царапина. Ла-ла! Вперед, черная пешка!
Корнель. Хо-хо, мы стоим, как скала, сударь! Ла-ла!
Петр. «Это будет последний и решительный бой…» Тронул!
Корнель. И не думал даже! На, получай!.. (Приостанавливается.) Постой. Тебе не больно, Петр?
Петр. Ерунда! En garde![150] En garde! — Защищайся (франц.).
Фехтуя, они опрокидывают столик и стулья.
Ла!
Корнель. Ала!
Петр. Стоп! Это была бы сонная артерия, Корнель! Ты убит.
Корнель. Ранен, но продолжаю бой. До последнего издыхания. Ала!
Тони (кричит). Перестаньте!
Петр. Сейчас, Тони, сейчас. Пешка идет в атаку! А! А! Старый мир рушится!
Корнель. Finito.[151] Finito — Кончено (итал.). Это удар прямо тебе в сердце, Петр. (Опускает рапиру.)
Петр (салютуя рапирой). Благодарю вас, я убит.
Корнель (салютуя в ответ). Мне очень жаль…
Петр. Да, я убит, но тысячи черных пешек станут на мое место. Ура, товарищи!..
Входит Мать и останавливается на пороге.
Мать. Дети, дети, что вы тут опять затеяли?
Петр. Ничего, мамочка. (Поспешно вешает рапиру на стену.) Просто Корнель меня только что убил. Попал прямо в сердце. (Кладет шлем на место.)
Корнель (вешает рапиру). А Петр зато проткнул мне глотку, мамочка. Тоже серьезная рана. (Кладет каску на место.)
Мать. Вечно эта двойня затевает драку. Посмотрите, шалопаи, что вы тут опять натворили! И непременно в отцовском кабинете…
Петр. Мы сейчас приведем все в порядок, мама. Ты не беспокойся. Ну-ка, Корнель!
Оба наспех наводят порядок, поднимают упавшие столик, стулья и т. п.
Мать. Бросьте вы! Знаю я ваш порядок! Одно горе!
Корнель (стоя на четвереньках, разглаживает ковер). Сейчас все будет в самом лучшем виде, мама! Пусти, Петр!
Петр (тоже на четвереньках, отталкивает его). Нет, ты пусти!
Вдруг Петр и Корнель обхватывают друг друга руками и начинают кататься по полу.
Я положу тебя на обе лопатки!
Корнель (тяжело дыша). Попробуй!
Петр. Сейчас увидишь!
Катаются по всей комнате.
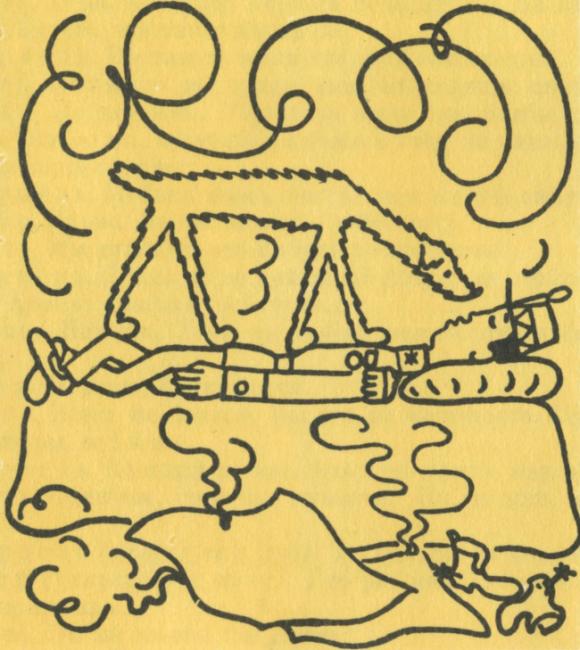
Иозеф Чапек. К. Чапек. Минда, или О собаководстве. Иллюстрация.
Мать. Да будет вам! Вы тут когда-нибудь на самом деле все переколотите! Постыдились бы, такие взрослые!.. Что о вас подумает Тони?
Петр (отпускает Корнеля). Пойди сюда, Тони, я тебя тоже научу.
Тони. Не пойду!
Мать. Оставьте Тони в покое. И чтоб духу вашего здесь больше не было! Тони, из-за чего это они?
Тони. Петр не хотел пойти на дэ пять.
Корнель (подбирает с пола шахматные фигуры). Понимаешь, мама, это — папин ход. Я только вступился за семейную традицию.
Петр. Это неправда, мама. Задача допускала два решения.
Корнель (расставляет фигуры на шахматной доске). Так почему же не разыграть ее, как папа?
Петр. А почему не иначе? В наши дни папа, может быть, тоже разыграл бы ее, как я.
Мать. Тихо! Довольно спорить, и марш отсюда! Тут после вас нужна основательная уборка. Уж эти мне мужчины!
Корнель. Мы тебе поможем, мама!
Мать. О да, конечно! Хороши помощники! Да вы представления не имеете, что такое порядок!
Корнель. Поставить вещи так, как они стояли.
Петр. Поставить вещи так, как они должны стоять.
Мать. Да нет же!.. Поставить вещи так, чтобы им было хорошо. Но только вы, мужчины, ничего в этом не понимаете. Ну-ка, оба, живо марш отсюда!
Корнель. Пойдем в сад, постреляем из той винтовки.
Петр. Ладно. На сто шагов — в бутылку.
Мать. Им лишь бы что-нибудь расколотить!
Корнель. Тони, ты не пойдешь? (Берет со стойки винтовку, которую принес в начале действия.)
Мать. Нет уж, Тони не любит вашей стрельбы. Правда, Тони?
Петр. Я знаю, Тони боится.
Мать. Вовсе не боится. Вы его не понимаете. Он просто не такой, как вы, вот и все.
Корнель. Каждый из нас, мама, не такой, как другие.
Мать. Меньше, чем вы думаете. Ну, пошли, пошли, сорванцы!
Корнель (целует ее в лоб). Ты больше не сердишься?
Петр (целует ее в щеку). Где уж мамочке сердиться! Она, бедная, привыкла…
Мать. Вы не знаете, где Иржи?
Корнель. Иржи? Да, в самом деле, куда он девался? Ты не знаешь, Тони?
Тони. Кажется… кажется, у него какое-то свидание.
Мать. С кем?
Петр. Разве он скажет?.. Может быть, с какой-нибудь прекрасной незнакомкой.
Оба старших брата, толкая друг друга, стараются поскорее протиснуться в дверь.
Мать. А тебе что нужно было здесь, Тони?
Тони. Ничего. Я просто так… Читал…
Мать. Что-нибудь из папиных книг?
Тони. Да, записки одного путешественника.
Мать. Опять эти далекие страны… Ни к чему тебе это, Тони! Ты ведь никогда не будешь путешественником, правда? (Ходит по комнате и не спеша приводит все в порядок.)
Тони. Наверно, не буду. Но, знаешь, я так живо представляю себе…
Мать. Что, например?
Тони. Разное… Степь, высокие травы, и вдруг промчится стадо антилоп… Знаешь, мама, я просто не понимаю, как можно стрелять в животных…
Мать. Папа стрелял… Но ты, наверно, будешь другим. (Обнимает его за шею.) Я бы хотела только одного: чтобы ты всегда был такой, как сейчас. Кто-нибудь должен же оставаться дома, Тони! А то ведь ни у кого на свете не было бы своего дома… (Целует его.) Ну, иди пока, мне надо еще кое-что сделать…
Тони уходит.
(Продолжает бесшумно прибирать в комнате.) Тони будет другим. Тони должен быть другим. (Останавливается перед портретом отца и смотрит на него. Потом пожимает плечами, подходит к окнам и задергивает тяжелые занавеси.)
В комнате становится полутемно.
(Возвращаетсяк портрету отца и зажигает стоячую лампу на столике перед ним.) Ну, зачем ты их все время тянешь сюда? Ты же знаешь, Рихард, что я этого не люблю. Даже Тони — родился после твоей смерти, никогда тебя не видел, а только улучит минутку, сейчас же сюда забирается. Ну, зачем ты это делаешь? Я тоже хочу, чтобы мои дети принадлежали мне! Не хочу, чтобы они все время тянулись за тобою!
Отец (медленно выходит из темного угла; он одет в ту же форму, что и на портрете). Я вовсе не тяну их сюда, дорогая. Это они сами. Понимаешь, они с детства не знали лучших игрушек, чем весь этот хлам… Так что это понятно.
Мать ( нисколько не удивленная появлением отца, спокойно оборачивается к нему). Ну да, ты всегда так говоришь, мой милый. Но теперь они как будто уже слишком взрослые для твоих игрушек, а все-таки вечно торчат здесь!
Отец. Что ж! Воспоминания детства. Да ты могла бы давным-давно выбросить все это барахло. Кому оно нужно?
Мать. Что ты! Выбросить! Ведь это память о тебе! Нет, нет, Рихард, я имею право на эти вещи и держу их здесь для самой себя. Они — это ты. (Садится в кресло.) Но, знаешь, всякий раз, как здесь побывают мальчики, после них в воздухе что-то остается… что-то такое, как будто ты сам был здесь. Ты сам.
Отец (садится верхом на стул). Это просто запах табака, душенька.
Мать. Табака и жизни. Ты не можешь себе представить, что со мной делается в такие минуты. Стоит мне только закрыть глаза, и я страшно остро ощущаю: здесь был Рихард… Рихард… Рихард… Ты наполняешь здесь все, здесь можно дышать тобою. Нет, не говори: этот хлам здесь ни при чем. Это ты, ты… А мальчиков ты все-таки портишь, Рихард.
Отец. Да что ты, милая, выбрось это из головы! Ну, скажи, пожалуйста, как я могу их портить? Если человек в один прекрасный день… Кстати, сколько прошло уже лет?
Мать. Ты должен сам знать. Семнадцать.
Отец. Уже? Так вот, видишь ли, если человек в один прекрасный день распрощался с жизнью и с тех пор прошло семнадцать лет, то от него остается очень, очень мало. И с каждым днем все меньше и меньше. Я уже ни на что не годен, мой друг. Разве на то лишь, чтобы в память обо мне всю эту ветошь обтирали пыльной тряпкой.
Мать. Все равно, ты их притягиваешь. Оттого они сюда и лезут. Ведь это так много для мальчишек: отец — воин, отец — герой. Я вижу, как это их чарует. И всегда чаровало.
Отец. Не надо было, деточка, рассказывать им обо мне. Это твоя ошибка.
Мать. Не надо было рассказывать! Как ты можешь так говорить? Кто же должен хранить память о тебе, если не я? После твоей смерти, Рихард, у меня не было других радостей, кроме наших детей и воспоминаний о тебе. Я знаю свой долг перед тобой, дорогой мой. Немного найдется детей на свете, которые могли бы с таким же правом гордиться своим отцом… Ты не можешь себе представить, как много это значило для наших мальчиков. Что же, по-твоему, я должна была лишить их этого?
Отец. Ты преувеличиваешь, мой дружок. Не сердись, но тут ты всегда преувеличивала. Какое там геройство! Ничего особенного не было. Самая пустяковая стычка с туземцами, к тому же еще и… неудачная.
Мать. Да-да, знаю, ты всегда так говоришь. Но твой генерал тогда написал мне: «Сударыня! Вы оплакиваете героя. Ваш супруг добровольно вызвался участвовать в самом опасном деле…»
Отец. Да ведь это, душенька, только так говорится. Он просто хотел чем-нибудь скрасить сообщение о том, что… что со мной произошло несчастье. Какой там герой! Кого-нибудь надо было послать, и если бы не вызвался я, пошел бы другой. Вот и все.
Мать. Другой, наверно, не был бы отцом пятерых детей!
Отец. Да, может быть, но если у человека пятеро детей, то это еще не значит, что он должен быть плохим солдатом, дорогая. Во всяком случае, я не сделал ничего особенного… но ты этого не поймешь, душенька. Видишь ли, когда начинается стрельба, чувствуешь и рассуждаешь совсем иначе. Это очень трудно объяснить. Со стороны кажется — бог знает какая храбрость; но для того, кто участвует… Понимаешь, это получилось само собой. Надо было прикрыть фланг. Смотри, детка: здесь наступала главная колонна, а вот тут, с фланга, был горный проход. Этот проход мы должны были занять небольшим отрядом. И все. Пятьдесят два убитых. Пустяковое дело.
Мать. Пятьдесят два убитых… А сколько вас было всего?
Отец. Всего… Ну… тоже пятьдесят два… Но зато мы держались целых шесть дней. И знаешь, хуже всего была жажда. Там, понимаешь, не было воды. Безумная жажда… и злость. Я, душенька, ужасно злился.
Мать. Почему?
Отец. Да потому, что все это было, строго говоря, попусту. Наш полковник сделал ошибку. Надо было, чтобы главная колонна выждала некоторое время в долине, а туда, в горный проход, следовало послать, по крайней мере, два батальона. И горную батарею. Я это сразу понял и сказал полковнику, а он мне говорит: «Вы, кажется, боитесь, майор?..»
Мать. Рихард! И ты из-за этого пошел… на смерть?
Отец. Главным образом из-за этого, душенька. Главным образом из-за этого. Чтобы наш полковник увидел, что я был прав. Такой болван! Послать прямо в ловушку к туземцам!
Мать. И из-за него… из-за него…
Отец. Тебе это кажется глупым, правда? Но в полку это называется честью. На военной службе, видишь ли, иначе нельзя.
Мать. Рихард! Ты мне этого никогда не рассказывал. Так, значит, ты погиб только из-за того, что твой полковник отдал нелепый приказ?
Отец. Это, деточка, часто случается. Но зато, по крайней мере, выяснилось, что я был прав. Это тоже чего-нибудь да стоит.
Мать. Вот видишь, значит, ты думал об одном: доказать, что ты прав. А о нас ты не подумал. И о том, что я жду пятого ребенка, ты тоже не подумал.
Отец. Думал, дорогая! Еще как думал! Попадешь в такую переделку, так передумаешь столько, ты и представить себе не можешь. Например, едешь на лошади и говоришь себе: через три месяца я мог бы получить отпуск; к тому времени маленький уже появится на свет: надо будет осторожненько снять шашку в передней и войти на цыпочках… на цыпочках… А наш Ондржей пожмет мне руку, как взрослый мужчина, и скажет: «Здравствуй, папа!» — «Здравствуй, Ондржей! Что нового в школе?» — «Ничего особенного». А Иржи, Иржи начнет показывать мне какую-нибудь свою механику: «Смотри, папа!» А Корнель и Петр станут пялить на меня глаза и спорить о том, кто быстрее влезет ко мне на колени. «Ладно уж, сорванцы, валяйте оба сразу, только не ссорьтесь!» А жена… я не видел ее больше полугода. Больше полугода. И когда я обниму ее, она опять вся поникнет, ослабеет, как будто у нее совсем нет костей, и только вздохнет, еле слышно: «Рихард…»
Мать. Рихард…
Отец (встает). Ну, а ты, душенька? Как жила ты?
Мать (с закрытыми глазами). Я ждала тебя, дорогой мой… Родила тебе пятого сына… Он очень слабенький, Рихард. Непонятно, почему он такой хрупкий. Должно быть, потому что я столько плакала о тебе.
Отец. Ничего, поправится. Будет молодцом и героем, вот увидишь.
Мать (с неожиданной горячностью). Нет! Я не хочу! Не хочу, чтобы Тони был героем! С меня довольно, довольно! Слышишь, Рихард? Я дорого заплатила за ваше геройство! Достаточно того, что у меня погиб муж! Разве ты знаешь, разве кто-нибудь из вас знает, что это значит — потерять мужа? Если б ты только знал, во что я превратилась… Ах, Рихард, что ты со мной сделал! Как мог ты согласиться, чтобы тебя так бессмысленно послали на убой?
Отец. Но что же я мог поделать, дорогая, когда этот дурак-полковник сказал, что я боюсь… Мне пришлось отправиться туда… И он сказал это… в присутствии других офицеров. «Вы, кажется, боитесь, майор?» Не знаю, деточка, что бы ты сказала, если бы сама была при этом.
Мать (встает, тихим голосом). Я сказала бы: «Иди, Рихард. Этого снести нельзя».
Отец. Вот видишь, дорогая, значит, и ты почувствовала бы то же самое.
Мать. За это я и полюбила тебя, Рихард, за это и сейчас тебя люблю! Но ты не должен обращать на это внимания, мой единственный, нет, нет! Ты ведь не знаешь, что делается в сердце женщины, когда она так безрассудно, так по-женски кого-нибудь полюбила. Я сама не знаю, почему мы такие; знаю только, что мне всегда это в тебе страшно нравилось. Твой воинственный вид, звон твоих шпор, твоя отвага и твое фанфаронство, твоя честность и твое легкомыслие… Не знаю, почему это так восхищало меня. Должно быть, потому, что я была глупа, влюблена, с ума сходила. Но и сейчас, даже сейчас я не вынесла бы, если бы ты чем-нибудь унизил себя!
Отец. Ну, вот видишь! А если бы я тогда отказался…
Мать. Нет, нет, Рихард, не лови меня на слове! Я, вероятно… наверно, согласилась бы на то, чтобы ты поступил тогда… не по-военному. Ты вернулся бы ко мне и к детям… вышел бы в отставку. Я бы… свыклась. И любила бы тебя по-прежнему. Может быть, немного иначе. Я знаю, ты страшно тосковал бы… без этой вашей воинской чести, но мы как-нибудь пережили бы это… вдвоем. По крайней мере, ты был бы со мной, Рихард, и я могла бы заботиться о тебе.
Отец. Как о человеке, который ни на что не годен и умеет только тосковать. И ты бы этим удовольствовалась, милая?
Мать. Пришлось бы. Не думай, пожалуйста: мне и так приходилось довольствоваться… очень малым.
Отец. Я знаю, дорогая. Мне страшно больно. Эта майорская пенсия, которая осталась после меня…
Мать. Было пятеро детей, Рихард, — посмотри-ка на них. Ты не представляешь, как это трудно для одинокой женщины. Нет, нет, ты не в состоянии этого понять. Прости, любимый мой, мне не следовало бы говорить все это, но вы, мужчины, не имеете ни малейшего понятия… Одежда, обувь, еда, школа и снова — одежда, еда, школа… Все время высчитывать да высчитывать, десять раз вертеть в руках каждую тряпку и каждый грош, — что вы об этом знаете? Конечно, геройства тут нет никакого, но… без этого тоже не обойдешься, Рихард. Дорогой мой, что ты так смотришь на меня? Ну вот, видишь, во что я превратилась?
Отец. Ты, душенька, красавица! Еще лучше, чем была.
Мать. Не болтай глупостей, Рихард. Мы, живые, страшно меняемся. А вот ты — нет, ты нисколько не изменился. Мне даже стыдно, что я выгляжу такой старой, а ты по-прежнему молод. Не смотри на меня, мой единственный. Ведь на меня свалилось так много. И было так трудно без тебя…
Отец. Ну, от меня тебе немного было проку, душенька!
Мать. Но, по крайней мере, я не была одинока! А больше всего, друг мой, больше всего стала я нуждаться в тебе, когда дети начали подрастать. Нет, ты не думай: они были славные мальчики. И Ондра, и Иржи, и Корнель, и Петр всегда готовы были сделать для меня все. Но когда они стали взрослыми, мне начало казаться, что они говорят на каком-то чужом языке. Я не всегда понимаю их, Рихард. Ты лучше понимал бы, наверно.
Отец. Не знаю, детка, не знаю. Пожалуй, я тоже не мог бы сговориться с ними как следует. Что я понимаю, например, в медицине, или в авиации, или в тех глупостях, которыми набита голова у нашей двойни?..
Мать. Ты имеешь в виду политику?
Отец. Да. У меня голова устроена по-другому. Я был просто солдат, и больше ничего.
Мать. И все-таки… С тобой они больше считались бы. Я знаю: ты хотел, чтоб они тоже были солдатами. Но… когда ты погиб… я сказала себе: нет! Конечно, их приняли бы… бесплатно в военные школы; но я предпочла корпеть над работой, лишь бы они могли научиться чему-нибудь другому. Медицина, техника, что угодно — только не военная служба. Пусть занимаются чем-нибудь полезным… чем-нибудь таким, от чего не надо непременно умереть… Если бы ты только знал, каких трудов мне стоило дать им образование!.. А что из этого вышло?
Отец. Но, душенька, мне кажется, ты не можешь пожаловаться на них.
Мать. Как тебе сказать… Я кажусь себе наседкой, которая высидела орлят. Сижу на земле и кудахтаю от страха, когда они взлетают один за другим. Иногда я говорю себе: нельзя быть такой малодушной, нельзя мешать им… Ах, Рихард, как это ужасно быть матерью! Ведь и я в свое время была отчаянная, тоже воображала о себе невесть что… Уж кому и знать, как не тебе, мой милый…
Отец. Знаю, дорогая.
Мать. Я ведь убежала из дому ради тебя. И ничего не боялась, готова была хоть жизнь отдать. А теперь… теперь я хотела бы сидеть, как скряга, на сундуке, где спрятано то, чем я живу, и кричать на всех: «Не отдам! Не отдам!» Я и так уже достаточно отдала, Рихард. Сначала тебя, потом нашего Ондру. Больше от меня ничего нельзя требовать. Понимаешь, мне слишком дорого стоило то, что вы называете… геройством… Сначала ты, потом Ондра.
Отец. Ничего, душенька, Ондра погиб прекрасной смертью. Прекрасной и благородной.
Мать. Да, благородной, я знаю. Вам кажется страшно благородным умереть за что-нибудь; а о том, что при этом кто-то теряет вас, вы не думаете. Ну, ты, скажем, вынужден был пойти на смерть: ты был солдатом. Но Ондру никто не принуждал. Он был врач, занимался научными исследованиями. Мог бы работать где-нибудь в клинике… и тогда, наверно, не заразился бы…
Отец. Это случается с врачами, деточка. У нас в полку тоже умер так один доктор. На редкость милый был человек; я всегда играл с ним в шахматы. И вдруг взял заразился холерой…
Мать. Но нашему Ондре вовсе незачем было ехать туда, в колонии! Это все ты виноват!
Отец. Что ты, голубушка? Ведь я тогда уж давно в могиле лежал.
Мать. Все равно. Ты вечно тянул его сюда, в свой кабинет. Всегда оказывал на него огромное влияние, мой милый. Здесь он всегда учился, здесь зарывался в свои книги, здесь молча расхаживал целыми часами и курил… И здесь же вдруг в один прекрасный день объявил мне: «Мама, я поеду на экватор, хочу на мир посмотреть…» А насчет того, что он собирается там воевать с желтой лихорадкой… забыл сказать. Вы всегда скрываете от меня, что у вас на уме. Мне вы говорите: «Я, мамочка, только туда и обратно…» А потом остаетесь там… Сбежал от меня, как вор!
Из темного угла к разговаривающим подходит Ондра. Он в белом медицинском халате.
Ондра. Ах, мамочка, я ведь столько раз тебе объяснял… Я не хотел, чтобы ты беспокоилась. Поэтому ничего не сказал. Вот и все.
Мать. Это ты называешь «объяснять»? Ну да, о том, чтобы не волновать меня, ты подумал; а о том, что можешь там заразиться или попасть в беду, об этом — нет. А я подумала бы, Ондра. Так-то, милый.
Ондра. А что это дало бы тебе, мамочка? Все равно я поехал бы…
Мать. Ах, Ондра, ты был всегда такой серьезный, рассудительный мальчик! Без тебя я часто не знала бы, что мне делать. Ты был братьям вместо отца — такой благоразумный, справедливый… и вдруг — бац! — уезжаешь на экватор и умираешь там от желтой лихорадки! Как хочешь, но ты не должен был этого делать, Ондра, нет, нет, не говори!
Отец. Видишь ли, душенька, у врача тоже есть свои обязанности. Такая уж профессия, не правда ли, Ондра?
Мать. И далась тебе эта желтая лихорадка! Мог бы оставаться дома и лечить больных… или оказывать помощь при родах.
Ондра. Послушай, мама, рассуди сама: от желтой лихорадки умирали ежегодно сотни тысяч. Было бы позорно не найти от нее средства. Это был просто-напросто… долг.
Мать. Твой долг?
Ондра. Долг науки. Видишь ли, мамочка, это очень тяжелая и мучительная болезнь. И люди там… если бы ты видела, как они умирают, ты сама сказала бы: «Нет, Ондра, этого так нельзя оставить!» Это страшная вещь, мама. Кому-нибудь непременно нужно было туда поехать.
Мать. Но не обязательно тебе? Нет, Ондра, ты меня не убедишь.
Отец. Отчего же не ему? По-моему, голова у него была неплохая. А в таких случаях, деточка, за дело должны браться самые лучшие.
Мать. И, значит, самые лучшие должны умирать?
Отец. Ничего не поделаешь. Иначе нельзя, душенька. Самые лучшие всегда должны идти впереди. Можешь быть спокоен, Ондра: ты правильно поступил.
Мать. Ну да, конечно. Вы, мужчины, всегда заодно! Тебе легко говорить «правильно поступил», а если бы ты только знал, что со мною было, когда я получила телеграмму… Это просто не умещалось у меня в голове. «Сударыня, ваш сын пал, как герой, на фронте науки…»
Отец. Вот видишь, деточка: «как герой». За это стоило умереть, не правда ли?
Ондра. Ах, нет, папа. Это интересовало меня меньше всего. Я добивался только одного: выяснить природу желтой лихорадки. В этом нет никакого геройства. Если человек занимается наукой, он должен исследовать причины явлений. А остальное — вздор. Всякое там геройство или честь — детские игрушки, папа. Но дать людям крупицу новых знаний — вот это стоит жертвы.
Мать. И ты добился успеха?
Ондра. Я? Нет, мамочка. Но другие — да. Один швед и один американец.
Отец. Досадно. Я не люблю американцев.
Мать. Ну, вот видишь, Ондра! Так разве не была твоя жертва напрасной? И ненужной?
Ондра. Нет, мамочка. Ты просто этого не понимаешь.
Мать. Да, не понимаю. Я вообще никогда вас не понимала. Все время только и слышу и от Иржи, и от тех двоих: «Ты, мама, этого не понимаешь…» Не понимаю! Не понимаю! Господи Иисусе, я перестаю понимать самое себя! Ведь вы частицы моего тела… А ты, Рихард, ты вошел в меня и заполнил все мое тело и всю мою душу… И я вас не понимаю?! Что же в вас есть такое особенное, такое необычайно свое, что я вас уже не понимаю?
Ондра (подходит к ней). Только не волнуйся, мамочка. Тебе вредно: у тебя сердце слабое.
Мать. Нет, погоди. Я ведь вас хорошо понимала, когда вы были маленькими, ты помнишь, Ондра? Я сидела дома и на расстоянии знала, когда кто-нибудь из вас во дворе расшибал себе колено: не успеет он упасть, я уже бегу. А когда вы все сидели за столом, я так глубоко чувствовала: это я. Все это — я. Всем своим существом я чувствовала: эти дети — я! А теперь: «Ты мама, этого не понимаешь». Рихард, что это в них вселилось такое чужое… и враждебное мне?
Отец. Видишь ли, дорогая, они уже взрослые… ну, и у них свои интересы.
Мать. А я знала всегда только их интересы, понимаешь? Каждый из вас думает о своем деле, о своей чести, о своем призвании или бог знает о чем еще таком великом, чего я не в состоянии понять. А я — я всегда думала только о вас. У меня не было другого призвания, кроме вас. Я знаю, в этом нет ничего великого: только хлопоты и любовь. Но когда я подавала на стол блюдо с едой для вас, пятерых детей, у меня было такое чувство, как будто я совершаю богослужение. Ах, Ондра, Ондра, ты не можешь себе представить, как пусто за столом без тебя!
Ондра. Мне очень жалко, мамочка…
Мать. Да, вы правы, я этого, наверно, не пойму… Отец твой погиб, потому что надо было убивать туземцев. А ты, Ондра, ты умер потому, что поехал спасать им жизнь. Нет, видно, я правда глупа. Вы делаете вещи прямо противоположные, а потом говорите мне: «Тут великие задачи, дорогая, ты этого не можешь попять». Один из вас будет что-нибудь строить, другой ломать, а мне вы оба объявите: «Это, мамочка, страшно важно. Мы должны так действовать, хотя бы это стоило нам жизни». Жизни! Вам легко говорить! Умереть каждый сумеет, а вот потерять мужа или сына, — посмотрели бы вы, что это значит… посмотрели бы вы…
Ондра. Тут, мама, ты, пожалуй… права…
Мать. А хоть бы и нет!.. Мне не нужна правота, мне нужны вы, нужны мои дети! Ты не должен был умирать, Ондра! Ты был такой хороший, серьезный юноша… У тебя была невеста, мой мальчик, ты хотел жениться… Это-то я как будто понимаю, не правда ли?
Ондра. Да, конечно, мамочка…
Мать. Вот видишь!
Слышны два выстрела в саду.
Отец (поднимает голову). Что это?
Мать. Ничего. Мальчики стреляют в цель. Корнель и Петр.
Отец. Очень хорошо. Кто не умеет стрелять, тот ни к чему не пригоден.
Мать. Наш Тони не будет стрелять, Рихард. У него другой характер. Ондра тоже не любил стрелять, — правда, Ондра? Ты тоже ничего не хотел знать, кроме книг, как и Тони…
Ондра. Но только у Тони это вроде гашиша, мамочка; он видит сны наяву. А это плохо!
Мать. Да ведь он еще ребенок!
Ондра. Ты всегда будешь считать его ребенком.
Мать. Ну да, потому что он слабенький!
Отец. Тебе надо бы на него воздействовать, душенька, чтобы он занялся чем-нибудь серьезным.
Мать. Нет, нет! Я не хочу, чтобы Тони уже сейчас забивал себе голову чем-нибудь таким… Нет, его я не буду пускать сюда…
Отец. Почему?
Мать. Потому что вы старались бы повлиять на него, стали бы ему нашептывать: «Будь мужчиной, Тони, будь мужчиной! Делай что-нибудь! Иди умирать за славу, за честь, за правду…» Нет, я этого не хочу, слышите! Оставьте Тони в покое!
Отец. Но, мать, ты же не хочешь сделать из Тони девочку?
Мать. Я хочу, чтобы он был моим. Ты не имеешь на него никаких прав, Рихард! Тони родился после твоей смерти! Тони мой, только мой, пойми это! Ему здесь нечего делать!
Ондра. Мама, по-видимому, считает нас дурным обществом.
Мать. Ну да, потому что вы мертвые…
В саду слышны выстрелы.
Ондра. Ты нас боишься, мама?
Мать. Как же я могу вас бояться, мой мальчик? Подойди поближе, Ондра, дай я тебя рассмотрю хорошенько. Тебе очень идет этот белый халат!.. А я-то всегда представляла себе, как ты будешь стоять у моего изголовья, когда… когда я буду разлучаться с детьми…
Ондра. Да что ты, мамочка! Ты еще долго будешь с ними. И никогда не уйдешь от них…
Отец. Наша мамочка сильней, чем сама думает. (Подходит к шахматному столику.) Кто здесь играл, милая?
Мать. Корнель и Петр. Это, кажется, твоя задача.
Отец. Да, я вижу. Я начал ее решать когда-то… Красивая задача.
Мать. Мальчики из-за нее поссорились. Корнель хотел, чтобы Петр пошел на дэ пять.
Отец. Правильно. Я пошел бы на дэ пять.
Мать. А Петр сказал, что есть и другое решение. Эти двое вечно спорят.
Отец (задумавшись над доской). Другое решение? Гм, интересно… Это, должно быть, новая шахматная школа. Разве только если пойти пешкой… Занятно! Пожалуй, Петр отчасти прав…
В дверь совершенно бесшумно входит Иржи. В комбинезоне летчика.
Иржи. Добрый вечер, мамочка. Здравствуй, папа. Здорово, Ондра.
Отец (оборачивается). А, кого я вижу! Иржи!
Ондра. Здравствуй!
Мать. Что так рано, Иржи? Ты летал сегодня?
Иржи. Летал, мама. Сегодня мне леталось замечательно.
Мать. Хорошо, по крайней мере, что ты уже дома. Терпеть не могу, когда ты летаешь. Мне так страшно… Молодец, что сейчас же вернулся.
Иржи. Как видишь, мама, мой первый визит… к тебе.
Отец. Правильно. А тебе очень идет этот костюм!
Мать (в ужасе приподнимается). Постой… Иржи, ты видишь… папу… и Ондру?
Иржи. Вижу, мамочка. Почему бы не видеть?
Мать. Да ведь они… они же мертвые, Иржи! Как ты можешь их видеть… как можешь с ними разговаривать?.. Иржи!
Иржи. Понимаешь, мама… Только не сердись, хорошо? Меня, видишь ли, неожиданно подвел самолет… Вот и все.
Мать. Иржи, с тобой что-нибудь случилось?
Иржи. Нет, ничего, мамочка. Я даже не почувствовал никакой боли. Просто у самолета вдруг оторвалось крыло, ну и…
Мать. Иржи, ты что-то от меня скрываешь!
Иржи. Ты, мамочка, только не сердись… Дело в том, что… я разбился.
Мать. Ты… ты…
Иржи. Мамочка, дорогая, прошу тебя, не волнуйся!
Мать. Значит, ты мертвый… Иржи?
Иржи. Да, мама. Это так называется…
Мать (рыдает). Господи Иисусе! Иржи! Иржи!
Ондра. Тише, тише, мама. Успокойся!
Мать. Иржи, ты ушел от меня, ты разбился!
Отец. Ты должна мужественно перенести эту потерю, душенька. Ты же видишь, он погиб, как герой. Это была прекрасная смерть.
Мать (словно окаменелая). Прекрасная смерть… Вот ты и добился, Рихард! Добился!
Иржи. Но ведь никто не виноват, мама! Я попробовал сделать одну штуку… Ну, а мотор подкачал. Я, собственно, сам не понимаю, как это произошло.
Мать. Мой Иржи… (Рыдая падает в кресло.)
Ондра. Не трогай ее. Пусть выплачется. (Становится возле нее.)
Отец (отводит Иржи в сторону). А что ты хотел испытать, Иржи?
Иржи. Поставить рекорд высоты, папа. С грузом. Полторы тонны.
Отец. А это имеет значение — такой рекорд?
Иржи. Конечно, папа. Например, в случае войны: держаться предельной высоты с максимальным грузом бомб.
Отец. Верно. Это не пустяк.
Иржи. Или просто для воздушного транспорта: ведь там, на такой высоте, уже нет ни ветра, ни туч. Это могло бы иметь огромное значение.
Отец. Ну, а до какой высоты ты поднялся?
Иржи. Немного больше двенадцати тысяч метров. И тут у меня вдруг начал шалить мотор…
Отец. Это рекорд?
Иржи. Да, папа. По данной категории — мировой рекорд.
Отец. Прекрасно. Я очень рад, мой мальчик.
Иржи. Вот только… когда я рухнул на землю, получилась страшная каша. Наверно, альтиметр разбился. А жаль.
Отец. Почему?
Иржи. Теперь нельзя установить, что я достиг такой высоты.
Отец. Это неважно, Иржи. Лишь бы ты ее действительно достиг.
Иржи. Да ведь никто не узнает!
Отец. Но это сделано — вот что самое главное. А кто бы мог подумать! Такой всегда был шалун… Ну, поздравляю тебя, мой мальчик.
Мать (стонет). Иржи… Иржи.
Ондра. Мамочка, успокойся…
Отец. Не плачь, душенька. Игра была стоящая. Ну, право же, не надо плакать. У тебя будет еще столько хлопот с похоронами.
Иржи. Только не смотри на меня, мамочка, когда меня принесут, хорошо? То, что принесут, это… уже не я. Я — это тот, каким я был… и таким я навсегда останусь для тебя, не правда ли?
Мать. Почему ты не сказал мне, что хочешь подняться так высоко. Я бы тебя не пустила…
Иржи. Ну, что ты, мама! Я должен был сделать это.
Мать. И как это пришло тебе на ум, Иржи! Зачем тебе понадобился этот рекорд?
Иржи. Видишь ли, когда у тебя такая хорошая машина… Да нет, мамочка, ты этого не понимаешь! Ну, просто… так и тянет… Машина сама несет тебя ввысь…
Стук в дверь.
Отец (гасит лампу на столике перед своим портретом).
В комнате почти полная тьма.
Не терзай себя, милая!
Мать. Мой Иржи! Такой стройный, красивый мальчик! Ради чего… ради чего…
Иржи (все более и более понижая голос). Ты этого не понимаешь, мамочка, ты не можешь это понять…
Стук в дверь.
Ондра (шепотом). Успокойся, мама. Будь стойкой.
Отец (шепотом). Прощай, моя милая.
Стук.
Мать (встает). Да!
Дверь открывается; на пороге, освещенный врывающимся в комнату ярким дневным светом, стоит Корнель.
Корнель. Прости, мамочка… я не хотел тебя беспокоить… но… мне надо тебе кое-что сказать.
Мать. Да…
Корнель. Нам только что сообщили… видишь ли… У нашего Иржи… что-то случилось с самолетом… Только не пугайся, мама. Ничего страшного…
Мать. Да…
Корнель. Но Иржи… Мамочка! Ты уже знаешь?
Занавес.
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления