Онлайн чтение книги
Война с саламандрами. Мать. Рассказы. Юморески
Мучительные рассказы
Трое
Перевод Е. Аникст
Солнце, с самого раннего утра припекавшее желтую стену противоположных дворов, медленно передвинулось в напряженной тишине. Стены напротив очутились в тени, и показалось, что стало чуть прохладнее. Сейчас узкая солнечная полоска, зацепившись за оконную раму, начнет шириться и, как только попадет в комнату, муж рядом в спальне проснется, громко зевнет и, как всегда по воскресеньям, войдет сюда. Мария, передернув плечами от тоски и отвращения, опустила шитье на колени.
Невидящим взглядом она уставилась в окно. Каштан во дворе еще недавно цвел, а теперь на нем остался только обглоданный околоцветник. Почему даже ни в чем не повинное дерево становится противным? Беспокойная, растущая, непосильная тяжесть теснит грудь Марии… Если бы она захотела рассказать о себе, то, наверное, все это показалось бы ей воспоминанием; однако ни мужу, ни тому, другому, она никогда о себе не рассказывала. Да и какие там воспоминания! Скорее — прошлое как бы смоталось в тяжелый клубок, ухватишь кончик — и начнет разматываться событие за событием: и то, что она с радостью воскресила бы в утешение себе, и то, что хотела бы навеки позабыть. Ни о чем Мария не думает, ни о чем не хочет думать, но многое могла бы вспомнить. Прошлое все тут, так близко, что страшно задумываться, — того и гляди, коснешься его.
Полоска солнечного света протянулась за оконную раму.
Мучило бессильное сознание, что все об этом знают, что каждому известны даже подробности ее супружеской неверности. Ах, вначале она сердилась, когда столько людей давали ей понять, что знают… одни грубо, иные с бесстыдной прямотой, третьи попреками, а остальные… да, каждый считал себя вправе сказать ей какую-нибудь гадость. Одна соседка, встречая ее, громко говорит о распутницах, другая качает головой, — дескать, почему же молодому человеку не воспользоваться тем, что ему предлагают от чистого сердца, третья неустанно намекает о муже, четвертая не отвечает на приветствие, а иная преисполнена показным сочувствием и то и дело прибегает взять что-нибудь взаймы. Ах, боже милостивый, неужели она должна все сносить?
Да, вначале Мария пыталась сопротивляться, но трудно сопротивляться угрызениям своей нечистой совести. А потом безутешно плакала от ярости и обиды. Она даже не могла пожаловаться возлюбленному, ибо, покоренная тихой, тяжелой и властной любовью этого страстного, нескладного человека, просто не знала, что ему говорить. В конце концов Мария сделала вид, что не понимает намеков, как будто речь шла не о ней. Человеку постепенно все становится привычным, однако от этого «все» не очистится, не изменится, не переделается.
Солнечная полоска скользнула на шнур жалюзи.
Да, у нее муж. Вначале он, видимо, не верил тому, что люди говорили о его жене, затем впал в отчаяние и, не сказав ей ни слова, запил. Пил страшно, он, такой порядочный, и вскоре опустился самым плачевным образом. Но когда на службе пригрозили вывести его на пенсию, он сразу бросил пить, стал прежним, только еще более бережливым и домовитым. С Марией он долго не разговаривал вообще, потом пришлось говорить о расходах, о белье, о пище… После своего «исправления» муж стал скупым и разборчивым в еде, потребовал к себе особого внимания и на этом успокоился. Однажды он застал дома Баудыша, возлюбленного Марии; ни на кого не глядя, хлопнул дверью и уединился в другую комнату, но, едва гость ушел, откликнулся на приглашение ужинать, вначале молчал, а поев, завел речь о том, о сем с мучительными паузами, словно понимая, что ему лучше бы помолчать. И когда после того Мария предпочла сама ходить к Баудышу, он не раз поднимал крик, что она отсутствовала слишком долго: ему, мол, приходится ждать с ужином. Люди называли его добряком. Марии муж опротивел и потому, что она ему изменяла, и потому, что он совсем перестал следить за собой.
Солнечный луч переместился на стену. Мария смотрела за ним, как за стрелкой роковых часов: пока еще слышен равномерный храп мужа, но вот-вот заскрипит кушетка, муж начнет зевать, с трудом поднимется и, почесывая затылок, в расстегнутом жилете, в одних носках войдет сюда, как каждое воскресенье. Будет расхаживать по комнате, ощупывать мебель, рассматривать старые щербинки, ворча при этом о расходах, и осторожно, окольными путями заведет свой странный, еженедельный разговор… Мария вздрогнула. Этот разговор он начал уже давно. Тысячи раз говорил о том, как дорого обходится человеку жена, сколько денег стоит супружество. «А лучше всего, — заявил он в одно воскресенье, — устраиваются молодые люди, которые обхаживают замужних женщин. Кто-то ее кормит, кто-то ее одевает, а им это ничего не стоит. Разве что преподнесут букетик фиалок», — добавил он, уставившись на Марию… «Им это дешево обходится», — без конца повторял он нарочито, словно открыл что-то новое. Целый месяц муж жил этой мыслью, и Мария думала, что он ревнует.
Однажды она пришивала отделку на платье. Муж пришел, выспавшись, и спросил, сколько стоят кружева, а сколько то-то и то-то… Впрочем, в таких вещах он ее никогда особенно не ограничивал, видимо, понимая, что женщина должна хорошо одеваться, но тем не менее заговорил об этом и пожаловался на расходы. «Нынче, — сказал он, — мужу одному не по силам одеть свою жену, нет, одному мужу по нынешним временам столько не заработать. Кое-кому, конечно, это обходится дешево, жена ему ничего не стоит, она ведь чужая…» Мария начала понимать и почувствовала, как холодеет сердце, но молчала, словно это ее не касалось. Муж уставился на нее тяжелым взглядом и вдруг выпалил:
— А как Баудыш?
Он впервые произнес его имя.
— Что Баудыш? — сразу испугалась Мария.
— Ничего, — ответил он уклончиво и, помолчав, спросил: — Он-то сколько зарабатывает?
Тогда и началось, вспоминает Мария. А теперь разговор об этом заходит каждое воскресенье. Что это он заспался сегодня? Вот придет и, почесывая спину, спросит: «Говорила с Баудышем? А сколько раз? А что, много он зарабатывает?» Затем переведет разговор на себя. Денег, мол, нет, а ему нужна новая шляпа, — шляпа и в самом деле уже неприличная. «Да что поделаешь, коли хозяйство все поглощает». Говорит он один. У Марии противный ком подкатывает к горлу, хочется его выплюнуть. Муж покачивает головой и неожиданно грустно заключает: «Тебе-то что, ты никаких забот не знаешь».
Мария смотрит на движущийся луч и впивается ногтями в ладонь. Ах, если бы хоть об этом не вспоминалось! Она пришла к любовнику как раз после того воскресенья. Баудыш посадил ее на кушетку, а она сопротивлялась и плакала, считая необходимым плакать, и долго-долго заставила его просить, прежде чем объяснила причину слез: муж жадный, не дает денег ни на платье, ни на что другое… Любовник слушал мрачно и как-то холодно, был он… видно, тугодум и в уме подсчитывал, сколько это может стоить. Наконец произнес неуверенно и даже неохотно: «Об этом, Мария, позабочусь я!» Мария почувствовала, что сейчас могла бы расплакаться без притворства, но ей пришлось уступить его поцелуям; ах, пришлось быть гораздо уступчивее, чем до тех пор!
На следующий раз он ждал ее с подарком — материей на платье, которая ей не понравилась; домой она возвращалась подавленная стыдом. До того дня Мария встречалась с любовником как жена с мужем; ласки ее были искренни и беззаветны, теперь же она закрывала глаза на все, чтобы не ужаснуться самой себе. Когда она раскраивала материю, пришел муж.
— Это от Баудыша? — спросил он с живостью.
Мария вздохнула и стала сметывать материю крупными стежками. Она шила себе шелковую блузку, этот отрез ей тоже купил любовник. Даже странно, что ему понравилось засыпать ее дорогими, роскошными и соблазнительными подарками. Временами она с радостью думала, что это от большой любви, но порой чувствовала иное, и ей становилось не по себе. Кончилась ее сдержанная, целомудренная любовь, от этих подарков веяло распущенностью и безрассудством, и Мария принуждала себя к неестественной, легкомысленной необузданности, которая была чужда ее спокойному, сильному телу. Эту резкую перемену любовник воспринял как запойный пьяница, а Мария — как нечто неизбежное и отвратительное. Такая любовь казалась ей невыразимо грешной, ибо была противна ее натуре. Но отступать она уже не могла, примирилась и в отчаянии тщетно старалась просто не думать об этом. На этой неделе он заставлял ее пить вино, а сам был уже пьян. Пить она отказалась, но когда он дохнул ей в лицо пьяным, горячим и возбужденным дыханием, она от ужаса готова была закричать.
Луч солнца бесшумно скользнул на фотографию ее матери. Он осветил круглое, ясное, жизнерадостное лицо деревенской женщины, которая нарожала детей и, благодарная, с лихвой вернула жизни все, что та дала ей. Мария уронила руки на колени; не слышно дыхания мужа, невыносимо жарко и угнетающе тихо. Но вот за стеной закряхтел муж, затрещала кушетка, скрипнули половицы под неуверенными шагами. Мария сразу принялась за шитье. Муж открыл дверь, громко зевнул и, почесывая затылок, растрепанный, потный и разомлевший от сна, вошел к ней. Мария даже глаз не подняла, лишь иголка быстрее замелькала в ее руках.
Муж прошелся по комнате в носках, наклонился над шитьем жены, зевнул и поинтересовался:
— Чего шьешь?
Мария молча разложила перед ним свою работу.
— Это от Баудыша? — спросил он равнодушно.
Она взяла в рот иглу и промолчала. Муж вздохнул и с видом знатока пощупал шелк, как будто знал толк в материи.
— Это от Баудыша, — сам ответил он на свой вопрос.
— Давно уже, — проронила Мария уголком губ.
— Охо-хо! — зевнул муж и принялся расхаживать по комнате.
— Ради бога, надень хоть туфли, — не сразу отозвалась Мария.
Муж молча продолжал ходить из угла в угол.
— Ну, да, — начал он, — без конца тряпки да тряпки! На что только такая ерунда? Тебе не жаль денег! Тебе, Мария, не жаль денег!
— Но ведь ты не платишь, — решительно возразила Мария. Она знала, что он заведет тот же разговор, как в прошлые воскресенья.
— Не плачу, — согласился муж. — Знаешь, что не плачу. Откуда мне взять? У меня… другие расходы. Опять надо уплатить страховые взносы… На лишнее у нас денег нет. Ты расходов не считаешь. Сто двадцать за квартиру. А страховые? Тебе все нипочем. Говорила с Баудышем?
— Говорила.
— Боже ты мой, — зевнул муж, разглядывая шитье жены. — И не жаль тебе, Мария, этих денег? Сколько же стоит такая материя, не знаешь?
— Нет.
— Сколько раз ты говорила с ним за эту неделю?
— Два.
— Два раза, — повторил муж задумчиво. — Жалко этих денег. Ведь у тебя столько тряпок! Послушай, Мария!
Молодая женщина опустила голову: начинается.
— За два года мы ничего не сэкономили. Так-то, Мария! А не ровен час, заболеет кто или еще что приключится… нарядов у тебя хватает. Не правда ли?
Мария упорно молчала.
— Нам надо бы хоть немного отложить да угля купить на зиму. Я хотел бы к старости… чтобы у тебя было… Ты хоть о своей старости подумала бы!
Наступила мучительная тишина; Мария машинально, куда ни попадя втыкала иглу. Муж смотрел в окно поверх ее светловолосой головы и собирался что-то сказать, как вдруг его небритый подбородок, жалкий, с застрявшими крошками, задрожал.
— Перестань, — крикнула Мария.
Подбородок застыл, муж глотнул слюну и сказал:
— И мне бы надо кое-что из одежды, но знаю, у нас на это денег нет. Так-то, Мария!
Он сел, сгорбившись, и уставился на пол.
Мария втыкала иглу в шелк. Да, неделю тому назад он говорил то же самое; она готова была плакать над его изношенной одеждой: каждый день держала ее в руках, знала каждую протертую нитку и уже стыдилась, когда он в таком виде шел на службу.
Вчера она была у любовника; шла к нему с готовым планом, но вышло не так, как ей хотелось. Она села к нему на колени (решив, что сегодня это необходимо) и заставила себя быть озорной и веселой, однако он сразу насторожился и спросил, что ей надо. Она, смеясь, ответила, чтобы он больше не делал ей подарков, уж лучше она сама купит, что ей вздумается, если у нее будет на что… Он посмотрел на нее и опустил руки. «Встань!» — сказал он, поднялся, походил по комнате, затем отсчитал двести крон и положил их возле ее сумочки. Ах, она не случайно оставила сумочку на столе, все обдумано заранее; почему он не понял этого, почему заставил ее при прощании собирать бумажки и торопливо, неловко совать их в сумку? Почему он хотя бы не отвернулся, почему так испытующе и пристально смотрел на нее? Мария сухими, широко раскрытыми глазами следила за острием иглы, машинально царапая шелк и бессознательно делая в нем извилистую дыру.
— Так-то, Мария, — глухо отозвался муж. — Не хватает у нас денег.
— Сумку, — раздраженно произнесла Мария.
— Что тебе?
— Возьми… мою сумку!
Он открыл сумку, нашел скомканную пачку банкнот, которую она вчера туда запихнула.
— Это твои? — вырвалось у него.
— Наши, — обронила Мария.
Муж, оцепенев, глядел на склоненную голову жены, не зная, что сказать.
— Могу их спрятать? — тихо осведомился он.
— Как хочешь.
Он в одних носках переминался с ноги на ногу, подыскивая то ли оскорбительное, то ли нежное слово, и наконец молча ушел с деньгами в соседнюю комнату. Был он там долго, а вернувшись, застал жену в той же позе, иглой царапающую шелк.
— Мария, — спросил он мягко. — Не хочешь ли пойти со мной погулять?
Мария покачала головой.
Муж растерянно помолчал; говорить сейчас было невозможно…
— Ну, что ж, Мария, — произнес он наконец с облегчением. — Может, мне сегодня заглянуть в кофейню? Ведь уж столько лет я…
— Иди, — шепнула Мария.
Он одевался, не зная, что еще сказать. Мария даже не пошевелилась, склонившись над пестрым шелком, прелестная, женственная, безмолвная…
Он торопливо одевался — скорее бы уйти; в дверях еще остановился и, поколебавшись, сказал нерешительно:
— Слушай, Мария, если тебе захочется пойти куда-нибудь… так ты… иди. Я найду, где поужинать.
Мария опустила голову на разодранный шелк. В этот день ей не даны были спасительные слезы.
В замке[154]В основу рассказа легли впечатления, навеянные пребыванием Чапека в качестве домашнего учителя в семье графа Владимира Лажанского (февраль — октябрь 1917 г.). Чапек писал оттуда поэту С.-К. Нейману: «Я все еще в услужении у господ, на этот раз в замке; и Вы, вероятно, представляете себе, что при таких обстоятельствах на душе накапливается столько горечи и унижения, что, как только пробуешь взяться за перо, письмо превращается в стенание… Слава богу, через два месяца все это кончится, и я снова буду чувствовать себя человеком… Завтра у нас в гостях архиепископ; я узнал высший свет и не дождусь, когда выберусь из него, я сошел бы с ума, если б мне пришлось здесь остаться».[368]V. Dyk, St. К. Neumann. Bratri Capkove. Korespondence z let 1905–1918. Praha, 1962, s. 178–179.
Перевод Т. Аксель
— Ре, Мери, ре, — машинально повторяет Ольга. Девочка нехотя разыгрывает на рояле легонький этюд, который они долбят уже две недели, но дело идет все хуже и хуже. Ольгу даже во сне преследует этот несносный детский мотивчик.
— Ре, Мери, слушайте же! До, ре, соль, ре, — терпеливо напевает Ольга слабым голоском и наигрывает на рояле. — Будьте повнимательней: до, ре, соль, ре… Нет, Мери, ре, ре! Почему вы все время берете ми?
Мери не знает, почему она фальшивит, она помнит только одно: надо играть. В глазах у нее ненависть, она бьет ногой по стулу и вот-вот убежит к «папа». Пока что девочка упорно берет «ми» вместо «ре». Ольга, перестав следить за игрой, устало глядит в окно. В парке светит солнце, громадные деревья раскачиваются под горячим ветром; однако и в парке нет свободы, как нет ее в ржаном поле за парком. Ах, когда же конец уроку? И опять «ми», «ми», «ми»!
— Ре, Мери, ре! — в отчаянии повторяет Ольга и вдруг взрывается: — Вы никогда не научитесь играть!
Девочка выпрямляется и окидывает гувернантку высокомерным взглядом:
— Почему вы не скажете этого при папа, мадемуазель?
Ольга закусывает губу.
— Играйте же! — восклицает она с ненужной резкостью, ловит враждебный взгляд девочки и начинает нервно считать вслух:
— Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. До, ре, соль, ре… Плохо! Раз, два, три, четыре…
Дверь гостиной чуть приоткрылась. Это, конечно, старый граф — стоит и подслушивает. Ольга понижает голос.
— Раз, два, три, четыре. До, ре, соль, ре. Вот теперь правильно… (Положим, неправильно, но ведь под дверью стоит старый граф!) Раз, два, три, четыре. Теперь хорошо. Ведь не так уж это трудно, не правда ли? Раз, два…
Дверь распахнулась, хромой граф вошел, постукивая тростью.
— Кхм, Mary, wie gehts? Hast du schon gespielt![155] Mary, wie gehts? Hast du schon gespielt! — Мери, как дела? Ты хорошо играла! (нем.). А, мадемуазель?
— О да, ваше сиятельство, — поспешно подтвердила Ольга, вставая из-за рояля.
— Магу, du hast Talent![156] Магу, du hast Talent! — Мери, у тебя талант! (нем.).— воскликнул хромой старик и вдруг — это было почти отталкивающее зрелище — тяжело опустился на колени, так что заскрипел пол, и с каким-то умиленным завыванием принялся осыпать поцелуями свое чадо.
— Mary, du hast Talent, — бормотал он, громко чмокая девочку в шею. — Du bist so gescheit, Mary, so gescheit! Sag'mal was soll dir dein Papa schenken?[157] Du bist so gescheit, Mary, so gescheit! Sag'mal was soll dir dein Papa schenken? — Ты такая умница, Мери, такая умница! Скажи своему папе, что тебе подарить? (нем.).
— Danke, nichts,[158] Danke, nichts, — Спасибо, ничего (нем.). — ответила Мери, слегка ежась под отцовскими поцелуями. — Ich mochte nur…[159] Ich mochte nur… — Я хотела бы только… (нем.). .
— Was, mas mochtest du?[160] Was, mas mochtest du? — Что, что бы ты хотела? (нем.). — восторженно залепетал граф.
— Ich mochte nur nit so viel Stunden haben,[161] Ich mochte nur nit so viel Stunden haben, — Я хочу, чтобы у меня было поменьше уроков (нем.). — проронила Мери.
— Ха-ха-ха, ну, naturlich![162] naturlich! — конечно! (нем.). — рассмеялся растроганный отец. — Nein, wie gescheit bist du![163] Nein, wie gescheit bist du! — Ах, какая же ты умница! (нем.). He правда ли, мадемуазель?
— Да, — тихо сказала Ольга.
— Wie gescheit![164] Wie gescheit! — Какая умница! (нем.). — повторил старик и хотел встать. Ольга поспешила помочь ему. — Не надо! — резко крикнул граф и, стоя на четвереньках, попытался подняться сам. Ольга отвернулась. В этот момент пять пальцев конвульсивно стиснули ее руку; уцепившись за Ольгу и опираясь на нее всем телом, старый граф поднялся. Ольга чуть не упала под тяжестью этого громоздкого, страшного, параличного тела. Это было свыше ее сил. Мери засмеялась.
Граф выпрямился, нацепил пенсне и посмотрел на Ольгу с таким видом, словно видел ее впервые.
— Мисс Ольга?
— Please?[165] Please? — Что вам угодно? (англ.). — отозвалась девушка.
— Miss Olga, you speak too much during the lessons: you confound the child with your eternal admonishing. You will make me the pleasure to be a little kinder.[166] Miss Olga, you speak too much during the lessons: you confound the child with your eternal admonishing. You will make me the pleasure to be a little kinder . — Мисс Ольга, вы слишком много говорите во время урока и лишь путаете ребенка своими вечными наставлениями. Сделайте одолжение — будьте поласковее с девочкой (англ.).
— Yes, sir,[167] Yes, sir, — Да, сэр (англ.). — прошептала Ольга, зардевшись до корней волос.
Мери поняла, что папа отчитывает гувернантку, и сделала безразличное лицо, будто разговор шел не о ней.
— Итак, всего хорошего, мадемуазель, — закончил граф.
Ольга поклонилась и направилась к выходу, но, поддавшись жажде мщения, обернулась и, сверкнув глазами, заметила:
— Когда учительница уходит, надо попрощаться, Мери!
— Ja, mein Kind, das kannst du,[168] Ja, mein Kind, das kannst du, — Да, дитя мое, это тебе известно (нем.). — благосклонно подтвердил граф.
Мери ухмыльнулась и сделала стремительный книксен.
Выйдя за дверь, Ольга схватилась за голову. «О, боже, я не выдержу, не выдержу этого! Вот уже пять месяцев нет ни дня, ни часу, чтобы они не мучили меня…»
«Нет, тебя никто не мучит, — твердила она, прижимая руки к вискам и прохаживаясь в прохладном холле. — Ты для них чужой, нанятый человек, никто и не думает о тебе. Все они такие, нигде человек так не одинок, как на службе у чужих людей. А Мери злая девчонка, — внезапно пришло Ольге в голову, — ненавидит меня. Ей нравится меня мучить, и она умеет это делать. Освальд озорник, а Мери — злючка… Графиня высокомерна и унижает меня, а Мери — злючка… И это девочка, которую я должна была бы любить! Ребенок, с которым я провожу целые дни! О, господи, сколько же лет мне здесь еще жить?»
Две горничные хихикали в коридоре. Завидев Ольгу, они притихли и поздоровались с ней, глядя куда-то в сторону. Ольге стало завидно, что они смеются, ей захотелось свысока приказать им что-нибудь, но она не знала — что. «Жить бы в людской вместе с этими девушками, — подумала гувернантка. — Они там хохочут до полуночи, болтают, возятся… С ними лакей Франц; то одна взвизгнет, то другая… как это противно!» Ольга с омерзением вспомнила вчерашний случай: в пустой «гостевой» комнате, рядом со своей спальней, она случайно застала Франца с кухонной девчонкой. Ей вспомнилась его глупая ухмылка, когда он застегивался… Ольге хотелось в ярости ударить лакея своим маленьким кулачком…
Она закрыла лицо руками. «Нет, нет, я не выдержу! До, ре, соль, ре… До, ре, соль, ре… Эти горничные хоть развлекаются! Они не так одиноки, им не приходится сидеть за столом вместе с господами, они болтают между собой весь день, а вечером тихонько поют во дворе… Принимали бы меня по вечерам в свою компанию!» Со сладким замиранием сердца Ольга вспоминает песенку, которую служанки пели вчера во дворе, под старой липой:
…Сердце у меня болит,
Слезы просятся…
Ольга слушала их, сидя у окна, глаза у нее были полны слез, и она вполголоса подпевала служанкам. Она все им простила и мысленно от всей души протягивала руку дружбы. «Девушки, ведь я такая же, как вы, — всего лишь прислуга, и самая несчастная из вас!»
«Самая несчастная! — повторяла она, расхаживая по холлу, — Как это сказал граф? «Мисс Ольга, вы слишком много говорите во время урока и лишь путаете ребенка… своими вечными… наставлениями. Сделайте одолжение — будьте поласковее с девочкой».
Ольга повторяла эти фразы слово за словом, чтобы до конца прочувствовать их горечь. Она стискивала кулаки, пылая от гнева и обиды. Да, в этом ее слабость: она слишком серьезно отнеслась к роли воспитательницы. Она приехала сюда, в замок, полная энтузиазма, заранее влюбленная в девочку, воспитание которой ей доверили, и с восторгом взялась за уроки, была усердна, точна, всегда подготовлена. Она безгранично верила в значение образования, а сейчас еле копается со скучающей Мери в азах арифметики и грамматики, постоянно раздражается, постукивает пальцами по столу и подчас в слезах убегает из классной комнаты, где, торжествуя, остается своенравная Мери.
Сначала Ольга пыталась играть с девочкой. Она делала это с живым интересом, даже с увлечением, а потом поняла, что, собственно, играет одна, а Мери смотрит на нее холодным, скучающим и насмешливым взглядом. Совместным играм пришел конец. Ольга, как тень, тащилась за своей воспитанницей, не зная, о чем говорить с ней, чем ее развлечь. Да, она приехала сюда, исполненная благоговейной готовности любить, быть снисходительной и терпеливой, а сейчас поглядите в ее горящие глаза, прислушайтесь, как быстро и прерывисто бьется ее сердце. В этом сердце только мука и ни капли любви. «Будьте поласковее с девочкой», — повторяла Ольга, содрогаясь. — О, боже мой! Способна ли я еще быть ласковой?»
Щеки Ольги пылали от волнения, и она металась среди рыцарских лат и доспехов, которые прежде так потешали ее. В голове у нее рождались тысячи возражений графу, ответы на его упреки, слова, полные достоинства, решительные и гордые, — они раз и навсегда создадут ей независимое положение в этом доме. «Граф, — могла бы сказать она, вскинув голову, — я знаю, чего хочу. Я хочу научить Мери серьезно относиться ко всему окружающему и быть взыскательной к себе, хочу сделать из нее человека, который остерегается ошибок. Дело не в фальшивой ноте, ваше сиятельство, дело в фальшивом воспитании. Я могла бы быть безразличной к Мери и не замечать ее недостатков, но если я ее люблю, то буду к ней требовательна, как к себе самой…»
Мысленно произнося этот монолог, Ольга разволновалась, глаза у нее сверкали, сердце еще жгла недавняя обида. Ей стало легче, и она твердо решила поскорее, завтра же поговорить с графом. Граф — неплохой человек, иногда он даже великодушен, и, кроме того, он так страдает! Если бы только не эти его страшные, светлые глаза навыкате и пронзительный взгляд сквозь пенсне!..
Она вышла из замка. Солнце ослепило ее. Только что политая водой, мостовая блестела, и от нее поднимался пар.
— Берегитесь, мадемуазель! — крикнул ломающийся мальчишеский голос, и мокрый футбольный мяч шлепнулся прямо на белую юбку Ольги. Освальд хихикнул, но умолк, заметив испуг несчастной девушки: юбка была вся в грязи. Ольга приподняла ее и молча заплакала. Освальд покраснел и сказал, запинаясь:
— Я… я не заметил вас, мадемуазель…
— Beg your pardon, miss…[169] Beg your pardon, miss… — Прошу извинения, мисс… (англ.). — вставил гувернер Освальда, мистер Кеннеди, валявшийся на газоне в белой рубашке и в белых брюках. Одним прыжком он вскочил, дал Освальду подзатыльник и снова лег.
Ольга ничего не видела, кроме своей испорченной юбки — она так любила этот белый костюмчик! Не сказав ни слова, девушка повернулась и вошла в дом, с трудом сдерживая слезы.
В горле у нее стоял комок, когда она открыла дверь своей комнаты. Тут Ольга остановилась в изумлении и испуге, не понимая, что такое происходит: посреди комнаты восседала на стуле графиня, а горничная рылась в платяном шкафу.
— Ah, c'est vous?[170] Ah, c'est vous? — Ах, это вы? (франц.). — сказала графиня, даже не обернувшись.
— Oui, madame la comtesse,[171] Oui, madame la comtesse , — Да, ваше сиятельство (франц.). — с трудом ответила Ольга, едва дыша и широко раскрыв глаза.
Горничная вытащила целую охапку платьев.
— Ваше сиятельство, здесь этого наверняка нету!
— Так, карашо, — отозвалась графиня и, тяжело поднявшись, направилась к двери. Остолбеневшая Ольга даже не посторонилась, чтобы дать ей пройти. Графиня остановилась в трех шагах.
— Mademoiselle?
— Oiu, madame?[172] Oiu, madame? — Да, сударыня? (франц.).
— Vous n'attendez pas, peut-etre, que je m'excuse?[173] Vous n'attendez pas, peut-etre, que je m'excuse? — Уж не ждете ли вы от меня извинений? (франц.).
— Non, non, madame![174] Non, non, madame! — Нет, нет, сударыня! (франц.). — воскликнула девушка.
— Alors il n'y a pas pourquoi me barrer le passage,[175] Alors il n'y a pas pourquoi me barrer le passage , — Тогда позвольте мне пройти (франц.). — сильно картавя, сказала графиня.
— Ah, pardon, madame la comtesse,[176] Ah, pardon, madame la comtesse, — Ах, извините, ваше сиятельство (франц.). — прошептала Ольга и посторонилась. Графиня и горничная вышли. Разбросанные платья Ольги остались на столе и на постели.
Ольга как истукан сидела на стуле. Глаза ее были сухи. Ее обыскивали, как вороватую служанку! «Уж не ждете ли вы от меня извинений?» Нет, нет, ваше сиятельство, упаси боже, зачем же извиняться перед девушкой, которой платят жалованье! Можете обыскать еще мои карманы и кошелек, вот они, и выяснить, что еще я украла. Ведь я бедна и наверняка нечиста на руку… — Ольга тупо уставилась в пол. Теперь ей стало ясно, почему она так часто находила в беспорядке свое белье и платья. — А я сижу с ними за одним столом, отвечаю на их вопросы, улыбаюсь, составляю им компанию, стараюсь быть веселой!..» Чувство безграничного унижения охватило Ольгу. Глядя перед собой широко открытыми глазами, она прижимала руки к груди; в голове не было ни одной связной мысли, лишь сердце мучительно колотилось.
Муха уселась на сжатые руки девушки, потерла себе лапками головку, потом поползла, шевеля крылышками. Руки Ольги были по-прежнему неподвижны. Время от времени из конюшни доносился стук копыт или звяканье цепи в стойле. В буфетной звенела посуда, над парком свистел чеглок, вдали, на повороте железной дороги, прогудел паровоз. Мухе наскучило сидеть, она взмахнула крылышками и вылетела в окно. В замке воцарилась полная тишина.
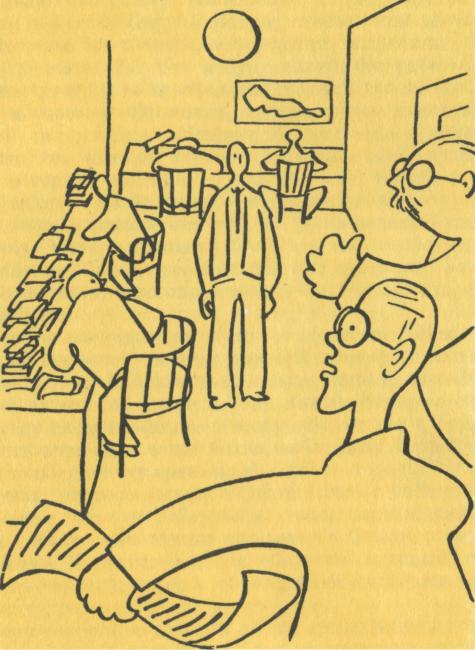
Иозеф Чапек. К. Чапек. Как делается газета. Иллюстрация.
Один, два, три, четыре… Четыре часа! Громко зевнув, кухарка пошла готовить ленч. Кто-то пробежал по двору, заскрипело колесо колодца, в доме возникло легкое оживление. Ольга встала, машинально провела рукой по лбу и начала аккуратно складывать свои платья на столе. Потом нагнулась к комоду, вынула белье и выложила его на постель. Свои книги она собрала на стуле и, когда все было готово, остановилась, как над развалинами Иерусалима, и потерла себе лоб: «А чего я, собственно, хочу? Зачем я это делаю?»
«Да ведь я уезжаю отсюда! — ответил ей ясный внутренний голос. — Заявлю, что ухожу немедленно, и уеду завтра утром, с пятичасовым поездом. Старый Ваврис отвезет мои вещи на станцию». — «Нет, это не годится, — смущенно возразила сама себе Ольга. — Куда же ехать? Что я буду делать без работы?» — «Домой поедешь, домой!» — отвечал внутренний голос, который уже все решил и взвесил. «Мамочка, правда, будет плакать, но отец одобрит мой поступок». — «Правильно, доченька, — скажет он, — честь дороже, чем сытный харч». — «Но, папочка, — возразит Ольга с тихой и гордой радостью, — что же мне теперь делать?» — «Пойдешь работать на фабрику, — отвечает голос, который все решил. — Займешься физическим трудом, раз в неделю будешь получать получку. Матери начнешь помогать по хозяйству, она уже стара и слабеет, — белье простирнешь, пол вымоешь. Устанешь — сможешь отдохнуть, проголодаешься — найдется еда, собирайся домой, доченька!»
Ольга даже раскидывает руки от радости. «Уехать, уехать отсюда! Завтра к вечеру я буду дома! И почему только я раньше не решилась на это? И как только я выдерживала здесь? Сразу же после ленча заявлю об уходе и уеду домой. Вечером сложу свои вещи, приведу сюда графиню, покажу ей: вот это я беру с собой, если тут есть хоть одна ваша нитка, забирайте. Из вашего я увожу с собой только вот эту грязь на платье!»
Радостная, раскрасневшаяся Ольга сняла с себя испачканное платье. «Завтра, завтра! Заберусь в уголок вагона, никто меня и не заметит… Улечу, как птичка из клетки!» Ольгой овладело озорное настроение. Насвистывая, она повязала красный галстук и, улыбнувшись зеркалу, гордая, со взбитыми волосами, засвистела еще громче: до, ре, соль, ре, до, ре, соль, ре…
По двору торопливо прошли люди; дребезжащий гонг прозвонил к ленчу. Ольга устремилась вниз по лестнице, ей захотелось в последний раз увидеть занимательное зрелище — торжественный выход графской семьи в столовую. Вот входит старый, хромой граф, опираясь на плечо долговязого Освальда. Грузная, болезненная графиня злится на Мери и поминутно дергает ее за ленту в волосах. Шествие замыкает атлетическая фигура мистера Кеннеди, которому в высшей степени безразлично все, что творится вокруг.
Старый джентльмен первым спешит к дверям, распахивает их и произносит:
— Madame?
Графиня тяжелыми шагами вступает в столовую.
— Mademoiselle? — Граф оглядывается на Ольгу. Та входит, вскинув голову. За ней следует граф, Кеннеди, Мери, Освальд. Граф усаживается во главе стола, справа от него — графиня, слева — Ольга. Графиня звонит. Неслышной поступью, опустив глаза, входят горничные, похожие на марионеток, которые ничего не слышат, кроме приказа, ничего не видят, кроме барского кивка. Кажется, что эти молодые губы никогда не произносили ни звука, эти опущенные глаза ни на что не смотрели с интересом и вниманием. Ольга впивается глазами в эту пантомиму: «Чтобы никогда не забыть!»
— Du beurre, mademoiselle?[177]Du beurre, mademoiselle? — Масла, мадемуазель? (франц.) . — осведомился граф.
— Mersi![178] Mersi! — Спасибо! (франц.).
И Ольга пьет пустой чай с сухим хлебом. «Через неделю, — восхищенно думает она, — я буду ходить на фабрику!»
Граф жует, усиленно двигая своей вставной челюстью, графиня ничего не ест, Освальд пролил какао на скатерть, Мери увлеклась конфетами, и только мистер Кеннеди мажет толстым слоем масло на хлеб. Торжествующее презрение ко всему и ко всем наполняет сердце Ольги. «Жалкие люди! Я одна буду завтра свободна и с отвращением вспомню эти застольные встречи, когда нечего сказать друг другу, не на что пожаловаться, нечему радоваться».
Все свое безмолвное презрение Ольга обратила на мистера Кеннеди. Она ненавидела его от всей души с первого же дня; ненавидела за непринужденное безразличие, с которым он умел жить так, как ему хотелось, ни с кем не считаясь; ненавидела за то, что никто не осмеливался его одернуть, а он всем пренебрегал с равнодушной независимостью. Бог весть почему он попал сюда. Он свирепо боксировал с Освальдом, ездил с ним верхом, разрешал мальчику обожать себя, уходил на охоту когда вздумается, а если валялся где-нибудь в парке, ничто не могло заставить его сдвинуться с места. Иногда, оставшись один, он садился за рояль и импровизировал. Играл он превосходно, но без души, думая только о себе. Ольга тайком прислушивалась к этой музыке и чувствовала себя просто оскорбленной, не понимая этой холодной, сложной, себялюбивой игры. Кеннеди не обращал внимания ни на кого и ни на что, а если ему задавали вопрос, он едва раскрывал рот, чтобы ответить «yes»[179] «yes» — да (англ.). или «no»[180] «no» — нет (англ.). . Молодой атлет, жестокий, честолюбивый и ленивый, делал все как-то снисходительно и свысока. Иной раз старый граф отваживался предложить ему партию в шахматы. Не говоря ни слова, мистер Кеннеди садился за шахматную доску и, почти не думая, несколькими быстрыми и беспощадными ходами делал шах и мат старику, который потел от волнения и лепетал, как дитя, по полчаса обдумывая ходы и по нескольку раз беря их назад. Ольга не скрывала возмущения, наблюдая за этим неравным поединком. Она сама иногда играла в шахматы с графом, хорошим и вдумчивым игроком, и обычно это бывали бесконечные партии, когда партнеры подолгу размышляли и задумывали различные комбинации; разгадать их было лестно для противника, это означало воздать должное его игре. Сама не зная почему, Ольга считала себя выше мистера Кеннеди со всеми его совершенствами, которые не стоили ему никаких усилий, с его самоуверенностью и высокомерной независимостью, подчинявшей себе всех. Она презирала Кеннеди и давала ему понять это. Вся ее девическая гордость и самолюбие, так часто уязвляемые в замке, выливались в этом подчеркнутом презрении.
Сейчас мистер Кеннеди невозмутимо завтракал, не обращая ни малейшего внимания на убийственные взгляды разгневанной Ольги. «Игнорирует, — возмущенно думала Ольга, — а сам каждую ночь, когда идет спать, стучится в мою дверь: «Open, miss Olga…»[181] «Open, miss Olga…» — Откройте, мисс Ольга… (англ.).
В самом деле, это была одна из тайн замка. Ольга даже не подозревала, как сильно эта «тайна» занимала прислугу. Молодой англичанин, прямо оскорбительно пренебрегая горничными, давно уже вел на Ольгу тайные ночные атаки. Ему вздумалось поселиться в башне замка, где, как издавна считалось, бродят привидения. Ольга, разумеется, не верила в них и считала, что со стороны Кеннеди это просто позерство, что между тем не мешало ей самой, оказавшись ночью в коридоре или на лестнице, дрожать от страха… Впрочем, иной раз по ночам в замке слышались звуки, которые нельзя было объяснить любовными похождениями лакея Франца или эротическими забавами в девичьей… Словом, однажды ночью, когда Ольга была уже в постели, Кеннеди постучал в ее дверь. «Open, miss Olga!» Ольга набросила халат и, приоткрыв дверь, через щелку спросила гувернера, что ему нужно. Мистер Кеннеди начал молоть по-английски какой-то амурный вздор, из которого Ольга смогла разобрать едва ли четверть, но все же поняла, что он называет ее «милой Ольгой» (sweet Olga) и другими нежными именами. Этого было достаточно, чтобы она захлопнула и заперла дверь у него перед носом, а утром, при первой же встрече, строго глядя на гувернера широко открытыми глазами, спросила, что он делал ночью у ее дверей. Мистер Кеннеди не счел нужным объяснить или вообще показать, что он помнит что-то, но с тех пор стучал ежедневно, повторяя: «Open, miss Olga», — нажимал на ручку двери и отпускал какие-то шуточки, а Ольга, спрятавшись чуть не с головой под одеяло, кричала в слезах: «You're a rascal!»[182] «You're a rascal!» — Вы негодяй! (англ.). — или: «Вы с ума сошли!» — пользуясь всем богатым запасом синонимов, которым располагает для этих понятий только английский язык. Она была возмущена и приходила в отчаяние, оттого что этот негодяй и кретин смеется. Смеется — первый и единственный раз за день.
Блестящими глазами смотрит сейчас Ольга на мистера Кеннеди. «Когда он поднимет взгляд, — решила она, — я спрошу его при всех: «Мистер Кеннеди, почему вы каждый вечер ломитесь в мою комнату?» То-то будет скандал. Перед уходом я скажу им и еще кое-что!» Ольгой овладела жажда мести.
И вот мистер Кеннеди устремляет на нее безмятежный взгляд серо-стальных глаз. Ольга, уже готовая заговорить, вдруг заливается краской. Она вспомнила…
В этом была повинна одна чудная лунная ночь. Неописуемо прекрасны эти волшебные ночи в летнее полнолуние, подобные серебристым ночам языческих празднеств! Ольга бродила около замка, у нее не хватало сил уйти спать в такую ночь. В одиночестве она чувствовала себя счастливой и окрыленной, очарованная красотой, что окутывала спящий мир. Медленно и робко, замирая от восторга, девушка отважилась спуститься в парк. Она любовалась березами и темными дубами на сверкающих серебром лужайках, таинственными тенями и обманчивым лунным светом… Это было слишком прекрасно!
По широкой лужайке Ольга дошла до бассейна с фонтаном и, обогнув кусты, увидела на краю бассейна белую, похожую на изваяние, нагую мужскую фигуру. Лицо человека было обращено к небу, руки заложены за голову, могучая выпуклая грудь выдавалась над узкими бедрами. Это был мистер Кеннеди.
Ольга не была шальной девчонкой — она не вскрикнула и не бросилась бежать. Прищурясь, она пристально глядела на белую фигуру. Изваяние жило напряженным движением мышц. От икр поднималась «мышечная волна» — атлет поочередно напрягал мускулы ног, живота, груди и красивых, сильных рук. Вот опять волна прошла по мышцам от стройных ног до каменных бицепсов… Мистер Кеннеди занимался гимнастикой по своей системе, не двигаясь с места. Вдруг он прогнулся, поднял руки и, сделав заднее сальто, нырнул в бассейн. Всплеснув, зашумела вода, Ольга отошла и, не думая больше о таинственных и пугающих ночных тенях, направилась прямо домой. Почему-то теперь она не замечала красавиц берез и вековых дубов на серебристых полянах…
Воспоминание об этом заставило девушку покраснеть.
Право, Ольга не знала, почему, собственно, краснеет. Во встрече не было ничего постыдного, наоборот, столько странной красоты ощутила девушка в этом неожиданном приключении. Но через день произошло кое-что похуже. Ночь снова выдалась чудесная, ясная. Ольга прохаживалась перед замком, но в парк, разумеется, не пошла. Она думала о Кеннеди, который, наверное, и сегодня опять купается, о таинственных тенях в глубине парка, о белом живом изваянии на краю бассейна. Заметив невдалеке болтливую экономку, Ольга обошла ее стороной, желая побыть в одиночестве. Тем временем пробило одиннадцать, и Ольга побоялась идти одна по лестницам и коридорам замка в такой поздний час. Кеннеди, засунув руки в карманы, возвращался из парка. Увидев Ольгу, он хотел было опять начать свое нелепое ночное ухаживание, но Ольга резко оборвала гувернера и повелительным тоном приказала проводить ее со свечой. Кеннеди смутился и молча понес свечу. Около двери в комнату Ольги он совсем кротко сказал: «Good night».[183] «Good night». — Спокойной ночи (англ.). Ольга стремительно обернулась, бросила на Кеннеди необычайно потемневший взгляд, и вдруг ее рука безотчетно вцепилась в его волосы. Волосы были влажные, мягкие, как шерсть молодого, только что выкупанного ньюфаундленда. Глубоко вздохнув от удовольствия, Ольга, сама не понимая зачем, изо всех сил рванула их, и не успел англичанин опомниться, как она захлопнула за собой дверь и повернула ключ в замке. Мистер Кеннеди поплелся домой как пришибленный. Через полчаса он вернулся, босиком, наверное, полуодетый, и тихо постучал, шепча: «Ольга, Ольга!..» Ольга не отозвалась, и Кеннеди, крадучись, убрался восвояси.
Таково было происшествие, которого стыдилась Ольга. Этакое глупое сумасбродство! Ольга готова была провалиться сквозь землю. Теперь она удвоенным пренебрежением мстила Кеннеди, который в какой-то мере был причиной этого инцидента. На следующую ночь она взяла к себе в комнату пинчера Фрица, и, когда Кеннеди постучался, песик поднял оглушительный лай. Мистер Кеннеди пропустил несколько вечеров, а затем опять являлся два раза и молол какую-то любовную чушь. Возмущенная Ольга, охваченная брезгливым презрением к этому бесстыдному человеку, закрывала голову подушкой, чтобы не слышать.
Честное слово, ничего больше не произошло между Ольгой и мистером Кеннеди. Поэтому Ольге было невыносимо досадно, что она покраснела под его взглядом; ей хотелось побить себя за это. Безмерная тяжесть легла на девичье сердце. «Хорошо, что я уезжаю, — думала Ольга. — Из-за него одного стоит уехать, если бы даже не было других причин». Ольга чувствовала, что устала от ежедневной борьбы, собственное малодушие было унизительно; ее душили слезы досады и такого отчаяния, что хотелось кричать. «Слава богу, я уезжаю, — твердила она, стараясь не вдумываться в свое решение. — Останься я здесь еще на день, я устроила бы ужасный скандал».
— Prenez des prunes, mademoiselle.[184] Prenez des prunes, mademoiselle . — Возьмите слив, мадемуазель (франц.).
— Pardon, madame?[185] Pardon, madame? — Простите, сударыня? (франц.).
— Prenez des prunes.
— Merci, merci, madame la comtesse.[186] Merci, merci, madame la comtesse . — Спасибо, спасибо, ваше сиятельство (франц.).
Ольга перевела взгляд с Кеннеди на красивое лицо Освальда. Оно немного утешило ее ласковым и приветливым выражением. Для Ольги не было тайной, что мальчик по-детски влюблен в нее, хотя это проявлялось лишь в излишней грубоватости и в уклончивом взгляде. Ольге нравилось мучить мальчика: обняв его красивую нежную шею, она ходила с ним по парку, забавляясь тем, что он злится и млеет. Вот и сейчас, почувствовав ее взгляд, Освальд проглотил огромный кусок и сердито посмотрел по сторонам. «Бедняжка Освальд! Во что ты превратишься здесь, в этом страшном доме, ты, подросток, еще только формирующийся в юношу, неженка и дичок одновременно? К чему потянется твое сердце, какие примеры ты здесь увидишь?» Грусть охватила Ольгу. Ей вспомнилось, что недавно, войдя в комнату Освальда, она увидела, как он борется с горничной Паулиной, самой испорченной из всех служанок. Ну конечно, мальчик просто играл, словно задиристый щенок. Но почему он был возбужден, почему ярко горели глаза и щеки у Паулины? Что это за забавы? Вести себя так мальчик не должен. Охваченная подозрениями, Ольга с тех пор была настороже. Она больше не ерошила волосы Освальда, не обнимала его, а как Аргус стерегла мальчика, тревожась за него. Она унижалась даже до слежки, чтобы порочный опыт преждевременно не омрачил детство Освальда. Нередко Ольга покидала Мери ради ее брата. Она стала обращаться с мальчиком холодно и строго, но достигла лишь того, что его юная любовь начала постепенно превращаться в упрямую ненависть.
«Зачем, зачем, собственно, я его сторожу, — спрашивала себя теперь Ольга. — Что за дело мне, чужому человеку, какой жизненный урок преподаст Освальду Паулина или еще кто-нибудь? К чему мучиться тревогой и страдать от собственной строгости, которая для меня еще мучительнее, чем для мальчика? Прощай, прощай, Освальд, я не скажу тебе ласковых слов, не скажу, как любила тебя за твою мальчишескую чистоту, которая прекраснее чистоты девической. Не буду больше сторожить тебя, иди, раскрывай объятия, лови момент, — меня уже не будет здесь, я не заплачу над твоим падением… А вы, графиня, — Ольга мысленно перешла к последнему объяснению с графиней, — вы не доверяли мне, подглядывали за мной во время уроков с Освальдом, вы дали мне понять, что «для мальчика будет лучше находиться в обществе мистера Кеннеди». Может быть, для него больше подходит и общество Паулины, вашей наушницы… Когда однажды ночью Освальд тайком отправился с Кеннеди на охоту за выдрой, вы явились в мою комнату и заставили меня отпереть вам; вы искали мальчика даже у меня под одеялом. Ладно, графиня, это ваш сын. И вы посылаете по утрам Паулину будить его, Паулину — ей за тридцать, и она распутна, как ведьма. Вы обыскиваете мой шкаф и роетесь в моих ящиках, а потом сажаете меня к себе в карету, чтобы я развлекала вас, угощаете меня сливами! Ах, спасибо, madame, вы так любезны! Если вы считаете меня распутницей и воровкой, не приглашайте меня к столу, пошлите обедать с прислугой, а еще лучше с прачками. Я предпочту грызть корку хлеба, политую слезами гнева и унижения, зато… зато мне не придется улыбаться вам».
— Вы слышите меня, мадемуазель?
— Pardon, — вспыхнула Ольга.
— Может быть… вам… нездоровится? — осведомился граф, пристально глядя на девушку. — Нет ли у вас… температуры?
— Нет, ваше сиятельство, — торопливо возразила Ольга. — Я совсем здорова.
— Тем лучше, — протянул граф. — Я не люблю… больных людей.
Ольгина решимость разом сдала. «Нет, я слабее их, — чувствовала она в отчаянии, — я не могу противиться им. Боже, дай мне силы!» Ольга заранее ощущала, как страшен ей предстоящий разговор с графом. Он, конечно, поднимет брови и скажет: «Сегодня же хотите уехать, барышня? Так это не делается».
«Что бы такое придумать? Как объяснить, что мне нужно, нужно ехать домой немедля, вот сейчас же! Я сбегу, если они меня не отпустят, обязательно сбегу! Ах, как это страшно!» — с ужасом думала Ольга о предстоящем разговоре.
Семейство поднялось из-за стола и уселось в соседней гостиной. Граф и Кеннеди закурили, графиня принялась за вышиванье. Все ждали дневной почты. «Вот уйдут дети, — решила Ольга, — тогда я и скажу все». Сердце у нее учащенно билось, она старалась думать о родном доме, представляла себе мамин синий передник, некрашеную, чисто вымытую мебель, отца без пиджака, с трубкой в руке, неторопливо читающего газету… «Дом — единственное спасение, — думала Ольга, а на сердце у нее становилось все тревожнее, — здесь я не выдержу больше ни одного дня! Боже, дай мне силы в эту последнюю минуту!»
Паулина, опустив глаза, вошла с письмами на серебряном подносе. Граф смахнул их себе на колени, хотел взять и последнее письмо, лежавшее отдельно, но Паулина вежливо отступила. «Это барышне», — прошептала она.
Ольга издалека узнала дешевенький грязный конверт, ужасную мамину орфографию — одно из тех писем, которых всегда стеснялась и которые все же носила на груди. Сегодня она тоже покраснела: «Прости меня, мама!» Дрожащими пальцами девушка взяла деревенское письмецо и, растроганная, прочла адрес, написанный как-то слишком старательно и подробно, словно иначе письмо в этом недоброжелательном мире не дошло бы по назначению, туда, далеко, к чужим людям. И вдруг словно камень упал с души Ольги: «Мамочка, как ты мне помогла! Начну читать письмо и воскликну: «Отец заболел, нужно немедля ехать к нему». Соберусь и уеду, и никто не сможет меня задержать! А через неделю напишу, что остаюсь дома совсем, пусть пришлют мне мой чемодан. Так будет проще всего», — радостно подумала Ольга. Как для всякой женщины, отговорка была для нее легче, чем аргументация. Она спокойно разорвала конверт, вынула письмо — ах, как кольнуло в сердце! — и, затаив дыхание, стала читать.
«Милая доченка
сопчаю тибе пичальную весть што Отец у нас занемог доктор говорит сердце и он ослап ноги опухли ходить неможет Доктор говорит Его ни за што нельзя волноват говорит Доктор не пиши нам што тебе плохо Отец оттого мучится и страдаит Так ты непиши а пиши што тибе хорошо чтобы он не тревожился Знаешь как он тибе любит и што ты живьошь на хорошим месте слава богу.
Помолис за нашиво Отца а приизжат к нам ни надо сюды на край света Денги мы получили спасибо Тибе доченка Дела у нас плохи как Отец слег Франтик у ниво украл часы а сказат ему нельзя это Отца убьет так мы говорим что они в починки Он все спрашивает когда будут готовы мол хочу знат сколько время а я даже плакать при Нем несмею.
Милая доченка пишу тебе штоб ты молилась Богу што послал тибе такое хорошие место Молис господу Богу за твоих хозяив и служи старайся им угодит где ищо наидешь такое место штобы так кормили это тибе на ползу для здоровья ты ведь унас слабенкая и нам посылаиш каждый месяц спасибо тибе доченка и бог тебя наградит за Родителей.
Слушайся хозяив во всем как прослужит им много лет они тибе обеспечат досмерти все равно как на казенной службы будь без задоринки Кланийся господам от миня с Отцом плохо с ним таит как свича
Кланиетца тибе Твоя мать Костелец № 37».
Граф перестал читать свои письма и уставился на Ольгу.
— Вам нехорошо, мадемуазель? — воскликнул он в непритворном испуге.
Ольга встала ни жива ни мертва, прижала руки к вискам.
— Только мигрень, ваше сиятельство, — прошептала она.
— Идите лягте, мадемуазель, идите! — резко и встревоженно крикнул граф.
Ольга машинально поклонилась и медленно вышла.
Граф вопросительно поглядел на свою супругу. Та пожала плечами и строго сказала:
— Oswald, gerade sitzen![187] Oswald, gerade sitzen! — Освальд, сиди прямо! (нем.).
Мистер Кеннеди курил, глядя в потолок. Царило гнетущее молчание.
Графиня вышивала, поджав губы. Немного погодя она позвонила. Вошла Паулина.
— Паулина, куда пошла барышня? — спросила графиня сквозь зубы.
— В свою комнату, ваше сиятельство, — ответила та. — И заперлась там.
— Вели запрягать.
На дворе прошуршали по песку колеса экипажа, кучер вывел коней и начал запрягать.
— Papa, soll ich reiten?[188] Papa, soll ich reiten? — Папа, я поеду верхом? (нем.). — робко спросил Освальд.
— Ja,[189] Ja — Да (нем.). — кивнул граф, тупо глядя в одну точку. Графиня метнула на него враждебный и испытующий взгляд.
— Wirst du mitfahren?[190] Wirst du mitfahren? — Ты тоже поедешь? (нем.). — спросила она.
— Nein,[191] Nein — Нет (нем.). — рассеянно ответил граф.
Конюх вывел верховых лошадей и оседлал их. Конь Кеннеди плясал по всему двору и не сразу дал взнуздать себя. Полукровный мерин Освальда спокойно рыл землю ногой и печальным глазом косился на собственное копыто.
Семейство вышло во двор. Ловкий наездник, Освальд тотчас вскочил в седло и не удержался, чтобы не бросить взгляд на окно Ольги, откуда она частенько махала ему рукой, когда он выезжал верхом. В окне никого не было.
Графиня, тяжело дыша, села в экипаж.
— Мери! — бросила она.
Юная Мери с недовольной усмешкой последовала за матерью. Графиня еще колебалась.
— Паулина! — подозвала она горничную. — Поди взгляни, что делает барышня Ольга. Только потихоньку, чтобы она не слышала.
Мистер Кеннеди отбросил сигарету, одним прыжком очутился в седле и дал коню шенкеля. Конь пустился рысью, копыта гулко простучали по деревянному настилу проезда и зацокали по мостовой.
— Hallo, Mister Kennedy![192] Hallo, Mister Kennedy! — Алло, мистер Кеннеди! (англ.). — крикнул Освальд и пустился вслед за гувернером.
Прибежала Паулина, засунув руки в кармашки белого фартучка.
— Ваше сиятельство, — доложила она вполголоса, — барышня Ольга вешает платья в шкаф и укладывает белье в комод.
Графиня кивнула.
— Ну, поезжай! — крикнула она кучеру.
Экипаж тронулся, старый граф помахал вслед отъезжающим и остался один.
Он уселся на скамейке под аркадой, поставил трость между колен и, скучая, стал мрачно смотреть во двор. Так он просидел полчаса, потом встал и, топая негнущимися ногами, пошел в гостиную. Там он опустился в кресло около шахматного столика, где осталась незаконченной партия, начатая вчера с Ольгой. Граф стал обдумывать партию: он явно проигрывал. Конь у Ольги продвинулся вперед и грозил противнику атакой. Склонившись над доской, граф старался разгадать замысел гувернантки. Это ему в конце концов удалось, — да, его ждет изрядный разгром. Граф встал и, выпрямившись и стуча палкой, направился наверх, в крыло, где были комнаты для гостей. У Ольгиной комнаты он остановился. Там было тихо, страшно тихо, ни шороха. Граф наконец постучал.
— Мадемуазель Ольга, как вы себя чувствуете?
Минута молчания.
— Теперь лучше, спасибо, — раздался приглушенный голос. — Есть какие-нибудь распоряжения, ваше сиятельство?
— Нет, нет, лежите! — И вдруг, словно опасаясь, что он слишком снисходителен, граф добавил: — Чтобы завтра вы смогли давать уроки!
И с шумом вернулся в гостиную.
Останься граф на минуту дольше, он услышал бы слабый стон, а за ним тихий плач.
Долго, бесконечно долго тянутся часы, проведенные в одиночестве. Вот наконец вернулся экипаж, конюх водит по двору разгоряченных лошадей; в кухне, как всегда, слышно торопливое звяканье. В половине восьмого бьет гонг к ужину. Все идут к столу, только Ольги нет. Некоторое время собравшиеся делают вид, что не замечают этого, потом старый граф поднимает брови и удивленно осведомляется:
— Was, die Olga kommt nicht?[193] Was, die Olga kommt nicht? — Что, Ольга не придет? (нем.).
Графиня бросает на него быстрый взгляд и молчит. После долгой паузы она зовет Паулину:
— Спроси у барышни Ольги, что она будет есть.
Через минуту Паулина возвращается.
— Ваше сиятельство, барышня велела благодарить, говорит, что не голодна и завтра утром придет к завтраку.
Графиня слегка покачивает головой: в этом жесте есть что-то большее, чем недовольство.
Освальд ковыряет вилкой в тарелке и бросает просительные взгляды на своего гувернера, — вызволи, мол, меня отсюда сразу после ужина. Но мистер Кеннеди, как обычно, предпочитает ничего не замечать.
Спускаются сумерки, наступает вечер, милосердный для усталых, нескончаемый для несчастных. Было светло, и вот свет померк, приближалась ночь. Незаметно все окутала тьма, удушливая и гнетущая. Тьма, подобная пропасти, на дне которой залегло отчаяние.
Ты все знаешь, тихая ночь, ибо ты слышишь дыхание спящих и стоны больных. Ты чутко прислушивалась и к слабому, горячему дыханию девушки, которая так долго плакала, а теперь молчит. Ты приложила ухо к ее груди и сдавила горло под разметавшимися волосами. Ты слышала плач, приглушенный подушкой, а потом еще более страшное молчание.
Ты все знаешь, безмолвная ночь, ибо ты слышала, как затихал замок, этаж за этажом, комната за комнатой. Горячей рукой ты заглушила страстный женский стон где-то под лестницей. Ты разнесла эхо шагов молодого человека с мокрыми после купания волосами, который, тихо насвистывая, последним идет по длинному коридору.
Темная ночь, ты видела, как измученная слезами девушка вздрогнула при звуке этих бодрых шагов, ты видела, как она, словно гонимая слепой силой, вскочила с постели, откинула волосы с пылающего лица, бросилась к двери, отперла ее и оставила полуоткрытой.
И снова замерла в жаркой постели, как человек, для которого уже нет спасения.
Деньги
Перевод Т. Аксель
Ему опять стало плохо: едва он съел несколько ложек супа, как все тело охватила сильная слабость, голова закружилась, на лбу выступил холодный пот. Отставив тарелку, он подпер голову руками, упрямо отводя глаза от преувеличенно заботливого взгляда квартирохозяйки. Наконец она ушла, вздыхая, а он лег на диван отдохнуть, с испуганным вниманием прислушиваясь к жалобным голосам своего тела. Дурнота еще не прошла, Иржи казалось, что в желудке у него лежит камень; сердце билось быстро и неровно, слабость была такая, что даже лежа он обливался потом. Ах, если бы уснуть!
Через час постучалась квартирохозяйка. Телеграмма. Иржи вскрыл ее с опаской и прочитал: «19 10 7 ч 34 приеду вечером Ружена». Он никак не мог понять, что это значит? Иржи через силу поднялся, снова перечитал цифры и слова и наконец понял: телеграмма от Ружены, замужней сестры. Она приезжает сегодня вечером, значит, надо ее встретить. Наверное, собралась в Прагу за покупками… Он вдруг рассердился на женскую бесцеремонность, которая всегда причиняет столько хлопот. Шагая по комнате, он злился: вечер испорчен! Лежать бы с книгой в руке на своей старой кушетке. Рядом приветливо гудит лампа… Зачастую такие вечера тянулись бесконечно, но сейчас, бог весть почему, Иржи показалось, что это были приятнейшие часы, исполненные покоя и мудрости. Пропащий вечер. Конец спокойствию! В приступе мальчишеской досады он разорвал злополучную телеграмму в клочки.
Вечером, когда в высоком сыром вокзальном зале Иржи дожидался запоздавшего поезда, его охватила еще более глубокая тоска: вокруг только грязь и нужда да усталые лица напрасно ожидающих людей. Потом, в нахлынувшей толпе, он с трудом отыскал свою маленькую, худенькую сестру. Глаза у нее испуганные, в руках большой чемодан. Иржи сразу понял: случилось что-то серьезное. Он посадил Ружену на извозчика и повез домой. Дорогой он вспомнил, что не позаботился о ночлеге для сестры, и спросил, не хочет ли она остановиться в гостинице, но в ответ услышал только всхлипывания. Какая уж тут гостиница, если женщина в таком состоянии! Иржи сдался, взял нервную, тонкую руку Ружены в свою и очень обрадовался, когда сестра наконец слабо улыбнулась ему.
Дома он рассмотрел ее внимательнее и ужаснулся. Измученная, дрожащая, глаза горят, губы пересохли. Сидя на кушетке среди подушек, которыми обложил ее Иржи, Ружена начала рассказывать. Брат попросил говорить потише — ведь уже ночь.
— Я ушла от мужа! — торопливо говорила она. — Ах, если бы ты знал, Иржи, если бы ты знал, что я перенесла! Знал бы ты, как он мне противен! Я убежала и приехала к тебе за советом… — Она расплакалась.
Иржи мрачно расхаживал по комнате. Из рассказа сестры слово за словом возникала картина ее жизни с мужем, человеком жадным, низменным, грубым, который оскорблял ее в присутствии служанки, унижал в спальне и отравлял жизнь дикими придирками; этот человек глупо растратил ее приданое, скупердяйничал дома и наряду с этим позволял себе дорогие прихоти, порожденные его дурацкой ипохондрией… Иржи услышал историю мелочных попреков, унижений, жестокостей и напускного великодушия, злых ссор из-за грубых домогательств и колкостей заносчивого глупца.
…Иржи ходил по комнате, задыхаясь от отвращения и сострадания, слушал нескончаемые излияния обид и муки, и в душе его росла безмерная, невыносимая боль. Перед ним маленькая, испуганная женщина, которую он никогда хорошо не знал, его своенравная, гордая и неугомонная сестренка. Какая она была прежде задорная, несговорчивая, как сердито вспыхивали ее глаза! А сейчас! У нее дрожат губы, она плачет и не может сдержать жалоб; она измучена, полна горечи. Иржи хочется погладить сестру по голове, но он не решается.
— Замолчи, — резко обрывает он. — Хватит, я все понял.
Но разве ее удержишь!
— Дай мне выговориться, — в слезах возражает Ружена, — ведь ты один у меня.
И снова льется поток обвинений и жалоб, но более прерывистый, вялый, тихий. Подробности начинают повторяться. Ружене нечего больше рассказывать брату. Она умолкает на минуту, а потом спрашивает:
— Ну, а тебе как живется, Иржик?
— Что ж я? — бурчит Иржи. — Мне жаловаться не на что. Скажи лучше, ты к нему вернешься?
— Никогда! — взволнованно отвечает Ружена. — Это невозможно! Лучше умереть… Знал бы ты, что это за человек!
— Погоди, — уклоняется Иржи. — Ну, а что ты думаешь делать?
Ружена ждала этого вопроса.
— Я это уже давно решила, — оживленно начинает она. — Буду давать уроки, или поступлю гувернанткой, или куда-нибудь на службу… или вообще. Вот увидишь, работать я сумею. Прокормлю себя. Ах, с какой радостью, Иржик, я возьмусь за любую работу! Ты мне посоветуешь, что делать. Сниму маленькую комнатку… Я так рада, так рада, что буду работать. Скажи, удастся ли мне где-нибудь устроиться?
Ей не сиделось, она вскочила и принялась ходить по комнате. Лицо ее пылало.
— Я все уже обдумала. Перевезу к себе ту старую мебель, что осталась после наших. Вот увидишь, как у меня будет уютно! Ведь мне ничего, ничего не надо, кроме покоя. Пусть я буду бедна, лишь бы не… Нет, мне ничего не надо от жизни, мне хватит самого малого, я всем буду довольна, лишь бы подальше… от всего этого… Я так рада, что начну трудиться… Сама буду себе шить и петь песни… Ведь я столько лет не пела! Ах, если бы ты знал, Иржик!
— Устроиться… — в сомнении размышлял брат. — Не знаю, может, и найдется какая-нибудь работа… Но… ты ведь не привыкла работать, Руженка, тебе будет трудно, да, да, трудно…
— Нет, — вспыхивает Ружена. — Ты не представляешь себе, что значит терпеть попреки из-за каждого куска, каждой тряпки, из-за всего!.. Вечно слышать, что я ничего не делаю, а только сорю деньгами. Я готова была швырнуть ему все эти платья, — так он меня извел. Нет, Иржик, ты увидишь, с какой охотой я буду трудиться, с какой радостью жить. Каждый кусок, заработанный своими собственными руками, станет для меня отрадой, пусть это будет даже сухой хлеб. Я оденусь в ситец, сама стану стряпать и буду спать спокойно, с чистой совестью… Скажи, нельзя ли мне поступить на фабрику работницей? Если не найду ничего, пойду на фабрику. Ах, я так хочу этого!
Иржи взглянул на нее в радостном изумлении. О, боже, сколько сердечной ясности, сколько мужества, несмотря на такую трудную жизнь! Ему стало стыдно собственной вялости и безразличия; заразившись восторгом этой странной, взволнованной женщины, он вдруг с любовью и радостью подумал и о своей работе. Ружена даже помолодела, она выглядит как девушка, разрумянилась, возбуждена, по-детски наивна… Ах, все наладится, иначе быть не может!
— Устроюсь, вот увидишь, — говорит сестра. — Мне ни от кого ничего не надо. Прокормлю себя сама. Как-нибудь на еду и на букетик цветов я заработаю. А если не хватит на букетик, буду бродить по улицам и смотреть, что творится вокруг. Знал бы ты, как у меня легко на душе с тех пор, как я… решила уйти. Как мне весело! Началась новая жизнь!.. Я и не представляла себе, как прекрасен мир. Ах, Иржи, — со слезами восклицает она, — я так рада.
— Глупенькая, — блаженно усмехается Иржи. — Не так-то все это будет легко. Ладно, попробуем. А сейчас ложись спать, а то разболеешься. Теперь оставь меня одного, мне еще надо кое-что обдумать. Утром я тебе скажу. Ложись спать и не болтай…
Как он ни настаивал, ему не удалось уговорить сестру лечь в постель; Ружена, не раздеваясь, прилегла на кушетке, брат накрыл ее всем теплым, что у него нашлось, убавил огонь в лампе. Было тихо, слышалось только частое, детское дыхание Ружены; оно словно взывало к состраданию, и Иржи осторожно открыл окно.
Стояла холодная октябрьская ночь; мирный высокий небосвод искрился звездами. Когда-то в родительском доме он и маленькая Ружена вот так же стояли у распахнутого окна. Сестренка вздрагивала от холода и жалась к брату. Дети ждали падающей звезды.
— Когда пролетит звездочка, — шептала Ружена, — я пожелаю стать мужчиной и прославиться!
В комнате спит отец, крепкий, точно ствол, даже здесь слышно, как поскрипывает постель под его мощным, усталым телом. У Иржи тоже как-то празднично на душе, он тоже думает о великих и славных делах и с мужской серьезностью обнимает за плечи маленькую сестру, дрожащую от холода и волнения. Над садом падает звезда…
— Иржи! — слышен за спиной тихий голос Ружены.
— Сейчас, сейчас! — отзывается брат, ежась от прохлады и внутреннего волнения. «Да, да, надо свершить нечто великое, другого пути нет! — думает он. — Безумный, можешь ли ты свершить великое? Неси собственное бремя. А если жаждешь совершить нечто великое, неси еще и чужое. Чем тяжелее бремя, которое ты несешь, тем более велик ты сам. Ничтожный, ты падаешь под собственным бременем? Встань и помоги встать другому. Только так ты должен поступить, чтобы не упасть!»
— Иржи! — вполголоса зовет Ружена.
Брат оборачивается к ней.
— Слушай, — нерешительно начал он, — я думал над твоими словами. По-моему, тебе не найти подходящей работы… Вернее, работа-то найдется, да не такая, чтобы тебе хватило на жизнь… Это фантазия!
— Я удовольствуюсь любым заработком… — тихо сказала Ружена.
— Погоди, ты ведь ничего не понимаешь в таких делах. Вот послушай. У меня сейчас, слава богу, приличное жалованье, и я мог бы брать еще работу на дом. Иной раз я даже не знаю, как убить вечером время… В общем, я на свои заработки вполне проживу. А тебе я уступил бы проценты…
— Какие? — прошептала Ружена.
— Ну, с той доли наследства, что осталась мне от родителей. И проценты, которые на нее наросли. Это получается… получается тысяч пять в год, нет, не пять, а только четыре. Понимаешь, это только проценты. Мне пришло в голову уступить их тебе, вот и будет на что жить.
Ружена вскочила с кушетки.
— Быть не может! — воскликнула она.
— Не кричи, — проворчал Иржи. — Говорю же: это только проценты. Когда у тебя не будет нужды в деньгах, можешь не брать их из банка. Но сейчас, на первое время…
Ружена стояла ошеломленная.
— Да как же так, тебе-то что останется? — вырвалось у нее.
— Об этом ты не беспокойся, — сказал Иржи. — Я давно собирался взять вечернюю работу, да все стыдно было отнимать кусок у сослуживцев. Видишь ведь, как я живу: для меня только удовольствие чем-нибудь заняться по вечерам. Поняла? А эти деньги мне просто мешали. Так как, хочешь или нет?
— Хочу, — шепнула Ружена, на цыпочках подошла к брату, обняла и прижалась к его лицу своей мокрой щекой. — Иржи, — тихо произнесла она, — мне и во сне ничего подобного не снилось. Клянусь, я от тебя ничего не хотела… но если ты такой хороший!
— Погоди, — волнуясь, сказал он. — Дело совсем не в этом. Просто мне эти деньги не нужны. Ружена, когда человек жизнью сыт по горло, он должен что-то сделать для своих близких. Но что именно, если ты одинок? Что ни делай, в конечном счете видишь самого себя, живешь словно среди зеркал и, куда ни глянешь, всюду видишь только свое лицо, свою скуку, свое одиночество… Знала бы ты, что это такое! Не хочу распространяться о себе, но я так рад, что ты здесь, так рад, что все это произошло! Гляди, сколько там звезд! Помнишь, как мы однажды дома ждали падающей звезды?
— Не помню что-то, — сказала Ружена, подняв к нему бледное лицо; в холодном сумраке ее глаза сияли, как звезды. — Почему ты такой, Иржи?
Его даже слегка знобило от избытка чувств. Он погладил сестру по голове.
— Хватит о деньгах. Так хорошо, что ты пришла ко мне! О, боже, как я рад! Словно окно открылось среди… среди этих зеркал! Понимаешь? Я все время был занят только собой, мне это так надоело, я так устал от самого себя! Как все это было бессмысленно! Помнишь, как падали тогда звезды и какое ты загадывала желание? Чего бы ты пожелала сейчас, если бы упала звезда?
— Чего мне желать? — ласково улыбнулась Ружена. Чего-нибудь для себя… Нет, и для тебя тоже: чтобы исполнилось какое-нибудь твое желание.
— У меня нет желаний. Ружена, я так рад, что избавился… Скажи, как ты устроишься? Завтра я найду тебе хорошую комнату. У меня окно выходит на двор: днем, когда нет звезд, вид довольно унылый. А тебе нужен простор, тебе нужен вид покрасивее…
Он увлекся и, бегая по комнате, рисовал ей будущее, восхищался каждой новой подробностью, смеялся, болтал, обещал. Жилье, работа, деньги — все будет! Главное — начать жить по-новому. Иржи чувствовал, как во тьме блестят смеющиеся глаза сестры, как она следит за ним сияющим взглядом. Ему хотелось смеяться от радости на весь дом, он не умолкал, пока наконец, утомленные счастьем и разговорами, они не стали затихать, полные усталости и взаимопонимания.
Наконец он уложил Ружену спать. Она не противилась его смешной материнской заботливости и не в силах была благодарить. Но, поднимая глаза от пачки газет, где он искал объявления о сдаче комнат внаем, Иржи встречал взгляд сестры, исполненный восторга и безмерного ликования, и сердце его сжималось от счастья. Так он просидел до утра.
Да, это была новая жизнь. Приступы слабости и вялости у Иржи исчезли: он быстро съедал обед и бежал по бесчисленным адресам — с этажа на этаж — искать комнату для Ружены; возвращался он усталый, как охотничий пес, и счастливый, как жених, а вечерами сидел над сверхурочной работой и засыпал как убитый в восторге от хлопотливого дня. Пришлось, правда, удовольствоваться комнатой без вида, скверной комнатой с бархатной мебелью, к тому же безбожно дорогой. Иногда во время работы Иржи охватывала слабость, веки у него дрожали, в глазах темнело, холодный пот выступал на бледном лбу. Но он умел овладеть собой. Стиснув зубы, он клал голову на прохладную доску стола и упрямо твердил: держись, держись, ты должен держаться, ты живешь не только для себя!
И он действительно свежел со дня на день. Это была новая жизнь!
Но однажды к Иржи явилась нежданная гостья, его вторая сестра Тильда, жена незадачливого мелкого предпринимателя; жили они где-то недалеко от Праги, и Тильда всегда навещала брата, когда приезжала в столицу, — она бывала здесь по торговым и хозяйственным делам. Зайдя к брату, она обычно сидела, опустив глаза, и тихими, скупыми фразами рассказывала о трех своих детях и о множестве домашних хлопот, словно на свете не могло быть других интересов.
Иржи ужаснулся, взглянув на сестру: она тяжело дышала; забота покрыла ее лицо паутиной морщинок. При взгляде на обезображенные шитьем и работой руки Тильды сердце брата мучительно сжалось.
— Дети, слава богу, здоровы и ведут себя хорошо, — отрывисто рассказывала сестра. — Да вот мастерская стоит, станки больше не нужны, приходится искать покупателя… А Ружена здесь?! — сказала она вдруг полувопросительным тоном, тщетно стараясь глядеть в глаза брату.
На какую бы вещь ни падал ее взгляд, всюду она видела то дыру в ковре, то драный чехол на мебели; обстановка в комнате была жалкая, запущенная, ветхая… «А ведь в самом деле, — подумал Иржи, — ни я, ни Ружена как-то не замечали этого». Он смутился и стал смотреть в сторону, стесняясь измученного, вечно озабоченного взгляда Тильды, ее бдительных глаз.
— Она сбежала от мужа, — вяло начала Тильда. — Говорит, что он ее мучил… Может, и мучил, но… на все есть свои причины… вот и у него была причина, — продолжала она, не дождавшись реплики брата. — Видишь ли, Ружена… Я и сама не знаю… — Сестра замолчала и уставилась на большую дыру в ковре. — Ружена — не хозяйка, — начала она после паузы. — Ну, конечно, детей у нее нет, заботиться не о ком. Но все-таки…
Иржи хмуро смотрел в окно.
— Ружена — мотовка, — выдавила из себя Тильда. — Делала долги, вот что. Ты заметил, какое у нее белье?
— Нет.
Тильда вздохнула и провела рукой по лбу.
— Знал бы ты, сколько оно стоит… Она, например, купит себе меха… тысячные! А потом их продает за сотню-другую, чтобы купить туфли. Счета от мужа прятала — и получались неприятности… Разве ты об этом не знаешь?
— Нет. Я с ним не разговариваю.
Тильда покачала головой.
— Видишь ли, он странный человек, не спорю… Но если жена мужу даже белья никогда не починит и он ходит весь драный, а сама одевается, как герцогиня… Да еще обманывает его, гуляет с другими…
— Перестань! — взмолился измученный Иржи.
Тильда грустно оглядела рваное покрывало на постели.
— А Ружена не предлагала тебе помочь по хозяйству? — спросила она неуверенно. — Чтобы ты взял квартиру побольше, а она бы тебе стряпала?
У Иржи больно сжалось сердце. Об этом он до сих пор даже не подумал. Да и Ружена тоже! А как бы он был счастлив!
— Я и не хотел этого, — резко сказал он, едва владея собой.
Тильде наконец удалось поднять взгляд.
— Да и она бы, вероятно, не захотела. Тут у нее… этот офицер. Его перевели в Прагу. Потому она и сбежала сюда. Погналась за женатым. Этого она тебе тоже, конечно, не сказала?
— Тильда, — хрипло сказал Иржи, гневно глядя на нее, — ты лжешь!
У Тильды вздрагивали руки и щеки, но она пока не сдавалась.
— Увидишь сам, — запинаясь, возразила она. — Ты такой добряк. Я бы не сказала этого, если бы… если бы не жалела тебя. Ружена никогда тебя не любила. Она говорит, что ты…
— Уходи! — крикнул Иржи вне себя от гнева. — Ради бога, оставь меня в покое!
Тильда медленно поднялась.
— Снял бы ты себе квартиру получше, Иржи, — невозмутимо продолжала она. — Погляди, как здесь грязно. Не оставить ли тебе корзиночку груш?
— Ничего мне не надо.
— Мне пора… У тебя тут такая темень… Ах, боже, Иржик… Ну, до свидания!
Кровь стучала в висках у Иржи, в горле стоял комок. Он попытался работать, но, едва усевшись за стол, сломал от злости перо, вскочил и побежал к Ружене. Запыхавшись, он поднялся по лестнице и позвонил. Открыла квартирная хозяйка. Жиличка, мол, ушла с утра. Передать ей что-нибудь?
— Ничего, — пробурчал Иржи и потащился домой, словно под тяжестью непосильного бремени. Дома он снова сел за стол, подпер голову руками и стал вчитываться в документы. Прошел час, но Иржи не перевернул ни одной страницы. Настали сумерки, в комнате стемнело, а он все еще не зажег света. В передней бодро и весело звякнул звонок, зашуршало платье, и в комнату вбежала Ружена.
— Спишь, Иржи, — ласково засмеялась она. — Как здесь темно! Да где же ты?
— Гм… я работал, — отчужденно сказал Иржи.
В комнате повеяло морозной свежестью и легким ароматом дорогих духов.
— Слушай… — весело начала Ружена.
— Я хотел зайти к тебе, — прервал он, — но подумал, что тебя, наверное, нет дома…
— Где же мне еще быть? — искренне удивилась она. — Ах, здесь так хорошо, Иржи! Я так люблю бывать у тебя!
Она вся дышала радостью, молодостью и счастьем.
— Поди посиди со мной, — попросила она и, когда брат уселся рядом с ней на кушетке, обняла его и повторила: — Я очень люблю бывать у тебя, Иржик!
Он прижался щекой к холодному меху ее шубки, чуть влажному от осеннего тумана, и, пока сестра легонько баюкала его, думал: «Не все ли равно, где она была? Зато она сразу же пришла ко мне». И сердце у него замирало и сжималось от странной смеси чувств — острой скорби и сладостного томления.
— Что с тобой, Иржик? — испуганно спросила она.
— Ничего, — сказал он, убаюканный. — Заходила Тильда.
— Тильда! — ужаснулась Ружена и, помолчав, сказала: — Пусти!.. А что она говорила?
— Ничего.
— А обо мне говорила? Плохое что-нибудь?
— Так, кое-что…
Ружена разразилась злыми слезами.
— Подлая женщина! От нее хорошего не жди! Виновата я разве, что им плохо живется? Она наверняка разнюхала, что ты мне помог. Вот и притащилась! Живи они лучше, Тильда и не вспомнила бы о тебе! Как это низко! Все только для себя… и для своих противных детей…
— Хватит об этом! — попросил Иржи.
Но Ружена не унималась.
— Ей хочется испортить мне жизнь! — плакала она. — Только-только все стало налаживаться… а эта Тильда тут как тут, поносит меня и хочет все отнять… Скажи, ты веришь тому, что она наболтала?
— Нет.
— Ведь я решительно ничего не хочу, кроме свободы. Разве у меня нет права хоть на капельку счастья? Мне так мало нужно, я тут так счастлива, и вот является она и…
— Не бойся, — сказал он, вставая, чтобы зажечь лампу.
Ружена тотчас перестала плакать. Брат пристально глядел на нее, словно видел впервые. Потупленный взгляд, вздрагивающие губы… Но как она молода и прелестна! Новое платье, шелковые чулки, перчатки туго обтягивают руки… Маленькие нервные пальцы перебирают бахрому рваного чехла на кушетке.
— Извини, — сказал Иржи со вздохом, — мне надо работать.
Ружена послушно встала.
— Ах, Иржи… — начала она и замолкла, не зная, что сказать. Прижав руки к груди, она стояла как олицетворение испуга: губы у нее побелели, в бегающем взгляде было страдание.
— Не беспокойся, — лаконично сказал Иржи и взялся за перо.
На следующий день он до темноты сидел над бумагами, стараясь погрузиться в механизм работы, и писал все быстрее, но с каждой минутой в сознании нарастала мучительная тревога, рабочее настроение падало.
Пришла Ружена.
— Пиши, пиши, — шепнула она. — Я тебе не помешаю.
Она тихонько села на кушетку, но Иржи все время чувствовал на себе пристальный, беспокойный взгляд сестры.
— Что ж ты не зашел ко мне? — внезапно спросила она. — Я сегодня весь день была дома.
Иржи угадал в этом признание, которое тронуло его. И, положив перо, повернулся к сестре. Она была в черном платье, похожая на кающуюся грешницу. Лицо ее казалось бледнее обычного, и даже издалека было заметно, как озябли робко сложенные на коленях руки.
— У меня довольно холодно, — виноватым тоном проворчал он и попытался разговаривать с сестрой спокойно, не вспоминая о вчерашнем. Ружена отвечала покорно и нежно, тоном благодарной девочки.
— Ох, уж эта Тильда! — неожиданно вырвалось у нее. — Им потому не везет, что муж у нее просто дурак. Поручился за чужого человека, а потом пришлось за него платить. Сам виноват, надо было подумать о своей семье. Но что поделаешь, если он ничего не понимает! Держал коммивояжера, а тот его обобрал, и вообще он доверяет первому встречному… Ты знаешь, что его обвиняют в умышленном банкротстве?
— Я ничего не знаю, — уклонился от ответа Иржи. Он понял, что она всю ночь обдумывала это, и ему стало как-то стыдно. Но Ружена не почувствовала тихого протеста брата: она разошлась, раскраснелась и принялась выкладывать свои главные козыри.
— Они просили моего мужа помочь им. Но он навел справки и поднял их на смех… Дать им деньги, говорит, — все равно что выбросить. У них триста тысяч пассива… Дурак будет тот, кто вложит в их дело хоть геллер: все вылетит в трубу!
— Зачем ты говоришь это мне?
— Чтобы ты знал. — Она старалась говорить непринужденно. — Ведь ты такой добряк, чего доброго, дашь еще обобрать себя до нитки…
— Ну, ты скажешь, — проговорил он, не сводя с нее глаз.
Ружена напряглась, как натянутый лук. Ей, видно, очень хотелось сказать еще что-то, но смущал пристальный взгляд брата; побоявшись переборщить, она перевела разговор на другое и стала просить найти ей какую-нибудь работу, потому что она никому, никому не хочет быть в тягость. Она ограничит себя во всем, ей не нужна такая дорогая квартира…
«Вот сейчас, сейчас она, может быть, предложит вести у меня хозяйство…» Иржи ждал с бьющимся сердцем, но Ружена отвела взгляд к окну и переменила тему.
Через день пришло письмо от Тильды.
«Милый Иржи,
жаль, что мы расстались, так и не поняв друг друга. Если бы ты знал все, я уверена, ты по-другому отнесся бы и к этому письму. Мы в отчаянном положении. Но если мы сумеем заплатить сейчас 50 000, мы будет спасены, потому что у нашего дела надежное будущее и года через два оно будет приносить доход. Мы готовы дать тебе все гарантии на будущее, если ты нам сейчас одолжишь эту сумму. Ты стал бы нашим компаньоном и получал бы долю с прибылей, как только они будут. Приезжай поглядеть на наше предприятие и убедись своими глазами, что это верное дело. Познакомься с нашими детьми, увидишь, какие они милые и послушные, как прилежно учатся, и твое сердце не позволит тебе погубить их будущее. Помоги нам хотя бы ради них, ведь мы кровная родня, а Карел уже большой и смышленый, он многого достигнет в жизни. Извини, что я так пишу, мы все очень волнуемся и верим, что ты спасешь нас и будешь любить наших детей, ведь у тебя доброе сердце. Приезжай обязательно. Тильдочка, когда вырастет, охотно пойдет к тебе в экономки, вот увидишь, какая она славная. Если ты нам не поможешь, мой муж не переживет этого, и дети останутся нищими.
Будь здоров, дорогой Иржи,
твоя несчастная сестра Тильда,
P. S. Насчет Ружены ты говорил, что я вру. Мой муж будет в Праге и предъявит тебе доказательства. Ружена не заслуживает твоей великодушной поддержки, она позорит нас всех. Пусть лучше вернется к своему мужу, он ее простит, и пусть она не отнимает хлеб у невинных детей».
Иржи отшвырнул письмо. Ему было горько и противно. От работы, разложенной на столе, веяло отчаянной пустотой, душу переполняло отвращение. Он бросил все и пошел к Ружене, но уже на лестнице, у дверей, остановился, махнул рукой и отправился бродить по улицам. Увидя вдалеке молодую женщину в мехах, под руку с офицером, он, как ревнивец, побежал за ней, но оказалось, что это не Ружена. Иржи шел, заглядывая в ясные женские глаза, слышал смех, видел счастливых женщин, овеянных радостью и красотой.
Наконец, усталый, он вернулся домой. На кушетке лежала Ружена и плакала. На полу валялось раскрытое письмо Тильды.
— Какая подлая! — безутешно всхлипывала Ружена. — И как ей не стыдно! Она хочет обобрать тебя, Ирка, обобрать до нитки. Не поддавайся, не верь ни единому слову! Ты и представления не имеешь, до чего это лживая и жадная баба! За что она меня травит? Что я ей сделала? Из-за твоих денег… так меня… позорит. Ведь ей от тебя нужны только деньги! Это просто срам!
— У нее дети, Ружена, — тихо сказал Иржи.
— Не надо было заводить детей! — грубо воскликнула Ружена, обливаясь слезами. — Всегда она нас обирала, ей дороги только деньги! Она и замуж-то вышла по расчету, еще девчонкой хвалилась, что будет богата!.. Бессовестная, низкая, глупая!.. Ну скажи, Иржи, что это за человек? Знаешь, как она держалась, когда им везло? Зажиревшая, спесивая завистница… А теперь хочет… отыграться на мне… Неужели ты допустишь, Иржи? Неужели выгонишь меня? Я лучше утоплюсь, а обратно не поеду!
Иржи слушал, опустив голову. Да, сейчас Ружена борется не на жизнь, а на смерть, отстаивает все — свою любовь, свое счастье… Она плачет от ярости, в ее голосе страстная ненависть и к Тильде, и к нему, Иржи, который может лишить ее всего. Деньги! Это слово бичом хлестало Иржи каждый раз, когда Ружена произносила его; оно казалось ему гнусным, циничным, оскорбительным…
— Я не поверила, когда ты предложил мне деньги, — плакала Ружена. — Ведь они означают для меня свободу и все в жизни. Ты сам мне предложил эти проценты, Иржи. Не надо было предлагать, если ты собирался отнять их. А теперь, когда я так рассчитываю…
Иржи не слушал. Жалобы, выкрики, плач Ружены доносились до него словно издалека… Он чувствовал себя безгранично униженным. Деньги, деньги и деньги! Да разве все дело в деньгах? Что же такое случилось, господи боже? Почему так отупела, ожесточилась замученная заботами, хлопотливая мать Тильда? Почему скандалит другая сестра, почему очерствело его собственное сердце? Да разве в деньгах дело? Иржи с удивлением почувствовал, что способен и даже хочет оскорбить Ружену, сказать ей что-то злое, обидное, презрительное.
Он встал, полный решимости.
— Погоди, — сказал он холодно. — Это ведь мои деньги. А я… — Он сделал эффектный отрицательный жест. — Я подумаю!
Ружена вскочила, в глазах у нее был испуг.
— Ты… ты… — запиналась она. — Ну, конечно… само собой разумеется, ты вправе… Прошу тебя, Иржи, ты, наверное, не понял меня. Я совсем не хотела.
— Ладно, — отрезал он. — Я сказал, что подумаю.
Молния ненависти сверкнула в глазах Ружены, но она закусила губу, опустила голову и вышла.
Назавтра к Иржи явился новый посетитель — муж Тильды, неуклюжий, краснолицый, застенчивый человек, с выражением какой-то собачьей покорности в лице и фигуре. Иржи был вне себя от стыда и злости и даже не сел, чтобы не предлагать сесть гостю.
— Что вам угодно? — спросил он безразличным, чиновничьим голосом.
Неуклюжий человек вздрогнул и с трудом проговорил:
— Я… я… то есть Тильда… посылает вам документы, которые вы просили… — Он стал лихорадочно шарить по карманам.
— Ничего я не просил! — Иржи отмахнулся.
Настала мучительная пауза.
— Тильда писала вам, шурин… — начал несчастный фабрикант, покраснев еще больше, — что наше предприятие… в общем… если вы захотите войти в долю…
Иржи упорно молчал, не желая выручать зятя.
— Собственно говоря… положение не такое уж плохое. Если бы вы захотели участвовать… короче говоря… у нашего дела есть будущее… и вы… как совладелец…
Дверь тихо отворилась — на пороге стояла Ружена. Она остолбенела, увидев мужа Тильды.
— В чем дело? — резко спросил Иржи.
— Иржи… — прошептала Ружена.
— У меня гость, — отрезал Иржи и повернулся к зятю. — Пожалуйста, продолжайте.
Ружена не шевелилась. Муж Тильды обливался потом от стыда и страха.
— Вот… пожалуйста… эти бумаги… письма от ее мужа и другие… перехваченные…
Ружена ухватилась за косяк.
— Покажите, — сказал Иржи и взял письма, словно собираясь просмотреть их, но скомкал в руке и протянул Ружене.
— На, возьми, — сказал он со злой усмешкой. — А теперь извини. И в банк за процентами больше не ходи. Не получишь.
Ружена молча отступила, лицо у нее стало пепельным. Иржи закрыл за ней дверь и сказал хрипло:
— Итак, вы говорили о вашем заводе.
— Да, у него самые лучше перспективы… и если бы нашелся капитал… пока что, разумеется, без процентов…
— Слушайте, — бесцеременно прервал его Иржи, — мне известно, что вы сами довели завод до краха. У меня есть сведения, что вы неосторожный и даже… даже не деловой человек.
— Я бы… я бы так старался… — бормотал зять, собачьими глазами глядя на Иржи, избегавшего его взгляда.
— Как же я могу вам доверять? — Иржи пожал плечами.
— Уверяю вас, что я высоко ценил бы ваше доверие… и всячески стремился бы… У нас дети, шурин!
Сердце Иржи сжалось от страшной, мучительной жалости.
— Приходите… через год! — закончил он последним усилием воли.
— Через год… о, боже! — вздохнул Тильдин муж, и в его потухших глазах показались слезы.
— Прощайте, — заключил Иржи, протягивая ему руку. Зять, не замечая ее, пошел к выходу и, натыкаясь на стулья, нащупал ручку двери.
— Прощайте… — надломленным голосом сказал он с порога, — и… спасибо вам.
Иржи остался один. Неимоверная слабость охватила его, пот выступил на лбу. Он собрал бумаги, все еще разложенные на столе, и позвал квартирохозяйку. Когда она вошла, он расхаживал по комнате, держа руку у сердца, и уже не помнил, что хотел сказать.
— Погодите, — воскликнул он, когда она уходила. — Если сегодня или завтра… или вообще когда-нибудь придет… моя сестра Ружена, скажите ей, что я нездоров и просил к себе никого не пускать.
Он лег на свою ветхую кушетку и уставился на новую паутину, которая появилась в углу у него над головой.
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления