Онлайн чтение книги
Мы долгое эхо друг друга
Тебе
«Мы совпали с тобой…»
Алене
Мы совпали с тобой,
совпали
в день, запомнившийся навсегда.
Как слова совпадают с губами.
С пересохшим горлом —
вода.
Мы совпали, как птицы с небом.
Как земля
с долгожданным снегом
совпадает в начале зимы,
так с тобою
совпали мы.
Мы совпали,
еще не зная
ничего
о зле и добре.
И навечно
совпало с нами
это время в календаре.
Позвони мне, позвони
Позвони мне, позвони,
Позвони мне, ради бога.
Через время протяни
Голос тихий и глубокий.
Звезды тают над Москвой.
Может, я забыла гордость.
Как хочу я слышать голос,
Долгожданный голос твой.
Без тебя проходят дни.
Что со мною, я не знаю.
Умоляю – позвони,
Позвони мне – заклинаю,
Дотянись из далека.
Пусть под этой звездной бездной
Вдруг раздастся гром небесный
Телефонного звонка.
Если я в твоей судьбе
Ничего уже не значу,
Я забуду о тебе,
Я смогу, я не заплачу.
Эту боль перетерпя,
Я дышать не перестану.
Все равно счастливой стану,
Даже если без тебя!
Ливень
– Погоди!.. —
А потом тишина и опять:
– Погоди…
К потемневшей земле
неподатливый сумрак прижат.
Бьют по вздувшимся почкам
прямые, как правда,
дожди.
И промокшие птицы
на скрюченных ветках дрожат…
Ливень мечется?
Пусть.
Небо рушится в ярости?
Пусть!
Гром за черной горою
протяжно и грозно храпит…
Погоди!
Все обиды забудь.
Все обиды забудь…
Погоди!
Все обиды забыл я.
До новых
обид…
Хочешь,
высушу птиц?
Жарким ветром в лесах просвищу?
Хочешь,
синий цветок принесу из-за дальних
морей?
Хочешь,
завтра тебе
озорную зарю посвящу.
Напишу на заре:
«Это ей
посвящается.
Ей…»
Сквозь кусты продираясь,
колышется ливень в ночи.
Хочешь,
тотчас исчезнет
свинцовая эта беда?..
Погоди!
Почему ты молчишь?
Почему ты молчишь?
Ты не веришь мне?
Верь!
Все равно ты поверишь,
когда
отгрохочут дожди.
Мир застынет,
собой изумлен.
Ты проснешься.
Ты тихо в оконное глянешь стекло
и увидишь сама:
над землей,
над огромной землей
сердце мое,
сердце мое
взошло.
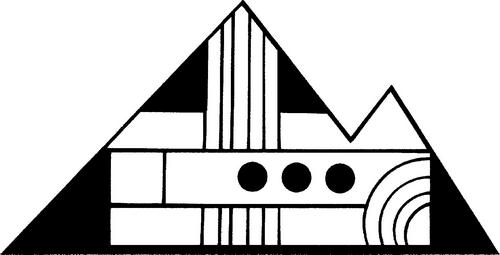
Письмо домой
Мама, что ты знаешь о ней?
Ничего.
Только имя ее.
Только и всего.
Что ты знаешь,
заранее обвиня
ее в самых ужасных грехах земли?
Только сплетни,
которые в дом приползли,
на два месяца опередив меня.
Приползли.
Угол выбрали потемней.
Нашептали и стали, злорадствуя, ждать:
чем, мол, встретит сыночка
родная мать?
Как, мол, этот сыночек ответит ей?
Тихо шепчут они:
– Дыму нет без огня.
Причитают:
– С такою семья – не семья.
Подхихикивают…
Но послушай меня,
беспокойная мама моя.
Разве можешь ты мне сказать:
не пиши?
Разве можешь ты мне сказать?:
не дыши?
Разве можешь ты мне сказать:
не живи?
Так зачем говоришь:
«Людей не смеши»,
говоришь:
«Придет еще время любви»?
Мама, милая!
Это все не пустяк!
И ломлюсь не в открытые двери я,
потому что знаю:
принято так
говорить своим сыновьям, —
говорить:
«Ты думай пока не о том», —
говорить:
«Подожди еще несколько лет,
настоящее самое будет потом…»
Что же, может, и так…
Ну, а если – нет?
Ну, а если,
решив переждать года,
сердцу я солгу и, себе на беду,
мимо самого светлого счастья пройду, —
что тогда?..
Я любовь такую искал,
чтоб —
всего сильней!
Я тебе никогда не лгал!
Ты ведь верила мне.
Я скрывать и теперь ничего не хочу.
Мама, слезы утри,
печали развей —
я за это жизнью своей заплачу.
Но поверь, —
я очень прошу! —
поверь
в ту, которая в жизнь мою светом вошла,
стала воздухом мне,
позвала к перу,
в ту, что сердце так бережно в руки взяла,
как отцы новорожденных только берут.
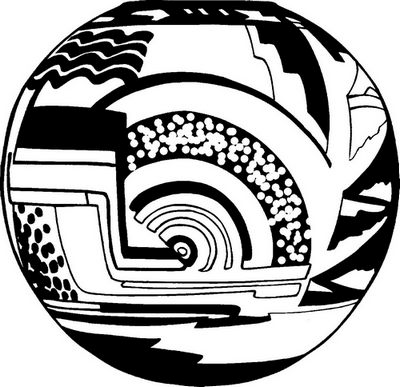
«То, где мы жили, называлось югом…»
То, где мы жили,
называлось югом…
И каждый раз,
как только мы вставали,
казался мир вокруг
настолько юным,
что в нем —
наверняка! —
существовали
пока еще не названные вещи.
Беспомощный,
под безымянным небом
рождался мир.
Он вовсе не был
вечным.
Усталым не был.
И всесильным не был.
Он появлялся.
Он пьянил, как брага.
Он был доверчивым
и откровенным…
О, это удивительное право:
назвать землею – землю,
ветер – ветром!
Увидев
ослепительное нечто,
на миг сомкнуть
торжественные веки
и радостно провозгласить:
«Ты —
небо!
Да будет так
отныне и вовеки!..
Да будет мир
ежесекундно юным.
Да будет он таким
сейчас и позже…»
То, где мы жили,
называлось югом.
И было нам по двадцать лет.
Не больше…
И нисходила ночь —
от звезд рябая.
И мы,
заполненные гулкой ширью,
намаявшись,
почти что засыпая,
любовь
бесстрашно называли
жизнью.
«Горбуша в сентябре идет метать икру…»
Горбуша в сентябре
идет метать икру…
Трепещут плавники, как флаги на ветру.
Идет она, забыв о сне и о еде,
туда, где родилась.
К единственной воде.
Угаром,
табуном,
лавиною с горы!
И тяжелеют в ней
дробиночки икры…
Горбуша прет, шурша,
как из мешка – горох.
Заторы сокруша.
И сети распоров.
Шатаясь и бурля, как брага на пиру,
горбуша в сентябре
идет метать икру…
Белесый водопад вскипает, будто пунш,
когда в тугой струе —
торпедины горбуш.
И дальше —
по камням.
На брюхе —
через мель!
Зарыть в песок икру.
И смерть принять взамен.
Пришла ее пора,
настал ее черед…
Здесь даже не река,
здесь малый ручеек.
В него трудней попасть,
чем ниткою – в иглу…
Горбуша в сентябре идет метать икру!
Потом она лежит —
дождинкой на стекле…
Я буду кочевать по голубой земле.
Валяться на траве,
пить бесноватый квас.
Но в свой последний день,
в непостижимый час,
ноздрями ощутив
последнюю грозу,
к порогу твоему
приду я,
приползу,
приникну,
припаду,
колени в кровь сотру…
Горбуша в сентябре
идет метать икру.
«– Отдать тебе любовь?..»
– Отдать тебе любовь?
– Отдай…
– Она в грязи…
– Отдай в грязи.
– Я погадать хочу…
– Гадай.
– Еще хочу спросить…
– Спроси.
– Допустим, постучусь…
– Впущу.
– Допустим, позову…
– Пойду.
– А если там беда?
– В беду.
– А если обману?
– Прощу.
– «Спой!» – прикажу тебе…
– Спою.
– Запри для друга дверь…
– Запру.
– Скажу тебе: убей!
– Убью.
– Скажу тебе: умри!
– Умру.
– А если захлебнусь?
– Спасу.
– А если будет боль?
– Стерплю.
– А если вдруг стена?
– Снесу.
– А если узел?
– Разрублю!
– А если сто узлов?
– И сто.
– Любовь тебе отдать?
– Любовь.
– Не будет этого!
– За что?!
– За то, что не люблю рабов.
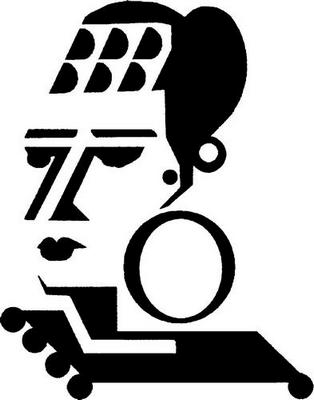
«Будь, пожалуйста, послабее…»
Будь, пожалуйста, послабее.
Будь, пожалуйста.
И тогда подарю тебе я
чудо
запросто.
И тогда я вымахну-вырасту,
стану особенным.
Из горящего дома вынесу
тебя,
сонную.
Я решусь на все неизвестное,
на все безрассудное, —
в море брошусь,
густое, зловещее, —
и спасу тебя!..
Это будет сердцем велено мне,
сердцем велено…
Но ведь ты же сильнее меня,
сильней
и уверенней!
Ты сама готова пасти других
от уныния тяжкого.
Ты сама не боишься ни свиста пурги,
ни огня хрустящего.
Не заблудишься,
не утонешь,
зла не накопишь.
Не заплачешь и не застонешь,
если захочешь.
Станешь плавной и станешь ветреной,
если захочешь.
Мне с тобою – такой уверенной —
трудно
очень.
Хоть нарочно,
хоть на мгновенье, —
я прошу, робея:
помоги мне в себя поверить!
Стань слабее.
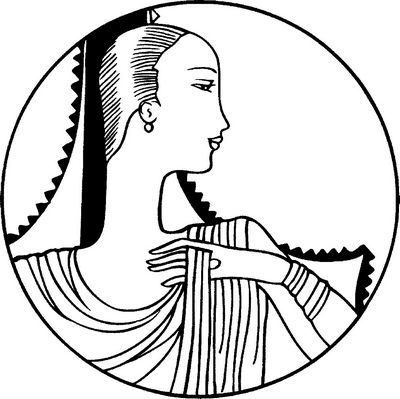
Ностальгия
Ностальгия бывает по дому.
По Уралу, по Братску, по Дону.
По пустыням и скалам белесым,
невозможно прозрачным березам.
По степям, где метели тугие…
У меня
по тебе ностальгия.
По твоим просыпаньям тяжелым.
По глазам и плечам обнаженным.
По мгновеньям, когда ты со мною.
По ночному бессонному зною.
По слезам и словам невесомым.
По улыбкам
и даже по ссорам!
По губам, суховатым с морозца…
Я, решив с ностальгией бороться,
уезжаю.
Штурмую платформы.
Но зачем-то ору в телефоны!
Умоляю тебя:
– Помоги мне!
Задыхаюсь от ностальгии!..
Ты молчишь.
Ты спасать меня медлишь…
Если вылечусь —
тут же заметишь.
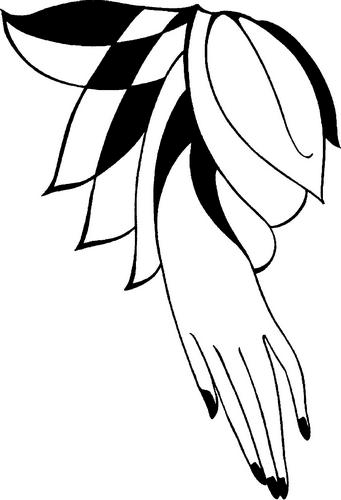
«Как детство, ночь обнажена…»
Как детство, ночь обнажена.
Земля становится просторнее…
Моя щека обожжена
пронзительным:
«Скажи мне что-нибудь!..»
«Скажи мне что-нибудь!..
Скажи!
Скорей!
Пусть будут волны – до неба.
Заполони. Опустоши.
И все-таки скажи мне что-нибудь!..
Плати за то, что целовал,
словами – вечными, как прошлое…
Зачем учился ты словам?
Скажи мне что-нибудь хорошее…
За то, что ты не опроверг
все мужество мое нарочное,
за бабий век, недлинный век —
скажи мне что-нибудь хорошее…»
Святая и неосторожная,
чего ты просишь? Правды? Лжи?..
Но шепчет женщина: «Скажи!
Скажи мне что-нибудь хорошее…»
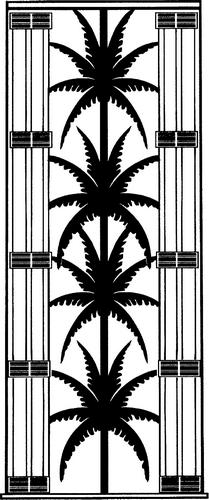
Радар сердца
У сердца
есть радар.
Когда-то,
в ту весну
тебя я угадал.
Из тысячи.
Одну.
У сердца
есть радар.
Поверил я в него…
Тебя я увидал
задолго до того,
как повстречались мы.
Задолго до теперь.
До длинной
кутерьмы
находок и потерь…
Прожгло остаток сна,
почудилось:
«Гляди!
Ты видишь? —
Вот она…»
И екнуло в груди.
Радар обозначал
твой смех.
Движенья рук.
И странную печаль.
И вкрадчивых подруг,
Я знал твоих гостей.
Застолья до утра.
Твой дом.
Твою постель.
Дрожь
твоего бедра.
Я знал,
чем ты живешь.
Что ешь.
Куда идешь.
Я знал,
чьи письма рвешь.
И от кого их ждешь.
Я знал,
в чем ты права.
О чем мечтаешь ты.
Знал все твои слова.
И платья.
И цветы.
И абажур в окне.
И скверик на пути,
где предстояло мне
«люблю» —
произнести…
Все знал я до того,
как встретился с тобой…
Но до сих пор —
слепой!
Не знаю
ничего.
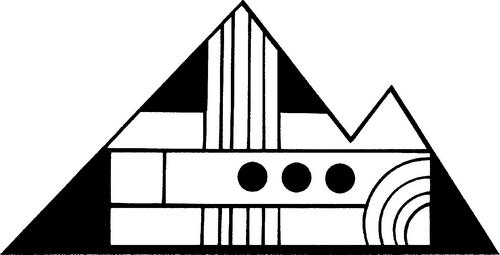
Сердце в руках
Я видел, как по Праге,
с прохожими
встречаясь,
нейлоновое платье
на плечиках качалось.
Качалось —
незатейливое,
цвета румянца.
Качалось
отдельно,
чтобы не помяться.
Несла его
девушка, —
как счастье, несла.
Девушка зардевшаяся
на танцы шла…
Но почему я вздрогнул
и холодок —
по коже, —
весенняя дорога
похожа!
Похожа!
С цветов,
зарей вымытых,
сбивая росу,
я на руках вытянутых
сердце несу…
Идти неудобно —
улицы
круты…
Несу я сердце
к дому,
в котором —
ты.
Какое это сердце —
тебе
разглядеть.
Какое это сердце —
тебе
владеть!..
Веришь или не веришь, —
возьми его,
прошу…
Я позвоню у двери
и сердце положу…
А ты опять рассердишься, —
есть из-за чего.
А ты не примешь
сердца,
сердца моего…
Я это знаю, знаю —
и все же иду…
Улица
сквозная
пророчит беду.
А людям удивительно:
человек идет
и на руках
вытянутых
сердце
несет…
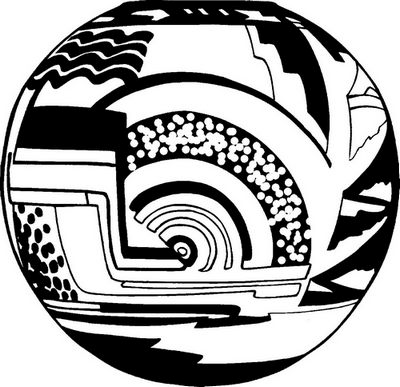
Радиус действия
Мне все труднее
пишется.
Мне все сложнее
видится.
Мгновеньями летят года, —
хоть смейся,
хоть реви…
И я из дома убежал,
чтоб наконец-то вырваться
из радиуса действия
обыденной любви.
Я был самонадеян.
Сел в самолет.
Обрадовался.
От молчаливой женщины
решительно уехал.
Но все равно остался
в знакомом очень
радиусе.
Слова ее,
глаза ее
во мне звучали
эхом.
Невероятный радиус!
Как от него
избавиться?
Непостижимый радиус!
Нет никакого сладу.
И я на этом радиусе —
как на булавке
бабочка…
И больно мне,
и весело,
и тяжело,
и сладко…
О, радиусы действия!
Радиусы действия!
Они – во мне,
они – в любом,
и никакой
межи!
Есть радиусы действия
у гнева и у дерзости.
Есть радиусы действия
у правды и у лжи.
Есть радиусы действия
у подлости и злобы —
глухие,
затаенные,
сулящие беду…
Есть радиусы действия
единственного слова.
А я всю жизнь ищу его.
И, может быть,
найду.
А может,
мне
не суждено…
Летят неразделенные
года!
Но, вопреки всему,
я счастлив
оттого,
что есть на свете женщина,
судьбой приговоренная
жить
в радиусе действия
сердца моего!..
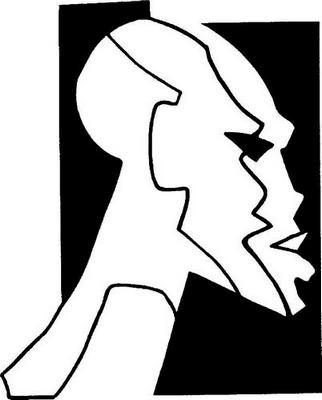
Аленушка!!! Миленькая моя!!!
Аленушка!!! Миленькая моя!!!
А почему бы тебе не получить от меня письмо и из Кишинева?
Из столицы. Из города, в который мы вчера приехали. Между прочим, очень неплохого города.
Во-первых, он зеленый, как дьявол! И чистенький. И весь какой-то игрушечный. Чем-то очень похожий на Бухарест или Будапешт. Только не на центральные улицы этих городов, а на околоцентральные.
Из Одессы мчались на машине. Такс. ЗИМ. Доехали за два с половиной часа. Чуть-чуть устали. Долго рядились насчет гостиницы. Не хотели впускать нас. Нема мест. Проходит республиканский съезд учителей. И вся гостиница забита дядями и тетями с поучительно-снисходительным выражением лиц.
Вчера же осчастливили местных владельцев телевизоров. Появились на экранах. Читали стихи. Я, как и в Одессе, читал «Саган» и «Варну». Студия маленькая, помещается в бывшем гараже. Жара там такая, какая примерно была бы, если бы в центре пустыни Сахары какой-нибудь чудак развел костер и сел около него. Греться. В разгар лета. В полдень. Пока я прочел стихи, с меня сошло одна тысяча семьсот сорок восемь потов. Всем операторам студии я бы немедленно выдал звание Героев Советского Союза. Это ж не работа. Это ж адовы муки. Пекло. Но сейчас уже строится здоровенный домище. Будет новая студия. С января.
Сегодня у нас свободный день. Препремся осматривать местные достопримечательности. Домик Пушкина. Домик Щусева. И все такое прочее.
А завтра – конференция. Опять битых два часа слушать высказывания местных мыслителей. Опять нашего заслуженного фельетониста Л. Лиходеева окружит толпа гавриков, и каждый будет тянуть его за рукав. И говорить: «Знаете, у меня засорилась уборная…», «А у нас в квартире соседка стерва… Нельзя ли про все про это фельетончик тиснуть… Тема пропадает…».
Кстати, печатаю я на машинке прославленного фельетониста. Во живет, буржуй! Даже машинистку с собой таскает!!
А как ты там, хорошая моя?
Скучаешь? Я – очень!!
И люблю тебя до чертиков в глазах. И мечтаю о середине месяца. Когда я увижу тебя. Сам.
Собственными глазами! И собственными руками!!!!
Как там у вас погода? Правда, что есть такая штука – снег? И что он холодный? И что, когда его возьмешь в руку, он тает? Чудно все это! А мы, понимаешь, ходим в рубашечках, и нам еще – представь себе, жарко! Во. 20 градусов, как одна копейка.
Пиши мне, ластынька моя. Любимая моя солдатка! Недолго тебе осталось тянуть свою вдовью лямку. Скоро, очень скоро «я к тебе приеду поездом…».
Целуй Катюшку. Передавай всем персональные приветы. Пиши мне. Люблю тебя. И целую сильно. Р-Р-Р
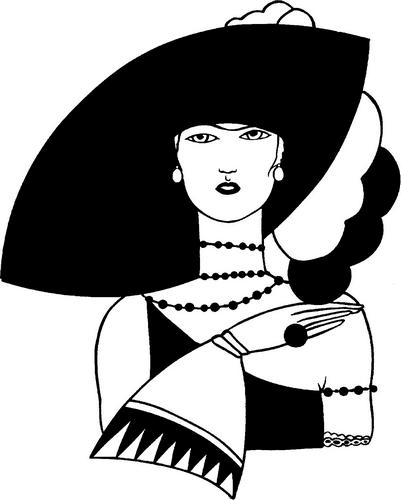
Перед расставанием
Я к тебе приеду поездом,
так, чтобы не знала ты.
На снегу весеннем
пористом
проторчу до темноты.
В дверь звонить не стану бешено,
а, когда вокруг темно, —
я тихонечко и бережно
стукну в низкое окно.
Ты в окошко глянешь боязно,
я сильнее постучу…
Нет!
Я не поеду поездом!
Самолетом прилечу.
Да!
Конечно!
И немедленно,
ошалев от маяты,
позвоню из Шереметьева
и в ответ услышу:
«Ты?!
Где?
Откуда?
Что ж ты мучаешь?!
Как приехал?!
Не пойму…»
И тогда
машину лучшую
я до города возьму.
Полетит дорога по лесу,
упадет к ногам твоим…
Мне остался час
до поезда,
а мы
о встрече говорим.
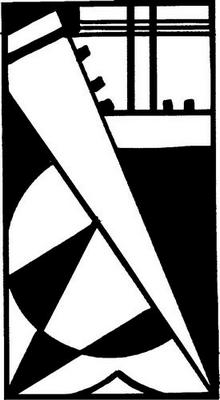
Ночью
Как тихо в мире!
Как тепло…
А если
в этой тишине
ты —
мне
назло,
себе
назло —
устала
думать обо мне!
И номер набрала рывком.
И молча отворила дверь…
Я, может, даже не знаком
с ним —
постучавшимся теперь.
А если и знаком,
так что ж:
он – чуткий.
У него —
душа…
И вот
в ладони ты идешь
к нему,
белея и дрожа!
Не понимаешь ничего…
А простыни —
как тонкий дым…
И называешь
ты
его —
забывшись —
именем моим!
И падаешь, полужива.
И задыхаешься от слез.
И шепчешь жаркие слова.
Все те.
Все самые.
Всерьез!
А сумрак —
будто воспален.
И очень пьяно
голове…
Телефонистка – о своем:
«Алло!
Кого позвать в Москве?..»
«Кто подойдет…»
Наверно, ты.
А если он, тогда…
Тогда
пусть вычеркнется навсегда
твой телефон!..
Из темноты
приходит медленная боль.
А я уже над ней смеюсь!
Смешно,
что я вот так
с тобой
то ссорюсь,
то опять мирюсь!
И мысли пробую смягчить,
весь —
в ожидании грозы…
Как долго телефон молчит!
Как громко
тикают
часы!
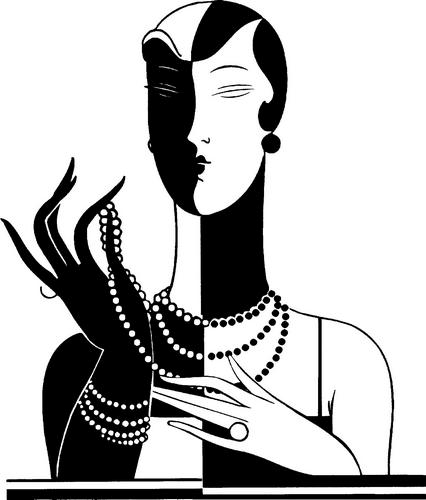
Оттуда
На том
материке
твоя звезда горит.
На том
материке
ты тоже —
материк!..
Постукивает дождь
по синеве окна.
А ты глядишь на дочь.
А ты сидишь одна.
Прохладно, как в лесу
в предутренней тиши…
Тебя я знаю всю.
(Не слушайте,
ханжи!)
Ты,
как знакомый дом,
не требуешь
похвал.
Открыта,
как ладонь,
Понятна,
как букварь…
Но так уж суждено:
и раз,
и два подряд
взглянула ты,
и взгляд, —
как белое
пятно!..
Ты
тоже
материк!
Разбуженная глубь…
Я вечный твой
должник.
Я вечный твой
Колумб.
Мне
вновь ночей не спать,
ворчать на холода.
Мне снова
отплывать
неведомо куда.
Надеяться, и ждать,
и волноваться зря.
И, вглядываясь
в даль,
вовсю вопить:
«Земля!!»
Намеренно грубя,
от счастья
разомлеть.
И вновь открыть
тебя!
Открыть,
как умереть.
Блуждать
без сна и компаса
в краях
твоей земли…
И никогда
не кончатся
открытия мои.
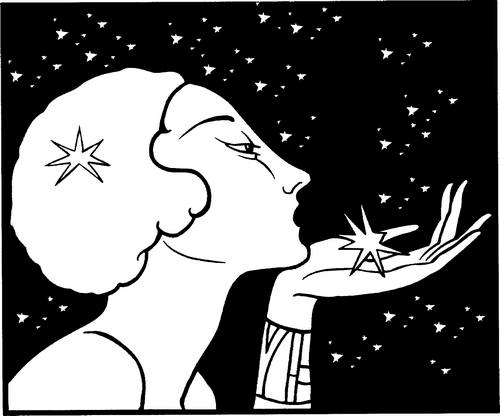
Без тебя
Хотя б во сне давай увидимся с тобой.
Пусть хоть во сне
твой голос зазвучит…
В окно —
не то дождем,
не то крупой
с утра заладило.
И вот стучит, стучит…
Как ты необходима мне теперь!
Увидеть бы.
Запомнить все подряд…
За стенкою о чем-то говорят.
Не слышу.
Но, наверно, – о тебе!..
Наверное,
я у тебя в долгу,
любовь, наверно, плохо берегу:
хочу услышать голос —
не могу!
лицо пытаюсь вспомнить —
не могу!..
…Давай увидимся с тобой хотя б во сне!
Ты только скажешь, как ты там.
И все.
И я проснусь.
И легче станет мне…
Наверно, завтра
почта принесет
письмо твое.
А что мне делать c ним?
Ты слышишь?
Ты должна понять меня —
хоть авиа,
хоть самым скоростным,
а все равно пройдет четыре дня.
Четыре дня!
А что за эти дни
случилось —
разве в письмах я прочту?!
Как эхо от грозы, придут они…
Давай увидимся с тобой —
я очень жду —
хотя б во сне!
А то я не стерплю,
в ночь выбегу
без шапки,
без пальто…
Увидимся давай с тобой,
а то…
А то тебя сильней я полюблю.
Ревность
Игру нашли смешную,
и не проходит
дня —
ревнуешь,
ревнуешь,
ревнуешь ты меня.
К едва знакомым девушкам,
к танцам под баян,
к аллеям опустевшим,
к морю,
к друзьям.
Ревнуешь к любому,
к серьезу,
к пустякам.
Ревнуешь к волейболу,
ревнуешь к стихам…
Я устаю от ревности,
я сам себе
смешон.
Я ревностью,
как крепостью,
снова окружен…
Глаза твои
колются.
В словах моих
злость…
«Когда все это кончится?!
Надоело!
Брось!!»
Я начинаю фразу
в зыбкой тишине.
Но почему-то
страшно
не тебе,
а мне.
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления