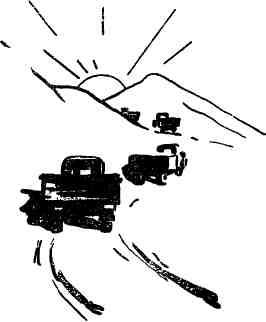Онлайн чтение книги
Там, где была тишина
Часть вторая
ДЕВУШКА ИЗ ЧАЙХАНЫ
По пустынным барханам убегает на север дорога. Она ведет в далекий город Чарджуй. Путнику, едущему из Керки, трудно остановить на чем-либо свой взгляд. Барханы, барханы да тощие кустики полыни.
Но примерно в пятнадцати километрах от Керки вдали на горизонте появляется какое-то высокое сооружение.
Оно по мере приближения становится все больше и больше и, в конце концов, принимает облик высокого куполообразного здания цвета пустыни.
Никто не знает, когда и в честь кого оно построено. Говорят, что это мавзолей Аламбердара, что означает знаменосец. Но кто был Аламбердар — неизвестно.
Добрую тысячу лет стоит это здание, ревниво храня свою тайну. А вокруг него — глухая тишина.
…Был поздний июльский вечер, когда у мазара Аламбердара остановилась дребезжащая эмка. Из нее кряхтя вылез Керим Ниязов.
— Поезжай вперед, — приказал он шоферу. — А я пройдусь немного. Ноги затекли.
Когда машина, поднимая клубы пыли, ушла вперед, Ниязов огляделся и зашагал ко входу в мавзолей.
— Входи, входи, — раздался внутри голос, такой гулкий и сильный, что Ниязов отшатнулся.
— Салям! — произнес он.
Оглядевшись вокруг, Ниязов нерешительно вошел под высокие своды. Прямо против входа он увидел продолговатую каменную плиту, из-за которой навстречу ему вышел человек, одетый в полувоенную форму.
— Салям, йолдаш, — произнес он, протягивая руку.
— Йолдаш Курлатов? — удивился Ниязов, также протягивая руку.
— Он самый, — засмеялся Курлатов, обнажая мелкие острые зубы. — Старый друг лучше новых двух, верно, папаша?
Ниязов все еще робко озирался по сторонам.
— Меня машина ждет, — произнес он, присаживаясь на каменную плиту.
— Встань, нечестивец, — раздался глухой старческий голос, заставивший вздрогнуть и вскочить Ниязова. — Как смеешь ты садиться на место погребения великого Аламбердара, поднявшего знамя борьбы против подлых пришельцев, врагов ислама?
Ниязов почтительно поклонился в том направлении, откуда прозвучали эти гневные слова.
Наступила томительная тишина. Курлатов негромко кашлянул и, выразительно поведя плечом в дальний, погруженный во мрак угол, произнес:
— Слушай, что будет тебе говорить наш гость.
Ниязов вновь робко и почтительно поклонился.
— В твоих владениях, под самым твоим носом творятся омерзительные дела, — зазвучал тот же старческий голос. — Русские роются в наших священных горах. Что они ищут там? Наши богатства. Все, что таят горы, принадлежит аллаху. Пришельцы нашли в горах серу. Они ее искали всюду и нашли в сердце Каракумов, а теперь — в горах Кугитанга. Эта сера не должна попасть в их руки. Слышишь ли ты меня, человек?
— Слышу, — склонился Ниязов. — Что я должен делать?
Курлатов незаметно толкнул низко склонившегося Ниязова. Тот понял: вопросы задавать нельзя.
Из темного угла вышел высокий седобородый старик. Голова его была закутана в чалму.
— Они собираются провести в горах дорогу и взорвать скалу, на которой погребены останки имама Саида. Ты поплатишься своей головой, если они сделают это. Я все сказал. Прощайте…
Старик приложил руку к груди и вышел.
— Это высокий гость, — тихо зашептал Курлатов. — Очень высокий. Он прибыл оттуда, — кивнул в сторону границы. — Он облечен очень высокой властью и силой.
Где-то вдали послышался неясный топот.
— Ну вот, — развязно хлопнул по плечу своего собеседника Курлатов. — Теперь садись, йолдаш, поговорим.
Он уселся на каменное надгробие и, встретив удивленный взгляд Ниязова, рассмеялся.
— Садись, садись, плевать я хотел на всю эту чепуху.
— Что ты! — испуганно вскрикнул Ниязов.
— Брось притворяться, — сухо отрезал Курлатов. — Все мы такие верующие. — лишь бы побольше заработать. Как говорится, яхши яман — клади в карман. А платят они хорошо.
Он тихо рассмеялся.
— Теперь слушай. Главное вот что. Вопрос о том «кто кого?» еще далеко не решен. Может быть, через год, а может, через десять, но они там, за горами и морями, поднимут этот вопрос, как теперь говорят, на должную высоту. И вот тогда с нас спросят: а что сделали вы? Я вскоре ухожу туда, — он снова кивнул в сторону границы. — С отчетом. Там будут спрашивать и о тебе. Нужно помешать им в добыче серы и других ископаемых. Помешать! Как? Подумай сам. Голова у тебя на плечах есть, вот и думай. К кому обращаться за помощью, ты знаешь. А пока на вот, получай.
Он вынул из кармана тяжелый сверток и передал Ниязову.
— На карманные расходы, — снова оскалил он мелкие зубы. — Ну, топай, старик. Да, чуть не забыл! Вот что, — снова нерешительно заговорил он, закуривая. — Со мной девчонка одна была. Я предложил ей перейти границу. Она решительно отказалась. Я оставил ее на станции Мукры. Возможно, она появится на дороге. Макаров ей знаком. Так вот, смотри, старик, чтобы волос не упал с ее головы. Понятно?
— Я понимаю, — глухо буркнул Ниязов, прислушиваясь. — Моя машина идет. Прощай.
— Прощай, — откликнулся Курлатов.
Над мазаром Аламбердара стояла полная луна…
…День начался чертовски плохо. Едва рассвело, в контору прибежал запыхавшийся Серафим в своей неизменной красной футболке и сообщил Макарову, что туркмены волынят.
— Какие туркмены? — не понял Макаров.
— Рабочие, землекопы, — досадливо скривился десятник. — На участок вышли, но объявили, что работать не будут. Вас ждут, понятно?
— Чего это они? — спросил Макаров, чувствуя, как болезненно сжимается сердце.
— Не знаю…
…Отказавшиеся работать местные жители сидели на корточках, расположившись полукругом невдалеке от только что насыпанного полотна. Они сидели молча и, казалось, совершенно равнодушно поглядывали в сторону спешившего к ним Макарова. Макаров подошел, поздоровался, поискал глазами Мамеда. Его не было в толпе.
«Значит, не все, — тотчас подумал он. — В чем же тут дело?»
С этим вопросом он и обратился к землекопам, присаживаясь на корточки и сворачивая цигарку:
— В чем дело, товарищи? Почему вы не хотите работать?
Все молчали. И вдруг откуда-то из задних рядов раздался глухой возглас:
— Дурдыева зачем снял?
Сидевшие до сего времени молча, рабочие вдруг сразу зашевелились, выкрикивая прямо в лицо Макарову злобные слова:
— Сами избили и с работы сняли!
— Зачем человека обидели?
— Не будем работать! Довольно!
Работы на дороге прекратились. Землекопы из бригад Солдатенкова и Ченцова подошли поближе.
«Так вот где собака зарыта! — подумал Макаров, ощущая какой-то озноб. — Да что я испугался, что ли?..» Он постарался овладеть собой и поднялся, так крепко сжав кулаки, что ногти впились в мякоть ладони.
— Вот что, товарищи, — заговорил он, стараясь не повышать голоса. — Может быть, вы не знаете, что произошло в тот день в конторе? В контору пришла жена Дурдыева. Я хотел сказать, — повысил он голос, — одна из его жен…
В толпе раздался одинокий негодующий вскрик.
— Одна из его жен, — повторил Макаров. — И попросила у счетовода портрет Ленина.
— Ленина! — как эхо откликнулось в толпе.
— А в это время в контору вбежал Дурдыев и стал избивать свою жену. В конторе был Солдатенков. Он не сдержался и оттолкнул Дурдыева. Солдатенкову я объявил выговор. А Дурдыева за избиение женщины в советском учреждении снял с работы.
В эту минуту из толпы, неподвижно стоявшей вокруг, вышел Солдатенков. Стал, опираясь на черенок лопаты, — сильный и ладный. Обветренное и загорелое лицо его было угрюмо.
— Я не Дурдыева ударил, — заговорил он глухо, и тотчас воцарилась тишина. — Я не Дурдыева ударил, — повторил он еще раз… — Я старый кулацкий мир ударил. Может, непонятно говорю? Так вот, чтобы попроще… Жил я, братцы, в голодной, разутой крестьянской семье. Отец батрачил, и мать батрачила. Но ей, бедной, вдвойне доставалось. На работе ее калечили, и отец мой ее бил. — Солдатенков поперхнулся, откашлялся. — Плохая была доля бабья у нас в России. А я гляжу, и здесь не слаще. Вот у этого вашего Дурдыева — целый, простите, гарем. Кулак ведь он, самый, настоящий кулак. Небось, ему не приходится, как вам, с кетменем ишачить. В контору для отвода глаз поступил, чтобы его не трогали… А ведь она еще девчонка, жена его. Понимать это надо. Ей бы еще с куклами баловаться. А он ее — кулаком.
Сидевшие на земле туркмены зашевелились. Некоторые одобрительно закивали. Но какой-то высокий и жилистый старик в чалме, которого Макаров до сих пор на дороге не видел, вдруг вскочил и закричал, выпячивая небритый подбородок.
— Принимай на работу Дурдыева, начальник. Не примешь, — с работы долой. Понимаешь?
Снова стало тихо.
— Хорошо, — чуть помедлив, ответил Макаров. — Хорошо. Я приму Дурдыева. Пусть выходит на работу. — Помедлив секунду, подождал, покуда утихнет поднявшийся вокруг ропот, и продолжал: — Но только не в контору, товарищи. Там у меня работы нет. А вот сюда, на участок. В твою бригаду, Курбандурды, — кивнул он смуглому красивому юноше, сидевшему в первых рядах.
И вот тогда случилось то, чего никак не ожидал Макаров. Рабочие-туркмены начали смеяться. Они смеялись так искренне, от души, что этот смех подхватили все, стоящие вокруг. Такир огласился неудержимым хохотом.
— Правильно, начальник, — крикнул Курбандурды. — Очень правильно!
— Якши, начальник!
— Кетмень ему, пузатому!
Смех гремел над такиром, как ливень. Макаров видел, как сердито махал руками и плевался высокий старик, но его уже никто не слушал:
— Давайте кончать митинг, — поднял Макаров руку. — Становись на работу.
И все же, отпустив на время, глухая неясная тревога снова схватила его в свои цепкие когти. «Кто-то борется со мной, — думал он, шагая в контору. — Но кто? Кому я мешаю? Я ведь, кажется, ничего плохого не сделал. И Солдатенков… Приехал сюда бог весть откуда, работает не жалея сил. Разве мог бы он смотреть равнодушно, как избивают женщину, в сущности девочку, ставшую женой варвара. А Ниязов говорит: обычай. Хорош представитель Советской власти. Хорош! Ну что ж, поборемся… А тут и с дорогой не ладится. Черт бы их побрал! Неужели им там не понятно? Это все Николай: не сумел объяснить, не смог добиться…»
В конторе его ждал Костенко. Возле него стояла раскрасневшаяся Наталья. Увидев его, оба сразу же умолкли.
Костенко протянул Макарову руку.
— Прибыл из командировки, — доложил он.
Макаров сухо пожал ему руку.
— Рассказывай, — коротко, бросил он.
В контору вошли Борисенко и Серафим. Видимо, они хотели что-то сообщить Макарову, но, увидев, что он занят, отошли к столу Буженинова.
— Да что рассказывать, — присел на табурет Костенко. — Пошел сразу я к главному инженеру…
— К Чернякову? — перебил его Макаров.
— К нему, — кивнул головой Костенко. — Он, напевая что-то по-французски, посмотрел наши чертежи…
— А письмо? — снова перебил его Макаров.
— Письмо он даже не стал читать. Цидульки, говорит, читаю только от девиц и вдов.
Увидев, как покраснел Макаров, Николай заторопился.
— Посмотрел на чертежи и говорит: «На все это наплевать и забыть. Проект утвержден, смета утверждена, а если вам там заниматься нечем, так пейте водку и играйте в подкидного».
— Негодяй, — вскрикнул Макаров. — А ты ему что? Смолчал!
— Это же твой товарищ, — обиделся Костенко. — Вот ты и поезжай, поговори с ним.
— И поеду, — заорал Макаров, ударив кулаком по столу так, что с него слетела чернильница-невыливайка. — Но я ведь тебя послал, тебе доверил. А у Ткачева ты был?
— Был, — угрюмо отозвался Костенко.
— Ну и что?
— Да что? Ничего. Вызвал он Чернякова. Ругались они с ним, как сапожники. Меня выставили за дверь. А потом Ткачев меня позвал и говорит: «Делайте, как сказал главный, нечего фокусничать».
— Фокусничать! — побледнел Макаров. — Да я ведь, да я… Мы уже завал разобрали. Почти самое главное сделали. Что же они там?
Он силился свернуть цигарку и никак не мог сделать это мелко дрожащими пальцами.
В конторе стало тихо. И вдруг все вздрогнули. Это из рук Натальи выпала чашка, которую она все время терла, терла, не сводя глаз с Макарова и Николая, и никак не могла вытереть.
Наталья села на табурет и заплакала.
— Давайте уедем отсюда, — растирая руками слезы, заговорила она. — Домой, в Полтаву. Ничего у нас тут не получится. Ничего!
— Наталья! — вскочил Макаров. — Ты почему не на работе?
Наталья тоже встала.
— На минутку зашла, — пробормотала она. — Просила Николая чашку купить. И вот… разбила.
Макарову стало жаль ее.
— Ничего, он тебе в следующий раз целый сервиз привезет. А вы что, друзья? — повернулся он к Борисенко. — Что это за парад?
— Мы по секрету, — почти прошептал Борисенко, лукаво улыбаясь.
— Ну что там? — подошел к нему Макаров.
— Выйдить на хвылынку, — снова прошептал кладовщик.
Макаров вышел. К нему сейчас же подошли и одновременно жарко зашептали Борисенко и Серафим.
— Там на станции в чайхане девка сидит. Вторые сутки. Красивая. И все плачет.
— Ну и что? — не понял Макаров.
— Давай, товарищ прораб, возьмем ее сюда, к нам, — елейно заулыбался Борисенко. — Зачем пропадать девке?
— Возьмем, товарищ прораб! — в тон ему взмолился Серафим.
— Морды вы собачьи, — засмеялся Макаров. — Девушку приведите. У нас работы хватит. Но имейте в виду…
— Что вы, что вы! — замахал руками кладовщик. — Пошли, Симка!
Когда Макаров возвратился в контору, там никого не было. Только Буженинов что-то отщелкивал на счетах.
Макаров вспомнил, что еще утром получил на станции письмо из дому, да так и не успел его прочитать. «Что там мать пишет? — подумал он, надрывая синий конверт с маркой, изображающей красноармейца в шлеме. — Как там ей живется одной?»
Отец Виктора умер еще в восемнадцатом году от свирепствовавшей тогда испанки. Матери одной пришлось воспитывать сына. Она работала, хлопотала по хозяйству и никогда не показывала, как тяжело ей приходится. Особенно тяжелой оказалась для нее первая разлука с сыном.
«Все жду тебя, Витя, — писала она. — Каждый вечер кажется: вот-вот ты пробежишь по веранде и постучишь в дверь. Только понимаю, не на месяц и даже не на год уехал ты в эти далекие края. Знаю я, что нелегко вам будет там, да где теперь сладко? Вот и у нас идет борьба с кулаками. Трудно очень с хлебом и вообще с продуктами. Но ты не беспокойся. Живи и работай спокойно. Береги себя».
«Надо что-то послать матери», — подумал Макаров.
Он тотчас же прикинул. Из полученной им накануне зарплаты у него осталось 150 рублей. Правда, нужно две недели питаться, но ничего, как-нибудь продержусь, а матери пошлю сто рублей. Все-таки помощь.
Буженинов будто угадал его мысли. Он неслышно поднялся и положил перед ним несколько нарядов на оплату.
Макаров просмотрел их. «Ага, — подумал он, — 25-й и 30-й пикеты! Вот она ваша земляная насыпь — сотни кубометров грунта, тысячи рублей расходов. А ведь всего этого можно было избежать». После получения телеграммы Костенко он сразу же перевел основную массу рабочих на старую трассу. На новом варианте трудилась только одна бригада, работавшая под руководством Натальи. «Постой, а это что такое? — удивился он. — Это же косогор на 27-ом пикете. Насыпь высотой полметра и такая же срезка. Откуда же взялось столько земли?»
— Что это такое? — изумленно повернулся он к Буженинову.
Тот смущенно протирал очки.
— Это небольшая липа, Виктор Александрович, — проговорил он. — Я вот совершенно оборвался, да и вам, я думаю, лишняя копейка не помешает. Здесь ведь такие большие земляные работы. Что значат эти триста кубометров!
«А что если в самом деле подписать? — на мгновение мелькнула мысль. — Триста кубометров… А потом что? Пятьсот? А затем — тысяча?»
Ему даже жарко стало.
— Знаете что, Буженинов, — произнес он, медленно вставая. — Вы что же, меня подлецом считаете?
— Что вы! Что вы! — вскинулся бухгалтер. — Боже упаси!
Он снял очки и развел руками.
— Но и ханжой и божьим ангелом я вас тоже никогда не считал!
— Ладно, — отмахнулся Макаров. — Порвите этот наряд и забудем об этом.
Он наклонился над бумагами, чувствуя, как холодный пот от только что пережитого волнения выступает на лбу. «Что же ты за штучка? — подумал он о Буженинове. — Как бы заглянуть в твою душу?»
Скрипнула дверь. В контору кто-то вошел Макаров понял: ребята пришли со станции. Он медленно поднял голову. Перед ним стояла девушка с серыми прозрачными глазами в легком белом платочке.
— Нина! — вскричал Макаров, вскакивая и подходя к девушке. — Как вы сюда попали?
Изумленные Симка и Борисенко, пятясь, вышли из конторы…
СКРЕЩЕННЫЕ КОПЬЯ
С Ниной Макаров встретился в Ашхабаде во время их вынужденного безделья.
В эти дни он часто уходил в полюбившийся ему сквер имени Ленина. Там, сидя на скамье, он часами любовался далекими горами. Розовые утром, словно осыпанные лепестками только что расцветшего миндаля, они голубели к полудню и вновь покрывались розовыми и багряными красками в часы заката. В сквере почти никого нет, припекает солнце. Радиорупоры передают мелодичную, хотя и несколько однообразную, туркменскую музыку.
Как-то на соседней скамье Макаров заметил девушку, одетую в простое ситцевое платье, в черных туфельках-лодочках. Девушка сидела неподвижно, повернувшись к нему спиной. Вдруг он заметил, что плечи ее судорожно вздрагивают.
— Что с вами? — подошел к ней Макаров. — Может быть, вы нездоровы?
Она подняла к нему мокрое от слез лицо, взглянула серыми, какими-то прозрачными глазами.
— Сейчас все пройдет, — торопливо ответила она. — Что-то такое подкатилось к сердцу, сама не понимаю.
Она вытерла лицо платочком, улыбнулась.
— Вот уже все прошло!
Так Макаров познакомился с Ниной Беловой.
Через несколько дней он вновь встретил ее в этом же скверике, проводил домой. Она жила на Гоголевской улице у своей родственницы Алены.
Немолодая, с бледным лицом и увядшими губами, Алена встретила его, как старого знакомого. Здесь же Макаров познакомился с завсегдатаем этой квартиры Анатолием Курлатовым, стройным и подтянутым, какого-то военного облика мужчиной. Он был одет в полувоенную форму, сапоги, брюки галифе и френч. Волосы его были разделены прямым аккуратнейшим пробором. Знакомясь с Макаровым, он щелкнул каблуками, сверкнул мелкими, хищными белыми зубами.
— Анатолий Курлатов. Из разночинцев. Профессор кислых щей и баварского пива. Он же изобретатель ваксы.
Заметив, что Макарова покоробил этот балаганный тон, он добавил с легким поклоном:
— А также волею судеб референт по полезным ископаемым! Давайте лучше выпьем!
Нина на этот раз была очень весела. Она взяла в руки гитару и пела цыганские песни, шевеля круглыми плечами, с которых сползал легкий белый платок. Она нравилась Макарову. Но почему-то, приходя на Гоголевскую, он испытывал странное чувство: казалось, будто он совершает какой-то неблаговидный поступок. Он бы и сам не мог дать себе отчета в том, почему ни единым словом не обмолвился своим товарищам о новом знакомстве.
Однажды, зайдя к Нине, он застал дома одну Алену. Она лежала на старенькой кушетке в неудобной позе, как-то изломанно забросив за голову обнаженную, худую руку. При входе Макарова она не переменила позы, а только внимательно поглядела на юношу.
— Хороший вы мальчик, — негромко заговорила она, укладываясь поудобней. — Вам нужно встретить на своем пути хорошую, чистую девушку. Нетронутую, как белая лилия! — Она чуть насмешливо улыбнулась своими бледными, порочными губами.
— А почему вы заговорили со мной об этом? — спросил Макаров.
Что-то в ее словах неуловимо напоминало ему его печальное объяснение с Юлией и ее матерью.
— Вы встречаетесь с Ниной, — спокойно продолжала Алена. — А этого делать не следует.
С ноги ее со стуком упал туфель. Она потянулась было за ним, затем равнодушно махнула рукой.
— Нине нужно устраивать свою судьбу, — лениво продолжала она. — А все эти лирические вздохи да охи могут только помешать ей.
Макаров мучительно покраснел и встал.
— Я должен понять это, как…
— Ничего не нужно понимать, голубчик, — торопливо перебила его Алена. — Вам нужно искать свою мечту… Свою белую лилию.
Макаров выбежал из комнаты. Лицо его пылало. На следующий день он выехал на участок.
— Как вы сюда попали? — повторил изумленный Макаров, когда он и Нина остались вдвоем.
Нина опустила голову. На ней было поношенное шерстяное платье, на плечи наброшен пуховый платок. Она казалась уже не такой красивой, как там, в Ашхабаде, на Гоголевской, когда, шевеля плечами и посверкивая большими базами, пела цыганские песни. Казалось даже, что она пытается быть менее красивой, менее заметной. Возле ее губ появились тоненькие горькие складки, а глаза потеряли свой вызывающий блеск. А все-таки она была красива и сейчас.
— Он взял меня с собой, — едва слышно заговорила она.
— Кто он?
— Курлатов, Анатолий Петрович.
— Говорите…
— Мне очень трудно говорить, — едва слышно ответила Нина. — Он сказал, что мы поедем в Термез к его родителям и… И будем жить в Термезе. А потом он сказал, что обманул меня, что его родители живут там, за границей, что нас туда переправят и нам будет очень хорошо.
Она замолчала, словно что-то мешало ей говорить. Макаров увидел, как по щеке ее медленно скатывается большая слеза.
— Я отказалась. Он стал угрожать. Тогда я сошла с поезда вот на этой станции, одна, без денег.
Нина опустила голову и заплакала. Макаров встал.
— Чепуха, — сказал он, преодолевая волнение. — Я одолжу вам денег, и вы завтра же будете дома.
— Нет, нет, — почти закричала Нина, — я не хочу туда. Не хочу! — Она подошла к Макарову. — Виктор Александрович, я вас очень прошу. Дайте мне какую-нибудь работу здесь, на стройке. Ну, уборщицей хотя бы.
— Зачем уборщицей? — поморщился Макаров. — Вы сможете работать табельщицей.
— Большое спасибо, — сказала Нина, коснувшись его руки. — Большое спасибо!..
Этот день прошел сравнительно спокойно, если не считать одного незначительного происшествия. Находясь в районе горы Безымянной, где должен был произойти взрыв, Макаров решил подняться на ее вершину. Там он увидел странное зрелище. На вершине горы стоял камень, а вокруг на ветках саксаула густо были натыканы кусочки материи разного цвета и такие же разноцветные бумажки.
«Что это такое?» — подумал Макаров и начал спускаться вниз. Когда он достиг подножия горы, наверху послышался глухой шум, вниз покатилась груда камней. Макаров успел отпрыгнуть в сторону, но все же один из камней ударил его по голове. На руке, которой он прижал ранку, заалела кровь.
К нему подбежала Наталья.
— Кто это тебя? Где?
— Да никто, — отмахнулся Макаров. — Сам виноват. Лазил, как мальчишка, по горам, вот и получил…
Вечером в контору пришел какой-то человек из поселка Горного и велел ему расписаться в разносной книге. Там значилось, что его, Макарова, прораба дороги Мукры — поселок Горный, вызывают на совещание технического совета на восемь часов вечера.
— Совсем по-настоящему, — с уважением покосился Макаров на разносную книгу. — Вызывают… Техсовет… Пойдем, послушаем.
…Машина с ветерком промчалась по ровному такиру и начала подниматься в горы. Стемнело. Шофер включил фары. Два ярких луча осветили дорогу. Они вырывали из мрака какие-то фантастические выступы, похожие на животных и людей, тощие кустики полыни, арчовые поросли. Но вот горы исчезли. Свет фар едва достигал недалеких каньонов, окрашенных в красные и зеленые цвета.
— Горный, — произнес шофер. — Приехали.
Машина покатилась вдоль штабелей известняка и остановилась около землянки, у входа в которую стояло несколько человек, чуть поодаль виднелись легковые машины.
— Это кто же приехал? — услышал Макаров чей-то вопрос.
— Начальник «Дорстроя», — ответил кто-то.
«Ого, — подумал Макаров, — уже в начальники попал».
Люди начали заходить в землянку. Он пошел вслед за ними. В землянке на шатком, грубо сколоченном столе горела керосиновая лампа. Посредине стояли скамейки, стулья.
Войдя, Макаров увидел стоявшего у стола высокого человека с черными выразительными глазами. На отвороте его пиджака алел значок члена ЦИКа.
«Сатилов», — вспомнил Макаров и подошел к нему.
Сатилов горячо, но с достоинством пожал протянутую ему руку и отрекомендовался:
— Прошу любить и жаловать, — будущий начальник горного химического комбината.
Он лукаво улыбнулся, и Макаров понял, что это шутка.
— А вот мои помощники, — продолжал Сатилов, — знакомьтесь. Начальник обогатительной фабрики.
— Хоменко, — протянул Макарову руку коренастый, веснушчатый юноша в кожаной куртке. — Начальник тоже, конечно, будущий!
— Начальник плавильного цеха, — повернулся Сатилов к другому, сразу же покрасневшему юноше, сидевшему на скамье.
— Амурский, — представился тот, протягивая узкую белую руку.
— Ну, а остальных вы знаете. Ах, простите, — вдруг спохватился он. — Я ведь забыл о нашем госте.
Он глянул в угол, и Макаров увидел там одетого в черную тройку человека с большим портфелем на коленях. У него было длинное, холеное лицо с высоко поднятыми бровями и узкими губами.
— Наш гость, — представил его Сатилов, — инженер Сафьянов из геологического управления.
Сафьянов привстал и слегка поклонился Макарову. Макаров почувствовал какую-то неловкость, и она, очевидно, передалась другим, потому что все замолчали. Сатилов, недовольно морща брови, подошел к столу, положил перед собой часы. Совещание началось.
Макаров уселся рядом с Мирченко, успев краем глаза заметить сидевшего на той же скамье Ниязова.
Сатилов внимательно посмотрел на собравшихся. Жесткая складка обозначилась у его губ.
— В стране нет серы, — глухо заговорил он. — Каракумскую серу нужно вывозить самолетами. Вы сами понимаете — это нелегкое дело. А разворачиваемся мы чрезвычайно медленно, чрезвычайно. Геологи копаются, как кроты, и никак не могут закончить свои разведочные работы…
Макаров увидел, как вспыхнул Мирченко.
— Они, конечно, имеют дело с геологическими эпохами, — саркастически усмехнулся Сатилов. — Пять-шесть лет для них пустяки. А сера — вот она, под руками и рядом железная дорога. Железная дорога есть, а шоссейной нет.
Он в упор посмотрел на Макарова.
— Дорожники что-то там крутят и вертят, сам черт не разберет. Один вариант, потом второй вариант, а дороги нет. Нам ваши варианты не нужны. Нам нужна дорога. Можете построить — стройте, а нет — убирайтесь отсюда.
Макаров стиснул зубы, но промолчал. Сатилов схватил лежавший на столе карандаш, поломал его на мелкие кусочки.
— Местная власть ничем не помогает стройке, — яростно бросил он в сторону Ниязова. — Почему не даете людей на постройку дороги? Нахозяйничали так, что народ разбегаться начал…
Он замолчал. В землянке стало тихо. От нервного движения его руки опрокинулся стакан с водой, и вода разлилась по столу, маленькой струйкой стекая на пол. В тишине было слышно ее едва уловимое журчание.
Сатилов задумался. Макаров понимал, что его гневные слова по адресу дорожников и геологов были рождены потребностью излить на кого-либо свой гнев, вызванный гораздо более сложными затруднениями.
— Мы сегодня будем говорить о перспективах нашего района и о наших неотложных делах, — продолжал Сатилов. — Кто возьмет слово?
— Разрешите мне, — тотчас же поднялся с места Сафьянов. Щелкая замками огромного портфеля, извлек оттуда несколько листков голубой бумаги и начал: — Я должен сказать, что поражен теми переменами, которые произошли здесь за время моего отсутствия. С того момента, как мой уважаемый коллега Степан Павлович Мирченко своим сенсационным взрывом обнаружил здесь довольно основательные залежи серы, в основном подтвердившие мои предположения, прошло только два года, но какие изменения! — Он театрально развел руками. — Мы с уважаемым Степаном Павловичем пробирались здесь тогда в этих совершенно диких горах с гранатами, да, да, дорогие товарищи, с гранатами за поясом и винтовками за плечами, каждую минуту ожидая смертельного налета, а теперь… — Он снова наигранно развел руками. — Я ехал сюда по довольно сносной дороге, и вот даже наше совещание мы проводим, гм, в довольно приличной землянке, и сегодня, кажется, уже была пробная, правда, примитивная плавка. Прогресс огромный, и напрасно товарищ Сатилов сетует на какие-то козни. Козней никаких нет. Все дело в том, что вы здесь на месте несколько, так сказать… — Он замялся, видимо выбирая «наиболее удачное выражение, — несколько преувеличиваете размеры и значение этого месторождения. Так сказать, придерживаетесь пословицы: «Каждый кулик свое болото хвалит».
Сафьянов потупился и с виноватой улыбкой, словно ему предстояло сказать людям неприятные, но справедливые слова, продолжал:
— Дело в том, что я и мои товарищи, — он подчеркнул эти слова, — считаем, что сера в районе Горного, как вы назвали это месторождение, возникла после того, как образовались породы, содержащие серу. По нашему мнению, сера возникла здесь в результате восстановления иона[3] Ионы — электрически заряженные атомы, существующие в твердых телах, жидкостях или газах. SO4 (надеюсь, все меня понимают) углеводами, проникшими в толщу гипсов и ангидридов по тектоническим трещинам. Из этого следует, что сера в Горном, главным образом, встречается, только в трещинах и то не всегда.
— Что же из этого следует? — поднял на него внимательные и настороженные глаза Сатилов.
— Ничего ужасного и особенного, — доверчиво улыбнулся ему Сафьянов, — просто это говорит о том, что не следует поднимать вокруг этого вопроса слишком большой шум.
— Простите меня, — вскочил Мирченко, — но я никак не могу согласиться с тем, что только что высказал наш уважаемый гость. Не могу согласиться и не соглашусь.
В землянке раздался одобрительный гул.
— Вы, товарищ Сафьянов, были здесь в тридцатом году, — побледнев, горячился Мирченко. — Вы были вот здесь, где мы сейчас находимся, то есть на площади первого участка, самого богатого по запасам серной руды. И что же вы сделали?
Мирченко снял очки и смотрел на Сафьянова воспаленными и гневными глазами..
— Ваши разведочные выработки были неглубоки, и их было слишком мало. Видимо, вы очень спешили, опасаясь этих самых, как вы выразились, смертельных налетов.
Послышался откровенный смех. Сафьянов гневно передернул плечами.
— И вот ваша, с позволения сказать, разведка дала вам право перечеркнуть всю эту площадь, забраковать ее, то есть отнять у государства тысячи тонн серной руды!
Кто-то гневно вскрикнул. Сатилов постучал по стакану.
— Дайте мне высказаться, — отмахнулся Мирченко. — И сколько нужно было затратить трудов, чтобы доказать, что вы не правы! Но мы это доказали. Теперь вы перенесли борьбу в область теории. Что же, давайте сразимся и здесь…
Амурский захлопал в ладоши, но на него сразу зашикали.
— Что означают теоретические выкладки Сафьянова о происхождении местной серы? — говорил Мирченко. — Они означают, что сера здесь может находиться только в местах, где в толщу проникали углеводы, то есть, главным образом, по трещинам вдоль стен оврагов, а в глубине массивов будут нерудные, то есть пустые породы. А это значит, что не может быть и разговора о создании здесь большого химического комбината, ибо нет для этого достаточной сырьевой базы. Но так ли это, товарищи?
— Не так! — крикнули сразу несколько человек.
— Мы заявляем, — продолжал Мирченко, — что сера возникла здесь одновременно с образованием вмещающих ее пород. В лагунах обмелевшего и отмиравшего верхнеюрского моря образовался первичный тип данного серного месторождения. После ряда изменений оно приобрело современный характер. Вы говорите, что здесь осернены только стенки крупных оврагов? А мы заявляем обратное — минимум осернения на поверхности, максимум на глубине, где залегает мощная сероносная толща и где залегающие рудные тела менее окислены и руда содержит гораздо больше серы!
Теперь уже захлопали в ладоши все. Мирченко, гневный, вспотевший и возбужденный, оглянулся на товарищей, чтобы остановить их, но только махнул рукой.
Когда установилась тишина, он снова заговорил.
— Это месторождение пластового типа и занимает огромную площадь. Конечно, оно требует дальнейшего изучения, но уже сейчас можно сказать с уверенностью, что это крупнейшее месторождение в нашей республике.
Сафьянов поднялся, нервно щелкая замками портфеля.
— В ответ на пламенное выступление моего коллеги, — произнес он, не поднимая глаз, — я могу сказать только одно: он меня ни в чем не убедил. Я и мои товарищи, — он снова подчеркнул эти слова, — придерживаемся своей точки зрения.
— А что вы скажете о калии? — крикнул кто-то на задней скамье.
— Минуточку…
— Ну, так же нельзя! — вскочил, размахивая руками, инженер Соломин, молодой, высокий, взлохмаченный и небритый. — Так же нельзя, — столько говорить о сере и ни единого слова о калийной соли!
Все дружно рассмеялись, словно ожидали повода для этого.
— Да, да! — еще сильнее замахал руками Соломин. — А ведь ее здесь миллионы да, слышите, миллионы тонн. Я могу назвать десятки месторождений, среди них такие, как Базар-Тюбе, Окуз-Булаяк, Ляйли-кан.
— Туда добраться — шею сломишь, — скептически бросил Сатилов.
— Хорошо, — замахал на него руками Соломин. — Вы, конечно, правы, вьючные, чрезвычайно тяжелые дороги, отсутствие воды и прочее, и прочее. Хотя это и не перечеркивает эти месторождения. Но ведь калийная соль находится здесь у нас, простите, под носом, в семи-восьми километрах отсюда, в зимовках Галя-Катан, я имею в виду Тузкан и Кан-Сай. Или возьмем участок у зимовища Кызыл-Мазар, это тоже рукой подать. Здесь калийные соли не подвергались выщелачиванию, ибо покрыты мощной толщей глин. Этот участок может дать несколько миллионов тонн калийных солей для сельского хозяйства. Конечно, трудно с водоснабжением, но там есть несколько колодцев с соленой водой. Можно бурить. — Соломин взглянул на Макарова. — Дорогу провести туда очень легко, и пожалуйста… Разработку пласта нужно вести двумя шахтными полями.
Но уже вскочил с места и требует слова сосед Соломина — пожилой седой геолог в заношенной до блеска жилетке.
— Уважаемый коллега, — заикаясь, произносит он, — по-по-по-че-му-то ни единым словом не обмолвился о запасах каменной соли. А вы разве не знаете, что хлеб без соли — не хлеб?
Землянка гремит. После напряженного спора двух геологов все рады этой разрядке. Сатилов поднимает руку, но людей никак нельзя успокоить.
…Горит огонек в маленькой землянке, слабый, тусклый огонек. Отойди на десять шагов, и исчезнет он, поглощенный чернильной тьмой.
Но огонек все-таки горит!
Когда Макаров слушал Сатилова, ему хотелось рассказать сидящим здесь о том, что невероятно трудно с людьми, с текучкой, что на стройке нет машин, тракторных лопат типа «Миами», вывернулась даже такая красивая фраза: каких там к черту «Миами», нет даже простых совковых лопат! Нет муки, каждый мешок достается с боем, нет денег, в банке страшная волокита, нет… Да мало ли чего еще нет и нет!
Но обо всем этом он не сказал ни слова. Обращаясь к Сатилову, Макаров проговорил:
— Вот что, товарищ Сатилов… Вы член правительства. Вот и помогите нам уломать наше дорожное управление. Мы действительно разработали новый вариант проекта дороги, вернее проезда к горным разработкам. Эту работу мы обязуемся закончить к весне или раньше, и ничто, никакие трудности не остановят нас. Если же будем строить по старому проекту, дороги вам не дождаться. В общем, как вы собираетесь поступить, я не знаю, а я дал телеграмму в управление, что буду строить по новому варианту, хотя мне запретили и, может быть, голову оторвут за непослушание.
Все засмеялись, зашумели.
— Можно курить? — звонко спросил Амурский, все еще улыбаясь.
— Курите, — кивнул головой Сатилов. — Ладно, я разберусь, — глянул он в сторону Макарова. — Вы человек решительный, это хорошо. А что это у вас, простите, с головой? — задал он неожиданный вопрос.
— Камешки с горы посыпались, — неохотно ответил Макаров. — Не уберегся.
Скосив глаза, он заметил обращенное к нему лицо Ниязова, который все еще угрюмо молчал, видимо обиженный резкими словами Сатилова. Ниязов пристально смотрел на него, презрительно поджав губы. Наверно, он еще не забыл об их стычке в сельсовете из-за этого злосчастного сторожа. Ну и пусть злится!
После Макарова выступали Хоменко, Амурский и еще кто-то, но, занятый своими мыслями, Макаров не слышал их. «Нужно добиться какого-то решения, — думал он. — Так работать нельзя».
Он собирался срочно выехать в Ашхабад, но Костенко рассказал ему, что перед отъездом к нему в гостиницу зашел Ткачев с какой-то девушкой, очень красивой («Тоушан», — подумал Макаров), и сказал, что постарается вскоре побывать на дороге. Когда это «вскоре», завтра или через месяц? Рабочие уже заметили, что на стройке что-то неладно, и продолжать работы по старому варианту невозможно, ничего не получится. И тут еще история с Ниной. Тоже что-то очень нехорошее. Ну и дела! Как же она все-таки устроилась? Она очень просила его, чтобы он не выделял ее и предоставил жилье вместе со всеми в бараке. А барак-то общий. Ох, и неважная там житуха в этом бараке. Нужно будет обязательно сегодня же заглянуть туда. Он старался вспомнить, какие же вещи она имела при себе, но его словно разбудил вдруг как-то необычно задушевно зазвучавший в наступившей тишине голос Сатилова.
Сатилов держал перед собой небольшую плитку, золотисто-серого вещества.
— Вот мы сегодня выплавили этот маленький кусочек серы, — говорил он. — Такой крошечный, что его легко можно унести в кармане. А ведь отсюда должны пойти составы с серой и калийной солью. Целые составы! И здесь, на месте этой землянки, поднимутся большие просторные дома, шахтные здания, школа, театр, гостиница.
Кто-то рассмеялся. Сатилов вздрогнул, взглянул на чадящую керосиновую лампу и вздохнул.
— Ставлю такую задачу: к новому году дать проезд к серным разработкам, построить опытный плавильный цех, закончить подсчет рудных богатств, то есть дать все теоретические данные для строительства большого комбината. — Он улыбнулся. — А теперь — по домам! Гостиницы у нас пока нет!
ТРЕВОЖНАЯ НОЧЬ
Нина поселилась в бараке. Это большое сооружение, видимо, раньше служило складом хлопка. Здесь жили и мужчины, и женщины. Для женщин был отведен дальний от входной двери угол барака. Нина села на указанный ей топчан и задумалась.
Барак был пуст. Только на мужской половине, у открытого окна, сидела худенькая женщина и кормила грудью ребенка. Это была жена Ченцова.
Покормив ребенка, она уложила его на топчан, накрыла стареньким платком и подошла к Нине.
— К нам на работу, что ли?
— На работу, — откликнулась Нина. — Как же вам здесь живется?
Женщина горько покачала головой.
— Лучше бы умереть, чем так жить. Разве это жизнь? Вот живу вместе с мужиками. Сейчас еще ничего, тихо… А придут вечером — ругань, драки. В карты играют, водку пьют. Все чисто проигрывают и пропивают. Уж десять раз собирались отсюда выехать. Да никак не соберемся. Получит муженек деньги — бригадиром он здесь — и в ту же ночь или проиграет, или пропьет. И все так. Живут, как дикие звери.
— Как же это так? — удивилась Нина. — А как же прораб?
— Что прораб, — злобно отвернулась женщина. — Ему что! Сам в конторе живет, на чистой постели спит. Он в этом бараке еще ни разу-то и не был. Как-то ночью забежал, небось в темноте-то ничего и не разглядел. — Она пригорюнилась. — Вот поживете, увидите. Скучно здесь. Удирайте отсюда, пока не поздно.
Да, здесь было скучно. Вечером, когда в барак ввалилась толпа рабочих-землекопов, Нина поняла, как плохо здесь живется людям.
Рабочие расходились по своим углам, хмурые и сердитые, перебрасываясь грубыми шутками и ругаясь.
Скоро заполнился весь барак. Стало трудно дышать. Едкая вонь от развешиваемых тут же грязных портянок и верхней одежды отравила воздух. Нина с ужасом подымала о ночи, которую ей придется здесь провести. И разве только одну ночь? А завтра? А послезавтра? Ведь она твердо решила не возвращаться к Алене, забыть о прошлом, жить трудовой жизнью.
Многие из рабочих, особенно молодежь, с любопытством поглядывали в сторону новенькой, но большинство было занято более насущным делом — утолением голода.
В бараке появились небольшие бачки с супом. Суп тут же разливался по котелкам, глиняным и металлическим тарелкам. Хлеба не было, его заменяли пресные лепешки — чуреки.
Нине не хотелось есть. Она мечтала о том, чтобы скорее наступила ночь, можно было бы лечь и забыться.
Вдруг она услышала чей-то чистый и звонкий голос. Кто-то с песней подходил к бараку.
— Маруся идет! — весело подмигнул Нине сидевший невдалеке от нее молодой парень в белой рубахе — Васька Сокол из бригады Солдатенкова. — Далеко ее слышно.
И вот распахнулась дверь, и на пороге показалась фигура ладной, стройной девчонки, с горящими черными глазами, в яркой красной юбке.
Пробираясь к проходу на женскую половину и отбивая протянутые к ней руки, Маруся запела озорную частушку:
— Добываем мы породу,
Серою богатую.
Не дают мене проходу
Мужики проклятые.
Барак загремел от хохота. А Маруся, вертясь юлой, продвигалась все дальше. Подойдя к своей койке, стоявшей рядом с Нининой она заметила новую соседку.
— Наше вам, — низко поклонилась она, обнажая мелкие белые зубы. — С приездом!
— Спасибо, — улыбаясь и с удовольствием разглядывая веселое лицо Маруси, ответила Нина. — Это ваше место?
— Мое, мое, — заторопилась Маруся, — соседями будем. А как же это вы к нам попали? Хотя постойте, — остановила она Нину, пытавшуюся объяснить ей. — Сначала поедим, а потом расскажете.
Она выдвинула из под топчана фанерный чемоданчик, достала из него алюминиевую тарелочку, отлила в нее супа из принесенного с собой котелка, разломила пополам лепешку и тут же принялась с таким аппетитом уплетать приятно пахнущий суп прямо из котелка, что Нина не удержалась и тоже взялась за еду.
— Ешь, ешь, — приговаривала Маруся, — больше ничего не будет. С харчами у нас тут — беда! Нам-то еще ничего, а вот как мужикам… У них желудки громадные.
Нина весело рассмеялась.
— А они все деньги на водку тратят, — продолжала рассказывать Маруся. — Поубивала бы я их за это. Появился тут один субчик, Дубинкой звать. Вот уж действительно дубина! В карты играет да водку трескает. И где он только ее достает? Здесь ведь нигде водки нет, потому что погранзона. Ну, нарвется он когда-нибудь на меня!
— А что же это у вас так плохо? — вполголоса спросила Нина. — Грязно так. В одном бараке и мужчины, и женщины, и даже вон семейные с детьми. И белье здесь сушат.
Маруся промолчала, только нахмурила брови.
Уже поздно вечером, когда вдруг сразу потемнело небо, они вышли из барака и уселись в обнимку на каком-то валуне. Маруся заговорила:
— Вот ты говоришь: грязь, теснота. Конечно правильно. Жизнь плохая. Никто бы не стал жить в таких условиях, да ведь все люди себя здесь временными чувствуют. Работа эта вроде пересадки. Подработают пару сотен и пошел дальше, искать, где лучше. Рабочие все меняются и меняются. Вот никто и не думает о своем житье-бытье. Потому вроде гости. Никто эту стройку к сердцу не принимает. Вот разве Сережа один. — Голос ее дрогнул. — Не вся наша бригада понимает — важное это дело. Вон горы, видишь, — махнула она в темноту. — А там серы много-много и какие-то соли, для удобрений, говорят, сподручные, и уголь, и нефть должна быть. А мы дорогу туда строим. Понимать это надо.
Она замолчала.
— А жизнь действительна собачья. Да я бы здесь ни одного дня не осталась… Если бы…
Она вдруг ткнулась лицом в колени Нине и заплакала.
— Полюбила кого-нибудь? — шепотом спросила ее Нина.
— Полюбила, — так же шепотом ответила та. — Так полюбила, что жизнь бы отдала и не подумала. На пытки бы пошла. Из-за него и на работе здесь осталась, и работу эту полюбила, и горы эти проклятые, — еще пуще разревелась она. — Все из-за него. А он на меня и не глядит. Другую любит, а кого — не знаю.
— Ну не плачь, не плачь, — успокаивала ее Нина. — Все устроится. Все хорошо будет. Не на нем же свет клином сошелся.
Когда девушки вернулись в барак, многие уже спали. Только посреди барака за грубо сколоченным столом сидело несколько человек с возбужденными, красными лицами. Перед ними стояла начатая бутылка водки. Невысокий одноглазый мужчина в потертой стеганке разливал водку по стаканам.
— Опять принес, зараза, — с ненавистью прошептала Маруся, указывая на Дубинку. — Где он ее только достает?
Став против стола, спросила, вызывающе щурясь:
— Снова хлещете? Спать пора!
— Маленьким девочкам спать пора, — уставился на нее своим единственным глазом Дубинка. — А, у нас пополнение! — вскричал он, увидя Нину: — Поздравляю! От имени грабарей и землекопов. Хотите выпить?
Он протянул Нине водку. Девушка только пожала плечами.
— Отказываетесь? Напрасно. Все пьют, миледи. Все без исключения. Виноват, за исключением телеграфного столба. И то последний не пьет только потому, что стаканчики на нем, обратите внимание, перевернуты вверх дном.
Собутыльники Дубинки громко рассмеялись.
— И ты, Ченцов, — повернулась Маруся к бригадиру, жевавшему сухую лепешку. — Ребенка, жену бы пожалел!
Ченцов уныло заморгал воспаленными глазами.
— Пригласили откушать, как же отказаться?
— Все равно труба! — громко проговорил Дубинка. — Скоро всех разгонят.
Многие спавшие подняли голову, прислушиваясь к разговору.
— Амба! — продолжал Дубинка. — Дорогу за-кон-сер-ви-ру-ют. Понятно, леди и джентльмены? Государство не имеет средств. Нет монеты на такую, простите, чепуху. Придется свертывать манатки. А сами не уйдем, басмачи попросят. Вот так-с! Поэтому и пьем с горя. За ваше здоровье!
Он одним глотком проглотил содержимое стакана и тот час же задымил цигаркой.
— Захожу в пивную, —
вдруг запел он высоким надтреснутым голосом, не выпуская из губ папиросы и сунув руки в карманы брюк, —
Сажусь я за стол,
Сбрасываю кепку,
Бросаю под стол.
Спрашиваю милку:
— Что ты будешь пить?
А она говорить:
— Голова болить!
Тряхнул спадающими на лоб темными космами волос, кому-то подмигнул.
Я те не пытаю,
Што тебе болить,
А я тебе спрашую,
Что ты будешь пить?
Или крем де-розе,
Или крем-брюле.
Дверь резко распахнулась. Дубинка, прервав песню, оглянулся. Глаз его вдруг принял осмысленное, настороженное выражение. Он вынул изо рта цигарку, поплевал на нее и медленно растер между пальцами.
К столу подошел Солдатенков, высокий широкоплечий, в расстегнутой на груди рубахе, с дерзкими серыми глазами и светлой падающей на лоб русой челкой.
— Была, кажется, договоренность, — сквозь зубы негромко проговорил он, — в бараке не пить и не курить.
— Все курят, — ответил Дубинка, осторожно отодвигая стакан. — А где же пить прикажете? В Метрополе? Или, может быть, в Мулен-Руж?
— Здесь пить вообще нельзя. Здесь погранзона.
— Ангел какой нашелся! — нервно рассмеялся Дубинка. — Пьет только кипяченое молоко и ест мармелады. Тоже мне начальство — бригадир. Много вас командиров развелось, все командовать горазды. Раз, два, раз, два! Чтобы все в ногу!
Дубинка злобно выругался.
Солдатенков подошел к нему вплотную.
— Где водку взял?
Нина глянула на его суровое, красивое лицо и незаметно локтем толкнула Марусю: «он»? Маруся вдруг порозовела, так же незаметно взмахнула ресницами, ответила: «Он, Сережа!»
— Пойдем отсюда, — шепотом произнесла она. — Сейчас ругаться начнут.
Подружки снова вышли из барака. А в небе уже висела чудная, прозрачно-розовая луна, обливая всю вселенную мягким прозрачным розовым светом. Этот свет лег на громады далеких гор, и на близкие предгорья, и на верхушки высокой арчи, превратив ее в серебряно-розовые факелы.
Подружки шли по узкой улочке, образованной двумя рядами глиняных дувалов. Вокруг стояла глубокая тишина.
— А как же ты сюда попала? — вдруг спросила Маруся. — Тоже, небось, она виновата?
— Кто? — удивилась Нина.
— Да любовь проклятая! И откуда только она берется? И что такое любовь?
— Не знаю, — чуть слышно ответила Нина. — Я еще никого не любила… По-настоящему.
— Бедная, — обняла ее Маруся.
Плечи Нины задрожали.
— Какая уж там любовь. Все на один лад. Скорей бы в постель повалить.
— Что ты! — вскрикнула Маруся. — Что ты говоришь! — И немного помолчав, спросила: — Кто же это тебя так обидел?
Нина не успела ответить. Из ближайших ворот неслышно выбежала тоненькая стройная девушка и подбежала к ним. Она была босиком, в красном платье. На груди ее посверкивали и позванивали серебряные украшения. Повернув к ним бледное, озаренное луной лицо, на котором особенно ярко выделялись пунцовые губы, она шепотом торопливо спросила:
— Вы на дороге работаете, да?
— Да, — ответила Маруся, удивленно приглядываясь к незнакомке. — А ты что хотела?
— Начальника нужно видеть, — торопливо шептала девушка. — Только быстро. Муж искать будет. Бить будет. Крепко бить будет.
Она вся дрожала, и волнение ее передалось подругам.
— Тебе какого же начальника, прораба Макарова? — допытывалась Маруся. — Высокий такой, чернявый!
— Нет, нет, — отрицательно качала та головой. — Не чернявый. Русый он. Бригадир самый главный. Я в конторе была. Муж меня бил. А он его ударил. Бить не позволял.
— Сережка! — вскрикнула Маруся, похолодев. — Так вот ты куда!
— Кажется, Сережка, — не замечая ее волнения, продолжала шептать та. — Нужно его видеть.
— Зачем? — глухо спросила Маруся. — Может, передать что?
— Передать, передать, — обрадованно закивала девушка. — Плохое про него замышляют. Скажешь, Дурсун говорила. Я сама слышала.
— Что слышала, говори! Ну, говори же! — Маруся схватила Дурсун за плечи и трясла ее, как деревцо. — Что знаешь, говори быстро, ну?
Дурсун хотела что-то сказать, но в это время внезапно появился Дурдыев.
— Куда опять ушла? — крикнул он. — Как собака бегаешь!
Девушка выскользнула из сжимавших ее рук Маруси и торопливо побежала к воротам. И тотчас же глухую тишину прорезал пронзительный крик боли и отчаяния.
— Бьет, гадина, — прошептала Маруся. — И нету на него управы!
— Уйдем отсюда, — заторопилась Нина. Ей стало страшно.
Они пошли обратно, прижимаясь друг к другу и стараясь идти тенистой стороной улочки. Маруся вскрикнула.
— Скорей, скорей, ой, чует мое сердце. Скорей к бараку!
Взявшись за руки, они побежали в призрачном, розоватом лунном свете.
…А в бараке происходило вот что.
— Где водку взял? — сурово допытывался Солдатенков. — А ну-ка покажи свой чемодан!
Дубинка только ухмыльнулся.
— Ты что, ГПУ? Может, обыск делать будешь?
— Он, он! — закричала вдруг Ченцова, прижимая к себе плачущего ребенка. — Это он людей спаивает. И где деньги берет? Намедни целый чемодан привез.
— Шутишь, бабка! — стрельнул в нее глазом Дубинка. — Чемодан привез потому, что в дорогу собираюсь. В кругосветное путешествие. А водку купил за свои деньги и вот приятелей угостил. А если вам не нравится, пожалуйста, хлопцы, — повернулся он к собутыльникам. — Вы сможете пить водку при лунном освещении?
Не дожидаясь ответа, он взял бутылку и направился к выходу.
— Постой, — задержал его бригадир. — Покажи свой чемодан.
— Чего к человеку пристал? — недовольно крикнул кто-то с нар. — Спать не даешь. Великое дело — хлопцам и чарку выпить нельзя.
Дубинка оттолкнул руку Солдатенкова.
— Болтать болтай, а рукам воли не давай! Привык кулаками размахивать. Гляди не просчитайся.
— Басмачами пугает, — снова закричала Ченцова, преграждая дорогу мужу, направившемуся было к выходу.
— Молчи, мордва полоротая, — озлился Дубинка.
— Вот башку снимут, тогда испугаешься, — снова раздался тот же голос. — Правильно человек говорит, тикать отсюда надо.
— Веди, показывай чемодан, — снова повторил Солдатенков, видимо твердо решивший добиться своего.
— Пусти руки, — вдруг страшно побледнел Дубинка. — Добром говорю.
— Не пугай, мы уже пуганные, — процедил сквозь зубы бригадир. — Показывай чемодан, ну!.
— Вот тебе чемодан, стерва, — вдруг закричал Дубинка, выхватывая нож. — Получай без сдачи!
Он хотел ударить рязанца в грудь. Но тот перехватил его руку. Началась борьба. В напряженном молчании бригадир силился вырвать нож из рук своего противника. Тот не сдавался. Они долго возились возле стола, не произнося ни единого звука, пока не опрокинули стол вместе с лампой.
В кромешной тьме, все так же молча, они продолжали бороться…
Когда Цветкова, опередив Нину, вбежала в барак, было слышно только учащенное дыхание двух насмерть схватившихся мужчин. Кто-то лихорадочно чиркал спичкой, она ломалась. Наконец спичка зажглась, и в то же мгновение прозвучал Марусин голос:
— Бросай нож, гадина, глаз выбью!
И что-то такое страшное было в ее голосе, что Дубинка разжал руку. Нож упал на пол.
Кто-то поднимал стол, кто-то торопился зажечь лампу. И вот тут случилось самое неожиданное: Дубинка вдруг повалился на ближайшую койку и заплакал.
— Вот так всю жизнь! — завывая, выкрикивал он. — Всю жизнь, как бродячая собака. Все гонят. Ну, убейте меня сразу, убейте!
— Что ты, браток, что ты, — в смущении бормотал склонившийся над ним Солдатенков. — Ну, поругались малость. И дело с концом.
— Вот она, водка, — вдруг вскочил на ноги Дубинка. — Бери ее, давись! На октябрьские берег! Забирай ее, христосик!
Он вытащил из-под койки чемодан и грохнул его об землю. Послышался звон, хруст, в бараке разлился сильный запах водки.
— Многовато ты на праздничек прихватил, — сухо проговорил Солдатенков. — А ну-ка, Ченцов, вытащи эту штуку на улицу. Воняет.
Ченцов, сокрушенно качая головой, поволок чемодан. Рабочие осуждающе, бормоча, вновь укладывались спать.
— Чего шум поднял? — слышалось со всех сторон.
— Человека напрасно обидел.
— До ручки довел! Сам виноват!
— Он, сердешный, аж заплакал!
— Да будет вам! — крикнул Солдатенков, уже сам сожалея о случившемся. — Чего нюни распустили? Ложись спать!: Завтра с зарей на работу.
— Будь она проклята, эта работа! — крикнул кто-то. — Живем, как собаки.
— Поубивают нас здесь, как сусликов!
— Денег не платят!
Уже волновался и шумел весь барак.
— Голодом морят! Бросай, братцы, работу!
— Расчет подавай!
— Дубинка прав: разве это житуха?
В эту минуту в барак вошел Макаров. Подойдя к столу, он внимательно оглядел возбужденных рабочих.
— Что это у вас такое? — обратился он к Солдатенкову: — Митинг, что ли?
— Митинг! — заорал тот в ответ, словно в нем лопнула до отказа натянутая струна. — Жизнь свою обсуждают, товарищ прораб. Пора бы и вам этой жизнью поинтересоваться.
И всех тут сразу как бы прорвало вновь. Рабочие кричали, подступая к Макарову с крепко сжатыми кулаками.
— До каких пор голодать будем?
— Нормочку ввел!
— Подавись ты своей нормой!
— Вши заели, побаниться негде!
— Давай расчет, хозяин!
— Расчет! Расчет!
Маруся вскочила на табуретку, затем — на стол.
— Да будет вам, — закричала она, высоко подняв руку.
Все замолчали, пораженные, ее неожиданным вмешательством.
— Вы на прораба-то нашего поглядите!
Взоры всех, как по команде, обратились к Макарову.
Он стоял посреди барака, в черной, засмаленной косоворотке, расстегнутой на груди, в таких же спецовочных брюках, заправленных в белые от гипсовой пыли брезентовые сапоги. В его глазах были боль и недоумение.
Это уже был не тот молодой человек в костюме и фетровой шляпе, который несколько месяцев тому назад вышел из поезда на станции Мукры. Он уже крепко пообтерся среди рабочих, хватил не один фунт лиха. И разве он жил в лучших условиях, чем рабочие? А ведь он нес ответственность за них, за порученную ему работу как прораб, как коммунист.
Вероятно, об этом подумали и рабочие, окружившие его, они не могли не заметить его утомленного вида, впалых щек, окрашенной кровью повязки на голове. «Где это его угораздило?» — подумали многие.
— Что же вы, товарищи? — кричала Маруся. — Разве прораб не желает нам добра? Ну, может, он чего и не доглядел. Так чего же сразу на рожон лезть? Чего кулаками размахивать? Помочь ему надо. Подсказать ему надо!
— Вот мы ему и подсказываем, — громко проворчал кто-то. — Куда уж больше.
Маруся снова подняла руку.
— Плохо живем, товарищи, очень плохо. — Она посмотрела на Макарова черными яркими глазами. — И в этом вы, товарищ Макаров, виноваты, стройкой вы увлеклись, а про людей забыли. А ведь дорогу-то строят люди. — Последние ее слова были сказаны с такой горечью, что Макаров вздрогнул.
В наступившей тишине громко заплакал ребенок Ченцова.
— Мальчик, что ли? — спросил он, подходя к женщине.
— Мальчик, мальчик, — закивала она головой. — Павлуша.
— Эх, Павлуша, Павлуша, — протянул к нему руки Макаров. — Ох, и крепко же нам нужно стараться, чтобы жилось тебе хорошо и привольно.
Ченцова заплакала.
— Маленький мой, хороший мой, — бормотала она, кутая ребенка. — А ведь я уже третий день и молока ему не давала. Денег нет.
А Ченцов, отведя глаза, стоял с удрученным видом, виновато помаргивая красными глазами.
«Чем же я могу вам помочь, дорогие? — думал меж тем Макаров. — Чем? Продукты кончаются, а банк в деньгах отказал. Говорят, комиссия какая-то приедет, проверит, а потом вновь начнут финансировать. Какая комиссия, что будет проверять — черт их знает! А пока сиди на бобах. А вот баньку бы надо организовать. Да и женщин отделить. Нехорошо как-то получается. Постой, а где же Нина?»
Он поискал ее глазами, но так и не нашел в бараке.
— А ты что же, птичка? — вскрикнул он, заметив, что Маруся продолжает стоять на столе. — А ну-ка, опускайся на землю!
Он обнял ее за стройные, смуглые ноги и легко опустил на пол. Маруся на какое-то мгновение благодарно прижалась к нему и сейчас же глянула в сторону Солдатенкова.
Тот сидел в сторонке, нахмурив брови и опустив глаза.
— Так-то так, — произнес он глухо. — А все-таки, товарищ прораб, нужно что-то делать. Рабочком нужно избрать, вот что. Хороший вы человек, но нужно с вами ругаться. А то здесь, у нас на стройке, вроде и Советской власти нету…
«ПОКАЖИТЕ НАМ КАМЕНЬ»
— Н-да, — неопределенно произнес начальник заставы, косясь на Макарова. — А ведь вас хотели тогда убить. И что же это вы, голубчик, сразу мне не рассказали?
— Да, пустяки все это, товарищ Сабо!
— Нет, не пустяки. Вон того хлюста, что в тугаях раздевался, мы так и не нашли. Ловкач он немалый! И вот теперь этот случай с вами.
Он испытующе поглядел на прораба.
— Да, картина получается незавидная. Какая-то шайка здесь орудует. Это уже как пить дать. И знаете, они используют все. Малейшую вашу оплошность. Помните случай с этим злосчастным сторожем? А теперь вот эта гора. Святого там какого-то нашли. Нужен им их святой, как… — Сабо вдруг остановился. — А может быть, можно обойтись без этого взрыва, а?
Макаров только покачал головой.
— Будем взрывать, товарищ Сабо.
Начальник заставы с любопытством разглядывал Макарова.
— События могут быть…
— Они нас просто пугают, — отмахнулся Макаров.
— Может быть, и пугают, но цель у них понятная — сорвать строительство дороги. А не будет дороги — приостановится разведка и добыча руд. Как вам это нравится?
Макаров встал.
— Мне нужно идти. Время не ждет.
— Идите, — протянул ему руку мадьяр.
Идя с заставы, Макаров вспомнил еще об одном событии, происшедшем с ним прошлой ночью.
Как-то так получилось, что все разъехались по своим делам, и он остался на ночь в конторе один.
Он лег на свою кровать с веревочной сеткой и быстро заснул. Разбудили его какие-то непонятные толчки. Казалось, будто кто-то ворочается под кроватью и приподымает сетку спиной. Вот опять, вот еще раз! Что за черт?
Макарову страшно хотелось встать и зажечь свет. Что же это может быть? Но он не встал до рассвета — поленился. А утром заглянул под кровать, там никого и ничего не было.
«Чертовщина какая-то», — даже сплюнул с досады Макаров.
И вот, подойдя к станций, он снова поразился. Здание станции, похожее на мечеть, вдруг стало медленно наклоняться прямо на него. Потом снова выпрямилось и снова наклонилось. Земля качнулась под ногами Макарова.
«Землетрясение», — наконец-то догадался Макаров и рассмеялся. Но смеяться не было причин.
Через полчаса к Макарову подошла Наталья. У нее было нахмуренное, злое лицо. Она не смотрела в глаза Макарову, а куда-то в сторону.
— Я должна тебе сообщить… — заговорила она таким холодным тоном, что Макаров поразился. «Что это она вдруг? — подумал он. И в ту же минуту мелькнула мысль: — Неужели из-за Нины? А что ей Нина, что ей я? Неужели тут в самом деле примешано ее чувство ко мне? Но ведь она уже давно дружит с Николаем».
До его сознания, наконец, дошло то, о чем говорила ему Наталья.
— Что? — вскрикнул он, бледнея. — Что ты сказала?
— То, что ты слышишь, — тем же недовольным тоном и по-прежнему отводя глаза повторила Наталья. — Место разобранного завала вновь засыпано. Ночью и утром были толчки. Шесть или семь баллов.
— С ума сойти! — выдохнул Макаров, утирая пот со лба. — Просто можно сойти с ума! Ведь мы на эту работу затратили сколько рабочих дней. И все насмарку!
— Ты думаешь только о рабсиле и зарплате, — зло улыбнулась Наталья. — А нужно смотреть пошире. Это провал нашего нового варианта. Того, о чем мы болтали все лето. И провал не только, как бы сказать, физический, но и политический.
— Что ты хочешь сказать?
— Это не я говорю, а все рабочие. А уж откуда они взяли, не знаю. А говорят они о том, что будто бы эти горы, в которых проходит трасса, священны. И вот нас — кто, уж там не знаю, аллах или Магомет, — наказал за нашу дерзость.
— Чепуха какая-то! — вскрикнул Макаров. — Кто только распространяет эти слухи? А вы куда смотрите — комсомольцы!
Наталья пожала плечами и ушла, высоко подняв голову.
Что с ней?
Макаров долго, как бы в полусне, смотрел ей вслед. Какой-то озноб пробежал по его телу. Вот опять. И так болезненно заныла спина, закружилась голова.
«Что это?» — подумал он, проводя рукой по липкому от пота лбу. Это была малярия…
Болезнь все больше и больше распространялась на стройке. Начиналась она с легкого головокружения и ломоты в спине, словно кто-то сверлил спину тоненьким сверлом. Потом человека валило с ног. Его трясло, ему было холодно. На него набрасывают одеяла, подушки, верхнюю одежду. А ему все холодно, он выбивает зубами зловещую дробь.
На дворе пылает солнце, стоит жара. Больного трясет час или два. Озноб прекращается. Покрытый липким холодным потом, человек вылазит из-под одеял и жадно пьет воду. Он идет пошатываясь. Болезнь покидает его, чтобы на следующий день, точно в эти же часы, снова сломить и бросить в постель.
В бараке с каждым днем становилось все больше и больше больных. Они, кутаясь в одеяла, стонали на нарах, бледные и истощенные, и никто ничем не мог им помочь.
Правда, с малярийной станции привезли хину. Ее глотали с водой и без воды, просто завернув в папиросную бумагу, глохли от нее, но облегчения она не приносила.
Когда кто-то из приезжих врачей сказал, что от малярии можно спастись, переменив климат, многие рабочие начали покидать стройку.
На дороге болели уже все. Только Маруся держалась дольше всех и даже распевала специальную «малярийную» частушку:
— Я девчоночка Мария,
Родом я крестьянская,
Что мне ваша малярия, —
Среднеазиатская!
Держался и Макаров. Но вот пришел и его черед.
С трудом дошел он до конторы и, как подкошенный, свалился на постель. Сразу же его начало трясти.
— Виталий Александрович, — щелкая зубами, попросил он Буженинова, — набросьте на меня пальто, ради бога, чертовски х-холодно.
Буженинов торопливо накрыл его своим одеялом, пальто и еще чем-то («Комплектом старых газет», — шутил потом Макаров), но его продолжало трясти.
— Вот это хвороба проклятая, — жаловался он, выбивая зубами барабанную дробь, — и откуда она взялась на мою голову!
— Это все местные комары, — сокрушенно разъяснял Буженинов, протирая очки, — анофелесы, которые во множестве развиваются в орошаемых местах. В теле комара некий паразит — плазмодий, собственно, и вызывающий это заболевание.
Но Макаров уже не слышал его, температура у него подскочила до 41 градуса, он бредил.
…Тяжело на стройке. Всех косит болезнь. Мало продуктов, питание очень плохое, главное, почти совсем нет жиров.
Каждый день жена десятника Назарова — Агафья Силовна варит какую-то затирку из муки.
Макарова уже предупредили, что мука должна расходоваться только на выпечку хлеба. Устанавливали процент припека, твердую норму расхода и предупреждали, что за перерасход будут судить.
Хлебная проблема уже вставала над страной, и с людьми, нарушающими строгие правила расходования хлеба, поступали сурово и жестко.
Макаров все это знал и тем не менее разрешал употреблять муку на приготовление знаменитой затирухи или баланды, как ее называли рабочие.
И даже сейчас, в забытьи, он бредил всем этим наболевшим — хлебом, мукой, крупой, макаронами, бараниной, всем тем, что необходимо для жизни и чего тогда было так мало.
— Коля, — приказывал он, — завтра же поезжай на рынок в Керки и купи мешок муки. Понятно? Что? Нет денег? Деньги получим в банке. Я поеду сам. Банк не даст, я знаю. Они пришлют комиссию. Где же эта комиссия? Черт бы их побрал! Так же нельзя! Нельзя! Кто все время сует палки в колеса? Скажите, Буженинов, вы же все знаете! Вот и про плазмодия. Это такой паразит, плазмодий, да? И от него болеют и умирают?
— Что вы, что вы, Виктор Александрович, — склонялся над ним Буженинов, не зная, бредит ли еще Макаров или уже пришел в себя. — Какая там смерть! Завтра вы будете на ногах.
— Что вы мне даете, Буженинов? — кричит Макаров, стуча зубами. — Это же липа. Ха-ха-ха! Там выемка, а у вас показана насыпь. Кто это нахомутал? И вы, голубчики, хороши, ошибка на целых шестьдесят сантиметров. Конечно! Проверьте отметку репера. Я что говорил?
— Бредит, — смущенно объясняет Буженинов только что вошедшим Наталье и Николаю. — Проклятая болезнь!
…Время идет. Макаров медленно раскрывает глаза. Тело его в мокрой, липкой испарине.
В конторе пусто. Над столом склонился кто-то. Какая-то девушка.
— Нина! — чуть слышно зовет Макаров. — Пить!
— Я не Нина, — сухо откликается Наталья. Она подходит к его постели. — Вот прими хину.
Она подает ему порошок и стакан воды запить. Макаров благодарно смотрит на нее.
— Спасибо, Наталка. Это правда, то, что ты говорила насчет завала?
— Правда, — так же сухо откликается Наталья.
— И здорово завалило?
— Не очень. Во всяком случае не так, как было. Как ты себя чувствуешь?
— Ничего. Маленько голова кружится. А что такое?
Наталья заботливо поправляет на нем одеяло.
— Там к тебе приехали двое из Чаршангу, из банка. Может, им сказать, чтобы они приехали в другой раз; ты ведь болен?
— Нет, нет, — заволновался Макаров, — ни в коем случае. Это очень важно. Банк ведь прекратил финансирование. Они начнут давать деньги только после заключения комиссии.
— И ты думаешь, что они начнут давать?
Макаров приподымается на постели.
— Что ты хочешь сказать?
Наталья присаживается на край койки.
— Слушай, Витя, они приехали проверить камень, который ты заготовил для дороги.
— Какой камень? — ужасается Макаров. — Нам никакого камня не нужно.
— Витя, — спокойно разъясняет Наталья, — для того, чтобы получить в банке деньги за проделанную работу, ты подал акт на заготовку камня. Ты забыл? А камня-то ведь нет. Это ведь липа, обман.
— Какой обман? — начинает сердиться Макаров. — Я же деньги не в карман себе положил?
— Вот ты поговоришь с ними…
— И поговорю, — вскакивает Макаров. — Прости Наталья, мне нужно одеться.
…Возле приезжих вьюном вьется кладовщик «его величества». Он чует чутьем, что начальству грозит какая-то неприятность. Комиссию надо «ублаготворить». Он уже где-то достал бутылку водки и кусок хорошей брынзы, — предлагает перекусить.
Один из членов комиссии — высокий и рыжий товарищ с портфелем — как будто согласен начать работу с этой процедуры. Но второй — маленький, смуглый, с живыми, горячими глазами — категорически против.
— Нужно сначала сделать работу. Зовите вашего прораба.
— Вин хворый, — прижимает к груди руки Борисенко. — Його така трясця трясе, що не дай бог!
— Ну, пусть он назначит кого-либо, — хмуро откликается смуглый. — Нам все равно. Мы к вечеру должны возвратиться в банк.
— Та перекусить трохы, — убеждает кладовщик. — 3 дороги ж!
Наконец, появляется Макаров. Он сдержанно здоровается с приезжими.
— Антонов, — представляется высокий товарищ.
— Георгидзе, — подает руку второй. — Вот наши документы.
— Не надо, — отмахивается Макаров и смотрит на Борисенко. Тот незаметно пожимает плечами: мол, я все, что мог, сделал, — не помогает!
— Мы приехали посмотреть заготовленный вами камень, — объясняет Георгидзе. — Будьте добры, покажите его нам.
На лице Борисенко выражение полной растерянности.
— Хорошо, — небрежно бросает Макаров. — Товарищ Борисенко, распорядитесь насчет машины. Мы едем в горы…
Накинув на плечи пальто, Макаров садится в кабинку и любезно приглашает ревизоров в кузов. Те быстро вскакивают. На них легкие ситцевые рубахи.
— А ну, Петя, с ветерком, — тихо бросает Макаров шоферу, когда машина выезжает на ровный, словно отполированный такир.
У старой, разбитой, видавшей виды и десятки капремонтов эмушки словно вырастают крылья. С шипеньем мчится она по такиру напрямик к темнеющим вдали горам. Холодный ветер врывается в кабину. Макаров торопливо подымает заделанное фанеркой окошко и оглядывается назад.
Сквозь стекло он видит, как поеживаются Антонов и Георгидзе. «Камешков им захотелось, — думает Макаров. — Я покажу вам такие камешки, что вы ахнете. За них весь банк отдать не жалко».
Проходит минут сорок. Машина мчится по предгорьям, подымаясь все выше и выше.
Под колесами шумит серая галька. Дорога вьется среди невысоких гор, плоско встающих перед глазами и закрывающих горизонт. Она то опускается в неглубокие овраги-саи, прорытые весенними водами, то поднимается из них. Все время не оставляет чувство подъема в горы, сам подъем и не очень крут.
Словно при высокой волне в открытом море — вверх, вниз, вверх, вниз. Поворот, и перед глазами мелькнет серая, не покрытая растительностью стена — и снова спуск в овраг. И снова подъем, и новый поворот, и серые нагромождения камней. Хочется вырваться на простор, а его все нет. Не на чем отдохнуть глазу, растительности почти нет, только редкие кустики полыни и солянки, как бы специально высаженные вдоль дороги.
И вдруг — чудо! Горы расступились, как бы в волшебной сказке, и открылась ровная, широкая долина, напоминающая длинное овальное корыто. По краям этого корыта возвышаются крутые горы. Они уходят высоко, в белесовато-синее небо, поражая взор своим первобытно диким видом. Склоны гор изрезаны уступами и промоинами, окрашены в красные и зеленые цвета. Пейзаж чем-то напоминает фантастические ландшафты Марса — самой загадочной из планет. Это меловые отложения с медистыми включениями придали горам такой живописный вид. Долина покрыта песком, поросшими небольшими кустиками той же полыни да каперцев, а на вершинах гор красуются пятиметровые горные можжевельники — арча.
Но любоваться этими видами некому.
Макаров останавливает машину возле штабелей известняка и выскакивает из кабины. Петя сейчас же подымает капот, — ему всегда есть что ремонтировать.
Представители банка, посиневшие и съежившиеся, спрыгнули на землю.
— Вот камень, — величественным жестом обводит штабеля Макаров. — Приступим к замеру.
Здесь дует пронзительный ветер, и даже кажется, что в воздухе кружатся снежинки. Чертовски холодно! Так вот для чего этот злосчастный прораб накинул пальто. Предусмотрительный малый.
А камня сколько наворотил, сукин сын, — его и за неделю не обмеришь.
Так, вероятно, думают сейчас представители банка.
— Что там мерить! — восклицает Антонов. — И так видно. Поедем вниз, акт составлять.
Ему уже, вероятно, мерещится теплая кладовая, куда их приглашал завхоз, бутылка с водкой.
— Жрать чертовски хочется! — откровенно заявляет он. — Ветерком пробрало. Слышали анекдот насчет бутылочки? — И, не дожидаясь ответа, рассказывает: — Идут двое пьяных. Один другого спрашивает: «Ваня, что ты хочешь?» — «Гроб», — отвечает тот. «А какой тебе гроб? Металяный или деревический?» — «Мне все равно, — лишь бы с бутылочкой!»
Антонов смеется. Георгидзе снисходительно улыбается, осматриваясь кругом.
«Этот себе на уме, — наблюдая за ним, думает Макаров. — Пройдет номер или нет?»
— Да, камня порядочно, — замечает он. — Я тоже думаю, что можно ехать обратно.
«Пронесло», — заключает Макаров и дает команду:
— Петро, запрягай.
Макаров доволен. Он даже снимает пальто великодушно отдает его ревизорам. У него все еще чуть-чуть кружится голова и чертовски хочется пить.
«Напьюсь возле Сардобы», — думает он.
Машина на обратном пути остановилась возле резервуара для весенней воды. Он напоминал собой кувшин, врытый в землю.
Петро зачерпнул пахнущей бензином воды. Макаров с жадностью напился.
Георгидзе сошел с машины, внимательно огляделся. Отсюда, с возвышенности, хорошо были видны окрестные горы, далекий хребет Кугитанг-Тау, ущелье, прорезанное Кугитанг-Дарьей, возвышенность ближайшего зимовища Каля-Катан, ровное плато такира, уходящего к станции.
— Дорога пойдет по такиру? — спросил он.
— Что вы, — усмехнулся Макаров. — Вот этими предгорьями.
— Понятно, — неопределенно произнес грузин. — Можно ехать?
Когда Макаров с проверяющими вернулся в поселок, было уже темно. В чисто прибранной конторе ярко горела керосиновая лампа. За столом работал Буженинов.
— Ох, и пробрало, — весело махал руками Антонов. — Октябрь дает себя знать: здесь внизу жарко, а там пробирает.
В дверях показалась усатая физиономия Борисенко. Он вопросительно посмотрел на прораба. Тот чуть заметно кивнул головой.
— Прошу перекусить с дороги, — любезно проговорил Борисенко, лукаво улыбаясь. — Небось, проголодались?
— Так точно, товарищ начальник, — бодро воскликнул Антонов, хищно потирая руки. — Куда прикажете следовать?
— Следуйте за мной, — важно ответил кладовщик и повел Антонова к себе.
Георгидзе задержался.
— Я бы хотел поговорить с вами, — неуверенно начал он, поглядывая ни счетовода.
Тот сразу же понял.
— Пойдут пройдусь немного, — независимо потянулся он. — Что-то голова разболелась.
— Скажите, у вас много врагов? — прямо без обиняков спросил Георгидзе, едва только закрылась за Бужениновым дверь.
— Ей-богу, не знаю, — чистосердечно признался Макаров. — Тут у нас конфликт был с конторским сторожем Аманом Дурдыевым. Бригадир мой с ним подрался. Жену он бил. Вот он, наверно, зол на меня. А больше?.. Не знаю.
— Да, — многозначительно протянул Георгидзе. Он закурил, жадно затягиваясь. — Кто-то пристально интересуется вашими делами. А вы действуете очень прямолинейно, дорогой товарищ, и, пожалуй, наивно. Я ведь сразу, еще здесь, на месте, понял, что никакого камня у вас нет: ни одной платежной ведомости по заготовке камня, ни одного наряда.
Макаров поднял на него изумленные глаза. Георгидзе чуть помедлил в напряженной тишине.
— Будем считать, что у вас все в порядке, и я ничего не понял. Кажется, и Антонов ничего не понял. — Он усмехнулся. — Вам будут мешать, но мы готовы помочь вам. Только я хочу вас предупредить: денег вы не получите до утверждения нового варианта. Иначе нам голову оторвут, понятно?
— Все понятно, — вздохнул Макаров.
— А теперь пойдем закусим, душа любезный! — с нарочитым акцентом, широко улыбаясь, произнес Георгидзе.
…Через час, уже в темноте, Макаров усаживал повеселевших и согревшихся банковских работников в машину. Особенно усердно пожимал он руку сообразительному Георгидзе, снисходительно поглядывая в сторону добродушного Антонова, «травившего» очередной анекдот. Но как он был поражен, когда Антонов, прощаясь, едва слышно проговорил ему на ухо:
— А камешек ты бы уступил кому-нибудь, а? Уж больно много ты его наворотил, голубчик!..
ЧТО ПРИВЕЗ ТКАЧЕВ
Комсомольцы собрались в просторном пустующем доме, стоявшем на краю поселка, в котором Макаров собирался устроить баню. Но вот уже второй раз назначенные для этого дела печники умудрялись раздобыть где-то водку и ходили по поселку, бодро напевая: «Бывали дни веселые…»
Да, веселых дней становилось все меньше и меньше. Проклятая малярия почти оголила строительство. Рабочие рассчитывались каждый день.
Единственно, что их задерживало, — нехватка денег. Работы шли на трассе нового варианта, а банк эти работы не оплачивал. Макаров вынужден был срочно перебросить землекопов на старую трассу, чтобы вырвать в банке хоть немного денег, необходимых для расчета.
Недовольство среди рабочих росло. Макаров чувствовал, что все это может кончиться очень плохо. Но ничего не мог придумать. Стройка явно зашла в тупик.
«Завтра же поеду в Ашхабад, — твердо решил Макаров, — пора кончать эту волынку…
…В помещении народу было много. Макаров заметил у окна Солдатенкова. С ним о чем-то живо толковал смуглый и порывистый Мамед, что-то чертя на папиросной коробке. За председательским столом перешептывались Наталья и Маруся Цветкова, обе торжественные и строгие.
Подружки Люся и Дуся, устроившись на первой скамье, ждали начала собрания, чинно сложив на коленях утомленные руки. За их спиной пересмеивались Симка и Вася Сокол, боевой заместитель бригадира Солдатенкова.
В общем вся комсомольская организация стройки была налицо. В углу Макаров заметил мрачно насупившегося Ниязова. Тот, встретившись с Макаровым взглядом, тотчас же воровато опустил глаза и отвернулся.
«Вот еще тип, — подумал Макаров, — чего это он сюда явился?»
— Споем, что ли? — нарушил общее молчание Вася Сокол. — Что-то скучновато. Затяни, Сережа, а Маруся подхватит!
Но Маруся отозвалась строго и назидательно.
— Нам сейчас не до песен, Вася. На Стройке стало очень тяжело. Срывается питание, выплата денег. Народ группами покидает стройку. А самое главное — не видно результатов нашего труда. Дороги по-прежнему нет. А ведь мы, комсомольцы, дали обязательство к новому году закончить работы. И вот уже осень. Вон как бежит время!
Как бы подтверждая ее слова, ветер швырнул в оконное стекло охапку сухих листьев тутовника.
— Послушаем нашего прораба, — предложила Маруся. — Может быть, он нам все объяснит.
Макаров встал, вышел к столу.
— Скажу вам откровенно, дорогие друзья, — негромко начал он, — нелегко мне сегодня держать перед вами речь. Все оказалось не так просто, как я думал. Вот уже полгода мы на этой дороге, а еще не утвержден новый вариант. Можно бы вести работы по старому проекту, но это было бы преступлением, напрасной тратой денег.
— А если ваш вариант не утвердят? — раздался голос.
Вопрос задал Ниязов.
— Если не утвердят, — ответил Макаров, — подам рапорт об уходе.
— Уйти хочешь, концы в воду спрятать? — Изуродованное шрамом лицо Ниязова побагровело.
— Тише, товарищ, — остановила его Маруся. — Вам дадут слово.
— Зачем слово? — вскочил Ниязов. — Вы послушайте этого молодого человека. Приехал на стройку и командует. Наполеон какой, понимаешь! Все хочет перевернуть вверх дном. Проект ему, понимаешь, не нравится. Рабочих ввел в заблуждение, заставил работать на новой трассе. А кто будет платить деньги за эти работы, а? Банк не будет. Будешь сам платить, из своего кармана.
— Товарищ Ниязов, — взмолилась Маруся, — вам дадут слово.
— Я уже взял слово, — махнул на нее рукой Ниязов. — Помолчи, пожалуйста. Я представитель местной власти, ты меня сама пригласила. Так вот послушайте, что я скажу. Этот молодой человек, — он указал пальцем на Макарова, — вредитель.
Макаров побледнел.
— Поосторожней! — крикнул Сокол.
— Да, да, вредитель, он спутал все карты. Людям там, в горах, нужна дорога, а он всякими выдумками занимается. Прошло полгода, а дороги нет, ничего нет. И он специально все делает, чтобы… для того…
Ниязов никак не мог подыскать подходящее слово.
— Он поступает, как великодержавный шовинист, — наконец выпалил он.
— Товарищ Ниязов, — вскочила Наталья. — Вы будете отвечать за свои слова.
— Что он делает? — не обращая внимания на нее, продолжал Ниязов. — Он поощряет бригадира, который избил сторожа-туркмена. А пострадавшего он снял с работы. Какое бесстыдство, понимаешь! А что делается у него на работе? Рабочие не имеют пропусков. Что это за публика, откуда? Может быть, это враги Советской власти. Кто за это будет отвечать? Конечно, Макаров. Он завел всю стройку в тупик. Я предлагаю поставить вопрос о том, чтобы снять Макарова с работы! Да, да, снять с работы и отдать под суд! Вот! — Порывшись в кармане пиджака, он достал измятый листок бумаги, поднес его к глазам и по складам прочел: — «За полный развал производства и неправильную враждебную национальную политику, а также за нарушение положения о пограничной зоне (прием рабочих, не имеющих пропусков) техника Макарова с работы прораба снять, а дело о нем передать следственным органам». Вот так, товарищи комсомольцы, так говорит Советская власть!
— Не Советская власть, а подкулачники! — вскочил с места Солдатенков. — Шкура ты кулацкая, а не Советская власть!
— Что говоришь? — заорал, еще больше багровея, Ниязов. — Тоже под суд пойдешь!
— Постой, Солдатенков! — подняла руку Маруся. — Давайте по порядку, товарищи. Кто просит слова?
— Я прошу, — тихо сказал Мамед и встал.
Ниязов впился в него испытывающим взглядом. На его багровом лице сейчас особенно выделялся шрам от пендинки.
— Я был пастухом у бая Дурдыева, — сдержанно заговорил Мамед, вертя в руках папиросную коробку. — Я спал на скотном дворе и питался объедками со стола хозяина. Ты, Ниязов, был у него почетным гостем. Тебя ожидало местечко на богатой михманхане[4]Помещение для приема гостей.. И когда вы о чем-то толковали, я и подойти к вам не смел. Так было. Но сейчас все переменилось. — Мамед гордо выпрямился. — Я стал рабочим человеком! Мне теперь не нужны объедки с вашего байского стола.
— Большой человек стал! — насмешливо скривился Ниязов. — Говоришь, сам не знаешь что, как глупая баба. Какие мы баи? Баев теперь нет.
Мамед резко повернулся к нему.
— Говоришь, нет? А это что такое? — Он поднял коробку с нарисованным на ней чертежом. — Вот я Солдатенкову нарисовал. Это усадьба ховлы Дурдыева. Здесь все — и загоны для верблюдов, и склады, и помещения для гостей, и помещения для хозяев, и красивые навесы-айваны, под которыми богачи пьют чай, когда бедняки их овец пасут. А вот здесь загон для коров и овец, и здесь мы, пастухи, жили вместе со скотом. Что скажешь, Ниязов? И у тебя такая же усадьба. Солдатенков сказал, что это целая крепость. Да, крепость, а еще и тюрьма.
Голос юноши задрожал от волнения. Он продолжал:
— Ты здесь говорил о Дурсун. Это одна из жен Дурдыева, которую он купил у бедняков. Где она находится? В тюрьме. Он купил Дурсун, когда ей было четырнадцать лет, а ему шестьдесят. Он за нее заплатил ее бедным родителям пятьсот рублей и дал шесть баранов. Это уже было при Советской власти, при тебе, Ниязов. Ты сам купил себе двух бедных девочек.
Ропот возмущения пронесся по комнате. А Мамед гневно бросал в лицо своему противнику:
— Так вот, Ниязов. Есть в нашем ауле вот такая крепость-тюрьма и есть советский колхоз. А ты стоишь за эту тюрьму. Ты ее защищаешь, вот!
— Много лишнего говорил. Отвечать будешь!
— Одну минутку, — остановил его все время неподвижно стоявший Макаров. — Меня прервали. Я не закончил своего выступления. Он прервал меня, — показал на Ниязова. — Но теперь я скажу: никакие силы не заставят меня отказаться от моего замысла, от завершения постройки этой дороги.
Комсомольцы дружно захлопали в ладони. Макаров секунду помедлил и продолжал:
— Теперь мы знаем, кто мешает нам строить эту дорогу. Ну, что ж, померяемся силами, Ниязов. А ведь ты в горах на заседании техсовета обещал помогать дороге.
— Тебя нужно убрать, — кричал ему в ответ Ниязов, — вот лучшая помощь будет. Нет, вы только послушайте его! Какой хитрый! Как будто он ни в чем не виноват! А кто виноват! Может, Ниязов виноват? А? Отвечайте!
Неожиданно вошел Николай Костенко. Он был черен и худ. Одежда на нем истрепалась, лицо было бледное и изможденное. Он подошел к Макарову к негромко сказал:
— Там волынка, Макаров, народ расчета требует. Пойди поговори с ними. У меня уже сил нет.
Макарова неожиданно начала трясти лихорадка.
«Опять приступ, — подумал он. — Будто по расписанию».
— Ну, что я говорил! — торжествующе закричал Ниязов. — Вот вам и подготовка к празднику.
— Кончай, Макаров, — строго сказала Цветкова. — Пять минут.
— Хорошо, Маруся, — стуча зубами, заговорил Макаров. — Пять минут. Только пять минут. Я сейчас пойду к рабочим. Я буду просить их остаться на дороге. Завтра у меня будут деньги. И мы на эти деньги построим гостиницу. Что вы смотрите на меня? Мраморную гостиницу…
— С ума сошел, — с суеверным ужасом прошептал Ниязов.
— Он бредит, — бледнея, ответила Наталья. — Помогите мне довести его домой…
…Подстрекаемые Дубинкой и его приспешниками, землекопы неистовствовали. Толпа выломала двери, едва державшиеся на старых, поржавевших петлях, и ворвалась в контору. Перепуганного Буженинова притиснули к стене. Стол и табуретки изломали в куски. Ченцов, красный и совершенно ошалевший от выпитой водки, ломал деревянный денежный ящик. Там не было ни копейки.
— Обманули народ. Работать заставляли, а денег не платят. Давай прораба! Кишки из него вон, пусть дает расчет.
Снаружи так же неистовствовала, бушевала толпа, вконец распоясавшаяся и возбужденная.
И вдруг снаружи все смолкло. Замолчали и люди, столпившиеся в конторе.
Ченцов разогнулся и увидел, что в контору кого-то вносят.
«Убили, что ли?» — подумал он.
— А ну-ка, выходите, — вполголоса и как-то удивительно буднично сказала Наталья. — Плохо ему, не видите, что ли? Жар. Бредит. Помоги мне, Ченцов!
Макарова положили на чудом уцелевшую кровать с веревочной сеткой. Наталья заботливо накрыла его своим пальто и еще чем-то. Но Макаров стучал зубами и стонал.
— Это у него тропическая, — тихо сказал кто-то из рабочих. — От нее умереть можно.
— От вас самих умереть можно! — злобно огрызнулась Наталья. — Волынку какую подняли!
— Чего волынку? — крикнул Дубинка, вновь ожесточаясь. — Погубить всех хотите? Сами подыхайте. А мы жить хотим. Давай расчет.
— Погоди шуметь, — крикнул на него Ченцов. — Видишь, плохо человеку.
— А нам хорошо? Тебе хорошо, а? Небось опух с голодухи.
— Раньше хоть затируху варили, а теперь дулю с маслом!
— А вон мешочек муки привезли! Будет тебе затируха!
— Чего там тебе! Сами слопают!
Этот насмешливый возглас взорвал рабочих. Они набросились на мешок муки, который на днях на собственном горбе приволок Костенко, купив его в Керки, и в одну минуту расхватали по кулькам и платкам.
— Лепешек напечем на дорогу, — кричал кто-то. — А теперь гони монету! Все равно отсюда без расчета не уйдем!
Атмосфера снова накалялась.
Наталья, дрожащая и бледная, вышла к рабочим.
И вдруг лицо ее озарила такая радость, что все невольно замолчали и посмотрели туда же, куда смотрела она.
К конторе приближался коренастый человек в кожаном черном пальто и такой же кожаной кепке на большой круглой голове. Он спокойно смотрел перед собой узкими монгольскими глазами. Рядом с ним шагала стройная, красивая девушка в сером пальто и шелковом шарфике, наброшенном на черные волосы.
В коренастом человеке рабочие сразу же безошибочным чутьем угадали большого начальника и молча почтительно расступились.
— Федор Николаевич, — закричала Наталья. — Ой, Федор Николаевич!
Если бы не его тонкобровая строгая подруга, Наталья бросилась бы на шею Федору Николаевичу, так обрадовалась она его появлению. Но Тоушан смотрела ей прямо в глаза и, казалось, говорила:
— Да, он очень хороший человек, Ткачев, очень хороший! И он обязательно поможет вам, но все-таки он не ваш, а мой… Только мой!
— Что это у вас? — негромко спросил Ткачев. — Вооруженное восстание?
Послышался смех.
— Вот шумим, товарищ начальник, — выдвинулся вперед Ченцов. — Хвороба одолевает, малярия, значит. И с харчами опять-таки плохо. Думаем на другую стройку переметнуться. А нам расчета не дают, денег, говорят, нету.
— А где Макаров? — спросил Ткачев, присаживаясь на какие-то пустые ящики, стоявшие у конторы.
— Макаров болен, — сказала Наталья. — Малярия. Жар. Бредит. Сейчас я вместо него.
— Ладно, — взглянул на нее Ткачев. И куда только девалась та розовощекая девушка, которая недавно с веселым смехом бегала по коридорам управления! Перед ним стояла худая женщина с изжелта-бледным лицом, с сурово сдвинутыми бровями, так повзрослевшая за эти короткие шесть месяцев.
«Да, нелегко им было здесь», — подумал он и снова спросил:
— А где бухгалтер?
— Я здесь, — тотчас же откликнулся Буженинов. — Я вас слушаю, товарищ начальник дорожного управления.
— Сколько нужно денег для расчета?
— Двадцать восемь тысяч, — без запинки выпалил Буженинов. — Прикажите подать ведомости?
— Не нужно. — Ткачев расстегнул портфель и принялся писать какую-то бумажку.
— Сейчас же заготовьте чеки. Завтра все получат расчет. Есть люди, которые хотят остаться на стройке?
Наталью поразило, что Ткачев не принял никаких мер, чтобы задержать рабочих. Он торопился р а с с ч и т а т ь их. Что бы это значило?
— Бригада Солдатенкова, — ответила она. — Бригада обязалась работать до конца стройки.
Ткачев ничего не сказал и внимательно посмотрел на рабочих.
Во двор конторы въехала грузовая машина. Ткачев поднялся.
— Где завхоз?
— Слушаюсь, товарищ начальник, — руки по швам, замер перед ним Борисенко, старательно выпячивая глаза.
— Принимайте продукты. Здесь рис, баранина. Должно хватить для ужина и завтрака. Пусть товарищи хоть напоследок поедят местное блюдо — туркестанский пилав.
— Для ужина и завтрака? — снова удивилась Наталья.
Что это он задумал? Но спросить не решалась.
Ткачев направился в контору. Войдя, он тихонько присел возле закутанного с головой, трясущегося Макарова.
Иван Петрович, врач с заставы, встал при его появлении и кивнул на больного.
— Климат ему нужно менять. Иначе труба.
— Переменит, — успокоительно произнес Ткачев. — Давно это с ним?
— Вторая неделя. Совсем измучился.
Макаров сбросил с головы одеяло.
— О, — вскрикнул он, — Федор Николаевич!
И его радость была так непосредственна, что Ткачев отвернулся, чтобы скрыть смущение.
— Намучился, небось? — осторожно спросил он у Макарова.
— Было по-всякому, — тихо ответил тот.
— Ну вот, теперь отдохнешь. Я привез приказ о консервации строительства.
ГАЗЕТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
— Лучше бы вы меня убили, Федор Николаевич. Вот так: поставили к стенке и шлепнули, — после минутной паузы произнес Макаров. Покосившись на поставленную перед ним тарелку с двумя чуреками и бутылку молока, попросил:
— Утвердите наш вариант, Федор Николаевич, и к весне будет дорога. Мы уже проделали главную работу, подвели полотно к предгорьям и разобрали завал на пятидесятом пикете.
«Ах, черт! — тут же вспомнил он. — Эта проклятая гора снова обрушилась на пятидесятый пикет. Как же я забыл об этом?»
— Дорогой мой, — мягко сказал Ткачев. — Приказ есть приказ. Эти деньги нужны в другом месте.
— А здесь не нужны?
— И здесь нужны, — уклончиво ответил Ткачев. — И вообще, Макаров, ты плохо осведомлен о наших делах. Есть умники, которые уверяют, что постройка здесь большого комбината не оправдает себя. Вот они-то и мутят воду.
Макаров сразу же вспомнил длинное холеное лицо Сафьянова, его узкие, презрительно сжатые губы.
— Я знаю этих умников. Пришлось увидеть.
— Тем лучше…
— Федор Николаевич, — взмолился Макаров. — Здесь же крупнейшее в стране месторождение серы. Слышите, крупнейшее! И одно из крупнейших в мире! Как же здесь обойтись без дороги? Пожалейте нас, Федор Николаевич!
Ткачев задумался.
— А ну-ка, дай проект.
Он развернул лист и склонился над ним. В комнате все затихли, боясь шевельнуться.
— Тэк-с, тэк-с, — бормотал Ткачев, поглядывая на поперечники. — Этот кусочек прошли. Пикет пятидесятый, в легенде значится завал. Но ты говоришь, завал разобран? Очень хорошо.
Макаров открыл было рот, чтобы сказать правду, но кто-то сильно толкнул его в бедро. Это был Солдатенков. Макаров промолчал.
— Дальше идут выемки и насыпи с незначительными отметками, — продолжал Ткачев. — Тоже очень хорошо. А здесь что на девяносто пятом. Ого, скальные работы.
— Взорвем, — кратко сказал Солдатенков, щуря глаза.
Ткачев быстро взглянул на него и снова припал к бумаге.
— Дальше до сто четвертого чисто. Так, здесь небольшая труба. Монокль?
— Так точно, — ответил Солдатенков.
— Дальше снова гладенько до двухсотого. Опять труба?
— Труба, Федор Николаевич, — откликнулся Макаров.
— Ой, вылетим мы в трубу с твоими трубами, — пошутил Ткачев, и все повеселели. — Дальше от трехсотого серпантинки — одна, вторая третья. Ну, это чепуха. И здесь последнее препятствие: небольшая насыпь и подпорная стенка. — Он в упор посмотрел на Макарова. — Сколько ты просишь?
Макаров задумался. Сметная стоимость дороги по старому варианту была равна трем миллионам. Федоров истратил двести тысяч, он — около ста.
— Дайте еще сто тысяч, и дорога будет готова.
— Любую половину, — сощурился Ткачев.
Макаров в изумлении уставился на него.
— Что это значит?
— Это значит, любую половину из ста. Или первые пятьдесят, или последние пятьдесят. Понял?
Лицо Ткачева было серьезно. Он не шутил.
— Хорошо, — поспешил согласиться Макаров.
— Не совсем, — уклонился Ткачев. — Окончательно решим завтра. На бумаге одно, а на местности другое. Я утром поеду по трассе, и тогда решим. Вот так. Меня за эти пятьдесят тысяч тоже по головке не погладят. Это я ведь беру на себя, на свой риск.
Лицо Макарова вытянулось. Он растерянно взглянул на Солдатенкова. Тот незаметно подмигнул ему.
…Макарова утомил напряженный разговор. Он опустил голову на подушку и вскоре уснул.
Когда он проснулся, было уже утро.
«Проспал, проспал, — мучительно терзала его одна и та же мысль. — Ткачев поедет по трассе и увидит, что я солгал. Что же делать? Что? Эх, будь, что будет. Скажу ему тогда всю правду. А может, и обойдется еще…»
Он потянулся было к бутылке с молоком, стоявшей перед ним, но сейчас же отдернул руку.
— Кто там есть? — негромко позвал он, услышав какой-то шелест за перегородкой.
— Это я, Виктор Александрович, — отозвался Буженинов. — Что вы хотели?
— Вот это молоко, — просительно заговорил Макаров, глядя на заспанное лицо счетовода, — хорошо бы Ченцовой отнести, для Павлуши. Как вы на это смотрите, товарищ Буженинов?
Бухгалтер удивился.
— Да ведь Ченцов уехал.
— Как уехал?
— Уехал со своей бригадой. Почти все рассчитались и уехали. Осталась, как бы знаете, бригада Солдатенкова, да вот еще заявление на ваше имя.
Макаров взял из рук Буженинова небольшой листок бумаги и прочел:
«Начальнику «Дорстроя». Мы, нижеподписавшиеся, рядовые бойцы первой пятилетки, объявляем себя мобилизованными до конца постройки дороги. Мы, люди разных национальностей, объединились в интернациональную бригаду имени Коминтерна. Просим направить нас на самый трудный участок. Подписи: Курбандурды — бригадир, Гельдыев — землекоп, Гао Мин — землекоп, Хатин — землекоп, Хатибулин — землекоп, Ярославцев — землекоп, Приходько — землекоп».
Макаров читает, строчки расползаются у него перед глазами.
— Где они? — спрашивает он, отворачивая голову.
— Все на дороге, — отвечает Буженинов. — А во дворе вас ждет товарищ Ткачев. Приказал не будить. Подождать, пока не проснетесь сами.
…Машина мчится по такиру, рядом с насыпью. Такир, когда сухо, идеальная дорога, и шофер летит с ветерком. Но вот и предгорья.
Машина едет по новой трассе. Дорога расчищена от камней и спланирована. Это то, что Макаров назвал проездом.
Второй, третий четвертый километр. Сейчас за поворотом будет завал.
Шофер старательно крутит баранку, машина плавно разворачивается и выезжает на пятидесятый пикет.
Сердце у Макарова замирает. И вдруг он широко открывает глаза.
Завала нет! Дорога расчищена!
Машина останавливается. Макаров спрыгивает на дорогу и осматривается.
Нет, это действительно так. На протяжении ста метров, всего пикета, дорога расчищена, освобождена от камней. «А может быть, завала-то и не было?» — мелькает у него мысль. Но он замечает, что проезд стал значительно уже и что завал теперь разобран не так тщательно, как тогда, в первый раз.
Наконец он замечает своих людей. Они сидят внизу на камнях, неподвижные, согнув плечи и опустив головы.
Макаров сбегает вниз по каменной осыпи, подбегает к Солдатенкову, сидящему на камне в темной от пота рваной рубахе, что-то хочет спросить у него, но молчит.
Молчит и Солдатенков. Просто он не может говорить. Грудь его тяжело подымается, лицо сведено болезненной судорогой.
Макаров прижимает его к себе и хрипло говорит:
— Спасибо, друг!
Взгляд его останавливается на Нине. И она здесь? А кто же сидит рядом с ней? Это Маруся. Милые, славные девчата, нет вам цены, дорогие…
Раздается сиплый гудок машины. Ткачев торопится. Подойдя к машине, Макаров замечает пристальный, внимательный взгляд начальника. Неужели догадался?
— Поехали дальше, — говорит Ткачев. — Придется отвалить тебе пятьдесят тысяч, душегубец!
Машина, пройдя всю трассу, останавливается у буровой вышки на первом участке серного месторождения.
Мирченко приветливо машет рукой. Макаров здоровается с ним, представляет его Ткачеву.
— А мы уже знакомы, — смеется геолог, — в Каракумах встречались.
— Только ли в Каракумах?
— И на Гаудане, и в Кара-Кала, В общем, старые знакомые.
— Что хорошего? — спрашивает Ткачев.
Геолог держит в руках очередной керн, добытый из глубины.
— Вот прошли красноцветную неокамскую толщу, — докладывает он. — Пошла сера. Это титон. А там ниже, за лузитанским ярусом, может быть и уголек. Хорошо?
— Просто здорово, — присаживается на корточки Ткачев. — Значит, шахты пойдут?
— Шахты. Здесь будет большой город, Федор Николаевич.
— Ну вот, — лукаво улыбается Ткачев, обращаясь к Макарову. — А ты говоришь, консервировать!
…Сумерки. Горы, окутанные фиолетовым туманом, отодвигаются все дальше и дальше. Скоро их поглощает густая мгла. Подул ветер. От тугаев потянуло прохладой, запахом воды и камышей. Они уже пожелтели, побурели. Ветер колышет их распустившиеся сиреневые метелки.
Взошла молоденькая, только что родившаяся луна. Она озарила своим золотистым и, как всегда, немного таинственным светом узкие улочки аула, приземистые силуэты усадеб, с возвышающимися над стенами башенками и куполами — куммезами и оммарами.
В конторе «Дорстроя» горит свет. Все помещение освобождено и предоставлено под жилье Федору Николаевичу. Он сидит сейчас за столом, какой-то особенно домашний, в белой нижней рубахе и домашних туфлях.
Ткачев прихлебывает из пиалы горячий кок-чай. Перед ним лежит чурек, нарезанный узкими полосками, и неизменная брынза. Недопитая бутылка хинной водки и пузатая рюмка стоят в стороне. На табуретке раскрытый чемодан. Завтра Федор Николаевич собирается вылететь в Ашхабад.
Тоушан сидит на кровати, опустив голову.
— Где же она может быть? — глухо спрашивает Ткачев. — Что тебе сказали?
— Дурдыев встретил меня на пороге, разговаривал, как с чужой, не поднимая глаз. Сказал, что Дурсун с ним разругалась и уехала в Керки, учиться. А я не верю. Не верю! С ней что-то случилось.
— Ну зачем волноваться? — Ткачев бережно погладил ее по голове. — Может быть, действительно она в Керки?
Тоушан взглянула на Ткачева пронзительными, гневными глазами. Ее смуглое, продолговатое лицо исказилось гримасой гнева.
— Я их всех здесь переворошу, — с силой произнесла она. — Ты бы посмотрел на этих феодалов!
Ткачев тяжело вздохнул и снова сел к столу.
— Ты серьезно решила остаться здесь? — спросил он, не поднимая головы. В его голосе послышалась боль.
— Я не могу иначе, — тихо проговорила она. — Я нужна здесь, Федя. Нужна.
Ткачев еще ниже опустил свою бритую круглую голову.
— А как же я? — чуть слышно спросил он.
Тоушан тихо встала и, подойдя к нему, обняла его за шею.
— Все уладится, милый. Все будет хорошо. Это же не навеки.
Ткачев обнял ее, прижал к груди, крепко поцеловал.
Послышался осторожный стук в дверь. Ткачев неохотно отпустил Тоушан.
В комнату нерешительно входит Макаров, останавливается у порога.
— Можно к вам, Федор Николаевич?
— Ты уже вошел, а спрашиваешь — можно ли? — грубовато отвечает Ткачев. — Черт вас знает, и поговорить не дадите. Что у тебя такое?
— Вот что, Федор Николаевич — озабоченно произносит Макаров. — Нам ведь взрывчатка нужна. Без вас пограничники не дадут. Я уже просил у начальника заставы.
— У Сабо, что ли?
— У него. Давай, говорит, бумажку от начальства. Я же вам писал по этому поводу.
Ткачев недовольно морщится. Тоушан, ни слова не говоря, подает ему гимнастерку, пояс. Он начинает одеваться.
— Ну, как, спокойно на дороге? — спрашивает он, застегивая пояс.
— Как будто бы спокойно, — отвечает Макаров, следя за Ткачевым. Ему не хочется рассказывать о всяких слухах, распространяемых среди рабочих. Мало ли что болтают?
— А что это у тебя за счетовод, Макаров? — как бы невзначай спрашивает Ткачев, натягивая сапоги.
— Счетовод, — так же небрежно отвечает Макаров. — Фамилия — Буженинов. Может, знаком?
— Может, и знаком, — неопределенно откликается Ткачев. — Видел я одного очень похожего субчика. Постой! Ты, может, рюмочку выпьешь с мороза, как у нас на Урале говорят, а?
— Нет, спасибо, — отказывается тот. — Как бы нам на заставу не опоздать, Федор Николаевич.
— Подгоняешь? — исподлобья глядит на него Ткачев. — Думаешь, начнет теперь волынку тянуть, про старые дела рассказывать? Ох, не хотите вы, молодежь, о старых делах слушать. А без них не было бы и новых… Нет, ты все-таки выслушай. Это еще в двадцать седьмом году было в Ленинграде. Тебе тогда сколько было?
— Пятнадцать, — неохотно ответил Макаров.
— Голубей гонял, небось?
— Были и голуби…
— Ну вот. А мы тогда только-только к большим начинаниям приступили. Турксиб начали, Днепровскую электростанцию. Ну, вот враги на нас и обозлились. Ты ведь помнишь, наверное? Тут тебе и «Аркос», и Войков. И бомбы полетели в наш партийный клуб в Ленинграде. Вот оно, гляди. — Ткачев закатил рукав и показал розовый шрам, похожий на кленовый лист. — Осколок угодил. И троцкисты, в свою очередь, распалились. Программку ты их, конечно, знаешь? — вопросительно поднял брови Ткачев.
Макаров неопределенно хмыкнул.
— Программка подлейшая. Мол, все вы быдло и лапотники, Россию вам не поднять, а давайте обращайтесь за помощью к варягу-капиталисту, сдавайте иностранцам в концессию заводы и фабрики, и будет тогда полный порядок. Началась с ними драка. Повадились они к нам на Путиловский. А я там в партийном комитете был. И вот, как сейчас помню, перед праздником Октября один такой хлюст пришел прямо в цех и давай распинаться. «Выходите, мол, с нами на демонстрацию, голосуйте за нашу платформу» — и все в таком роде. А я знаешь, человек горячий. Слушал его, слушал, а потом подошел, взял за шиворот, да как поддал коленом! Сажени две он, наверное, пролетел. И встать потом не смог. На носилках унесли. — Ткачев даже покраснел, как бы переживая этот эпизод.
— А на второй день меня кто-то вечерком по башке огрел. Еле выжил. Вот какие дела были. И показалось мне, что этот твой счетоводишка на того оратора-стрекулиста похож. Очки, бороденка.
— Что вы, — усомнился Макаров, — он ведь совсем смирный человек. Впрочем, я поинтересуюсь.
— А я говорю это тебе к тому, — поднялся Ткачев, — чтобы напомнить, что вся эта гадость оседает здесь, вредит и пакостит изо всех сил. Многие из них собираются в этих местах переходить границу. В общем нужно быть на чеку. Запомни это, Макаров!..
Слушая Ткачева, Макаров незаметно пробежал глазами «Туркменскую искру», привезенную Ткачевым и лежавшую сейчас на столе вместо скатерти.
Вдруг он побледнел и, словно забыв обо всем, сдвинул с газеты стоявшие на ней тарелки, поднес к глазам. В газете, в конце номера мелким шрифтом было помещено объявление о гастролях в Ашхабаде московской певицы Юлии Тумановой.
— Что это ты? — недоуменно спрашивает Ткачев.
Макаров поднимает на него ошалелые, ничего не понимающие глаза.
— А? Нет, ничего. Пошли, — торопливо вскакивает он…
На дворе темно. Немного отойдя от конторы, Ткачев останавливается и доверчиво берет Макарова за руку.
— А Тоушан здесь остается, — словно жалуясь, произносит он. — Башлыком, председателем в колхозе будет. Вот какие дела, Виктор.
— Федор Николаевич, — перебивает его Макаров. — Разрешите мне с вами в Ашхабад поехать. Только на один день! Федор Николаевич!
Ткачев молчит. Ветер шумит в ветвях тутовника. Луна чуть выглядывает из-за набежавшей тучки, как шалунья-девочка из-за дерева.
— Федор Николаевич!
— Нет, Макаров! — твердо отвечает Ткачев. — Уезжать тебе сейчас отсюда нельзя. Обстановка здесь нехорошая. Пусть подождет твоя певица. Если любит — подождет.
ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК
Раннее, раннее утро. Быстро гаснут, вернее, растворяются в бледной лазури неба уставшие мигать звезды.
Ослы громким криком возвещают начало нового дня.
Макаров торопливо пробирается по узкой тропке по направлению к станции. Серые дувалы, серый камыш. Медленно взлетающая серая пыль.
Макаров невольно вспоминает Украину, берега родной Ворсклы, огороды с красавцами-подсолнухами, полосатые арбузы и золотистые дыни с глубокими медовыми трещинами.
Он ясно видит тенистые балки, поросшие зеленым спорышом, над которыми возвышается царственный коровяк — ученые, кажется, так и зовут это величественное растение: «царственный скипетр».
Эх, до чего же хорошо на Украине.
Но мысли его возвращаются к Юлии. Всю ночь он думал только о ней, только о ней.
Он должен увидеть ее матово-бледное лицо с пунцовыми губами, услышать ее голос, прижать ее к своему сердцу. Разве может он усидеть здесь, когда она совсем недалеко от него — рукой подать!
Он вспоминает свой сон. Она приснилась ему среди гор. Ну вот, значит, сон был в руку.
Незаметно подходит он к станции. Скоро должен быть пассажирский. Невольно скрываясь от посторонних взоров, Макаров заходит в помещение. Там прохладно и пусто.
Нет, кто-то притаился на скамье в глубине зала ожидания. Постой, постой, это же боевые подружки Люся и Дуся.
— А вы здесь что делаете, девчата?
Они стоят перед ним, как школьницы.
— Куда это вы собрались?
— До дому! — смело и грубо отвечает Дуся. — Хватит, уже наработались!
— Ты что? — удивленно смотрит на нее Макаров. — Что случилось?
На широком лице Дуси смущение. Она теребит в руках небольшой узелок, что-то рассматривает на носках своих порыжевших мужских ботинок. Рубаха на ней тоже мужская, широкая. И даже кепка на голове.
Люся — другое дело. Стираная и штопаная блузочка аккуратно выглажена. На ногах — туфли, из-под манжета блузки выглядывает край беленького платочка.
— Страшно стало, вот и ушли, — вполголоса произносит Люся. — Ну вас к аллаху, с вашей дорогой!
— Вы же комсомолки! — возмущается Макаров. — Передовой отряд! И каких-то слухов испугались! Не хотите в горах работать, переходите сюда, в поселок. Кто же вас так напугал?
Подружки молчат.
— Ну как, вернетесь? — спрашивает Макаров.
В это время в помещение вокзала вбегает запыхавшийся Симка. У Макарова отлегает от сердца.
«Теперь будет порядок. Как же — двух таких работниц потерять!»
Симка, как коршун, налетает на девчат. Макаров знает: он любит Дусю. Но сейчас Симка все свои усилия обращает на ее тоненькую подружку. Знает — куда Люся, туда и Дуся. Как нитка за иглой.
На перроне раздается глухой удар колокола. Макаров торопливо прощается с Симкой и девушками.
— Надолго? — спрашивает Симка.
— Нет, что ты, — на бегу отвечает Макаров. — Туда и обратно. Кое-что утрясти надо.
Симка улыбается. Что же утрясать, если вчера здесь сам начальник дорожного управления побывал. Чудак этот Макаров!
Когда Макаров уже поднимался по ступенькам в вагон, дежурный по станции ткнул ему в руки какой-то конверт.
— Вот принес кто-то на станцию, — торопливо произнес он. — Мальчишка какой-то.
В толчее Макаров взглянул на надпись: «Начальнику «Дорстроя».
«Директива какая-то», — усмехнулся он. Сунул конверт в полевую сумку и забрался на верхнюю полку.
Как только он остался наедине с самим собой, волшебные грезы окружили его…
…Как билось у него сердце, когда он подходил к зданию кинотеатра, в котором должна была выступать Туманова. Он постоял перед афишей, чувствуя, как ноги наливаются сладостной тяжестью. Он хотел представить себе ее теперешний облик и не мог. Перед ним все время возникал образ Юлии, выбежавшей к нему тогда, в ту хрустящую зимнюю ночь.
Искристый серебряный снег. Ветви деревьев в волшебном голубом кружеве, и она, в платке, наброшенном на плечи.
Он снова ощутил тепло ее гибкого тела, запах ее духов…
Вспоминая свои встречи с нею, он почему-то не хотел думать о том, что она принадлежит другому, что это уже другая, совсем другая Юлия.
Уже взяв билет, он вспомнил о цветах…
Ему повезло. Возле городской гостиницы, у площади Карла Маркса, он обнаружил цветочный киоск и в нем — красивые голубые астры.
Он завернул цветы в газету и с ними уселся на свое место.
Поднялся занавес. В зал дохнуло холодом и особым запахом сцены. Четко постукивая каблуками, из-за кулис вышла женщина в черном платье и объявила звонким, приятным голосом:
— Начинаем концерт артистки московской эстрады Юлии Тумановой.
В зале захлопали. Она сказала еще что-то — Макаров не расслышал. На сцену, к его удивлению, вышла высокая пожилая дама в пенсне: она цеременно раскланялась и села за рояль.
В зале наступила тишина. «А где же Юлия? — волновался Макаров. — При чем здесь эта сухопарая дама?» Но дама ударила по клавишам, и в зал полились медленные, томительные звуки. Вот они стали звенеть сильней, громче, заполнили собой весь зал. А вот они уже льются сплошным потоком, успокоительно и грустно.
Макаров закрыл глаза. Странно, ему показалось, будто это журчит песок. Словно желтая горячая струя песка сыплется откуда-то с высоты на землю, извиваясь веером, собираясь в тугие жгуты.
В этой туманной пыли, среди поющего песка, перед ним, расплываясь и странно изгибаясь, возникает какое-то видение… Что это?
Но вот словно спадает какая-то пелена, и он ясно видит далекие красноватые горы, желтые барханы и там, в вышине, на горбе бурого верблюда фигуру стройной девушки в сиреневой блузке. Это она.. Конечно, она, Наталья. Но почему Наталья? Он же здесь, в Ашхабаде, на концерте Юлии, его Юлии.
Макаров открывает глаза. В зале тихо. У рояля сидит та же сухопарая женщина в пенсне, рядом с ней стоит Юлия.
Темное платье четко обрисовывает невысокую выпуклую грудь. Талию ее охватывает золотой ремешок, на черные, приподнятые прической волосы наброшена прозрачная шаль.
Юлия смотрит прямо на него. Конечно, она сразу же нашла и узнала его в этой толпе замерших в ожидании зрителей.
«Здравствуй, Юлия!» — хочется крикнуть ему. Но тут он замечает, что взгляд ее устремлен не на него, что она сейчас не видит никого в этом большом переполненном зале.
И вот Юлия запела. Это была простая бесхитростная песенка о рябине, о ее горькой судьбе. И снова грустная мелодия широко разлилась в зале, заполнив все его уголки и сердца людей.
И опять перед Макаровым возникают какие-то странные неясные образы. Они расплывались, исчезали, появлялись вновь. Вот черный конус юрты под высоким утесом. Горит костер, а возле костра, озаряемая его призрачным светом, неудобно подложив под голову изогнутую в локте руку, спит девушка.
Это опять Наталья. «Боже мой, что за напасть, — думает он, — почему Наталья, почему все время Наталья?»
Почему ее образ, словно какое-то дьявольское наваждение, преследует его именно сейчас, когда он прилетел сюда на зов своей любви?
Он открывает глаза и встряхивает головой.
Гремят аплодисменты. Макаров тоже бьет в ладони. Цветы падают, он поднимает их и, вынув из кармана записную книжку, пишет записку.
«Юлия, — пишет он. — Я здесь. Я смотрю на тебя. Я хочу видеть тебя, Юлия. Виктор».
Он пробирается между рядами и передает букет капельдинеру.
Тот низко наклоняет голову и торопливо возвращается на свое место, а в зале уже звучит другая песня.
«Нет, — думает Макаров, — нужно разобраться в своих чувствах к Наталье». Ему уже давно казалось, что она любит его, но скрывает свои чувства. Нет, постой, а Николай? Она ж последнее время уделяла ему столько внимания. Она радовалась его приездам, она заботилась о нем. Но…
Он вспоминает одну сцену, невольным свидетелем которой ему пришлось быть. Это было в дни проезда Ткачева. Он лежал в постели больной, охваченный жаром.
Кажется, он забылся коротким сном, а потом проснулся, и услышал голос Натальи: «Пей, Николай, молоко, ты ведь голоден».
И вот тогда произошло неожиданное: Николай злобно выругался.
— Что ты? — с ужасом вскрикнула Наталья.
— Ты ведь ему принесла молоко, — услышал он шепот Николая. — Ему, только ему… Ты притворяешься, я знаю. И не нужны мне твои улыбки.
— Ты с ума сошел!
— Да сошел. Но я все вижу и понимаю. Ты любишь его и только его. Все, что ты делаешь, это для него. И со сломанной ногой ты работала для него. И завал разбрасывала всю ночь для него. Вон полюбуйся своими руками. А он тебя и знать не хочет, вот что! Ну, что ты смотришь на меня такими глазами?
А потом наступило такое молчание, что Макарову хотелось крикнуть:
— Ну, говорите же, черти полосатые, говорите что-нибудь.
— Он любит меня, — почти неслышно прошептала Наталья, — Любит…
Что скрывать, Наталья нравилась ему, нравилась ее деловитость, находчивость, ее преданность делу, наконец, нравилась тем, что была хороша собой. Но так могла бы нравиться ему любая молодая, красивая девушка. Но любви такой, как в песнях и романах, он не ощущал. Вот Юлия — это другое!
Так почему же образ Натальи тревожит его сейчас, здесь? Что это значит?
А на сцене под грохот аплодисментов появляется черный капельдинер с букетом цветов и подходит к смущенной артистке. Туманова принимает цветы, раскланивается и уходит.
Всем видно, как она, еще на сцене, на ходу, вынимает из букета записку и читает ее.
Вот она снова выходит. Теперь уже она явно ищет глазами его. «Ну, смотри же сюда, вот я, в десятом ряду партера, третье кресло от края. Неужели ты не видишь? Вот чудачка. А я так прекрасно вижу тебя всю, всю».
Наконец она замечает его, и радость вспыхивает в ее глазах. Она поет. Она поет песню, которую певала ему ранней весной на берегу разлившейся Ворсклы:
— Смутний вечір, смутний ранок,
Десь поїхав мій коханий,
Десь поїхав та й бариться,
Серце ж моє печалиться.
Чудесная мелодия заливает зал своей прозрачной волной, и сердце Виктора замирает.
И тотчас по странной ассоциации он вспоминает хмурые стены барака, тусклый свет керосиновой лампы, людей, скрючившихся под грязными одеялами, измученных беспрерывными приступами малярии, голодных, обессиленных.
«К черту все, — думает он. — К черту! Здесь Юлия, и я ничего не знаю!»
…Он стоял в вестибюле, грызя в нетерпении десятую папиросу, и она выбежала к нему, в белой беличьей шубке, и такой же шапочке, вся белая и пушистая, как весеннее деревцо в белом цвету.
Он схватил ее холодные руки и горячо сжал.
— Ты одна, Юлия? — сразу же спросил он, всматриваясь в ее немного усталое милое лицо, с едва заметной голубизной под глазами.
— Пойдем отсюда, — чуть покраснела она. — На нас смотрят.
Они вышли на улицу. Было уже темно. Прохладный ветер коснулся их разгоряченных лиц. Макаров снова повторил свой вопрос.
— Свободна, свободна, — насмешливо запела она. — Свободная, как райская птица. Слушай, а ты помнишь сказку об оловянном солдатике?
— Помню, — удивленно взглянул на нее Макаров. — Зачем тебе?
— Чудна́я я, — рассмеялась вдруг Юлия. — Если бы ты не знал этой сказки, ты бы не очутился здесь. Она повернула к нему свое бледное, матовое лицо. — У моих ног!
Макаров внимательно посмотрел в ее черные глаза.
— Послушай, Юлия, — остановил он ее. — А почему ты не сообщила мне о своем приезде? Ведь я случайно, совершенно случайно узнал об этом.
Юлия теребила уже немного привядшие астры, отрывая легкие голубоватые лепестки.
— Видишь ли, — нерешительно начала она. — Ведь ты мне писал о дороге и о своих товарищах. С тобой там эта…
Юлия как-то пренебрежительно поморщилась. Макарову стало неприятно.
— Эта, Петрова, — продолжала она. — Я помню ее. Она славная. Простенькая, но славная.
Зачем это? Зачем она так нехорошо говорит о Наталье?
Макаров опустил голову.
— Но ты прилетел ко мне на крыльях любви, — тихонько рассмеялась Юлия. — И теперь ты со мной. Пойдем же.
Они пошли по улице в неловком, молчании.
— Ну, вот мы и пришли, — произнесла Юлия, и, не останавливаясь, вошла в гостиницу. Макаров пошел за ней.
Они прошли ярко освещенный вестибюль и начали подниматься по лестнице.
— Ты зайдешь ко мне? — повернула она к нему свое побледневшее лицо, на котором особенно ярко выделялись горящие темные глаза, слегка прикрытые длинными изогнутыми ресницами.
Макаров ничего не ответил.
На втором этаже, за столиком, освещенным настольной лампой, сидела дежурная — полная женщина в белом платке. Она внимательно поглядела на вошедших, но ничего не сказала.
На мгновение Макаров ощутил какую-то неловкость, смущение, похожее на то, какое овладевало им, когда он посещал домик на Гоголевской.
«Что это я? — ужаснулся он. — Ведь это же Юлия!»
Они вошли в номер. Она легко, без его помощи выскользнула из своей шубки и остановилась перед ним, слегка приподняв лицо, немного взволнованная и смущенная.
Он привлек ее к себе и крепко поцеловал.
— Ух, — смеясь и смущаясь, вырывалась она из его объятий. — Не надо, сюда ведь могут войти.
Но он ничего не слушал, он жадно целовал ее щекочущие ресницами глаза, прохладные щеки, мягкую шею и упругую грудь под тонкой шелковой тканью.
— Ну, перестань же, — просила она и вырывала из его рук свои тонкие пальцы, а он осыпал их поцелуями. — Перестань, слышишь?
Голос ее становился все тише, вскоре она замерла в его объятиях…
…— А теперь тебе пора уходить.
Макаров взглянул на часы. Стрелки показывали начало первого.
— Хорошо, — послушно поднялся он. — Что же будет дальше?
Юлия посмотрела на него долгим загадочным взглядом.
— А ты помнишь сказку об оловянном солдатике?
— Опять эта сказка, — подошел к ней Макаров. — Зачем она тебе?
— А ты вспомни ее хорошенько. Вспомни, как горячо полюбил бедный солдатик свою сказочную балерину на одной ножке. Вспомни, что за ней он был готов броситься в огонь. Или ты забыл?
— Нет, не забыл. Я помню все.
Юлия прислонилась к нему плечом.
— Завтра, прости, сегодня в восемь часов утра я уезжаю в Москву. Ты понял меня?
— Понял…
— Ну, а теперь прощай… или, вернее, до свиданья.
Она поднялась на цыпочки и поцеловала его в щеку…
Макаров вышел и все время, пока он спускался по лестнице, чувствовал на себе взгляд пожилой женщины, сидящей у ярко освещенного столика.
— Восемь утра, восемь утра, — твердил он, шагая по темной улице. — Но куда же мне деваться сейчас?
И вдруг он вспомнил о квартире, в которой они жили с Черняковым. Не прошло и десяти минут, как он был у хорошо знакомого ему домика с глиняной крышей, на которой рос какой-то бурьян.
Окна были освещены. Из открытой форточки было слышно песню. Макаров подошел поближе и заглянул в окно.
На широкой кушетке полулежал Черняков, держа в руке гитару. Он пел. Возле него, склонив к нему на колени голову, сидела Алена. У столика, заставленного бутылками, он увидел еще одну девушку, незнакомую ему.
Из форточки лилась песня:
— И в этот час пурпурного заката,
Где синевой обрызганы цветы,
Ах, где же ты, желанная когда-то,
Ах, где же ты, родившая мечты?
Странно: глядя на эту уютно обставленную и залитую светом комнату, Макаров почему-то сразу же вновь представил себе мрачный барак, заставленный топчанами, изнуренные лица рабочих, и ему до боли, до ломоты в висках захотелось оказаться сейчас же, вот в эту же секунду, там, среди них, на своем месте.
— В восемь утра, — повторил он отвердевшими губами.
…В восемь утра. А ты помнишь сказку об оловянном солдатике?
А в комнате уже звучала новая песня:
— Ты едешь пьяная, такая бледная,
По темным улицам совсем одна.
Тебе мерещится дощечка медная
И штора синяя его окна.
Макаров тихонько отошел от окна и побрел по направлению к вокзалу…
СУББОТНИК
Когда упомянешь это слово, всегда в памяти возникает известная картина, на которой Владимир Ильич изображен поднимающим вместе с другими тружениками большое тяжелое бревно. «Великим почином» назвал Ильич эти массовые выходы народа на работу, не оплачиваемую никакими нарядами, и тем не менее такую, что окрыляла она самых бескрылых, зажигала самых холодных.
И уж, конечно, теперь всем понятно, что не только тяжелые бревна поднимал в те незабвенные дни Владимир Ильич, но и всю нашу великую страну от края до края!
На первый субботник, объявленный на стройке для подготовки скалы к взрыву, вышло совсем мало людей, только одни комсомольцы. Те же, кто не занялся постирушкой или каким другим неотложным делом, ушли на неурочную работу по строительству плавильного цеха, — как ни говори, — там и платят лучше, да и почувствовали уже люди другого хозяина. Дороге скоро конец, а плавильный цех только начинает работу. Будет производить серу.
Комсомольцам предстояла трудная работа. Нужно было в десяти или в двенадцати местах, у основания скалы, пробурить, прорыть или прогрызть (как хочешь!) длинные цилиндрические отверстия, так называемые шпуры.
Эти шпуры заполнят аммоналом, взрыв которого должен раздробить скальный массив.
Разделились по два человека. Солдатенков работал с Люсей.
Вася Сокол — с Марусей Цветковой, Серафим (повезло же человеку!) — с Дусей, в общем каждый брал себе в напарницы девушку, которая выполняла подсобную, более легкую работу.
Специальных отбойных молотков на стройке не было. Работы производились по-кустарному — ломами, специально подготовленными стальными трубами, кувалдами и молотками.
Вот берет, например, Сергей Солдатенков кусок стальной трубы, приставляет к скале и колотит кувалдой. Труба заполняется каменистой крошкой. Ее нужно выбить. Этим занимается Люся. Она повязала лицо каким-то прозрачным платком, но осколки все равно порезали щеки, и платок во многих местах пропитался кровью.
Солдатенков мрачен.
Все не идет у него из головы то золотое чудо, что возникло перед ним в конторе. Где она, красавица?
Сколько вечеров скитался он у высоких глинобитных стен в надежде увидеть ее, царевну из сказки. И все напрасно. Только один раз зазвенел чей-то родниковый, хрустальный голос. Он мог принадлежать только ей. И такая душевная боль, и такая тоска была в этом голосе, что хотелось перепрыгнуть через высокие стены и унести ее оттуда, тонкую, нежную.
Его мысли переключаются на другое. Сегодня утром, открыв свой чемоданчик, он обнаружил записку, написанную крупными печатными буквами. Вот что было в ней:
«Скалу не взрывай, бери Маруську и сматывайся, мой совет».
И больше ничего, ни даты, ни подписи.
Подумав немного, он изорвал записку и никому ничего не сказал.
Вот уж, нашлись советчики.
Солдатенков встряхивает головой, чтобы сбросить с лица крупные капли пота.
Люся смотрит на него с испугом. Он работает без отдыха. Прямо одержимый какой-то!
— Иди, отдыхай, — вполголоса бросает он девушке. — Небось устала. Я немного один поковыряюсь.
Люся отходит в сторону, глядя на свои покрасневшие ладошки.
Непрерывно стучат молотки и кувалды. Над скалой клубится белая пыль. Она оседает на алых полотнищах бригадных знамен, развевающихся вверху.
— Где начальник? — тихо спрашивает Мамед Наталью, работающую с ним. — Целая неделя прошла — нету. Почему так долго нету, не знаешь?
Наталья не знает.
Прикусив изуродованные лихорадкой губы, она молчит. Что она может сказать Мамеду? Вот совсем недавно она приревновала было Макарова к Нине, этой знакомой незнакомке. Ну, что ж, может быть, и ошиблась. Но сейчас никакой ошибки нет. Сразу же после его непонятного и ненужного отъезда обнаружила она в газете, лежавшей на столе в конторе, то злополучное объявление.
«Ну и пусть любятся, пусть уезжают куда хотят, — думает она. — Мне наплевать. Но как же можно дорогу бросить?»
Работа идет, а каждый думает о своем, горюет или радуется. На седьмом небе Симка. Он уже заканчивает второй шпур, словно присутствие широколицей, курносенькой Дуси придает ему небывалые силы.
Он все время перемигивается со своей подружкой, и она отвечает ему хорошей широкой улыбкой. У них все ясно — кончат дорогу и айда домой, жениться!
Вася искоса наблюдает за Марусей! Что-то невесела сегодня девчонка. Эх, много бы отдал он, если бы ему улыбнулись эти черные, блестящие глаза!
Маруся устала. Она медленно выпрямляется и отряхивает с юбки каменную пыль. «Сейчас запоет», — думают многие, хорошо изучившие ее за время стройки.
Нет, не поет Маруся. Усталая, измученная, отходит она в сторону и ложится на землю, поросшую бурой, еще в мае выгоревшей травой. Наталья подходит к ней, ложится рядом.
— Что это с тобой, а?
Плечи Маруси вздрагивают. Неужели она плачет?
Повернув к Наталье голову, как-то странно искривив губы, Маруся нехотя отвечает подружке:
— Так, ничего, голова закружилась.
Она припадает к Натальиному плечу и горячо шепчет, словно в забытьи:
— Вот сейчас, за работой, глаза закрыла и увидела себя с мальцом, беленьким, своим. Он беззубый и улыбается. — Она застонала. — Эх, Наталка. Пеленочки стирать хочется. Мальца грудью кормить хочется. Ты понимаешь меня?
Наталка слушает ее, опустив глаза.
— Встань, Маруся, — тихонько говорит она. — На нас смотрят. Ты же вожак.
— Вожак, — горько усмехается Маруся. — Танцев и песен хочешь? Не будет сегодня песен!
Она встает и возвращается на свое рабочее место.
Солдатенков, прикусив цигарку, смотрит на нее. В глазах его добрые-добрые огоньки.
«Сколько уже вместе, — думает он, — а еще слова ей доброго не сказал».
— Ты чего уставился? — хмуро бросает Маруся. — Давай работай, не гулять сюда пришел.
Солдатенков отворачивается и ожесточенно бьет кувалдой.
«Вот же чертовка, — думает он, — и пожалеть себя не разрешает».
Так и идет работа. И пусть уж простит мне читатель, что этот субботник обошелся без массовых танцев и песен…
Было у нас много веселых и шумных выходов на общую работу, но были и такие субботники, когда народ трудился, сжав зубы, и было ему не до песен.
А время бежит. Уже вечереет. От уступов и скал легли длинные тени. Вспугнутая кем-то, стая курочек-кекликов с треском полетела к реке, к водопою.
Солдатенков проверяет шпуры.
— Теперь, товарищи, по домам, — довольный произносит он. — Я уж тут сам похозяйничаю.
— Нет, нет, — протестует Наталья, — вместе начали, вместе и кончать будем!..
…Была уже глубокая ночь, а в бараке никто не ложился спать. В этом низком, но просторном помещении жили теперь все участники стройки. Их было немного.
В конторе остался Буженинов. Он не захотел переходить в барак. Девушки тоже спали здесь, отгородившись чьим-то старым одеялом. Они боялись жить отделено.
Весь день комсомольцы работали на субботнике, на девяносто пятом пикете. Они бурили шпуры для взрывчатки. Это была изнурительная работа, но никто не ложился.
Все чего-то ждали.
Вот скоро и Новый год! Невольно вспоминаются родные места, и люди задумываются о своей судьбе, что привела их сюда, в мрачные Кугитангские горы, на серный рудник, о котором они раньше и слыхом не слыхали. Ну, уголь там, или нефть, или, скажем, золото. А то — сера! Для чего она? А вот ведь сколько ее нужно стране! Миллионы тонн! Шутка ли?
Значит, она нужна нашей промышленности. Это кто говорил, кажется, геолог Мирченко, что, добывая серу, мы избавляемся еще от одной капиталистической зависимости?
Вот оно как поворачивается дело!
— Мамед, — вдруг попросила Наталья. — Вы же нам обещали рассказать об открытии этого месторождения.
Мамед, о чем-то глубоко задумавшийся, вздрогнул. Он ласково улыбнулся Наталье и кашлянул.
— Что рассказывать? — смущается он. — Открыли — и все тут. Открывать легко было. А вот теперь, когда рудник строить надо, трудно стало. Один мешает, другой мешает.
— Кто ж тебе мешает? — поворачивается Дубинка к нему. — Он как раз просматривал какую-то старую газету, интересовался столичными новостями.
— Не ты, конечно, — отвечает ему Мамед. — Есть такие люди. Денег не дают, оборудования не дают. Говорят, невыгодно завод строить. А Мирченко доказал: очень даже выгодно. Почему так, — не понимаю!
— Не понимаешь? — хмурит брови Дубинка. — Хочешь, я тебе объясню?
— Объясни, пожалуйста.
Дубинка скрипнул табуреткой. Все в бараке смолкли.
— Вот есть два человека, к примеру, — неторопливо начинает он. — Один говорит: нужно хорошо есть, одеваться, а потом строить заводы и фабрики. Сначала масло, потом сталь, понятно? А второй человек говорит: нет, не так, подтягивай живот, ходи в лохмотьях, а подавай мне на тарелочке жареные гвозди, понятно?
— Чего уж понятней? — откликнулся Солдатенков, лежавший рядом на койке. — Контру разводишь!
— Ты что? Рехнулся? — удивляется Дубинка. — Большие люди об этом говорят. А я кто? Я человек темный. Рабочая скотинка.
— Ну, а ты за какого человека стоишь? — тихо спрашивает Солдатенков.
Дубинка широко улыбается.
— Мне, известно, жрать охота. Да и лапсердак сменить бы надо. Совсем клифт истрепался.
Многие смеются. А многие внимательно прислушиваются к разговору: хотят понять, кто же, действительно, прав?
— Дурак ты, Дубинка, — добродушно посмеивается бригадир. — Или притворяешься дураком. Пока ты масло жрать будешь, нас все эти акулы Нью-Йорка за горло схватят. Понимать надо!
— Политграмота! — откровенно зевает Дубинка.
— Может и политграмота. А тебе она очень полезна. Темный ты человек. Я так понимаю: нам сейчас каждому за троих работать нужно. Чтобы быстрей сильными стать. Иначе раздавят. Вот поэтому народ и пятилетку за четыре года взялся выполнить. И выполнит. И мы на своем участке не должны спать. Вот завтра взорвем скалу, и дорога на рудник открыта, вези серу, куда хочешь!
— Взорвем скалу, — усмехается Дубинка. — Легко сказать. А ты вот это читал?
Он вынимает из кармана небольшой клочок бумаги. Все тянутся к нему. Солдатенков читает: «Кто скалу взорвет — тому смерть».
Буквы написаны крупно, по-печатному.
— Где взял? — тихо спрашивает Солдатенков.
— У себя в чемодане нашел.
Они долго, пристально смотрят в глаза друг другу. Наконец, Солдатенков небрежно роняет:
— Пугают, как маленьких. Прямо кинофильм какой-то.
— А ты лучше поберегись, — говорит Дубинка. — Вот прораб-то наш — тю-тю. Разбирается, значит. Не хочет к этому делу руки прикладывать. К скале-то ихней. Ну и нам нужно свертывать манатки, пока не поздно.
— Бросьте, — почти закричала Наталья. — Что вы завели такое?.. Спели бы лучше.
— Ты, Дубинка, к скале можешь не идти, — глухо произносит бригадир. — Никто тебя не просит. Вон пойдешь к Агафье Силовне в помощники. Похлебку варить!
— Нужен он мне, такой сиволапый, — сразу же вскидывается повариха. — И волынит, и волынит. Что за человек такой! — Она обращается к Солдатенкову. — А насчет похлебки, сынок, не угадал. Завтра суп с бараниной будет, шурпа называется. Очень вкусный. К нему и стопочку принять можно.
Дверь распахнулась, в барак ввалились Борисенко, Родионов и Николай. Борисенко был возбужден и размахивал руками.
— Эй, бригадир, — закричал он с порога Солдатенкову. — Принимай взрывчатку! Насилу притащили. Для тебя старались.
— Что, не приехал Виктор? — вполголоса обратился к Наталье Николай.
— Нет, — шепотом ответила Наталья. — Наверно, и не приедет.
— Не беспокойся. Будет здесь, как миленький. Потап Потапович! — крикнул он завхозу. — Нужно выставить возле взрывчатки караул.
— А як же, — всплеснул руками тот и тотчас же разгладил свои запорожские усы. — Там Симка караулит. Сменить его нужно будет через два часа. Согласно уставу.
— Вы же полком командовали, уставы знаете, — подзадорил кто-то старика.
— Командовал, — приосанился тот, — Горло у меня металлическое. А ну, выходите на инструктаж! — гаркнул он, наливаясь кровью. — Равняйсь! Смирно! Что есть часовой? — спросил он вытянувшихся перед ним землекопов. — Часовой есть лицо неприкосновенное. Кому он подчиняется? Начальнику караула. То есть, мне.
Он испытующе поглядел на стоящего на правом фланге Ваську Сокола.
— Приедет ночью Макаров, подойдет к тебе и скажет: «Давай сюда взрывчатку». Что делать будешь?
— Конечно, отдам, — не задумываясь ответил Сокол. — Он же прораб!
— Дурак ты, — побагровел Борисенко. — Для часового есть только один начальник — начальник караула, то есть я! Приедет сюда сам Калинин, и то ты ему не подчиняешься. Понял, дурья твоя башка?
— Понял, — неуверенно ответил Васька, удивляясь премудростям воинского устава.
— То-то же! А теперь разойдись!
Эта сценка всех развеселила. Народ зашумел, пошел сыпать шутками да прибаутками. И вдруг этот разноголосый шум и крик прорезала чистая, звонкая запевка. Все затихли, озираясь. У стола, подперев рукой голову и закрыв глаза, пел Солдатенков.
Он пел старую, протяжную русскую песню, привезенную с Рязанщины. Казалось, нет ей ни конца ни краю, как нет исхода звучащей печали и грусти:
— Туманы, вы мои, туманушки,
туманы, вы мои разосенние, —
высоко взлетел голос певца. И словно вторя ему, там, за окном, в ночной мгле завыл осенний ветер и бросил в окошко горсть сухих листьев.
А песня лилась дальше:
— Не подняться ли вам, туманушки,
со синя моря долой,
а вам, разудалым казаченькам,
со чиста поля домой…
Ты печаль ли моя, кручинушка,
зла мучительна тоска,
не отстать ли тебе, кручинушка,
от ретива сердца прочь…
Звенит, звенит, натягиваясь, как струна, голос певца, и все с широко открытыми глазами, словно проникая в его душу, следят за песней, за ее чудодейственным полетом.
— Как вечор ночесь мне, добру молодцу,
ночка темна не спалась.
Как вечор ночесь мне, добру молодцу,
много виделось во сне.
Словно в каком-то предчувствии, сжимаются сердца слушателей.
Будто я убит, добрый молодец,
на Бухарской на сторонушке,
близ Индерских гор, у Яикушки.
Что это? Как побледнело сразу лицо Маруси, как насторожилась она, напряглась вся, не сводя глаз со своего бригадира.
— Брось, перестань! — не своим голосом кричит Маруся, подбегая к бригадиру. — Что панихидную завел, чего душу тревожишь? Не хочу я твою песню слушать, не хочу!
Солдатенков мягко и виновато улыбается.
— А песня-то и кончилась. Да что, из песни, сама знаешь, слова не выкинешь. Ефим, — поворачивается он к Дубинке. — У тебя водка есть?
Дубинка внимательно глядит на бригадира. По его лицу пробегают какие-то неясные тени, верно, и его растрогала печальная песня. Он молча достает из-под подушки бутылку, наливает в стакан. Всем видно, как дрожит его рука. И слышно — стакан мелко позванивает.
Солдатенков одним глотком выпивает водку и, подойдя к своей койке, валится на нее.
— Спать хочу, — сонным голосом произносит он. — Сильно спать хочу.
В бараке глухая, неприятная тишина.
Наталья морщит лоб, силясь отогнать тяжелые думы. Набросив на плечи платок, она выходит.
Ей бросается в глаза какая-то возня возле конторы. Там ярко горит свет, раздаются чьи-то громкие голоса.
«Макаров приехал», — догадывается она.
Невольно она делает несколько шагов по направлению к конторе, но потом резко поворачивается и уходит в сторону. Кажется, кто-то окликает ее:
— Наталья!
Это голос Макарова. Но она ускоряет шаги, тоненьким платочком вытирает набежавшие на глаза слезы.
…Уже была поздняя ночь, когда Солдатенков оделся в темноте и вышел во двор. Ночь была темная, прохладная. Кутаясь в пиджачок, он торопливо, оглядываясь по сторонам, зашагал по направлению к усадьбе Дурдыева.
Никто не видел, как ушел он, и никто не знал, когда он возвратился.
НА ГОРЕ СОЛДАТЕНКОВА
Взрыв скалы на девяносто пятом пикете был произведен утром, около восьми часов. Скала была раздроблена и отброшена в сторону, открыв дорогу к руднику.
А ровно в полдень, во время перерыва, землекопы обнаружили тело бригадира Солдатенкова, предательски убитого ножом из-за угла.
Он лежал ничком у отброшенного взрывом валуна, поджав руки, словно в последнее мгновение хотел подгрести к себе землю, за которую отдал жизнь.
…В кабинете начальника заставы стояла тишина.
Сабо долгим напряженным взглядом смотрел на Макарова.
— Когда вы вскрыли этот конверт? — сухо и неприязненно спросил он.
— После возвращения из Ашхабада, — мучительно краснея, ответил Макаров.
— А получили?
— Получил это письмо на вокзале, в день отъезда. Я положил его в сумку, ну и… забыл о нем.
Сабо, всегда спокойный и уравновешенный, грохнул кулаком о стол так, что во дворе залаяла собака.
— Вы мальчишка, Макаров, — почти шепотом заговорил он, тяжело дыша. — Вам нельзя доверять жизнь людей. Неужели вы не понимаете, что идет борьба не на жизнь, а на смерть? И вы не пешка в этой борьбе. Вам поручены люди. Вы отвечаете за их жизнь и благополучие.
Сабо сел и тотчас же снова вскочил, словно не мог найти себе места.
— Вас кто-то решил предупредить, вам прислали письмо, что враги затевают нехорошее дело. Это уже не слухи. Здесь даже названо имя убийцы — Дурдыева. А вы?.. Вы даже не вскрыли этого письма, потому что спешили в Ашхабад. К кому? Зачем?
Макаров молчал.
— Но ведь вчера ночью вы все же прочли это письмо. Почему же вы?..
— Я ходил к нему, — глухо произнес Макаров, не поднимая головы. — Он отказался.
— Кто? — круто остановился начальник заставы.
— Я утром, на рассвете пришел к Солдатенкову, разбудил его и сказал, что от взрыва следует воздержаться. Что это место можно обойти. Я предупредил его об угрозах… о письме то есть…
— И что же?
— Он был какой-то мрачный, возбужденный. «Не мешайте мне спать, прораб, — говорит. — Я сильно наработался за день».
— Почему же вы не пришли ко мне? — снова вскипел Сабо. — Это ваша большая ошибка, Макаров. Непростительная ошибка. Вы хотите жить в одиночку, а это не выйдет. У нас коллектив. Мы все вместе воюем за общее счастье.
— И на черта им нужна эта гора? — мрачно выдавил из себя Макаров. — Чего они хотят от нас, что им нужно?
Сабо внимательно посмотрел на прораба.
— Им нужно, чтобы мы отступили, чтобы мы отказались от богатств, таящихся в этих горах. Они делают все, чтобы помешать нам стать еще богаче и сильней. Неужели непонятно?
Макаров встал.
— Дорога все равно будет построена, — твердо произнес он. — А за свою ошибку я готов нести любую ответственность…
Сабо тяжело вздохнул.
— Человека нет, вот что самое главное.
…Был ясный солнечный день. Горы стояли залитые солнцем, темные, неподвижные, врезываясь своими бесчисленными уступами и зубцами в чистое, голубое небо.
По такиру, направляясь к месту погребения, двигалась процессия. Люди шли к девяносто пятому пикету, где решено было предать земле останки бригадира Сергея Солдатенкова. Гроб его, обитый красной материей, стоит на кузове автомашины, медленно двигающейся по гладкой поверхности такира.
Первыми за гробом шли девушки. Они не плакали, только судорожно вздрагивали их худенькие плечи. За девушками шла бригада, потерявшая своего руководителя и товарища по работе. Вместе с другими, низко опустив голову, шагал Макаров.
Чуть поодаль двигался военный оркестр и взвод пограничников в пешем строю с винтовками на плечо.
Процессия двигалась в глубоком и тягостном молчании.
И только когда приблизилась к месту недавно произведенного взрыва, открывшего дорогу в горы к руднику, оркестр заиграл траурный марш.
Печально загремела медь военного оркестра. Как будто черные птицы поднялись в небо и закрыли его своими широко распахнутыми крыльями.
Все глуше звенит траурная медь, все ниже наклоняются головы людей. Над молчаливой степью, над угрюмыми неподвижными предгорьями и скалами льется скорбная мелодия.
Вы жертвою пали в борьбе роковой…
Да, в борьбе роковой с ненавистными врагами, во имя того светлого и человечного, что несли мы в далекие степи и высокие горы, в глухую тайгу и северные льды….
Процессия останавливается у девяносто пятого пикета.
Над местом взрыва возвышается высокая гора. Там, на вершине, решено похоронить бригадира.
Со стороны поселка Горного движется группа людей. Это геологи. Впереди шагает, наклонив голову, печальный Мирченко.
Толпа все увеличивается, но никто не нарушает царящего вокруг молчания. Давно уже молчит оркестр. Тишина становится все тягостней, все напряженней.
Макаров поднимается на бровку дороги, образовавшейся после взрыва. В руке его зажата выгоревшая на солнце кепка, и ветерок свободно шевелит его черные, падающие на лоб волосы.
Он отбрасывает их резким движением, поднимает руку, требуя тишины.
— Товарищи, — говорит он, и голос его дрожит от волнения. — Сегодня мы хороним Сергея Солдатенкова, рядового бойца первой пятилетки. Здесь нет ни отца его, ни матери, ни кого-либо из родных. Вдалеке от родных мест сложил он свою буйную голову. Но жизнь свою он отдал за нашу советскую землю, за ее счастье. Мы решили похоронить его здесь, на решающем участке строительства. Пусть эта Безымянная гора получит его имя, и пусть в сердцах людей навеки останется его подвиг…
Кто-то громко заплакал. Это Маруся. Плечи ее содрогаются от судорожного рыдания, она не отнимает от глаз платка.
К автомашине подходят землекопы и берут гроб на руки. Они поднимают его на плечи и несут на вершину горы, которая еще вчера называлась Безымянной. Отныне она будет гора Солдатенкова.
В глубоком молчании гроб опускают в могилу. Раздался залп, второй, третий…
Вновь наступает тишина. И вдруг — грохот. Огромный обломок скалы, чудом устоявший в момент взрыва, потерял равновесие и, словно нехотя, рухнул вниз.
Перевернувшись несколько раз, он перекатился через дорогу, никого не задев, и замер на такире. А там, где только что висел этот камень, в образовавшемся проломе между гранитными уступами, мелькнула фигура человека в чалме и быстро исчезла. Человек мелькнул всего лишь на одно короткое мгновение, но все успели заметить его.
— Что же вы, что же вы! Ловите его, ловите!
Это закричала Нина. В тот же миг пограничники бросаются к вершине горы.
Нина опускается на землю. Тело ее содрогается от рыданий. Макаров силится успокоить ее. Она выкрикивает сквозь рыдания:
— Это они убивают людей. Это они. Этот в чалме приходил к Курлатову. Они встречались в вагоне. Сначала они думали, что я вместе с ним уеду за границу. А когда я отказалась, они отпустили меня. Но сказали, чтобы я молчала. Иначе меня ждет смерть.
— Успокойся, Нина, — волнуется Макаров. — Его схватят. Успокойся, пожалуйста.
К Нине подбегает Наталья и Маруся. Они успокаивают ее, пытаются увести.
— Где он? — боязливо озирается она. — Вероятно, и Курлатов где-то близко. Они что-то задумали.
— Успокойся, — гладит ее по голове Наталья. — Разве так можно? Их всех сейчас переловят, ты увидишь…
Толпа постепенна редеет…
В небе парит большой горный орел. Он долго кружит над горами, над степью, опускаясь все ниже и ниже. Когда все отсюда уйдут, он сядет на вершине и, гордо озираясь, будет оглядывать свои владения.
Вася Сокол ушел было со всеми, потом задержался и возвратился к свежей могиле.
Там, бессильно опустив руки, стояла Маруся. Две скорбные складки обозначились у ее губ. По ним стекают горькие женские слезы. Не кричит она, не причитает, стоит неподвижно, словно окаменев.
— Пойдем, Маруся, — просит ее Вася. — Поздно уже. Вечереет. И холодно стало.
Он снимает пиджак, накидывает на плечи Маруси.
— Пойдем, — повторяет Вася. — Его не вернешь. Жалко, но не вернешь. Пойдем.
Маруся тяжело, прерывисто вздыхает и послушно уходит вместе с ним…
ПОВЕРЖЕННАЯ КРЕПОСТЬ
Опытный глаз сразу же отличит текинский ковер от иомутского, а иомутский от кызыл-аякского. И подобно тому, как один ковер отличаемся от другого, так и жилища разных племен отличаются друг от друга. Уж никак не спутаешь усадьбу туркмена-эрсаринца с жилищем туркмена-мукры, хотя живут они в одной и той же приаму-дарьинской местности. И в любом случае можно отличить жилище бедняка от жилища бая.
Высящийся над всеми постройками двухэтажный учек (башня), или, как называют его в других местах, оммар, неопровержимо говорил о том, что Дурдыев принадлежал к баям — богачам эрсаринского племени.
Вся его усадьба была отгорожена от внешнего мира глухой стеной, сложенной из девяти рядов пахсы — набивных блоков из плотного леса. При такой высоте никакой вор не сможет заарканить овцу и вытащить ее наружу. Внутри размещались многочисленные постройки, хранились несметные богатства. Да, Солдатенков был прав, это была крепость. Но это была и тюрьма.
Вот уже третий день Мамед ищет Дурсун. Он уже побывал у ее родителей, живущих в соседнем ауле, но девушки там не оказалось. Он решил возвратиться и искать ее в доме Дурдыева.
Когда он на взмыленном коне прискакал к воротам усадьбы, навстречу ему из внутреннего двора вышла Тоушан.
Брови ее гневно хмурились. В глазах — боль и смятение. Молча посмотрела она на Мамеда. Тот в ответ только пожал плечами.
— Он убил ее, убил! — вдруг зарыдала Тоушан, пряча лицо в платок. — Бедная сестренка…
— Подожди, Тоушан, — остановил ее Мамед. — Нужно искать ее здесь, в усадьбе. Ты говорила с людьми?
— Говорила, — подняла заплаканные глаза Тоушан. — Они рассказывали, что в последнее время он держал ее на привязи, как собаку.
Мамед заскрипел зубами.
— А потом она исчезла. Никто ничего не знает.
— Я буду искать, — направился к воротам юноша. — Кто там, в усадьбе?
— Все его люди разошлись или разбежались. Здесь будет правление нашего колхоза. Иди, Мамед, иди!
Мамед хорошо знал расположение байской усадьбы. Он быстро обежал все жилые помещения, облазил амбары, аммуничники, маслобойку, заглянул в каждый тайник. Дурсун нигде не было.
Во двор начали сходиться колхозники. С удивлением осматривали они дурдыевскую крепость.
Мамед бросил взгляд на башню-учек, возвышавшуюся над всеми постройками. В нижнем этаже он уже побывал. Там так же, как и в других помещениях, предназначенных для жилья, стены были увешаны красиво вышитыми хурджумами, на глиняном полу лежала богатая кошма.
Нет, Дурсун не было и здесь. А что же на втором этаже башни?
На башню обычно поднимались по приставной лестнице, которая опиралась на небольшую площадку, устроенную на выпущенных концах бревен. Сейчас лестницы не было. Где же она?
Мамед метался по двору в поисках лестницы. Люди с удивлением шарахались от него.
Наконец ему удалось обнаружить лестницу в уголке, за сараями. Бегом потащил он ее к башне. Задыхаясь, одним махом взбежал наверх. Не помня ничего, весь во власти страшной тревоги, перешагнул порог верхней постройки.
Сквозь узкое, похожее на бойницу окно в башню струился дневной свет. Мамед вскрикнул. На куче веревок и попон лежала Дурсун. Тело ее прикрыто обрывками одежды, обнаженные груди — в кровоподтеках, на левой щеке, повернутой к Мамеду тоже застыла кровь.
Мамед упал перед ней на колени, прижал к себе. Дурсун тихо застонала. Юноша заметил, что рот ее заткнут тряпкой.
— Дурсун, — шептал он, стараясь приподнять ее. — Это я, Дурсун. Ты слышишь?
Девушка не отвечала. Взяв ее на руки, словно ребенка, Мамед вместе с ней спустился по лестнице вниз. Толпа внизу ахнула и расступилась. С Дурсун на руках Мамед направился в дом.
Туда тотчас же прибежала Тоушан. Она бросилась целовать окровавленные щеки сестры, что-то шепча в беспамятстве.
Дурсун открыла глаза. Она посмотрела на Мамеда, на сестру и слабо улыбнулась.
— Что с ним? — невнятно спросила она.
Мамед понял: она спрашивала о Солдатенкове. Он уже знал историю с запиской и тотчас же все понял. Но что мог он ответить ей?
Мамед стоял, опустив голову, Тоушан хлопотала возле сестры.
— Иди, Мамед, — ласково сказала она. — Не нужно ее волновать. Ты оставь нас. Потом придешь, хорошо?
Мамед послушно удалился…
…Это произошло темной, осенней ночью. В михманхане Дурдыева собрались почетные гости.
Внимание всех было приковано к высокому незнакомому человеку в чалме, который, низко опустив голову, исподлобья поглядывал на своих сотрапезников. После того, как угощение было съедено, он заговорил:
— Вы не смогли помешать пришельцам добывать из гор богатства, не принадлежащие им. Это очень плохо. Теперь они готовятся к взрыву скалы, на которой покоится прах имама Саида. Человек, который взорвет гору, должен быть убит…
— Гору будет взрывать Солдатенков, — вполголоса, не поднимая глаз, произнес Ниязов.
— Кто это? — поднял голову человек в чалме.
В глазах Ниязова блеснули жестокие огни.
— Это тот самый человек, который осмелился защищать от гнева мужа Дурсун и ударил Дурдыева.
— Ударил? — брови человека в чалме высоко поднялись. — Тогда… — Он чуть помедлил, глаза его, строго сузившись, остановились на Дурдыеве. — Тогда это сделаешь ты…
Дурдыев вскочил.
— Я не могу этого сделать. Сразу же все поймут, что это я. Что будет с моим домом? С моими женами, с детьми?
— Ни в чем не сомневайся. Если они отберут у тебя дом, ты потом получишь десять. Ты понял меня, человек?
Дурдыев еще ниже опустил голову.
— Хорошо, я сделаю это.
За дверью раздался звон разбитой тарелки: Дурсун, принесшая гостям большое блюдо сладостей, затаив дыхание, слушала весь этот разговор.
Дурдыев сразу же оказался возле онемевшей женщины. Пламя светильника, падавшее из ниши в стене, осветило его хищное, обезображенное злобой лицо. Впившись костлявыми пальцами в плечо Дурсун, Дурдыев с силой сжал его. Женщина застонала. Из глаз ее хлынули слезы.
— Ты все слышала? — зловещим шепотом спросил Дурдыев.
— Зачем этот плохой человек пришел к нам? — сквозь слезы проговорила она. — Пусть он уйдет отсюда.
— Замолчи! — крикнул Дурдыев.
Больше она ничего не помнила.
Очнулась она в башне, на глиняном полу, истерзанная и избитая.
Приставную лестницу сразу же убрали: Приставляли ее лишь тогда, когда Дурдыев приносил узнице скудную пищу. Дурсун нашла в мусоре огрызок карандаша, написала небольшую записку и бросила ее вниз. Записку подобрал мальчик Джума, сын одного из пастухов.
Прочтя записку, Джума понял, что он должен отдать ее какому-нибудь важному начальнику, и отдал ее начальнику станции.
Начальник оказался трусом. Сначала он решил попросту уничтожить записку. Но затем, передумав, запечатал ее в конверт и на конверте красивым канцелярским почерком вывел: «Начальнику «Дорстроя».
Так записка попала к Макарову.
А Дурдыев поднялся на башню и безжалостно избил Дурсун. Она кричала. Он заткнул ей рот тряпкой. Дурсун снова потеряла сознание.
…Дурсун лежала на узкой кровати, прикрытая розовым шелковым одеялом сестры. На ее побледневшем лице уже появился легкий румянец. В молодости раны заживают быстро!
Мамед принес ей букет полевых гвоздик. Она отрывала лепестки и шутя прикладывала к своим губам.
— Твои губы ярче этих цветов, — шептал Мамед. — Ты слышишь, Дурсун?
Она пожимает плечами и укоризненно смотрит на юношу. Вот выдумывает!
— Скажи, Дурсун, — тихо спрашивает юноша, — ты любила его?
— Кого? — удивляется она, и брови ее поднимаются кверху двумя золотыми змейками.
— Его, Солдатенкова, — глухо произносит Мамед, не поднимая глаз.
Глаза Дурсун темнеют. Ей так жаль этого человека!
— Я видела его только один раз, Мамед. Это был первый человек, который защитил меня, он отвел занесенную на меня руку.
Темный румянец заливает щеки Мамеда. В этих словах он слышит себе упрек.
— А он очень любил тебя, Дурсун.
Девушка поражена.
— Что ты говоришь, Мамед! Он даже не заметил меня, такую маленькую. Это неправда, Мамед!
— Нет, это правда, — твердо произносит юноша. — Он часто бродил здесь, под стенами этой усадьбы, чтобы увидеть тебя. А потом он хотел похитить тебя, спасти…
Дурсун вскрикивает и закрывает лицо руками.
От этого движения край одеяла отворачивается, обнажая ее худые плечи и упругую грудь. Мамед, закусывая губы, отворачивается. Как ему хочется обнять ее, прижать к сердцу, поцеловать эти милые губы и глаза. Почему нельзя этого сделать?
— Да, да, — успокоившись, продолжает юноша. — Он пришел сюда ночью, я дал ему план усадьбы. Он уже было проник коридором во двор, но на него напали собаки.
— Я слышала этот крик и лай, — вскакивает Дурсун.
Одеяло совсем сползает с нее, и она стыдливо натягивает его на плечи.
— Вот видишь, он был хороший человек.
Они умолкают. Мамед неторопливо вынимает из кармана лиловую шелковую ленту и кладет ее на ладонь Дурсун. Та долго глядит на ленточку, словно силясь что-то вспомнить, и вдруг лицо ее озаряет счастливая улыбка.
— Ты помнишь, Дурсун? — тихо спрашивает юноша.
— Помню, — так же тихо отвечает она. — Это было в тот день, когда…
Что-то мешает ей говорить, она отворачивается.
— Почему ты, Мамед, не захотел спасти меня?
В голосе ее печаль и упрек. Мамед не в силах сдержать себя, он падает перед ней на колени, целует ее руки. Дурсун тихо гладит его волосы, на глазах ее появляются светлые, счастливые слезы.
— Встань, Мамед, — шепчет она, — сюда кто-то идет.
Это Тоушан. Она весела и возбуждена. Щеки ее раскраснелись. Она двигается быстро, решительно, говорит громко и властно.
Да, в колхоз пришел настоящий хозяин!
— Уходи отсюда, — подталкивает она Мамеда, — совсем замучил сестру! Я теперь к ней тебя по пропускам впускать буду. Понятно?
— Зачем пропуска? — возражает Дурсун. — Я завтра встану. На работу пойду.
Тоушан обнимает сестру.
— Успеешь. Надо выздороветь сначала.
У Тоушан в руках сверток. Она не спеша разворачивает его. Это ковер Дурсун, на котором портрет Ильича и слова: «Долой калым!»
— Уцелел, — радостно вскрикивает Дурсун.
Немигающим, счастливым взглядом смотрит она на изображение Ленина.
— Это он пришел и освободил меня, — тихо шепчет Дурсун.
— Мы повесим этот ковер в правлений нашего колхоза, — говорит Тоушан. — Пусть Ленин всегда будет с нами!
На дворе солнце ослепляет Мамеда. Светит и греет, будто в мае.
А на дворе уже декабрь. Да разве в такой день может быть другое солнце? Никогда!
Навстречу Мамеду бодрой, торопливой походкой шагает Нарзабай. Это тот старик-чабан, который предупреждал Мамеда о появлении таинственного чалмоносца. Теперь он башлык, председатель сельсовета.
Ниязова куда-то срочно отозвали. Ну что ж, пусть погуляет до поры до времени.
— Гургун, ми ата! Привет, отец! — кричит Мамед, протягивая Нарзабаю широкую ладонь.
— Привет, привет, — отвечает старик. Глаза его смеются.
— Кейф ми кек ме? Как здоровье? — спрашивает Мамед, соблюдая все правила вежливости.
— Лучше всех, — поднимает Нарзабай большой палец.
Они стоят посреди двора, облитые щедрым солнцем. Вокруг хлопочет народ. Откуда-то все время доносится мелодичный праздничный звон.
— Что это? — спрашивает Мамед.
— Разве не знаешь? — хитро щурится старый чабан. — Народ возвращается. Верблюжьи колокольчики звенят. И оттуда, с той стороны, — он машет по направлению к границе, — и из других мест. Нельзя жить без родины, Мамед.
Юноша поднимает голову. Он видит, что на крыше башни хлопочет Джума. В руках у него что-то красное. Мальчик поднимает над поверженной крепостью алый стяг…
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НИНЫ
Проходили дни и ночи, а люди все еще оставались под впечатлением трагической гибели бригадира. Собираясь вместе в бараке, они все поговаривали о скором отъезде.
Добродушный Борисенко выбивался из сил, стараясь по вечерам развеселить людей, рассеять неприятные, тяжелые думы.
Вот и сейчас сидит он за столом, лихо разглаживая свои пушистые усы и окидывая взглядом притихших товарищей. Что бы им еще рассказать такое, чтобы хоть немного расшевелились!
— Потап Потапович, — словно угадывая его мысли, обращается к нему Симка. — Расскажите нам, как вы женились.
Это любимая тема Серафима: кто и как женился. Истории на эту тему он готов слушать хоть до рассвета.
— А що ж, и расскажу, — охотно отозвался Борисенко, усаживаясь поудобнее. — Ось слухайте!
Все повернулись к кладовщику и заранее заулыбались.
— А было это дело так, — начал он, польщенный всеобщим вниманием. — Было мне тогда, чтоб не соврать, лет этак двадцать пять. И должен вам сказать по секрету — страшно мне не хотелось жениться, потому что насмотрелся я на эти супружеские пары и убедился, что вся эта женитьба сплошное притеснение для нас, мужиков. Тут уже прощай, свобода!
Борисенко, небрежно коснувшись своих роскошных усов, окинул взглядом внимательную аудиторию.
— А гуляка я был, ребятки, самый что ни на есть вопиющий. И насчет винца, как говорится, и насчет бабца.
Рассказчик спохватился, закашлялся, прикрывая рот, покосился на девушек. Маруся смотрела прямо на него. Подружки Дуся и Люся прыскали в ладошки. Склонившись над шитьем, быстро перебирала руками молчаливая Нина.
— Ну, в общем, товарищи, — продолжал Борисенко, — ужасно мне не хотелось со своей вольной жизнью расставаться. С утра, бывало, для затравки чарочку перекинешь, а там вторую у соседа, третью у соседки. В общем, не жизнь, а малина. Но тут случилось, ребятки, несчастье. Тяжело заболела и преставилась, царство ей небесное, — кладовщик даже сделал робкую попытку перекреститься, — матушка моя Матрена Карповна. А батько на меня сразу и навалился: «Женись, говорит, сукин сын, сколько, говорит, можно тебе, дурья голова, в холостяках годить? Нам, говорит, хозяйка в дом нужна». Оно, конечно, дело житейское — и харчи сварить, и хату в порядке держать кому-то нужно. А тут тебе еще и огород, и порося — какое ни есть, а харчей требует. Для всей этой штуки баба вот как нужна! Ну что ж, жениться так жениться! Ну, вот, — посмеиваясь, продолжал Потап Потапович, — стал я к нашим сельским девчатам приглядываться да присматриваться: как бы найти себе самую, что ни на есть, смирненькую та тихонькую? И что ж вы думаете?. Нашел! И оказалась этой дивчиной наша соседская Варка. Малюсенькая, вот такая, — чуть поднял над столом руку Потап Потапович. — Тихонькая, тихонькая, ни одного лишнего слова за весь вечер не скажет. А сама вроде так с лица и насчет всего прочего вполне натуральная бабенка. Ну, стал я ей оказывать внимание. То, значит, на полечку приглашу, а то горсть семечек ей в подол всыплю на досвитках, а то как-то в поле на таратайке подвез, — в общем стал за нею, как говорится, ухаживать. А Варка на меня во все глаза смотрит. А глаза у нее большущие, как у коровы. Смотрит, словно спрашивает: а чи не шуткуешь со мною, хлопець? А потом, видно, убедилась, что не шуткую, и дело стало продвигаться вперед к самой, что ни на есть, роковой развязке. Правда, перед свадьбой решил я своей Варке устроить проверку, экзамен, так сказать.
Борисенко глянул на Симку, слушавшего его рассказ с раскрытым ртом, и усмехнулся.
— А проверка была такая. После обычной попойки с товарищами, еле, как говорится, держась на ногах, забрел я будто по ошибке прямо к ней в хату. Ну, думаю, что же ты теперь запоешь, красавица? Эх, если б вы видели, граждане, как забегала, засуетилась моя Варка! И кваску мне свеженького из погреба, и рассолу огуречного, и какой-то мокрой тряпкой голову мне обмотала — ну, в общем, настоящее райское обхождение, а может, еще и лучшее. А потом уж, как я чуток в себя пришел, и рюмочку мне поднесла вишневой наливочки собственного изготовления. Ангел, а не баба! Куда ж тут дальше деваться? Женился я на ней в один прекрасный день, как пишут в романах.
Потап Потапович вздохнул и низко опустил голову. Симка переглянулся с Дусей, та скромно потупила свои озорные васильковые очи.
— Женился я на ней, братцы, и стала она ко мне в хату барахло свое перетаскивать. Правда, никаких там особенных фамильных ценностей, гарнитуров и сервизов не было, но обратил я внимание на множество глиняных горшков и махоток, которые она привезла ко мне просто на телеге. «Что за черт, думаю, зачем ей столько горшков?» Но раздумывать мне долго некогда было. Подвернулась мне в тот день веселая компания, и загулял я, бедолашный, аж до первых петухов. Иду домой, пошатываюсь и песенку, конечно, напеваю. Открываю, значит, дверь и являюсь на ясные очи своей благоверной. Только я затянул было свою любимую «Звенит звонок насчет поверки…» — как что-то страшное обрушилось на мою голову. Я думал, голова моя раскололась на мелкие части. А это Варка, чертовка, у меня на голове здоровенный кувшин разбила!
Даже Маруся не могла удержаться от смеха, глядя на трагическое лицо Борисенко, как бы заново переживавшего это печальное происшествие. Что касается всех остальных, то они хохотали неудержимо. Вот, мол, попал ты, Потап Потапович, в переплет! Здорово околпачила тебя тихонькая Варка!
— Тут и пошло, — скорбным голосом продолжал Борисенко. — Только я домой под мухой, — она сразу горшком по голове. А это, скажу вам, такая штука, как грохнет, все мозги перетряхивает, и куда только хмель девается! Что ж, думаю, делать? Думал, думал и придумал. Валялась у нас во дворе бывшая германская каска. Отбили у нее этот острый штырь и служила она когда-то бабушке-покойнице за ночную посуду, а потом поставили ее во дворе, как корытце для гусей. Вот и додумался. Перед тем, как войти в хату, беру эту каску и на голову. Варка горшком — трах, а мне ничего, как с гуся вода. Вот так и жили. И самое главное, Варка-то моя и не прочь, чтобы я выпил рюмочку-другую, но только дома. Тогда уж она мне и малосольных огурчиков поднесет, и редьки натрет на закуску — пей, ешь да облизывайся! Одна беда — дома мне эта самая чарка, как кость в горле, застревает, не принимает ее душа и все тут, вроде какое лекарство пьешь, а не оковиту.
Борисенко тяжко вздохнул.
— Так прошел год, и второй, и десять лет прошло. И не то, что я этих горшков проклятых пугался, — нет, ну разобьет на голове, шума много, а вреда никакого. А только надоело мне это. И вот когда года три тому назад работали у нас изыскатели, подружился я с ихним начальником. Сманил он меня на постройку дороги Валки — Ковяги, а потом я во вкус вошел и решил сюда, в отдаленные места, поехать. А здесь познакомился с Федоровым. А дальше все вам известно…
— Эх, чудак вы, Потап Потапович, — покачал головой Симка. — Она ведь для вашей же пользы старалась, а вы ее бросили!
— Я не бросил, — встрепенулся Борисенко. — Ты что, сдурел? Деньги, посылки посылаю. А как же? А вот потянуло, понимаешь, на вольную жизнь…
Народ посмеялся немного, обсуждая рассказанную историю, и начал укладываться спать.
В это время в барак кто-то заглянул. Стоявший у дверей землекоп выбросил цигарку и крикнул в глубь барака:
— Нина! Белова! Тебя зовут!
— Нина, к выходу! Жених приехал, — закричали рабочие.
Девушка вздрогнула, отложила шитье и, удивленно подняв брови, пошла к выходу. У дверей ее ждал какой-то человек, который тотчас же протянул ей маленькую записку. Она хотела было взять, но тот торопливо спрятал руки за спину.
— Отойдем немного в сторону, там и прочитаешь, — вполголоса произнес он, отходя от дверей.
— Куркин? — узнала наконец Нина незнакомца. — Ты с чем это пожаловал?
— Пойдем, пойдем, — отозвался тот. — Там все расскажу.
Они не спеша пошли по направлению к станции.
В этот вечер Нина в барак не вернулась.
…Это была дикая, ни на что не похожая ночь. Нина брела по узкой, покрытой галькой тропе, спотыкаясь и теряя сознание.
— Скоро будешь дома, — посмеиваясь, бормотал ее спутник. — Скоро чайку попьешь!
Они брели какими-то дикими ущельями, подымаясь на скалы, похожие на старые развалины, опускались к берегам холодных источников, переходили их вброд и снова поднимались в горы, а иногда падали в глубокие воронки и ямы.
С ног Нины давно спали ее домашние шлепанцы, и она шла босая, ступая окровавленными ногами по острым камням. Ей хотелось плакать, рыдать во весь голос, но она молчала, стиснув зубы. Ею овладело какое-то холодное равнодушие. Как будто долго, долго боролась, а теперь наступила полная апатия, и ей было все равно, что произойдет дальше.
И она снова шагала вперед, хваталась руками за острые выступы скал, падала и вновь поднималась, как будто в этом было ее спасение.
Она давно уже потеряла всякую ориентацию и счет времени, ей казалось, что вот уже много-много часов, как они бредут вдвоем по этой страшной дороге.
— Ты бы лучше убил меня, что ли, — взмолилась она, оборачиваясь к своему спутнику.
— Не велено, — серьезно ответил тот. — Шагай, шагай, девонька…
Но она уже не могла идти. Тогда он взвалил ее себе на плечи и поволок дальше по каменистой тропе.
Нина потеряла сознание. Когда она пришла в себя, то прежде всего услышала голос Курлатова. Он кого-то отчитывал, кажется, ее спутника.
— Пошли дурака богу молиться? — злился Курлатов. — Что же ты ее волок босую? Ноги себе совсем изранила.
— А я с собой, товарищ начальник, лаковых туфелек не прихватил, — дерзко ответил тот. — В следующий раз не забуду. Только надоела мне эта волынка. Еще с бабами возись.
— Ладно, ладно, — примирительно пробормотал Курлатов. — Хорошо, что притащил ее. Совсем было голову потеряла.
Наступила тишина. Нина никак не могла определить, где она находится — в комнате или в погребе. Откуда-то доносился запах сырости и прелых листьев. Голоса разговаривающих раздавались гулко, как это бывает, когда говорят в пустом помещении.
— Вот что, ребята, — снова заговорил Курлатов. — Все хорошо, что хорошо кончается. Нам пора уходить. Есть полная договоренность. Нас на той стороне ждут проводники с лошадьми.
— Так и уйдем с пустыми руками? Ничего не сделав? — раздался чей-то глухой голос.
— Нет, — живо откликнулся Курлатов. — Уходя, мы, как говорится, хлопнем дверью. Да так, чтобы она слетела с петель. Как там у них плавильный цех?
— Готов, — тяжело дыша, ответил Куркин. — А что вы с ним сделаете? Соли на трубу насыплете?
— Потом узнаешь, — равнодушно ответил Курлатов. — Это, во-первых. Во-вторых, мы возьмем с собой оперативный подсчет руды и другие секретные документы.
— Так они вам их и дали, — язвительно откликнулся Куркин. — Поднесут на серебряном блюде.
— Нужно взять, — резко произнес Курлатов. — У нас есть оружие.
— У них тоже есть. Набьют морду так, что будь здоров, с пластырями ходить будешь.
— Довольно, Куркин. Еще не поздно, и вы можете остаться. Вы же у них на хорошем счету.
Опять в помещении стало тихо. Рядом, за спиной Нины, гулко и звонко падали капли. Нина для чего-то стала их считать… пятнадцать, шестнадцать… двадцать два…
— А что с деньгами? — раздался примирительно зазвучавший голос Куркина. — Нам ведь нужны деньги.
— Будут и деньги. Сейчас явится Мирский, он…
— А! — крикнул обрадованный Курлатов. — Легок на помине.
— Наше вам, — раздался голос только что вошедшего человека. — Устал дьявольски. Я устал и хочу есть.
Нина не верила своим ушам. Это был голос Дубинки. Почему же Курлатов назвал его Мирским?
— Ну и дорожка, — продолжал Дубинка. — И с чего это вы вздумали прятаться в пещере? Тоже мне граф Монте-Кристо!
Курлатов сдержанно рассмеялся.
— Здесь нас сам черт не найдет. Взрывчатка есть?
— Есть, — неохотно ответил Мирский. — Припрятал малость. Хорошо, что они меня в караул назначили. «Что есть часовой? Часовой есть лицо неприкосновенное!» Дурак этот Борисенко.
Нина, чуть приподняв веко, взглянула на говорившего. Конечно, это был Дубинка. Какой негодяй! Ел с ними из одного котла, спал под одной крышей!
«Боже мой, — лихорадочно думала она, — как бы мне отсюда выбраться, как бы сообщить обо всем этом?» Но ведь она не знает ничего, она не знает, где находится, и если бы даже отпустили ее, она ни за что не нашла бы дороги в поселок. А если бы и нашла, то разве смогла бы сделать хоть несколько шагов этими ногами, превратившимися в сплошные раны?
— Ты бы потише объяснялся, — услышала она голос Дубинки. — Твоя-то вон лежит. Может, все слышит.
— Пускай слушает, — отозвался Курлатов. — Никуда она отсюда не уйдет. Ноги у нее изуродованы, и дороги она не знает. Я беру ее с собой за границу.
— Любовь? — насмешливо спросил Дубинка.
— Может, и любовь, — сухо ответил Курлатов.
Словно стараясь в чем-то оправдаться перед слушавшими его людьми, он негромко заговорил:
— А то, что она этого старого верблюда выдала, это даже лучше. Все карты путал своими выдумками, аллахами да мономахами. Золото у правоверных собирал для какого-то сукина сына, представителя мусульманской лиги. Тоже мне, нашел себе бога на земле, старый пес.
— Да, — согласился Дубинка. — Золотишко это нам пригодится. Выходит, девка сработала правильно.
— Полегче, милостивый государь, — сухо и неприязненно бросил Курлатов.
— Извините, — демонстративно расшаркался Дубинка. — Миль пардон!
— Будем кончать, — резко произнес Курлатов. — Вы берете на себя плавильный цех и… — он что-то быстро зашептал на ухо своему собеседнику.
— Нет, это невозможно, — послышался отчетливый ответ Дубинки.
— Что, благородство?
— Я с этими людьми жил и работал, командир!
— Значит, среда влияет.
— А вы что же, может, и этот закон ниспровергаете? Валяйте за один раз и все учение Карла Маркса.
Курлатов немного помолчал, словно собираясь с мыслями.
— Знаете что, Мирский, — снова заговорил он. — Мне с вами ругаться и ссориться невыгодно. Поэтому прекратим этот разговор. Мы все это сделаем без вас. А что касается Маркса…
Он чиркнул спичкой и, видимо, затянулся дымом.
— Что касается Маркса, то чем больше мы будем нападать на божество правоверных коммунистов, тем больше они будут задумываться над тем, а божество ли это в самом деле?
— Надежда юношей питает, — насмешливо протянул Мирский. — Знаете что, надоело мне все это до печенок. Давайте скорей уходить. Прав все-таки Буженинов, что отошел в сторону. Знаете, Макаров ему доверил получение большой суммы денег. Так он потребовал и добился охраны.
— Убить его за это мало, — злобно протянул Курлатов. — Нам же очень нужны деньги для обмена. Придется нанести ему прощальный визит.
«Шайка негодяев», — думала Нина, свернувшись комочком на своем неудобном ложе.
Нина услышала движение, шарканье ног. Огонек светильника заколебался, отбрасывая на стены угловатые тени. Она лежала неподвижно, не открывая глаз. Потом все смолкло. Помещение, в котором она находилась, опустело. Но ей все время казалось, будто кто-то над нею стоит. И действительно, чья-то рука осторожно коснулась ее плеча.
— Нина, — услышала она голос Курлатова. — Так нужно, ты понимаешь, так нужно…
Он приложил руку к ее лбу и торопливо вышел.
Нина осторожно открыла глаза. Да, это была пещера. В конце ее, где она сейчас находилась, никого не было. Соблюдая величайшую осторожность, Нина опустила на пол одну ногу, затем другую. Закусив губы, поднялась.
Только страшным усилием воли ей удалось сдержать крик. Она упала на ложе, вся обливаясь холодным потом.
Где-то неподалеку, в развалинах, резко прокричал сыч.
БАЛ-МАСКАРАД
Мирченко стоял возле входа в плавильный цех, весь измазанный и пропитанный насквозь запахом горящей серы.
— Чертей видел? — сразу же огорошил он подошедшего Макарова. — Идем, покажу.
Макаров шутливо перекрестился, и Мирченко повел его и Наталью в цех.
Запах горящей серы сразу же ударил в ноздри. В носу защекотало, словно от доброй понюшки нюхательного табака. Едкий синеватый дымок подымался над котлами. Котлов было два. В них, вспыхивая синеватым пламенем, кипела сера.
Жара в цехе стояла невыносимая. Макаров подумал, что, пожалуй, не выдержал бы здесь и двух часов. А ведь плавка серы длилась от шести до восьми часов.
Мирченко начал было что-то объяснять, но, увидев, что Наталья, покраснев, силится удержаться от чиханья, рассмеялся и вывел друзей из цеха.
— Так вы здесь думаете устраивать бал? — насмешливо спросила Наталья, выйдя на свежий воздух.
— Разумеется. Серу разольем, помещение проветрим. Я, Наталья Ивановна, даже одеколончиком здесь побрызгаю.
— А может, лучше в конторе? — заметил Макаров.
Но геолог снова решительно замахал руками.
— Что вы! Это ведь наш первенец. Вон механик даже гудок смастерил уже, гудеть будет серный завод, понимаете?
— Ладно, договорились, — согласился Макаров.
Наталья мечтательно улыбнулась. Мирченко прищурясь смотрел на нее…
…На устройстве закругления у колодца Узун-Хайрачек работала интернациональная бригада.
Николай стоял у гониометра, намечая поворот.
— Какой радиус получается? — выйдя из эмки, спросил Макаров.
— Шестьдесят, — не отрываясь от инструмента, ответил Николай. — Как, сойдет?
— Ничего, допустимо, — кивнул Макаров, снимая стеганку. — Ну-ка за дело, товарищи, время не ждет.
Он установил теодолит и приступил к разбивке закругления. Вскоре на поверхности откоса появились колышки, обозначившие кривую.
Курбандурды, высокий, смуглый юноша в сбитой набок папахе, посверкивая черными глазами, обратился к своей бригаде:
— Начали, товарищи!
Землекопам предстояла немалая работа. Нужно было снять слой каменистого грунта до проектной отметки. Грунт был плотный, работать приходилось мотыгами и ломами.
Макаров, произведя разбивку, уложил теодолит в ящик и тоже взялся за мотыгу. Его примеру последовал и Николай.
Макаров долбил грунт, стараясь откалывать куски побольше. Рядом он заметил Дубинку, старательно работавшего ломом.
— Молодец, Дубинка!!! — не удержавшись, ударил он его по мокрой спине. — Я думал, ты того… Волынку ты не раз крепкую поднимал. А вот остался, не удрал с другими. Значит, молодец!
— Ну уж, молодец! — смутился Дубинка. Он посмотрел на Макарова и заметил кровь на его ладонях.
— Вот оно как с непривычки, — участливо произнес он. — Платком обвяжите руки, что ли.
Он отвернулся и снова принялся за работу.
— Сегодня гулять будем, — весело бросил Макаров. — Готовь, Дубинка, маскарадный костюм. Да, тебя звать-то как? Все Дубинка да Дубинка!
— Звать Ефим Ефимычем, — не спеша отозвался землекоп. — А где же этот бал-маскарад будет?
— В новом плавильном цехе, — с гордостью сообщил Макаров. — Хоть и неудобно, но зато, знаешь, знаменательно!
Макаров не обратил внимания на то, как дрогнуло вдруг плечо землекопа.
— В цехе? — переспросил он. — Это для чего же?
— Мирченко настоял, — рассмеялся Макаров. — Блеснуть хочет. Новогодний вечер в стенах нового предприятия!
— Блажь-то какая, — пожал плечами Дубинка.
Все услышали новость и повеселели. Праздник праздником, а вот то, что появилось новое предприятие, — это большое дело.
Многие полюбили работу, привыкли к этому краю и не прочь были остаться здесь. И вот, пожалуйста, — начало работать первое предприятие. А там второе, дело здесь развернется, это уж несомненно.
Подкатила машина, которая привозила из поселка конторских работников. В машине сидели Борисенко, Агафья Силовна и болевший в последние дни худой, бледный Симка.
— А ну, как вы тут без нас работаете? — закричал Борисенко, подходя к рабочим. И удовлетворенно погладил усы: — Подходяще! А ну-ка, Агафья Силовна, готовь хлопцам борщ, да погуще.
Прибывшие включились в работу, дело пошло веселей. Уже ясно обрисовывалось закругление, дорога расчищена на всю проектную ширину.
Неожиданно подъехал на полуторке Сатилов. Он был гладко выбрит, даже, кажется, надушен. Выйдя на полотно дороги, он потоптался, как бы испытывая его крепость, и удовлетворенно покачал головой.
— Хотя и не дорога, а проезд, но ездить можно. Процентовку подпишу!
— Порядок! — откликнулся Макаров. — Давай, ребята, на машину.
Полуторка мчится по направлению к руднику. Уже хорошо видно здание плавильного цеха с его трубами и пристройками. Возле здания стоит толпа.
Когда машина подъезжает ближе, становится видна красная ленточка, висящая над дорогой. Впереди всех стоит раскрасневшаяся, веселая Наталья.
«Молодец Наталка, — думает Макаров. — И ленточку смастерила. Совсем по-настоящему!»
Сатилов выходит на дорогу, для чего-то снимает шляпу. Он, кажется, не на шутку смущен всем этим церемониалом.
Неумело перерезая ленту, оглядывает стоящих вокруг людей, а затем внезапно привлекает к себе Наталью и крепко целует ее в губы.
— В твоем лице всех целую, — смущенно произносит он.
— Губа не дура, — потирает затылок Вася Сокол. — Меня, небось, не выбрал для этой штуки.
— Это не штука, а дружеский поцелуй, — отрезает Наталья, стараясь не глядеть на Макарова.
Все смеются.
— Ну вот, — Сатилов подходит к Макарову. — Дорогу закончили. Цех работает. Правда, хорошо?
— Очень хорошо, — отвечает Макаров каким-то сдавленным голосом. Неожиданное волнение вдруг охватило его, на глазах даже слезы выступили.
…Вечер. На небе заблестели звезды, рассыпавшись, словно золотой песок. Вокруг темно. Только окна плавильного цеха ярко освещены. Три лампы «Чудо» озаряют празднично убранное помещение.
Уже провозглашены тосты и за товарища Калинина, и за товарища Сталина, и за здоровье всех присутствующих, и отдельно за здоровье Сатилова, Мирченко, Макарова.
Много было тостов! Все веселы, все довольны. Молодежь затевает танцы. Охотников потанцевать много. Все шумят, поют. Только Маруся сидит в сторонке, и грусть не сходит с ее лица.
Возле нее Вася Сокол. Он и винца наливает ей в рюмочку, и закуску кладет на тарелочку. Но Маруся безучастна ко всему этому.
А вот и другая пара. Это Дурсун и Мамед. Они забились в угол и сидят неподвижно с начала вечера. Мамед что-то говорит и говорит ей. А что, не слышно.
Макаров навеселе. Он всех обнимает и целует. Всех, кроме Натальи. Но вот подходит и к ней, берет за руку.
— Пойдем потанцуем, Наталочка.
И они танцуют вальс, падеспань, польку, краковяк. Макаров кружит ее, прижимая к себе. Щека его касается ее щеки. Он не выдерживает и незаметно целует ее.
— Ой Витька, — шепчет она, отстраняясь.
И это «Витька» звучит для него сейчас приятней самой прекрасной музыки в мире.
В помещение цеха входят озабоченные чем-то Родионов и Назаров.
Назаров уже успел приложиться, у него стеклянный, как у мертвого судака, взгляд. Оба они направляются к Борисенко.
Однако Родионов опережает друга и первым подходит к кладовщику.
— Слушай, Потап, — озабоченно говорит он. — Иди встречай гостью. Жена к тебе приехала.
— Варка? — опрокинув стакан, вскакивает моментально отрезвевший Борисенко. — Невже Варка?
— Варка, Варка, — торопит его Родионов. — Иди, говорю, встречай.
Борисенко стоит неподвижно, как статуя, и не знает, что делать. Он не верит своим ушам. Неужели Варка приехала сюда, в эту даль?
Но дверь открывается, и в помещение бочком входит невысокая женщина в белом платочке, с кошелкой в руках.
Все смолкают.
Борисенко, не спуская с вошедшей глаз, медленно идет к проходу. Он смотрит не столько на Варку, сколько на то, что у нее в руках: а вдруг она и сюда захватила пару чугунков! Но на лице его такая блаженная улыбка, что каждый понимает: явись Варка хоть и с целым возом горшков и махоток, — ей обеспечен царский прием.
Борисенко подходит к приехавшей и вдруг яростно плюет на пол. Громовой хохот потрясает зал. Мнимая Варка снимает платочек, стирает нехитрый грим и оказывается смущенной Люсей.
— Та я сразу побачив, — оправдывается Борисенко. — У моей Варки бюст — во, а это что, одно недоразумение!
Люся делает вид, что ничего не слышит. Гремит музыка. Кружатся пары. Звенит песня, звенят бокалы с вином.
А за окном поднялся ветер. Стало холодней. Закружилась мелкая крупа. Она вьется вокруг здания, мелькая в окнах, суматошливо, празднично и как-то тревожно…
НАЛЕТ
Синеватый, прозрачный свет луны освещал узкую, каменистую тропу, по которой, спотыкаясь и падая, пробиралась босая женщина.
Это была Нина. Ей удалось незаметно ускользнуть из пещеры и, хотя она не знала, где находится и куда идет, ее не оставляла мысль, что она должна двигаться, пробираться вперед, чтобы встретить кого-нибудь и предупредить об угрожающей ее друзьям опасности.
Идти невероятно больно. Боль как бы пронизала все ее существо. Нине казалось, что она никогда и не знала другого состояния, что уже целую вечность, ступая окровавленными, онемевшими ногами, она идет и идет, падая и вновь подымаясь, временами теряя сознание.
Идет, потому что нельзя не идти, потому что в этом видит сейчас смысл всей своей жизни.
Она твердо знает, что нужно идти на юг, потому что горы находятся на севере, а на юге, — железная дорога, Аму-Дарья, пограничные посты.
Подняв заплаканное лицо к небу, она долго искала Большую Медведицу и Полярную звезду, известные ей еще с детства, и старалась идти в противоположном от звезды направлении, то есть на юг. Но горные тропы извивались, как змеи, и она тут же теряла направление.
Ей казалось, что все это происходит во сне, что она попала в какое-то сказочное царство, а может быть, на другую планету. И она брела среди мертвого пейзажа, протягивая вперед руки, как слепая.
За эти часы она передумала обо всем. Ей вспоминались картинки далекого детства, когда она возилась с куклами и прыгала на одной ножке. Какое тогда было безоблачное небо и ослепительное солнце! Лишь изредка набегали легкие тучки — это когда напроказничаешь и мама поставит в угол.
Но вот она, уходя из дому, долго прихорашивается перед зеркалом. «Ты красивая», — с легкой завистью говорят ей подруги, и она, глядя на свое отражение в зеркале, после недолгого раздумья соглашается: «Да, я красивая, но что я могу поделать?» И юноши оглядываются на нее, и взрослые женщины внимательно осматривают ее с ног до головы.
Но вот в доме начались неприятности. Это уже были не легкие тучки, а темные грозовые тучи. Уходит отец, порвавший с семьей. Нина с матерью остаются вдвоем. Через некоторое время умирает от тифа мать.
Нину забирает к себе дальняя родственница, тетя Алена, жившая в Ашхабаде.
Здесь Нина познакомилась с Курлатовым.
Кто же ты, Курлатов? В сотый, в тысячный раз задавала она этот вопрос, представляя сурово нахмуренное, вечно настороженное лицо этого человека. Она вспоминала о его словах, полных горечи и пренебрежения ко всему новому, что властно входило в жизнь.
Как-то одна из подруг спросила у нее:
— Скажи, он не из «бывших»?
Нина рассмеялась. Ее рассмешило это слово: какой же он «бывший», если он существует?
И вот его странное и неожиданное приглашение.
— Собирайся в дорогу, — сказал он, придя как-то поздно вечером. — Поедем в Термез. Там будем жить у моих родителей.
Она согласилась, поехала. И вот, когда они выехали из Кагана, он сказал ей правду:
— Мы перейдем границу. Будем жить в Афгании. Там у меня много друзей. А здесь нет жизни. Ты увидишь, там у нас будет все, даже свой автомобиль…
Ей хотелось закричать, когда она услышала эти ужасные слова.
Проведя бессонную ночь в вагоне, она вышла на какой-то глухой, пустынной станции.
Курлатов вышел вслед за ней.
— Ты пожалеешь об этом, — сказал он. — Я буду здесь неподалеку. Ты никуда не уйдешь от меня!
Многое поняла она в день смерти Солдатенкова. А вот там, в пещере, она, наконец, узнала всю страшную правду о Курлатове.
Одна мысль терзала ее: несчастье угрожает этим славным, хорошим людям, приютившим ее, людям, которые помогли ей взглянуть на мир другими глазами, открыли ей новые, чистые дали.
В ночь, когда она вместе с другими рабочими разбирала завал, Нина сорвала себе ногти, но познала самое ценное, что уготовано человеку: жизнь бывает радостью только тогда, когда живешь не для себя, а для всех. Как она была счастлива в ту трудную ночь!
И вот Нина идет. «Нужно идти, нужно идти», — повторяет она самой себе.
На рассвете Нина заметила протекавшую внизу, у подножья скал, речку. Она сошла к берегу и опустила ноги в воду. На минуту она почувствовала некоторое облегчение. Но вода была очень холодная, и вскоре боль стала еще сильнее.
Нина встала и снова пошла по течению реки. Но сил уже не было. Сделав всего несколько шагов, она упала.
А на закате следующего дня ее обнаружил пограничный дозор, проезжавший в районе переправы. Пограничники доставили ее на заставу.
Сабо долго, с молчаливым состраданием разглядывал Нину. Одежда на ней была изорвана, сквозь лохмотья проглядывало исцарапанное тело в синяках и кровоподтеках. То и дело теряя сознание, она рассказала начальнику заставы обо всем, что ей пришлось пережить.
Сабо немедленно вызвал врача.
— Окажите ей немедленную помощь, Иван Петрович, — приказал он, — и отправьте в Керки, в больницу.
— Она очень плоха, — произнес врач шепотом.
А на заставе уже играли тревогу.
Вечерело. У реки клубился туман, окутывая кустарники и камыши. Солнце зашло за горы. Где-то вдалеке, в развалинах, тоскливо кричали совы. Вскоре из наползших сизых туч посыпалась мелкая снежная крупа…
…А бал был в разгаре. Люди веселились. Даже Дурсун, сидевшая долгое время неподвижно, вдруг запела какую-то песню на своем языке.
Все затихли, прислушиваясь к незнакомой мелодии, к однообразному аккомпанементу. Это Мамед играл на дутаре, не сводя глаз с певицы.
Ветер ветки ивы гнет,
Лепестки у розы мнет.
Разболелась голова,
Горек думы тяжкий гнет.
Непонятные слова, но всем понятна боль и тоска, звучащие в голосе Дурсун.
— Зачем плохую песню поешь? — отбрасывает дутару Мамед. — Веселые песни петь нужно.
Песня умолкает. Воспользовавшись наступившей тишиной, Дубинка говорит:
— А не пора ли, братцы, расходиться? Второй час!
Но тотчас грянул могучий хор под руководством Борисенко:
— Гей, наливайте повнії чари,
Щоб через вінця лилося…
Песня гремит, на столе дрожат стаканы. Хорошо поют ребята!
Но почему так волнуется Дубинка? Вот он снова спрашивает о времени, снова предлагает разойтись.
— Поздно уже, товарищи, спать пора! Вот уж меры люди не знают.
— Ничего, — небрежно откликается Сатилов. — Завтра выходной, отдыхать будешь. Пусть народ веселится.
Мирченко стоит в стороне вместе со своими друзьями — Амурским, Хоменко, Соломиным. Они ведут разговор о рудах, геологических разрезах, о верхнем и нижнем меле. Они и здесь, как на работе.
Мирченко ощупывает у себя в кармане письмо. Вынув из конверта узенький листок бумаги, он вновь пробегает его глазами.
Это письмо от Сафьянова. Он поздравляет Мирченко с успехом, с началом обогатительных работ.
— Ханжа, ханжа, — шепчет геолог. — Уж он-то не сложит оружия…
Мирченко комкает письмо и отбрасывает его в сторону.
Невдалеке от него танцуют, обнявшись, две подружки Люся и Дуся.
Симка подбегает к задумавшемуся геологу.
— Степан Павлович, давайте разобьем!
— Давайте, — лихо вскакивает Мирченко. — Только я ведь танцевать не умею.
— Неважно, — великодушно бросает Симка, — вы с Люсей о камнях поговорите.
Во время невероятного пируэта кружащихся подруг останавливают. Симка сейчас же увлекает Дусю.
Мирченко смущенно топчется возле ее подруги и, наконец, догадывается пригласить девушку к столу.
Он силится завязать разговор, но камни мало интересуют Люсю, и она через несколько минут, извинившись, уплывает с Мамедом.
Мирченко провожает ее грустным взглядом.
— Что это с вами, Степан Павлович?
Мирченко наливает себе стаканчик. Выпив, ковыряет вилкой в закуске, но ничего не ест.
Макаров подходит, наливает и себе. Нужно же поддержать человеку компанию!
— Знаете что, Макаров? — неожиданно серьезно говорит ему Мирченко. — Я все думаю, какими мы предстанем в глазах будущих поколений. Ведь то, что мы делаем с вами сейчас, — это великое дело. Страшно даже подумать об этом. Мы выполняем заветы великого Ленина, его предначертания.
Он покачал головой и горько улыбнулся.
— А сами-то мы какие? Мы часто мелочны и придирчивы. Завидуем, ревнуем, мстим. Ничтожные мысли бродят в наших головах. Речь наша косноязычна и некрасива. А как бы хотелось, чтобы люди будущего увидели нас иными — красивыми и благородными. Мы должны быть для них прекрасными, как Аполлон и Афродита, а наша речь должна быть возвышенна, как у героев Шекспира. Вы поняли меня, Макаров?
Нет, Макаров сейчас совсем не расположен к философии.
— Давайте, Степан Павлович, лучше выпьем, — просительно улыбается он.
— Ну вот, — мрачнеет геолог. — Я же говорил. Давай выпьем, друг Горацио!
В помещении становится душно. Пора бы уж и впрямь расходиться, но никто и не думает об этом. Дубинка поминутно поглядывает на часы.
— Пора, пора!! — напоминает он.
От него отмахиваются, как от мухи.
Дубинка незаметно исчезает, но через несколько минут возвращается и растерянно смотрит на танцующих.
Макаров снова приглашает Наталью. Она уже устала и, танцуя, склоняется на плечо Макарова.
Он ощущает запах ее волос, от которого у него сладко кружится голова.
«Что же это такое, — думает он, — что это со мною делается?»
Он невольно бросает взгляд в конец стола. Там в одиночестве сидит Николай. Перед ним почти пустая бутылка и нетронутый кусок баранины на тарелке.
Макарову хочется подойти к нему, сказать что-то хорошее, ласковое, но что?
Кто-то трогает его за плечо. Это Борисенко.
Только что он, заливаясь смехом, красный и возбужденный, дирижировал хором, а сейчас он смотрит на Макарова трезвым серьезным взглядом.
— Одну хвылынку… Выйдем.
Они выходят. На дворе холодно, дует сильный пронизывающий ветер. Сыплется мелкий, какой-то ненастоящий снег.
— Ось, идить сюды, — тянет Борисенко прораба. — Смотрите.
Макаров наклоняется и шарит рукой у стены здания. Рука его нащупывает углубление, в котором лежат длинные холщовые, чем-то наполненные мешочки.
— Что это? — испуганно спрашивает он.
— Заряд, взрывчатка, — глухо отвечает кладовщик.
У Макарова холодеют руки. На лбу выступает липкий, холодный пот. Но Борисенко смеется.
— Ты чего смеешься? — злится Макаров. — С ума сошел, что ли?
— Та не сошел, — отмахивается тот. — Они думали, что на дурака напали. Я уже давно к этому типу приглядываюсь. Мне сам Сабо поручил, понимаешь, прораб? — Придвинулся к Макарову вплотную. — Сабо сказал, до поры до времени его не трогать.
— Какое же тебе еще время нужно? — холодея восклицает Макаров. — Там же взрывчатка. В любую минуту взлететь можем.
— Там песок! — смеется кладовщик. — Я после того ночного караула все мешочки пересчитал. Вижу — двух нет. Нашел их в сторонке, под камнем. Ну, ясное дело, — взрывчатку на место, а в мешочки — песок!
Макаров хотел еще что-то сказать, но позади послышался какой-то шорох. Они быстро оглянулись. Рядом с ними стоял Дубинка.
— Ты что, подышать свежим воздухом вышел? — деланно зевая, спросил его Борисенко. — Нагулялся?
Макаров молча смотрел на землекопа. Он не мог вымолвить ни слова.
— Ты мне очки не втирай, старик, — перебивает кладовщика Дубинка. — Я все слышал.
Он вынимает пачку папирос и прикуривает у Макарова.
— Я все слышал, — повторяет он, глубоко затягиваясь. — А ты, действительно, не дурак, Борисенко. Но и я… я, брат, тоже… — Голос Дубинки дрожит, прерывается. — Я бы тоже эту штуку, — он кивает на яму с мешочками, — ни за что не поджег. Там ведь люди! А я тоже человек.
Они стоят, озаряемые светом, падающим из окна, переминаясь под холодным ветерком, как будто ведут мирную беседу.
— Сука ты, а не человек! — злобно выкрикивает Борисенко. — Троцкист дохлый! Бандюга!
Он хватает Дубинку за руки, но тот с силой вырывается и отбегает в сторону.
— Тикайте, хлопцы, — слышен его голос. — Тут заваруха будет!
— Все равно никуда от нас не уйдешь, — бешено кричит Борисенко, потрясая кулаками.
Макаров только сейчас выходит из оцепенения. Как можно ошибиться в человеке! Конечно, Дубинка никогда не казался ему ангелом, но чтобы дойти до такой точки…
Макаров вбегает в помещение и лицом к лицу сталкивается с Сатиловым. Сатилов с полуслова понял его.
— Товарищи! — поднимает он руку. — Тревога!
Наступает тишина. Еще слышны обрывки чьих-то слов, стук падающей вилки, звон разбитого стакана, приглушенный смех.
Но вот все смолкает. Сатилов вынимает из кармана брюк маленький плоский браунинг.
— Кто еще вооружен, поднимите руки!
В конце зала поднимается несколько рук.
— Все, кто с оружием, ко мне! — властно распоряжается Сатилов.
В углу стоят три винтовки. Их получают Мамед, Макаров и Родионов.
— Взять оружие!
Мамед одним из первых хватает винтовку, но на его пути вырастает Маруся. Лицо ее бледно, губы искривлены.
— Дай винтовку! — вырывает она оружие из рук Мамеда. — Очень тебя прошу, дай!
Мамед вопросительно смотрит на Сатилова и медленно выпускает оружие.
Маруся с винтовкой в руках бросается к выходу.
— Комсомольцы! — страстно восклицает она, бледная, напряженная, как струна. — Комсомольцы, вперед!
Опрокидывая столы, к ней устремляется молодежь. Пусть не все имеют оружие, — неважно. Это хлопцы из тех, что и голыми руками сомнут любого врага.
Все выходят во двор. Макаров, сжимая винтовку (черт, какая она тяжелая!), держится возле Маруси, Сейчас он рядовой солдат.
Со стороны Карлюка слышен какой-то шум, лязг железа, топот.
— Ложись! — командует Сатилов.
Кто-то не выдерживает и стреляет. Вспышка озаряет взволнованные лица, груды камней.
Тотчас же невдалеке раздается чей-то выкрик. Над головами просвистело несколько пуль. Макаров нажимает на курок. Приклад больно ударяет в плечо.
Впереди снова раздался крик. На этот раз — крик боли.
«Неужели попал? — думает Макаров. — Так им и нужно, гадам!»
Страх в его сердце сменяется злобой и уверенностью. «Что, нарвались, голубчики? Нет, брат, нас так просто не возьмешь?»
Выстрелы раздаются все чаще. Маруся вскакивает на валун, поднимает винтовку.
— Товарищи! Комсомольцы! — кричит она. — Да неужели мы будем лежать на земле перед кучкой бандитов? Вперед, товарищи!
Сжимая винтовку в руках, она устремляется вперед. Вслед за нею бегут Симка, Мирченко, вооруженный пистолетом Сатилова. И Макаров, поднявшись во весь рост, бежит вслед за Марусей. Экстаз боя овладевает им. Он забыл обо всем, в сердце только одно: впереди враги, которых нужно смять.
— Вперед!
И вдруг сильный толчок в плечо заставляет его резко повернуться. Косо поджимая руку, он, словно подбитая птица, падает на землю. Краем глаза успевает заметить что-то белое, воздушное, метнувшееся к нему. Это Наталья.
Со стороны заставы слышны крики и топот.
Всадники влетают в долину и, если прислушаться, то уже можно услышать угрожающий посвист клинков…
Но Макаров ничего не видит, не слышит. Он лежит, раскинув руки, на лицо его сыплется снежная крупа…
* * *
…В землянку проникают лучи утреннего солнца.
В углу на койке лежит Макаров. Луч солнца скользит по его лицу. Он открывает глаза и зажмуривается.
Сознание медленно возвращается к нему. Он озирается и видит стоящего у его изголовья пограничника с винтовкой.
«Часового поставили, — думает он. — Что это, я арестован, что ли?»
Он хочет приподнять голову и не может.
«Ранен, — вспоминает он. — Ну и скотина этот Дубинка!»
Он замечает рядом на стуле Наталью. Она спит. Нежность теплой волной разливается в груди Макарова.
Наталью словно разбудил взгляд Макарова. Она медленно открывает глаза.
— Хочешь пить?
— Хочу, — пытается улыбнуться Макаров. — Хочу, товарищ сестра милосердия.
В голове у него молнией проносятся события той страшной ночи. Неужели это не сон?
— Как Маруся? — спрашивает он, волнуясь. — И вообще все?
— Все хорошо, — наклоняется к нему Наталья.
Ее волосы падают ему на лицо и щекочут его. В вырезе платья он видит белую грудь и маленькую родинку ниже левой ключицы.
— Все хорошо, — шепчет она. — Пограничники всех их схватили. Только Курлатов ушел. А тебе повезло. Доктор говорил, через две недели будешь на ногах.
Макаров неотрывно смотрит на столик, стоящий у его изголовья. На столике — бутылка с молоком, чурек, какие-то лекарства и часы! Его часы! Те часы, что исчезли в день приезда.
— Ченцов вернулся, — отвечает на его молчаливый вопрос Наталья. — Где-то здесь рядом работал, в Самсонове, что ли, в карьере. И вот вернулся. Хочет здесь работать. На дороге, а потом на руднике. И часы принес. Смущался очень.
— А Павлуша?
— Павлуша герой, — улыбается Наталья. — Такой славный карапуз. И вот еще что, — торопится она. — Все передают тебе привет. Все… все…
Наступает молчание. Макаров смотрит на часового и чуть слышно шепчет:
— Наклонись ко мне, Наталья.
Наталья тоже оглядывается на часового.
— Сабо пост поставил, — шепчет она, наклоняясь к лицу Макарова.
— Поцелуй меня, — просит Макаров.
Часовой хмурит брови и отходит к окну. Наталья поцеловала Макарова и тут же отпрянула.
За окном раздается гудок. Торжественно и празднично летит его звук над горами, Подымайся, народ, спеши на работу, народ, — дела много! Столько у нас работы — не сосчитать!
И снова гудки — слабее, потише. Это автомашины.
— Колонна пошла! — говорит красноармеец, глядя в окно. — Серу повезли!..
Его мужественное, доброе лицо ярко озаряет горячее солнце, золотистым блеском вспыхивает штык…
Новый день, розовый и росистый, новый ликующий день заявляет о себе пением птиц, далекими заводскими гудками, музыкальной радиопередачей, смехом и звонкими голосами…
Сколько дней и ночей, сколько лет и зим прошло с той поры, как в долине Горной прозвучали последние выстрелы и запели свою торжествующую песню первые гудки! Какие огромные пространства, свершения и подвиги меж тем, отшумевшим, и этим, зарождающимся, голубым днем!
Это была большая и трудная дорога, и мы прошли ее, не опустив головы, дерзновенные и веселые…
Наша дорога начиналась в огне и дыму, словно в тумане и пыли предгорий. А сейчас вон как высоко выбрались мы, даже маленько кружится голова от этой орлиной высоты, и так далеко видно во все концы, даже туда, куда уже проложили тропы и стежки наши первые сверкающие советские луны.
И каждый день наш связан с другим, как каменные ступени лестницы, ведущей высоко-высоко к горным вершинам, плавающим в хрустальной голубизне.
Мы прошли по этим ступеням, товарищи, и мы идем, поднимаемся еще выше и выше, с полной выкладкой за плечами, не выпуская из рук боевого оружия.
Мы всегда готовы защитить свои высоты от гадючьего, подлого племени. По всем своим дорогам и тропам мы пронесли алое, как наша пролитая кровь, знамя своей Отчизны, на котором золотом горят святые ленинские заветы.
На этом знамени в суровые годы гражданской войны вспыхнули гордые слова Ильича: «Смерть или победа!» И мы победили, отбросив многоголовую презренную гидру от своих священных границ.
Это знамя реяло над нами в незабываемые годы первых пятилеток. Мы поднимали его над железом и бетоном первых великих строек, в звериную стужу оно согревало наши сердца и звало на подвиги.
Мы пронесли его по изрытым воронками дорогам Великой Отечественной войны, и оно, как новое солнце, горело над нами, озаряя наш путь к победе.
Оно развевалось над нами, когда мы откачивали затопленные врагом шахты Донбасса и поднимали из руин Крещатик.
Оно осеняло нас своим багряным светом в бескрайних целинных степях, и сейчас оно снова горит над нами бессмертным огнем.
Вечна и бессмертна наша молодость!
С той же неугасимой страстью мы возводим новые шахты и домны, строим коксовые батареи, воздвигаем могучие электростанции. Уже далеко-далеко ушли мы вперед, и кажутся совсем близкими гигантские вершины, уходящие в синее небо, окутанные белой кипенью облаков.
Мы взойдем на них!
Слава тебе, новый день!
1956—1958 гг.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Отзывы на эту книгу просим присылать по адресу: Киев, Пушкинская, 28, Издательство ЦК ЛКСМУ «Молодь», массовый отдел.
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления