Онлайн чтение книги
Белый мыс
Часть первая. Белый мыс

Между высокими черноствольными каштанами хмуро проглядывала главная усадьба хутора Лингер, напоминая старую клячу с прогнувшимся хребтом. Темно-красная черепица поросла густым мхом, и стекла в маленьких окошках отсвечивали голубым и зеленым, словно льдинки.
На приступке у входа сидел босой мальчуган, вычерпывая дождевую воду из выбитых несчетными шагами углублений в известковых плитах. Заношенный, чересчур большой головной убор то и дело сползал ему на нос.
– Чертова шапка! – выругался он со слезами ожесточения в больших удивленных глазах и отшвырнул ее прочь. Непокорный чуб разом встопорщился, словно пук ржаной соломы.
Бог был где-то далеко, за облаками, бабушка тоже не могла его сейчас видеть. А что до Бруандера – хозяина, у которого работала бабушка, то его мальчуган не очень-то побаивался. Неизменно добродушный, флегматичный вдовец, он был готов часами сидеть на одном месте, опершись локтями на широкий стол. Усиленное употребление нюхательного табака придало коричневатый оттенок его уныло свисающим седым усам. В берестяную табакерку на подоконнике то и дело приходилось подсыпать табак, хотя она вмещала не меньше полкило.
– Каждый сходит с ума по-своему! – ворчала бабушка. – Я знавала людей, которые тратили все свои деньги на кофе и ходили от него желтые, точно китайцы.
Неужели бабушка видела китайцев? Наверно, видела. Она как-то раз даже в Стокгольме побывала, а здесь на острове знала все наперечет.
Маленькая, полная, с гладкими и розовыми, как у девушки, щеками, она умела, однако, сделать строгое и суровое лицо. И все-таки рядом с бабушкой Оке всегда чувствовал себя надежно. Он знал, что, несмотря на горячий нрав, она – его первая заступница. Причину бабушкиного недовольства было обычно легко понять. А когда ее высокий лоб, изборожденный морщинами, словно известковый утес, прояснялся, можно было не сомневаться – виновный уже прощен.
Вычерпав наконец всю воду, Оке побежал к калитке. За оградой на север, запад и юг простиралась равнина с осушенными болотами и бескрайними полями. Тут и там в поле двигались серые фигурки батраков. Жилистые люди с обветренными лицами упорно копались в вязкой глине. Они редко распрямляли спины, точно были на весь день прикованы к зеленым рядам ботвы.
– Кто хочет заработать что-нибудь на свекле, тот должен не лениться орудовать тяпкой, – говаривала бабушка. – Мне самой приходилось копать от зари до зари. За целый день только и съешь, что кусок ржаного хлеба.
Оке услышал, как молодой батрак окликнул девушек. Это был тот же необычный, жесткий северный говор, на который в минуту волнения переходила бабушка и который так резко отличался от местной певучей речи.
Внезапно у Оке словно закружилась голова. Ему показалось, что поле с зеленой ботвой медленно закачалось вверх-вниз, вверх-вниз. И, точно лодки из густого тумана, в его сознании всплыли отчетливые воспоминания о другой жизни, в иных местах.
…Он видел большую и темную крестьянскую кухню, связанную в его памяти с ощущением постоянного страха, а также частого голода и одиночества. Призрачной белизной отсвечивала кладка очага, над которым вытянулся ряд сурово глядевших на него начищенных до блеска медных кастрюль.
Однажды вокруг стола собралось много женщин; среди них была и бабушка. Она связывала тряпки в длинные полосы. Сам он притаился в углу, прислушиваясь к бесконечной беседе, в которой ровным счетом ничего не понимал. В конце концов он подобрал с полу несколько красных и ярко-зеленых лоскутков и стал играть ими. В тот же миг над ним склонилось узкое злое лицо приемной матери:
– Не смей трогать! Кому было сказано – сидеть на месте!
Щеку обожгла пощечина, и он скатился со скамеечки. Удар обрушился на Оке неожиданно и непонятно, как гром среди ясного неба, и горький плач мальчугана только усилился от поднявшейся суматохи и града злых слов.
Бабушка сорвалась с места и сунула кулак под нос обидчицы, которой едва доставала головой до плеча.
– Вот как ты обращаешься с детьми, обезьяна ты скверная! Я так и знала, что вы взяли мальчугана только из-за денег. Но больше он ни минуты здесь не пробудет, и приходу это не будет стоить ни гроша!..
Потом он жил некоторое время с бабушкой в маленьком домике у моря. От той поры он сохранил воспоминание о равномерно нарастающем и стихающем гуле волн, который ослабевал порой до невнятного шепота, но никогда не смолкал совсем…
К востоку от хутора, там, где голая равнина сменялась березняком и старым орешником, лежало неглубокое болотце. Луга отлого спускались к спокойной воде, в которой отражались заросли камыша и несколько горбатых камней с отчетливыми отметками уровня половодья.
Вдоль берега тянулась широкая полоса светлого известкового осадка. В засушливое время корка извести становилась почти белой и покрывалась сеткой глубоких трещин…
– Пошли, браток, накосим коровам травы на ночь! – позвал Бруандер после ужина, ткнув Оке пальцем в грудь.
Бабушка невольно улыбнулась, хотя и не одобряла тона Бруандера.
– Вы научите парня такому, что его потом люди застыдят!
Оке гордо нес пустой мешок, шагая за хозяином вдоль болотца. Бруандер шел вразвалку, брюки пузырились над голенищами грубых сапог, а ноги будто сами собой складывались пополам в коленях.
Время от времени он пускал в ход сверкающую косу, прокладывая дорожки к зарослям шиповника, окаймленным густой, высокой травой. Оке захотелось сорвать розовые цветы, однако он сразу же зацепился рукавом за колючки, и Бруандеру пришлось выручать его. Домой они возвращались не одни – рядом бежала маленькая речушка. Она пересекала земли хутора и вливалась затем в Гутхемсон – самую большую реку на острове.
Оке не раз говорили, что нельзя играть одному на берегу этой речушки. Но однажды он все-таки прокрался туда. Неподалеку от коровника находился водопой. Оке лег на серые доски и стал смотреть на непрерывно бегущую темную воду. Стайка маленьких рыбок подскочила к самой поверхности прозрачными легкими тенями. Он хотел поймать рыбку рукой, но та оказалась быстрее его. Если он долго лежал совсем тихо, рыбки снова выходили из своих тайников на дне, однако оставались по-прежнему неуловимыми.
Вдруг что-то зашуршало за его спиной. Рядом с ним стояла сгорбленная старуха, черная с ног до головы, от ботинок до шали, и злая до того, что у нее даже глаза почернели от злости. Она угрожающе замахнулась на Оке узловатой палкой и осыпала его ругательствами. Мальчик так весь и сжался в ожидании удара, не в силах сдвинуться с места. Не иначе это живая баба-яга. Внезапно явившись неведомо откуда, она в любой миг может улетучиться вновь…
На глазах Оке проступили крупные слезы, он собрался с духом и побежал, заикаясь и всхлипывая, к бабушке, которая разводила огонь под котлом.
– Силы небесные, что все это значит? – спросила она взволнованно, вытирая ему глаза фартуком.
Черная бабка приковыляла за Оке следом и стала в дверях, каркая как ворона:
– Порроть, порроть надо этого выродка! Он в меня камнями швырял!
– Да ты с ума сошел, парень!
В голосе бабушки звучала зловещая строгость, она взяла его за шиворот недоброй рукой. Оке был настолько поражен неожиданным обвинением, что даже онемел. В этот момент вошел Бруандер и бросил на каменный пол вязанку дров:
– Зачем ты прогнала мальчонку домой?
Старуха повторила свое обвинение и добавила, что Оке обозвал ее.
– Ты что это вздумала нас обманывать? Он ровным счетом ничего не сделал. Я же все время следил за ним – боялся, как бы парнишка не упал в воду.
Бабушка сжала губы в узкую полоску и посмотрела пристально на черную старуху.
– Вот оно что… – произнесла она с расстановкой. – Вы это придумали нарочно, чтобы мальчика побили! А ну – прочь отсюда, пока я не поторопила вас ухватом!
Старуха злобно усмехнулась с таким видом, будто собиралась плюнуть бабушке в лицо:
– Дожили! Выгоняют из сестриного дома, как собаку! Только этого не хватало!
– Не слушайте ее, – сказал Бруандер извиняющимся голосом, когда старуха ушла. – Она только и делает, что сплетни по дворам разносит, а детей – так просто не переносит, ведьма старая!
– Сдается мне, что это она меня не выносит, – ответила бабушка сухо. – Но только если она вздумает отыгрываться на мальчугане, то будет иметь дело со мной.
Оке долго не мог забыть страшную черную бабку. В ее лице он опять столкнулся с темной, необъяснимой злобой, которая разражалась, когда этого меньше всего можно было ожидать. Однако, когда старуха спустя несколько дней появилась опять, он не убежал к бабушке.
По стенам коровника вился густой хмель – там всегда можно было надежно укрыться. Оке спрятался за хмель и стал разглядывать страшную старуху, словно любопытная белочка. Присмотревшись внимательно, он решил, что бабка все-таки никакая не колдунья. А раз так, то он, наверно, сможет легко убежать от нее, если только не подпустит слишком близко.
Старуха прошла мимо, и ничего не случилось.
Оке вылез из-за хмеля и забрался на толстую жердь. К ней когда-то привязывали быков, которые приводили в движение молотилку. С покатой крыши сарая свисала осока – совсем как усы Бруандера, а внизу скалило зубы передаточное колесо. От него отходила длинная балка. Она была просунута сквозь отверстие в стене и исчезала в полумраке сарая. Теперь этим устройством давно уже не пользовались.
Когда пришло время обмолота, на дороге, ведущей к хутору, показалось закопченное чудовище на широких тяжелых колесах. В ту же минуту непонятно откуда вынырнула целая гурьба ребятишек, и взволнованные мальчишечьи голоса возвестили великую новость:
– Молотилка едет! Молотилка едет!
Откуда только прыть взялась у Бруандера! Он размахивал руками, кричал и командовал; тем не менее все благополучно наладилось, как только прибыл возок с инструментами. С него сгрузили бачки со смазочным маслом, колодки, которые положили под колеса молотилки, и прочие принадлежности.
Один за другим съезжались на нагруженных доверху возах соседи, и вскоре на обычно тихом дворе скопилось множество чужих людей и упряжек. В свекловичных районах мелкие хозяйства выращивают мало хлеба, поэтому молотилку нанимали сообща.
Машины и люди вытянулись в усердно работающую цепочку.
Черная труба локомобиля изрыгала дым и искры, а приводной ремень защелкал над головой у Оке с такой силой, что он на всякий случай отошел в сторонку. Желто-коричневая молотилка содрогалась от напряжения, хотя была величиной с целый дом!
Рыжий парень в истрепанной шляпе надел защитные очки и сунул первый сноп в рычащую пасть молотилки. Оке долго смотрел на него и на молодую женщину, которая неутомимо разрезала перевясла[4]Перевясло – соломенный жгут, которым перевязывают сноп кривым ножом.
Однако скоро Оке пришлось отступить: воздух наполнился густой колючей пылью, а с другой стороны молотилки мальчик только мешал парням, уносившим наполненные мешки.
Привыкнув немного к громким щелчкам ремня, Оке сразу ощутил неудержимую притягательную силу тяжело пыхтящего, пахнущего машинным маслом локомобиля. Вот кочегар подбросил в топку несколько поленьев. Голубоватые огоньки лизнули сухое дерево, быстро заставив его раскалиться докрасна. Оке смотрел словно завороженный в грозно гудящую топку и не заметил, как сзади к нему подкрался сынишка одной из работниц.
Коварный толчок сбил Оке с ног. Он вскочил с твердым намерением как следует рассчитаться с шутником, однако чужак успел уже вытащить из кармана маленькую жестяную баночку.
– Хочешь понюшку табаку? – спросил он примирительно, подражая лицом и голосом Бруандеру.
Оке взял немного светлого порошка и сделал вид, будто втягивает его в ноздрю. Чужак насыпал щепотку в рот и плюнул на дверку топки, отчего та сердито зашипела. Сквозь щелочку вырывались наружу красные огненные языки, и было слышно, как пламя бушует и воет под котлом.
– Аккурат, как в аду, – произнес с видом знатока озорник. – Не хотел бы туда попасть, черт возьми!
Оке ощутил невольное беспокойство за судьбу своего нового приятеля. Бог не так мелочен, чтобы преследовать за бранное слово, вырвавшееся в припадке гнева или отчаяния, но этот мальчишка ругается, похоже, только из желания казаться взрослее.
До самого вечера над током стоял, то усиливаясь, то ослабевая, деловитый гул. С наступлением сумерек на сеновал влетела наконец последняя охапка соломы, и на хуторе разом воцарилась торжественная тишина.
Бабушка стояла у печки разгоряченная и раскрасневшаяся, помешивая в огромном котле. В рисовом кулеше густо плавали изюминки, на длинном столе высились горы бутербродов. Однако едоки никак не могли развернуться. Пот и копоть вперемешку с пылью легли на лица жесткими масками, а накопленная за день усталость сковала все члены.
Бабушка угощала, уговаривала и подносила темное пенящееся домашнее пиво.
– Ешьте, люди добрые! Сегодня хорошо потрудились, – приговаривал Бруандер, показывая пример.
На деньги он был скуповат, но счел бы позором для себя, если бы дал повод кому-нибудь пожаловаться на еду. Понемногу за столом становилось оживленнее. Кто-то вспомнил случай, когда вот так же в день молотьбы на ток забрел бык и натворил немало бед.
Чрезвычайно обстоятельный во всех описаниях рассказчик никак не мог добраться до конца. Кое-кто начал уже покашливать и нетерпеливо посматривать в сторону бабушки. Она хорошо умела передавать речь и повадки других людей, и за ней укрепилась слава искусной рассказчицы. В минуты увлечения она даже привставала, стремясь придать своей речи большую выразительность.
– Расскажите какой-нибудь случай в Нуринге, – попросила наконец молодая женщина.
Ей никогда не приходилось бывать на севере, и уже один непривычный говор северян казался ей необыкновенно уморительным.
– Когда обжиг извести еще велся у нас полным ходом, – начала рассказ бабушка, – в Нуринге наехало много дельцов – ставили печи и выманивали у крестьян лес за гроши. Но старика Никкена, хозяина хутора Марте, никому не удавалось провести – ни приезжим богатеям с Большой земли, ни нашим собственным ловкачам. Старик разбирался в грамоте, что твой поп или дьякон, и ни на какие удочки не клевал.
В это же время установилась хорошая цена на баранину, так что наш Никкен неплохо зарабатывал и на лесе и на мясе. А когда богатство старика сравнялось с его упрямством, он решил, что пора обновить обстановку в большой зале, и отправился в Стокгольм на парусной шхуне. Правда, она шла с грузом извести; пароходы к нам тогда не заходили, так что это была единственная возможность попасть на материк.
Никкен отлично знал, что в Стокгольм надо являться в черной тройке, если хочешь, чтобы с тобой считались, но это не помешало ему отправиться в костюме из домотканого сукна, который он надевал в деревне по праздникам. В Нуринге в таких костюмах первые щеголи расхаживали, да и на Большой земле лучшего материала надо было еще поискать.
Однако в Стокгольме на суконный костюм смотрели иначе.
Зашел это Никкен в роскошный мебельный магазин для самого знатного люда, а там на него никто и глядеть не стал. Продавцы юлят, раскланиваются перед всеми, а его словно и не замечают.
Ну, наш старик и принялся ходить сам по магазину, товар разглядывать. Наконец остановился перед большим – до потолка – зеркалом в золоченой раме.
«Что стоит эта штука?» – спрашивает.
Но никто ему не ответил. Стоит ли обращать внимание на какого-то мужичка-серячка, который и говорит-то не так, как все! Такому в магазине-то и делать нечего.
А старик пождал-пождал, да как припечатает кулаком по зеркалу – только осколки полетели! То-то шум поднялся в лавке!
«Скажете вы мне хоть теперь, сколько оно стоит?!» – кричит Никкен, а сам на приказчиков смотрит.
«Сто крон!»
Сто крон! В то время это были огромные деньги. Но наш Никкен швырнул на прилавок две сотенные бумажки и говорит:
«Ну, так попрошу завернуть мне такое же, если у вас найдется».
Заключительную реплику бабушка произнесла отрывисто, словно гирю бросила на весы. Оглушительный хохот прорвал плотину напряженного молчания. Больше всех был доволен рассказом Бруандер. Он с силой ударил кулаком по столу:
То-то! Вот так с ними и надо!
* * *
Кончилось затянувшееся теплое лето, точно светлый сон пролетел. Быстро спускались сумерки, небо застилали тяжелые дождевые тучи, на смену зелени пришло серое однообразие глины.
Оке проводил большую часть времени в светелке – самой сухой комнате в доме. На маленькой полочке в углу хранились его сокровища: розовая фарфоровая свинка-подсвечник да изуродованный жестяной человечек, который когда-то умел плясать – когда еще был цел механизм.
Свинку подарил ему на рождество дядя Стен, который раньше батрачил у одного из местных богатеев, а теперь работал в каменоломне на побережье. Была еще у Оке обсыпанная снежными блестками рождественская открытка с надписью «Merry Christmas!».[5]Merry Christmas! (англ.) – Счастливого рождества! Ее прислал дядя Хильдинг из самой Америки.
На открытке мальчик в пьексах катал на санках маленькую миловидную девочку. За ними семенил по сугробам улыбающийся дед Мороз.
Оке ощутил зависть и сосущую тоску. Видно, за границей, как и на Большой земле (так для Оке делился весь мир вне Готланда), зима приходит в прекрасном снежно-белом уборе.
А здесь – день за днем суконно-серый туман… Редкий снежок ложился на непромерзшую землю, и вместо белого ковра получалось грязное месиво. Неужели на острове так никогда и не было настоящей зимы?
– Еще какая зима бывала! – ответила, смеясь, бабушка, когда Оке обратился к ней со своим вопросом. – Когда я была молодая, снега и мороза было хоть отбавляй. Зимой восемьдесят первого все дороги занесло, и нельзя было пройти, пока не установился наст. Помню, как мы заблудились на санях в буран. Хорошо, на забор наткнулись – только вдоль него и выбрались к дому. Да и от забора-то только кое-где верхушки торчали.
Бабушка смолкла, призадумавшись.
– Да-а, не все-то я на санях каталась… С самого сызмальства узнала, что такое холод и работа. Едва мне исполнилось тринадцать, как пришел к нам Петер Смисс и стал уговаривать отца отдать меня ему в услужение. Обещал в год восемь риксдалеров, пару ботинок и материал на рабочее платье, да еще, мол, матушка Смисс научит меня ткать на станке – эта ведьма-то! Она меня и близко не подпускала к ткацкому станку. Вместо этого мне приходилось часами стоять на берегу и вылавливать из ледяной воды водоросли. Вот и вся наука. Сапог у меня не было, вот я и ходила мокрая по пояс… Был у них еще пятнадцатилетний батрачонок Юн. Помыкали они им, как хотели. По воскресеньям хозяева отправлялись в церковь, и Смиссиха делалась сразу такая набожная, всячески старалась показать священнику, какая она праведница. Но в то же время она никогда не забывала, уходя из дома, сделать метку на хлебе, чтобы мы не взяли куска в ее отсутствие.
– Бабушка, а какую метку она делала? – спросил Оке. Глаза его сверкали.
Не иначе метка была заколдованная, если не позволяла наесться в праздник досыта тем, кто так напряженно работал всю неделю.
– Какую метку? Да обыкновенную зарубочку вырезала ножом, – ответила бабушка небрежно.
Оке решил, что она просто не хочет выдавать секрет – видно, боится, что ее накажет нечистая сила.
Но вот как-то раз, когда хозяйка села ткать, бабушка прошла в кухню, взяла там два больших круга колбасы, висевших под потолком, и нарезала толстые ломти хлеба себе и изголодавшемуся батрачонку. Первый ломоть с ненавистной меткой она съела сама.
– И ты думаешь, они выгнали меня за это? Нет! Попробовали бы они найти прислугу, которая выдержала бы У них год! Иные сбегали уже через неделю. Когда подошел день расчета, хитрый кулак подмазал отца штофом водки, а маме подарил брошку. Мне он обещал красивое конфирмационное[6]Конфирмация – церковный обряд для подростков. платье – только бы я осталась. И получилось так, что я пошла в кабалу еще на год!
Бабушка сидела у печки с вязаньем в руках. Правый указательный палец, скрюченный подагрой, перекидывал нитку. Потом она прервала работу и протянула левую руку к огню, разминая все еще ловкие тонкие пальцы.
– Эта рука ничуть не изменилась с тех пор, как я уехала с острова Сандэн, – проговорила она в раздумье.
Три года бабушка находилась в услужении на этом таинственном, уединенном острове, где-то на севере, и ни разу не навестила за это время родной дом. Высокий пенистый прибой обрушивался с грохотом на скалистый берег, и осенью по месяцам не удавалось доставлять на остров продукты и почту.
– Там прошли мои самые счастливые дни… Если бы не Янне, я бы никогда не уехала из поселка у Бредсандского маяка, – продолжала она мечтательно.
Казалось, она обращается не к Оке, а к кому-то другому, невидимому для мальчика.
– Он только что вернулся в Нуринге – шесть лет ходил в дальнем плавании по Атлантике и Тихому океану. И вот придумал высадиться с маленькой скорлупки на мысу Тернудден и разыграть из себя потерпевшего кораблекрушение англичанина.
Бабушка смущенно улыбнулась: ей явно не хотелось сознаваться, что кто-то перехитрил ее.
– Я чуть было не поверила ему. Темный, курчавый, на шведа и не похож ни одеждой, ни повадками. Смотритель маяка узнал, конечно, сына старого Самюэля, но виду не показал, а с ним и другие.
Нурингский моряк загостился на островке. Смотрителю понадобилась новая лодка, и Янне охотно взялся выполнить его заказ. Так у Лиллии – самого завзятого гуляки и шелопая на всем острове – появился новый приятель, с неисчерпаемым запасом песен и рассказов о манящих океанских далях. А бабушка заколебалась в своем решении навсегда остаться на тихом лесистом островке с его дикой красотой.
Летним утром, когда дул свежий бриз, она уложила вещички, и Янне пошел вброд к своей скорлупке, неся на плече сундучок с одеждой.
Смотритель смущенно потер глаза при расставании и пожелал молодым смельчакам счастья в пути и в жизни. Лиллиа дирижировал прощальным «ура», энергично размахивая своей форменной фуражкой – той самой, которую смотритель не раз грозился отобрать. Провожавшие стояли на берегу до тех самых пор, пока белый, словно грудь чайки, парус не исчез за горизонтом.
– Никогда не забуду первую встречу с родителями моего будущего мужа, – рассказывала бабушка. – Маленькая, сутулая старушка стояла у печки, возилась с закопченными горшками. Кухня была низенькая, задымленная. Занавесок на окошке, видно, никогда и не бывало; всего-то и было на кухне, что некрашеный сосновый стол да пара скамеек. За столом сидел старик Самюэль – суровый такой, с большой золотистой бородой. От его сапог так и несло ворванью, а рот был набит доброй порцией жевательного табака. Еще кусок табака торчал из кармана, словно обрывок ремня. Но зубы у него были – крепче не сыщешь. Мне кажется, он мог бы, если б захотел, двухдюймовый гвоздь перекусить.
Немного погодя Янне и говорит, а не пора ли обедать. Старушка смутилась вдруг, прямо не знает, куда деваться. Тут старик как ударит кулаком по столу да как закричит, чтобы она подавала на стол, да погуще – небось молодые проголодались с дороги.
«Не шуми, не шуми, батюшка», – ответила старушка, а сама зашептала ему что-то на ухо.
Не успели мы опомниться, как старый Самюэль вдруг выскакивает из кухни, будто ошпаренный. Потом слышим – он стучит и орудует в кузне. Еще не сварилась картошка и рыба, а он уже входит с новым ножом в руке – только что выковал, даже железо еще не остыло.
И что же ты думаешь – в доме было всего три столовых ножа, и мать Янне с ужасом думала: как она станет накрывать на четверых!

Весь дальнейший рассказ бабушки был словно старый ковер, сотканный из будничных забот и тяжелого труда. И все-таки Оке не замечал, чтобы она раскаивалась в своем решении выйти замуж за Янне. Унылое однообразие сплошь и рядом перемежалось красочными, полными тепла воспоминаниями.
Немало легенд ходило и по сей день среди старых ловцов тюленей о сильном, коренастом человеке, который был дедом Оке.
– Он был первым и на море и на суше, – говаривала бабушка. – Мы трудились и жили счастливо, хотя оба не отличались покладистым нравом. Трудно нам приходилось – всех-то детей надо было накормить да одеть; но ругались редко. Только очень уж беспокойный был мой Янне. Вот и надорвал сердце, когда ему еще не было и пятидесяти.
Голос бабушки, взволнованно-ласковый, как всегда, когда она говорила о деде, внезапно посуровел.
– Он сам себя убил, когда ловил сбежавших овец для богатых крестьян в Стадаре. Ему никак нельзя было в ту осень браться за такую работу, но он всегда хорошо бегал, а нам к зиме совсем не мешало запастись бараниной и шерстью.
Только он кинулся догонять сбежавшего из загона барана, как в груди у него что-то оборвалось. Но Янне был упрям и не хотел сдаваться. Дорого обошелся нам этот баран!
Вечером они привезли Янне домой… Белого, как простыня. Пришлось вносить его в дом на руках. Врачи здесь, на острове, ничем не могли помочь. Потом нам удалось призанять денег, и он лег в больницу в Стокгольме. Только и там ему не стало легче. В конце концов он спросил главного врача напрямик:
«А не зря я здесь лежу? Можете вы меня вылечить?»
«Нет, не можем», – признался врач.
«Ну, тогда поеду помирать домой», – сказал Янне и попросил выписать его назавтра.
О многом мы с ним переговорили в те две недели, что он еще прожил после больницы. Как мне быть с домом, с долгами… У старой избы, которую еще Самюэль выстроил, уже крыша стала проваливаться, а для новой Янне успел только сруб поставить. Собственно, он и строил-то не дляжилья, а хотел в ней себе мастерскую устроить. Пришлось мне достраивать, как могла, а леса не хватило, так что обшивала избу уже самыми тонкими досками.
В последний вечер Янне сидел на стуле, Стена держал на коленях, а я как раз стелила. Мальчугану только что три года исполнилось. Он думал, что теперь-то уж папа поправится, раз запел впервые за много месяцев…
Бабушка попыталась напеть трогательную мелодию:
И гавань уже за волною близка,
Там встретит любовь моряка.
Это была его любимая песня, и так красиво он еще никогда не пел ее. Я уложила его и вышла было на кухню, но он тут же позвал меня.
«Анна! – говорит, а Сам смотрит на меня таким спокойным и светлым взглядом. – Анна, ты справишься как-нибудь».
Бабушка резко выпрямилась, словно стряхивая с себя воспоминания, и подбросила несколько поленьев в огонь. Ожившее пламя бросило яркий красный отсвет на ее задумчивое лицо.
– Не очень-то я верила в его слова, когда осталась одна с семью малышами и двумя стариками на руках. А только прав был Янне – справилась…
* * *
Бабушка все чаще стала поговаривать о своем домике и клочке земли, который сдала в аренду. Ей было как-то не по себе вдали от моря, и Оке понял, что она работает здесь только ради того, чтобы иметь возможность вернуться в Нуринге. Зимой она часто подрабатывала на стороне, потому что в это время года дела на хуторе не отнимали всего ее времени. Богатые крестьяне закатывали для своей родни пиры по всевозможным поводам и бабушку охотно приглашали стряпухой.
– К весне мы уедем, – предупредила она Бруандера сразу после Нового года.
Он был явно недоволен, но отговаривать не стал.
– Что ж, вам лучше знать, чего вы хотите, – только и сказал он.
Бабушка подсчитала свои сбережения и стала прикидывать:
– Коровой надо снова обзавестись, свинью купить – это все необходимый расход. Стен, наверно, поможет мне деньгами теперь, раз получил работу на каменоломне. Бредвика достаточно близко от дома, и он сможет наведываться.
Оке с большим волнением ждал отъезда, хотя ему и было жаль оставлять Бруандера – одного, в старом, холодном каменном доме. Черная старуха все еще преследовала Оке бранью и угрозами. Иногда ему снилось, что она загоняет его в бездонное болото своей узловатой клюкой. Втот самый момент, когда теплая илистая вода достигала Подбородка, он просыпался весь в поту.
Бабушка собиралась первую часть пути на север ехать по железной дороге, но разносчик рыбы нарушил ее планы.
Он явился рано утром, одетый, как обычно, в облепленную рыбьей чешуей, потрепанную кожаную куртку на меху. На розовые уши сползала теплая шапка, хотя солнце основательно припекало и вокруг груза рыбника вился рой мух.
– «Дора» пришла в рыбачий поселок, стоит сейчас на погрузке. Ночью выходит курсом на Бредвика, – сообщил он.
– Надо ехать в поселок, попросить, чтобы захватили нас, – решила бабушка.
«Дора», шхуна из Нуринге, уже не первый десяток лет ходила вдоль побережья, и бабушка хорошо знала ее теперешнего шкипера.
– Он с нас ничего не возьмет.
Под вечер Бруандер заложил рессорную бричку. Бабушка погрузила свои узлы и корзины, посадила Оке, и они двинулись в путь, оставляя позади и хутор на речушке, и свекловичные поля, и длинные канавы, и злую черную старуху.
Оке не оглядывался назад – он не сводил глаз с неутомимо вертевшихся колес, они чертили узкую ложбинку в известковой пыли, мягкой и теплой, как пепел, так щекотно просачивавшейся между пальцами ног, если идти босиком.
Проехав километров пять, они оказались в темном хвойном лесу. Домики стали попадаться только тогда, когда уже было недалеко до побережья.
Кто-то водрузил на каменный постамент возле сиреневого куста покрашенную в зеленый цвет мину. Бабушка недоверчиво поглядела на столь необычное украшение.
– И как только держат они такое чудище у себя под окнами! Рога все на месте, она может хоть сейчас взорваться!
– Наверно, они ее разрядили, – предположил Бруандер. – Говорят, лучшей и более дешевой взрывчатки для подрыва пней не найти.
– Не очень-то дешево обошлась она саперам, которые приезжали намедни в Бредвика разрядить мину! – проворчала бабушка. – От всех троих одни клочья остались, хотя парни подобрались бывалые и осторожные.
– В войну здесь на море немцы и русские схватились так, что весь берег дрожал от стрельбы, – сообщил Бруандер.
– Да, не иначе какое-нибудь чудо помогло нам, что нас в войну не втянули, – откликнулась бабушка. – И всегда-то война так и ходила вокруг нашего острова. Однажды прямо в Бредвика зашли английские военные корабли – думали напасть на Аландские острова, запереть Финский залив, чтобы помочь туркам, которые в ту пору воевали с русскими где-то на юге. Мама рассказывала, что это было как раз в канун большой дороговизны. С тех пор, после англичан, цены больше уже никогда не снижались. Беднякам все труднее приходилось…
Показалось море – оно вытянулось у самого края неба огромным блестящим серпом, медленно увеличиваясь в ширину. Воздух был пронизан ласковым вечерним светом и наполнен странной тоскливой музыкой. Оке никак не мог понять, откуда она исходит.
– Это нырки, они плавают на волнах большими стаями и перекликаются друг с другом, – объяснил Бруандер, сворачивая на торговую пристань.
Бабушка не ошиблась, положившись на благожелательность шкипера. Когда пришло время отчаливать, они улеглись с Оке на палубе между двумя пахнущими дегтем бухтами каната, завернувшись в свои одеяла.
Паруса громко заполоскали, вздымаясь словно грудь человека, которому не хватает воздуха, и внутри широкого черного корпуса натужно застучал вспомогательный мотор. Синие сумерки наползали, сгущаясь, на берег, где над лесом еще горел серно-желтый закат.
Оке приметил на небе маленькую тусклую звездочку. Она мигала ему до тех самых пор, пока он не заснул.
Сразу после восхода солнца шхуна вошла, тарахтя мотором, в залив Бредвика. Первой показалась старинная колокольня с черной остроконечной крышей и свежепобелейными стенами. Поселок вытянулся вдоль обрывистого берега, будто прикорнул на солнышке; пышные аллеи и сады, в которых утопали дачи и лавки, навевали ощущение покоя и благополучия.
Вдоль темной деревянной пристани нетерпеливо дергались на своих чалках лодки, ласково булькала поблескивавшая солнечными зайчиками вода. В военной гавани стоял на якоре большой корабль в серо-стальной броне. Разговор бабушки и Бруандера о войне не выходил у Оке из головы. Он так и ждал, что огромные корабельные пушки обрушат ураганный огонь на «Дору». Однако шхуна пронесла в целости свои залатанные паруса к пристани в глубине залива и причалила без помех.
По одну сторону набережной выстроились мрачные складские помещения, по другую – за глухим забором – высилась целая гора угля. Из-за прибрежных утесов выглядывало нечто вроде высокой трубы.
– Вот это? Это старая известковая печь, – объяснила бабушка, осматриваясь по-хозяйски кругом. – Когда я была молода, послужила у ее владельца… Трудно приходилось мне после и у крестьян на хуторах, а только на господ угодить – куда труднее.
Бабушка договорилась со шкипером, что вещи пока останутся на шхуне, потом повела Оке с собой, в обход поселка. Они шли так довольно долго, а затем свернули на необычную и очень утомительную дорогу. На просмоленных деревянных поперечинах, которым не было числа, лежали уходившие куда-то вдаль узкие железные балки. Бабушка легко переступала с одной поперечины на другую, но Оке то и дело спотыкался.
– Как будто в такую рань паровоза не должно быть, – сказала бабушка, тревожно поглядывая назад.
А если пойдет – куда они денутся? Дорога была стиснута с обеих сторон крутыми каменистыми откосами без единой травинки. Оке облегченно вздохнул, когда узкий просвет впереди расширился в огромную выемку, где рельсы разветвлялись, будто суковатое дерево. Вдоль испещренных белыми пятнами склонов выстроились ряды ржавых вагонеток. Около них лежали еще какие-то странные железные штуки, от которых тянулись непонятные красные змеи.
– Это бурильные молотки, они приводятся в движение воздухом, а воздух идет по шлангам, – пояснила бабушка.
Однако бабушкино объяснение мало что говорило Оке. Неужели морской воздух обладает такой невероятной силой?
Узкая тропа вывела их на край каменоломни. Ни кустов, ни деревьев, даже земли не осталось здесь на каменных откосах. Поодаль, куда не долетали разбрасываемые взрывами обломки, вытянулось унылое длинное строение.
– Где тут главный барак? – спросила бабушка пожилого полуголого мужчину, вышедшего из дома по своим утренним делам.
– Вон там, подальше в лесу, если только клопы не унесли его за ночь, – ответил он.
…Дядя Стен только что встал с койки и протирал заспанные глаза, когда они вошли в комнату, которую он делил с тремя товарищами.
– Как, мама, вы в Бредвика, и так рано? – воскликнул он удивленно.
В комнате было душно от табачного дыма и запаха пропотевшей одежды. Дядя Стен распахнул окно и повернулся к молодому рабочему, возившемуся у чугунной плиты:
– Ополосни-ка пару кружек, угостим маму и парнишку кофе.
Рабочий широко улыбнулся, сверкая белыми зубами; на бронзово-коричневом лице искрились веселые карие глаза.
– Это Еста, мы с ним в одной бригаде, – представил его дядя Стен. – Чистокровный швед, хотя и кажется цыганом, когда загорит на солнце.
Оке не сводил глаз с дяди Стена, тщетно пытаясь узнать его. Дядя напоминал лицом бабушку, и у него были такие же светлые волосы, с той разницей, что у бабушки они поредели и стали седыми. Сколько он ни приглаживал свою шевелюру, упрямый чуб все равно падал на лоб.
Кожа на его руках была жесткая и обветренная. Между большими и указательными пальцами она потрескалась и кровоточила.
– Когда кожа трескается вот так весной, надо смазать ее воском и дегтем, а сверху обмотать шерстяной ниткой, – посоветовала бабушка.
Оке перевел взгляд на стену – там висели несколько снимков, в том числе портрет бородатого старика. В отличие от других фотографий изображение старика было украшено искусственными красными розами.
– Это дедушка? – спросил он.
Дядя Стен заулыбался, но ответил что-то совершенно непонятное:
– А что, пожалуй, Кропоткина[7]Кропоткин П. А. (1842–1921) – один из главных деятелей и теоретиков анархизма. и впрямь можно назвать дедушкой радикального рабочего движения?
– Не успел глаза продрать, как уж болтаешь про свою политику! – пробурчал один из соседей дяди Стена по комнате и вышел на улицу вместе с напарником, сильно хлопнув дверью.
Ёста поглядел им вслед и состроил такую рожу, будто проглотил что-то горькое.
– Им всегда невтерпеж! Скоро станут долбить камень задолго до гудка.
– Сколько же они наломали вчера? – спросил дядя Стен.
– На одну вагонетку больше нас, а ведь и мы сил не жалели. Кончится тем, что нам опять снизят ставки!
Дядя Стен переговорил с бабушкой о делах, затем влился в поток рабочих, покидавших бараки. Многие из них были в характерных остроконечных широкополых шляпах. Спецовки до того пропитались пылью, что казались скорее белыми, чем синими.
Попрощавшись с дядей Стеном и Ёстой, бабушка и Оке направились обратно в поселок, но теперь уже по другой дороге. Не успели они отойти немного, как со стороны каменоломни послышался назойливый треск, а затем грохот рвущихся динамитных патронов.
– Теперь все дело в том, подвезет ли нас кто-нибудь до Мурет, – сказала бабушка озабоченно.
Лишь около полудня им попался крестьянин, который приехал в Бредвика купить себе плуг и направлялся теперь на Нурингский мыс. Его малорослые лошадки с сивыми лохматыми гривами трусили довольно весело, и скоро путники оказались в глубине леса, разделявшего Бредвикский и Нурингский уезды.
Изогнутые штормами сосны упрямо цеплялись за каменистую почву, ощетинившись пышными серо-голубыми кронами. Можжевельник стелился по скудной земле совсем низко, напоминая косматого зверя. Скромные лесные цветочки, казалось, сторонились неласкового уголка. На прогалинах росли лишь плотные кожистые листья ластовня.
Глубокая колея пересекала поросшую травой вырубку, где слой земли был несколько толще. Бабушка показала на покосившийся сарайчик и серый дом с забитыми окнами:
– Здесь жил твой отец, пока не распрощался с родным гнездом.
Насколько Оке помнил, он видел отца только один раз… Отец поговорил с ним тогда, угостил леденцами из кулька и неуклюже потрепал по щеке. У него было обветренное и чужое лицо. Уходя, он пригнулся, чтобы не стукнуться головой о притолоку низкой двери бабушкиного домика…
– Что-нибудь слышно от него – от Лассе? – спросил возница с плохо скрываемым любопытством.
– Нет. Ему, видно, и без нас дел хватает, – ответила бабушка сухо. Она помолчала, погрузившись в свои мысли. – Неудивительно, что дело так кончилось – разве прокормишь семерых детей на этом камне! Тут не то что хлеб – бурьян не станет расти.
Оке перебил ее нетерпеливыми вопросами. Неожиданно они выехали из леса. Изумрудно-зеленые всходы ржи на широких полях поднялись, казалось, прямо из известкового щебня и серого булыжника. Под темными камышовыми крышами стояли в ряд коровники, углом к направлению господствующего ветра. Плотной каменной стеной тянулись ограды, сложенные из тщательно подогнанных плоских плит.
Дорога сделала большую, непонятную на первый взгляд петлю в сторону голого мыса, потом спустилась к берегу залива. Теперь они ехали по плодородному краю, который был когда-то морским дном, и вдыхали острый запах гниющих водорослей. Высокие деревья с пышной листвой, отбрасывавшей густую тень на дворики, окаймляли покрытую бурой пылью, всю в выбоинах деревенскую улицу. Телефонные провода сгущались у дома с голубой вывеской на стене. Напротив стоял новый магазин с большими витринами. Не нужно было даже заходить внутрь, чтобы посмотреть на товары.
– Поднажился на войне этот новый торговец… – протянул крестьянин с завистливым восхищением в голосе.
– Похоже, старому лавочнику скоро придется сдаваться. Вот тогда мы увидим, чего стоит этот благотворитель Бугрен, – ответила бабушка.
Дорога снова пошла вверх, в сторону лежавших высоко над морем тощих известковых песков. По краю обрыва выстроились цепочкой серые пузатые башни. Та, что поближе, стояла наполовину разрушенная, но остальные сохранили вращающиеся деревянные макушки, на которых были закреплены широкие, теперь уже дырявые крылья. Маленькие темные оконца угрюмо смотрели на новое, свежепросмоленное строение с высоким куполом.
Оке решил, что это церковь.
– Нет, это паровая мельница, – поправил его возница. – Теперь не приходится больше ждать ветра, чтобы намолоть муки.
– Да-а, новые времена приходят на наш остров, – произнесла бабушка задумчиво.
Вдоль обочины дороги паслись серые овечки. Одна из них испуганно заблеяла, когда телега подъехала совсем близко, и все стадо бросилось наутек. Маленькие копытца звонко стучали о проглядывавший тут и там камень.
Потом показалась наполовину скрытая в высокой траве дощечка с какими-то цветными знаками и стрелой. Оке попытался мысленно сделать из кнута возницы лук, положить на него эту голубую стрелу и послать ее далеко вперед над ослепительно белым полотном дороги. Ехать навстречу новой жизни, пусть даже на скрипучей, пахнущей навозом телеге – это было для него целым событием.
Доски с закорючками и стрелами встречались часто. Некоторые были вытесаны из камня; попадались также грубые, необтесанные тумбы с какими-то значками.
– Такой знак ставят на границе дорожных участков, за которые отвечает тот или иной хуторянин, – объяснила бабушка.
В голове Оке родилось смутное воспоминание: серый, дождливый день, длинные упряжки на дорогах, скрип железных лопат по мокрому гравию. Седой крестьянин подгоняет своих сильных, но ленивых быков энергичными, порой даже сочными возгласами, перемежаемыми словами убеждения, Потом быки стояли на привязи у бабушкиного коровника, и сутулый жилистый старик, задавая быкам корм, проходил в опасной близости от опущенных рогов…
Над песками повисло сонное марево, напоенное запахом полыни и тимьяна.
Утомленный ездой, невыспавшийся, Оке не выдержал. Он уснул, пристроившись на узле с одеждой, и проснулся, уже когда телега снова спускалась с холма.
– Теперь считай – мы дома, – сказала бабушка.
Трава на обочинах была гуще и свежее, чем на иссушенных солнцем склонах там, наверху. Густая листва ольхи и вечно трепещущей осины притеняла землю, сосны зарывались глубоко в песок своими корнями, вздымая вверх розовые, стройные, как мачты, стволы.
Нурингский мыс был целиком созданием моря, нагромоздившего горы песка между узкими известковыми рифами. Песок откладывался здесь уже на памяти людей, прямо на глазах. Этим и объяснялось, что в лесу вам попадался вдруг хутор с неуместным, на первый взгляд, названием Высокая Отмель или что маленькая приморская деревушка недалеко от оконечности мыса именовалась Островком.
Большинство песчаных дюн со временем отступило от моря и успело уже порасти сосной и мхом, но вдоль самого берега еще остались подвижные окраинные дюны.
Рассказывают, что однажды явившийся с моря неприятель не решился высадиться на берег только потому, что принял песчаные горы за целую армию рыцарей в блестящих доспехах, верхом на белых конях, поджидавших врага в полной боевой готовности.
Если эта легенда и имеет под собой какое-нибудь Реальное основание, то вероятнее всего, что военачальники исходили из других, менее фантастичных соображений, давая приказ сняться с якоря: Нурингский мыс пользовался в старину на Балтике дурной славой. Его жители исстари привыкли к кровавым схваткам с эстами[8]Эсты – древнее название эстонцев. и материковыми шведами за лучшие места боя морского зверя. Для своего времени они были неплохо вооружены крупнокалиберными ружьями, а на худой конец отбивались и копьями, предназначенными для тюленей. Со стороны суши мыс был защищен топями, а среди опасных прибрежных рифов орудовали нурингские пираты на своих просмоленных лодках с высокими форштевнями.[9]Форштевень – передняя грань судна.
Берег залива Скальвикен долгое время оставался непригодной к земледелию трясиной, убежищем уток, комарья да охотников за лягушками – ужей. Еще недавно лишь черные топи да густые заросли ольшаника тянулись здесь между дюнами.
– Смотрите, Мурет стал совсем красивым местом, – сказала бабушка, глядя на окаймленный лесом цветущий луг. – Кто бы подумал лет пятьдесят назад, что здесь будет так славно? Тогда тут можно было видеть только вонючие лужи да редкие дымные хибарки, полные голодной детворы. Мой свекор Самюэль Шёберг пришел сюда одним из первых – купил песчаный бугор с топью внизу и принялся за работу.
– Зато сейчас здесь отменная почва для огорода, – заметил возница одобрительно.
– А сколько трудов пришлось положить… Среди первых поселенцев были такие бедняки, что даже тачки купить не могли. Песок, чтобы засыпать трясину, носили в ящиках на себе. Только и было у них имущества, что рыболовные снасти. А без снастей перемерли бы все с голоду, дожидаясь первого урожая…
* * *
Бабушкин домик приютился под сенью самой старой из прибрежных дюн Скальвикена, давно уже успевшей превратиться в покрытый жесткой травой серо-зеленый холм. В квадратном строении, обшитом тонким тесом, помещались одна-единственная комнатка и тесная кухонька. Красная краска на наружных стенах изрядно поблекла, драночная крыша потемнела от гнили.
Едва бабушка отперла дверь, как оттуда выскочил кот с ободранным носом, фыркнул и скрылся в отверстии каменного фундамента.
– Не может быть! – воскликнула бабушка растроганно и удивленно. – Неужели Моппе удрал от Вилле Мёрка и жил здесь дикарем все это время?
Оке лег на живот и поглядел в дыру, но увидел только два сверкающих в темноте золотистых глаза.
Одичавший кот, каждая вещь в домике, рассказы бабушки о ранних годах его детства – все это пробудило в Оке множество воспоминаний.
…Стоило ему позвать «кис-кис!», как неслышно появлялся большой белый с рыжими пятнами зверь. Хорошо было зарыться лицом в пушистый мех и слушать ласковое мурлыканье, когда в комнате царила тишина, сгущаясь в темных углах и закутках. Правда, Моппе часто пропадал где-то по целым неделям, но у Оке был еще друг, никогда ему не изменявший: тряпичная кукла с лицом в голубую полоску. Несколько стежков черной шерстяной ниткой обозначали рот, нос и глаза, и этого было Достаточно, чтобы Оке видел в кукле живого товарища по играм.
– Бабушка, ты за дровами идешь? – спрашивал он каждый раз, когда ей приходилось оставлять его одного.
– Да, я только до леса и обратно, – подтверждала она, куда бы ни шла на самом деле.
И он успокаивался, потому что лес можно было увидеть в окна с трех сторон, если влезть на табуретку. Только на юг открывался другой вид. Там взгляд упирался в откос прибрежного холма, который заслонял собой весь мир. Вверху на гребне стояла березка, раскинув на фоне неба зеленую верхушку, а из-за гребня доносился неумолчный гул моря.
Перед самым окном качались ветви старых, но еще плодовитых яблонь. Их никто не подстригал, и они сравнялись макушками с коньком крыши. Одна из них – «немка» – была родом из Гамбурга: дедушка побывал там однажды на ярмарке, отведал удивительно вкусных яблок и сберег от них семечки.
Устав торчать у окна, Оке начинал коситься на голубой шкафчик. В нем хранилось много заманчивых предметов, но шкафчик, как и стол, был запретной зоной. А чтобы он помнил об этом, бабушка выставляла на видном месте розгу. Один вид ее держал Оке в страхе, хотя бабушка никогда не била его. Оке опасался, что розга сама может коршуном наброситься на него даже без бабушки. А то зачем бы ей оставлять розгу сторожить вместо себя?
В конце концов бабушка уступила его настойчивым уговорам, и кинула розгу в огонь, а новую уже не стала заводить…
У подножия холма в болото вдавался небольшой участок земли, который бабушка решила не сдавать в аренду. На дальнем конце сквозь комья торфа и ила, разбросанные для удобрения вперемешку с сухими водорослями, еще просвечивал белый песок, но ближе к саду образовался хороший перегной.
Сразу же после возвращения бабушка вскопала несколько грядок и строго-настрого запретила Оке возиться на них.
Как-то раз он услышал ее голос с поля:
– Фина, поставь чайник на плиту! Я сейчас приду!
Нехитрый запор кухонной двери повернулся, и вошла бабка с соседнего хутора. У нее были полные щеки с красными прожилками и острый нос.
Печка имела обыкновение пускать клубы дыма через дверцу когда в нее клали слишком много щепок, и Фина Лагг не скоро прокашлялась, разжигая огонь.
– Это хорошо, что ты зашла, – я смогу передохнуть немного, – сказала, входя следом за ней, бабушка и принялась отмывать руки от земли.
Фина прошла по-хозяйски к шкафчику и достала посуду. Из-за ее толстой домотканой юбки вдруг робко выглянули чьи-то голубые глаза.
– Не стыдно тебе вечно за меня цепляться? – сказала Фина босоногой курносой девчонке. – Ты ведь уже большая. Пошла бы лучше, поиграла с мальчиком.
Гюнвор нерешительно перебирала золотистую косичку не слишком чистыми пальцами. Оке стоял неподвижно у печки и смотрел на девочку с любопытством и восхищением. Он уже приготовился показать ей нечто необычное – не у каждого мальчика есть огромный дикий кот с рыжими пятнами. Правда, Моппе все еще боялся людей, несмотря на все ласковые слова и обильное угощение молоком. Вот и теперь он уже успел забиться под кровать, но Оке удалось вытащить его оттуда, к большому восторгу Гюнвор.
Однако на Фину вид кота произвел совершенно иное впечатление. Она резко отставила чашку, плеснув кофе на поднос:
– Так вот он где! Этот вор то и дело наведывается к нам в курятник за яичками!
– Что ты говоришь! Да где это слыхано, чтобы коты яички таскали? – попыталась успокоить ее бабушка.
– Да уж будьте уверены! И если вы сами с ним не разделаетесь, то мой хозяин подкараулит его с ружьем.
– Пусть только попробует! – возвысила бабушка голос. – Теперь, когда мы вернулись, кот перестанет шкодить. Кормим мы его досыта.
У Фины даже глаза позеленели от негодования, а волосы на бородавке у нижней губы сердито задрожали:
– Если только ваш кот еще раз сунет нос к нам на участок, мы его на месте пристрелим!
Моппе вырвался из рук Гюнвор, распахнул дверь в сени и шмыгнул по крутой лестнице на чердак. Оке побежал следом, разыскал кота в самом темном углу и обнял его, заливаясь слезами. Сквозь густую шерсть он чувствовал частый стук кошачьего сердечка. Противный Лагг хочет всадить в это сердечко заряд дроби, отнять у Оке его друга… Казалось, кот понимал мальчика. Он обхватил его шею сильной лапой, словно хотел утешить, и нежно лизнул в щеку.
Тем временем перепалка на кухне продолжалась, хотя перекинулась уже на другое.
– Небось, когда межу проводили, вы сколько нашей земли отхватили! – сердито кричала Фина.
– Уж ты бы помолчала! Что ты скажешь о канале, который мы вместе прорыли и за которым должны были вместе следить? Не найми я людей, он уже давно бы обвалился.
Бабушка разгорячилась не меньше Фины – можно было подумать, что у нее с семьей соседа-бондаря вражда не на жизнь, а на смерть.
* * *
Спустя несколько времени после этой ссоры явился новый гость. Оке опять сидел один дома; вдруг в дверь решительно постучали, и вошел странно одетый старик. На нем был сюртук из грубой холстины и сильно поношенные, сужающиеся книзу брюки, на голове – пожелтевшая панама. Порывистыми жестами и живыми глазами он напоминал задорную синичку, которая ничего не боится, но постоянно держится начеку. Старик внимательно оглядел Оке, потом заговорил, тряся бородкой:
– А где твоя бабушка?… Ах, вот как: угу – на лугу… И он тут же исчез, прежде чем Оке успел опомниться.
Скоро пришла бабушка и объяснила, в чем дело:
– Придется тебе пойти со мной к Мандюсу. Он хочет, чтобы я прибрала у него. А уж если он что вобьет себе в свою упрямую башку, то не может подождать и минуты.
Мандюс только недавно продал свой старый дом, стоявший у шоссе в тени елей. Ели эти были своего рода достопримечательностью, потому что хвойный лес не успел еще добраться до мыса Нуринге. Новый домик, маленький и аккуратный, как сам Мандюс, был выстроен на южном, солнечном склоне Страндосен. Хозяин покрасил наружные углы ярко-зеленой краской – только потому, что обычай требовал белого цвета.
С беленых стен смотрели широкие окна, массивная дверь пахла свежим дегтем. Не всякому разрешалось переступать порог этого дома, но сегодня Мандюс был настроен благодушно.
. – Только ничего не трогай, – шепнула тревожно бабушка, входя с Оке в комнату.
Неприятный острый запах ударил им в нос и защипал в горле.
– От этих бутылок держись подальше, – произнес Мандюс предостерегающе, словно прочитал мысли Оке. – Если тебе на пальцы попадет кислота, то разъест до самых костей!
Оке с уважением оглядел бутылки на подоконнике. Подумать только – на вид обычная вода, а на самом деле в них какое-то зелье, которое может съесть его пальцы! Пожалуй, лучше и от верстака держаться подальше. А как хотелось потрогать и подставку, и гравировальные инструменты, и маленького деревянного ежика с тонкими металлическими иголками, и коробочку с заклепками…
Мандюс выдвинул из стола ящик, достал кипу бумаг и лекала.
– Узнаешь, Анна, эту шхуну? – спросил он, показывая большой рисунок.
– Так это же «Заря» – та самая, которая села на камни у мыса Рёрудден много лет назад!
– Верно, – подтвердил Мандюс с довольным видом и погладил свою холеную бородку.
– Спасли тогда хоть кого-нибудь? Помнится, шлюпка перевернулась и вся команда утонула.
– Как же, капитан добрался до берега – он был опытный пловец. Но только ему разбило голову камнем, и он умер от потери крови, прежде чем мы довезли его до доктора.
Оке привстал на цыпочки, чтобы лучше увидеть волнующие и ужасные события, которые Мандюс запечатлел на листке бумаги. Большая трехмачтовая шхуна с оборванными штормом снастями билась о камни, захлестываемая высокими волнами. На берегу лежал раненый капитан в спасательном поясе.
– Самое удивительное во всей этой истории, что я сам же и строил это судно! – продолжал Мандюс. – В последний месяц моей работы на Южной верфи в Стокгольме мы как раз заложили «Зарю». С тех пор уже пятьдесят лет прошло…
– Вот ведь какие совпадения случаются, – промолвила бабушка задумчиво.
– Да, всякое бывает…
Мандюс положил рисунок обратно в ящик, взял вместо него какую-то странную красноватую дощечку и подошел к маленькому горнилу, где потихоньку тлели уголья. Охваченный любопытством, Оке пошел за ним, но быстро отступил назад – угли вдруг раскалились и зафыркали искрами на медную пластинку. Мандюс ногой привел в движение большие мехи, которые с хрипом и скрипом выдували струю воздуха на огонь.
Нагрев пластину, Мандюс подхватил ее клещами и перенес на наковальню, после чего принялся колотить по ней молотком. Этой пластине было предназначено стать блюдом для фруктов с выгравированным на дне изображением крепостной стены Висбю и гирляндой роз по краю.
У Мандюса была целая полка с готовыми блестящими вещичками, и, когда бабушка и Оке собрались домой, он достал оттуда небольшую медную рамочку.
– Держи! Подрастешь – вставишь в эту рамку карточку своей невесты, – сказал он Оке и лукаво подмигнул.
Оке изо всех сил прижал рамку к груди. Он был совершенно ошеломлен и еле выдавил из себя «спасибо». Но бабушка считала, что он не может принять этот подарок.
– К чему отдавать мальчишке такую красивую вещь? За нее, если продать, можно хорошую цену получить.
– Ерунда! – сказал Мандюс сердито. – Господам из Висбю подавай одни кофейные котелки с треножником на старинный лад, а туристы покупают только те вещицы, на которых изображена крепостная стена.
…Иностранное слово «туристы» было совершенно новым для Оке, однако оно очень быстро навязло ему в ушах, словно назойливое жужжанье толстого шмеля.
Мандюс продал не только домик под елями, но и луга с зелеными рощами между шоссе и заливом – самые красивые во всей округе. Теперь здесь появилось новое строение с верандой во весь фасад, над которым усердно трудились маляры.
– Этот ресторан, говорят, сам «король» строит, – с почтением в голосе сказала бабушка, проходя мимо с Оке.
Она, конечно, имела в виду не того обвешанного орденами мужчину с золотыми эполетами, с широкой лентой через всю грудь и острыми усиками, которого можно было увидеть на олеографиях в крестьянских домах или на дешевых кофейных подносах, украшенных овальными изображениями многочисленной семьи Бернадотов.[10]Бернадоты – ныне царствующая династия шведских королей. Тот монарх был чуть ли не сказочной фигурой, пребывавшей в продолговатой стране за морем, о которой Оке имел самое смутное представление. Зато «готландский король» воплощал в своем лице весьма ощутимую власть и силу, в чем убеждался рано или поздно каждый житель острова. Седой, толстобрюхий судовладелец был хозяином пароходных линий, железных дорог и туристских гостиниц. С каждого человека и с каждого места груза, прибывавших на пристань Висбю. его компания собирала немалую дань – либо непосредственно, либо через многочисленные извилистые ручейки торгового оборота.
– Не пойму я что-то, на чем он только рассчитывает нажиться в нашем захолустье, – говорила бабушка. – Нет у нас здесь ни старинных церквей, ни развалившихся монастырей – ничего такого, ради чего богатые люди готовы весь свет объехать, лишь бы увидеть.
Однако на этот раз бабушка ошибалась. В Мурет имелись самые настоящие памятники древности. Около леса, неподалеку от высоких белесых гребней Стурхауен, можно было увидеть четырехугольные углубления в земле и остатки каменной кладки.
Имелись и достопримечательности другого рода; например, Лизин луг – сырая, мшистая, поросшая осокой прогалина, постепенно переходившая в болото. Здесь между двумя высокими соснами находилась глубокая яма с темной гнилой водой – старый колодец. Доведенная до отчаяния нищетой и одиночеством, Лиза Кваст утопила в нем своего новорожденного ребенка.
В лесных зарослях, поглотивших заброшенные хутора, попадались кустики смородины с кислыми ягодами и одичавший, несъедобный крыжовник. Об этом Оке узнал от Тюнвор. Однажды она увильнула от присмотра за младшими и показала ему все потайные ягодные места, заставив поклясться, что он никому не откроет ее секрет.
В то лето автомобили стали обычным явлением в Мурет. Густые облака пыли застилали все дороги, ложась серой пеленой на зелень по обочинам. Бабушка припомнила слышанное в детстве предсказание, что когда телега поедет без лошади – того и жди, конец света настанет. Молва приписывала это предсказание неведомой древней прорицательнице.
– Моя мама никак не могла себе представить, чтобы это было возможно. А вот мне удалось увидеть такие телеги! – говорила бабушка гордо; близость конца света ее явно не пугала.
Но Оке после этого каждый день ждал, что земля вдруг свернется сухим листком или рассыплется черной пылью у него под ногами. Ведь прорицательница была не какая-нибудь там заурядная цыганка-гадалка, из тех, что читают по ладони и предсказывают судьбу на картах. Она безошибочно предсказала исход мировой войны, хотя жила за много столетий до нее! Оке пытался выяснить подробности деятельности этой поразительной особы, но безуспешно. Где она жила – здесь, в Нуринге, или, может быть, в Бредвика? Никто не мог дать ему точного ответа, хотя все отлично знали, что именно она предсказывала и как удивительно все сбылось.
Бабушка склонялась к тому, что ворожея нездешняя, и с полным убеждением утверждала, что вместо одной ноги у нее была гусиная лапа. Оке пытался представить себе прорицательницу по бабушкиному описанию, однако гусиная лапа все время сбивала его с толку.
…Особенно остро пахло бензином в том месте, где начинался проселок, соединявший шоссе с дюнами. Здесь останавливались огромные туристские автобусы из Висбю, и тем из пассажиров, которые хотели полюбоваться видом с гребней дюн, приходилось продолжать путь пешком.
Случалось, какой-нибудь самонадеянный автомобилист пытался одолеть холмы на своей машине, но колеса неизменно завязали в песке, и потом приходилось немало повозиться, чтобы выбраться назад. В таких случаях ребятишки отваживались подойти поближе; обычно же они разглядывали чужаков с почтительного расстояния.
Оке страшно пугался, когда приезжие вдруг заговаривали с ним. Они говорили так быстро, что он ничего не успевал понять и отвечал лишь мучительным молчанием.
Хак и не дождавшись, когда он сообразит в чем дело, они презрительно или сочувственно пожимали плечами и обращались к ребятишкам постарше, которые уже ходили в школу и лучше разбирались в удивительном наречии шведов с материка.
Раньше готландский диалект годился на все случаи жизни, теперь же вдруг получалось, что говорить на нем так же неприлично, как сморкаться в пальцы. И если Оке тем не менее каждую свободную минуту торчал у автобусной остановки, то не только потому, что его привлекали машины, – всем существом он прислушивался к разговорам туристов, стараясь освоить их непривычный говор.
Пытаясь понять, что могло привлечь приезжих в нурингское захолустье, бабушка совсем упустила из виду песчаный пляж залива Скальвикен. Он протянулся светлой дугой почти на пять километров от лесистого мыса Рёрудден до бурых скал Архаммарен. Со стороны лодочной пристани, где обычно купались Гюнвор и ее младший братишка Бенгт, люди на пляже казались роем черных мурашей, и дети не могли понять, почему приезжие теснятся на таком маленьком клочке.
Несмотря на размолвку с Финой, бабушке приходилось просить лагговских детей присматривать за Оке, когда он убегал с ними к заливу. Вдоль берега тянулась широкая отмель; однако случалось, что течение увлекало в море даже умелых пловцов. При малейшем волнении у песчаных кос начинал бесноваться коварный прибой.
Далеко-далеко от берега небо спускалось прямо в море, а на полпути до четкой линии горизонта лежал островок Рёрхольмен. Окаймленный желтой полоской песчаного берега, с маленьким пригорком на одном конце, он напоминал длинную баржу. Такие баржи перевозили по морю известняк. Только они держались подальше от берега, так что не было видно даже кончиков мачт. Моряки боялись Длинных подводных скал, тянувшихся от острова в море, словно щупальцы морского хищника.
Над мхом и порыжевшей травой возвышалась одинокая иссохшая сосна. В былые времена она служила наблюдательной вышкой мародерам, грабившим суда, которые терпели крушение на далекой Восточной мели. Эта сосна производила странное впечатление на голом островке и раньше, когда стояла с зеленой кроной и в ее стволе еще бродили живые соки; теперь же она казалась призраком, воздевшим к небу иссохшие руки и бросающим вызов всем непогодам.
На мысу Рёрудден стоял сарайчик – общее владение двух живших здесь крестьянских семей. Он никогда не запирался, и в нем постоянно ночевали рыбаки. Одни лишь чайки протестовали против этого вторжения, наполняя воздух хриплыми криками, шорохом крыльев и мельканием белых грудок, когда рыбаки подходили к берегу.
…Слабый ветерок донес через весь залив глухой гул с юго-запада.
– Слушайте, из пушек стреляют! – крикнул Оке взволнованно.
Он лихорадочно сооружал песчаный барьер. Бенгт был настолько занят укреплением угловой башни, что ему некогда было отвечать. Курчавые волосы взмокли на висках, упрямо стиснутые губы придавали ему забавное сходство с дедушкой Лаггом.
Морская волна отступила назад, напоровшись на крепость, но это была лишь коварная военная хитрость. Собравшись с силами, она ринулась в новую атаку. Стены и башни растаяли, зеленые пушечные стволы поплыли по воде, и защитники крепости отступили к береговой дюне, чтобы изготовить там из осоки сабли и мечи.
Гюнвор сидела тут же рядом, посыпая голые ноги горячим песком. Снова раздался гул, заставив ее зябко вздрогнуть:
– Гром гремит!
– Что же ты не бежишь домой прятаться в чулан? – спросил Бенгт с презрением. – Ты видишь хоть одну тучу?
Отец-моряк рассказывал ему, что, когда с вагонеток опрокидывают камень в трюмы пароходов, на пристани всегда стоит оглушительный грохот.
– На пристани в Бредвика погрузка идет, а ветер сюда шум доносит, – объяснил Бенгт.
Оке сомневался. Он единственный из всех присутствовавших имел кое-какое представление о расстоянии, которое отделяло их от каменоломен.
– А я думаю, что это был большой взрыв, – сказал он и воспользовался случаем похвастаться недавно приобретенными познаниями.
Такой большой заряд заложить – дело опасное. Сначала надо пробурить в камне отверстие, потом расширить его, чтобы можно было положить необходимое количество динамита. Оке был не совсем уверен, как именно это делается, но смело заявил, что для этого пользуются паяльной лампой.
– Ты врешь, – возразила Гюнвор с упреком в голосе. – Огонь не берет камень.
– Вот как! А как же известь обжигают?
Оке торжествующе осмотрелся вокруг. Даже Эстен, худой, долговязый четырнадцатилетний парень с вызывающей физиономией, не решился возразить ему.
– Когда укладываешь динамит, – поучал Оке, – нельзя становиться перед самым отверстием, как это сделал финн Мякки. Первые патроны взорвались до времени – видно, камень нагрелся от бурения, – и ломик ударил Мякки прямо в грудь, прошел насквозь и вышел между лопатками.
Гюнвор вздрогнула и непроизвольно прижала руки к сердцу:
– Давайте лучше одеваться!
Оке без особого удовольствия вспомнил о времени. Одного взгляда на солнце было достаточно, чтобы убедиться, что он пробыл на берегу дольше, чем позволила бабушка. Он торопливо натянул рубаху и побежал домой, не дожидаясь остальных.
На склоне дюны, где песок был удобрен кучами гниющих водорослей, образовался небольшой лужок. Группа туристов устроилась здесь отдыхать на травке, и Оке едва не споткнулся об их вещи.
– Как тебя зовут, малыш? – спросила молодая дама, ласково улыбаясь.
Оке набрался храбрости и представился.
– Шесть лет и три месяца, – добавил он сразу, чтобы предупредить дальнейшие расспросы.
Все громко рассмеялись, словно он сказал что-то смешное. Пожилой господин погладил Оке украшенной кольцами рукой по голове и вложил в кулак мальчика какой-то кружочек.
Двадцать пять эре! Оке поблагодарил и уставился на подарок. Когда бабушка отправлялась за покупками, она обычно приносила ему конфет на пять эре. За один пятачок можно было купить большой кулек леденцов, а двадцать пять эре – это же в переводе на сладости целое состояние!

Сравнивая, сколько дают в магазине за медный пятак и за меньшие по размеру серебряные монетки, Оке пришел к выводу, что чем сильнее блестит монета, тем больше можно купить на нее. Всю дорогу до Страндосен он тер свой подарок о рубаху, так что пальцы горели.
Тут-то его и нагнал Эстен.
– Что это у тебя? – спросил он, зловеще улыбаясь.
– Ничего.
Оке зажал монетку в кулаке. Скорее он даст сломать себе пальцы, чем добровольно разожмет кулак.
– Давай сюда деньги, сопляк! Ты их только потеряешь где-нибудь.
Сколько Оке ни отбивался ногами, сколько ни царапался, ничто не помогло. Эстен отнял у него монету и, чтобы подразнить, поднес ее к самому носу Оке.
– Дурак! Вор! Вор чертов! – кричал Оке в бессильном отчаянии.
– Так ты еще и ругаться!.. – произнес Эстен с расстановкой. – Вот я расскажу об этом твоей бабушке, она тебе всыплет.
Оке совсем уж было распрощался со своим сокровищем, но Эстен вдруг одумался и сунул ему монету обратно:
– На уж, держи, дурачок! Тебе бы жить в сумасшедшем доме вместе с матерью.
Оке рванулся в сторону и кинулся бежать.
– Беги, беги прямо к матери в сумасшедший дом!
Острая боль пронизала мальчика. Бежать, бежать в лес, где его никто не увидит. Теперь он понял наконец, почему всегда слышал уклончивые ответы, когда спрашивал, отчего мама болеет так долго…
Он споткнулся о кочку и растянулся. Жесткий вереск царапал щеки, шею укусил муравей, но он ничего не чувствовал…
* * *
Оке не особенно удивился, когда однажды в субботний вечер увидел возле кухонного стола незнакомую девушку, которая гладила белую блузку. Но когда она повернулась на своих высоких каблуках и расцеловала его, он вытаращил глаза. У нее были теплые полные губы, а темные волосы пахли жасмином.
– Ты что же, не узнаёшь старшую сестру? – рассмеялась она.
– Чего ты хочешь от него? Мальчику и трех лет не было, когда ты приезжала последний раз и сделала ему его обожаемую куклу, – вмешалась бабушка.
Оке помнил только, что куклу сшил кто-то другой, не бабушка. Салли была для него совершенно чужой.
– Да, тогда я обрадовалась случаю уйти в город домашней работницей, подальше от здешних сплетниц.
В веселом голосе Салли прозвучал оттенок горечи, который не ускользнул от бабушки.
– Ну-ну, с тех пор уже столько воды утекло… Невесело тебе жилось тогда, это верно, и детство у тебя было невеселое. Так уж повелось – где отчим, там и до мачехи недалеко…
Оке расстроился, узнав, что Салли ему родная только наполовину: он уже успел проникнуться гордостью от сознания, что у него такая красивая сестра.
– Когда же ты приступишь к работе в ресторане? – спросила бабушка.
– Завтра с утра. Завтра воскресенье, ожидается много посетителей, и дел будет по горло.
За стеной послышался знакомый шум – подъехал на велосипеде дядя Стен, но только на этот раз не один, как обычно, а с кем-то вдвоем. Старая дверь красного дерева, снятая еще дедушкой с севшего на мель парусника, распахнулась от сильного толчка.
Дядя Стен вошел первым, слегка порозовевший и оживленный больше обычного, за ним – его веселый напарник, с которым бабушка и Оке познакомились в бараке. Они поздоровались, затем дядя Стен протянул бабушке большую запыленную сумку.
– Что-то там булькает, – произнесла она многозначительно.
Оке стоял тут же: дядя Стен всегда привозил что-нибудь вкусное из более богатых бредвикских магазинов. На этот раз это был белый хлеб, прямо из пекарни.
– Один обман, сплошные дрожжи. Жиров в тесте кот наплакал, – заметила бабушка презрительно.
Но Оке вцепился зубами в корку так энергично, что хрустнула сахарная глазурь; для него не было ничего вкуснее «булки».
– Да ты можешь есть взапуски с самим гобургским стариком! – сказал Еста и подбросил вдруг Оке к самому потолку.
– А ты видел, как он ест? – спросил Оке недоверчиво, когда снова обрел твердую почву под ногами.
Он не был уверен – может быть, гобургский старик и в самом деле существует и забирает непослушных детей.
– Нет, это просто выдумка такая, – признался Ёста чистосердечно. – На юге есть у моря скала Гобург, похожая, если смотреть издали, на старика. Оттуда и пошло.
Бабушка спросила гостя, где он родился, и Ёста рассказал, что вырос в маленьком домике с плоской крышей недалеко от Гобурга. В том краю на берегу тоже есть каменоломни, только в них добывают серый песчаник. Каменотесное долото было его любимой игрушкой еще задолго до того, как стало кормить его.
– В шестнадцать лет я мог вытесать точильный камень какого хочешь размера, но теперь это ремесло уже никому не нужно, поэтому я и перебрался на север.
– А родители у тебя живы?
– Нет… Мама умерла недавно, а об отце я почти ничего не знаю. Люди говорят, что он был из Галиции. Видно это мне от него достались такие черные волосы.
Ёста рассмеялся.
Салли внимательно посмотрела на него из-под густых ресниц.
– Я помню поляков – вместе приходилось свеклу копать, – заметила бабушка. – Они праздновали воскресенье по субботам. Девушки наряжались в такие красивые платья – везде кружева. Как придут в лавку, кричат, тараторят, так что у лавочницы каждый раз голова болела от них. Уж они и пальцами показывают и рисуют – все равно она никак не могла их понять.
Бабушка подала обед. Остатки водки разлили по чашкам, смешав с крепким горячим кофе.
После обеда она ласково попросила Стена спеть. Он только смущенно улыбнулся в ответ, но тут все принялись его уговаривать. Полуприкрыв глаза, словно прислушиваясь к чему-то, Стен откинулся назад, на спинку стула, и запел грустную песню. Голос у него был высокий, но сильный; казалось, ему было тесно в комнате. У Оке защемило в груди. Бабушкины глаза увлажнились, а на лице Салли появилось мечтательное выражение.
– А ну-ка, давай теперь «Сватовство Яко-Смиссена», – предложил Ёста, когда воцарилась тишина.
– Да ну… Вы ее уже сто раз слышали.
– Ничего, ее можно и двести раз слушать, – заметила бабушка.
Дядя Стен тряхнул головой, убирая со лба длинный чуб, потом запел веселую, бойкую шуточную песенку под дружный смех слушателей:
Скажи-ка, Яко-Смиссен, где ты бродил всю ночь?
Хай-литте-ли, всю ночь?
Штаны порвал ты в клочья, хоть выброси их прочь!
Хай-литте-ли, хале-е-е!
Припев переливался в горле дяди Стена, словно трель жаворонка.
– Мне бы такой голос в молодости – уж меня не пришлось бы упрашивать спеть! – вздохнула бабушка.
– Теперь ваш черед, мама, – отпарировал дядя Стен. – Расскажите-ка нам какую-нибудь историю позанозистей.
Бабушка, чтобы выиграть время, принялась разглаживать пальцами платье и фартук на коленях, потом подумала немного и начала:
– Вы, молодежь, наверно, мало что знаете о Стине Кайсе с хутора Стадар…
– Это та, которая говорила: «Послал бы господь картошки да рыбы, да здоровья, да еще немного подливки придачу, так и жить можно»?
Бабушка кивнула:
– Она самая. Люди считали ее придурковатой, потому что она всегда говорила то, что думала. А вообще-то за ней ничего такого не замечалось. Ну вот, когда пастор Энбум отправился с женой по хуторам, знакомиться с народом, заехал он и в Стадар. Его только что назначили, и Стина Кайса – она как раз стояла у дровяного сарая – не знала его в лицо…
Бабушка была в ударе. Они словно видели все в лицах: вот придурковатая старая крестьянка, а вот молодой важный священник.
«Здравствуйте!» – произнес он сухо.
«Здрасте», – ответила Стина Кайса, а сама продолжает собирать лучину.
«Вы не узнаёте меня, видно?»
«Хе! Да уж не скупщик ли ты, шкуродрал? Их в нашем бедном уезде, что блох, развелось».
«Нет, я пастор здешнего прихода!»
Стина Кайса от неожиданности даже рот разинула, но сразу же нашлась:
«Что ты говоришь! Милый, хороший, заходи, угощайся, чем бог послал! Съешь ломоть хлеба с маслом да с колбасой!»
«Вошла это я в дом, – рассказывала Стина потом. – Священник за мной. Я села за стол у одного конца, священник – у другого. Священник достал библию. Я – кувшин с пивом. А жена его так и осталась стоять посреди комнаты. Да только мне на нее на…!»
Салли заметно смутилась, зато Ёста улыбался до самых ушей.
Когда пришло время ложиться спать, бабушка засуетилась:
– Где только я вам всем постелю…
– А мне было бы одеяло, я и на сеновале устроюсь, Лучшего места не придумаешь, – заявил Ёста и тут же осведомился, нельзя ли снять угол на сеновале на все время отпуска.
Первый раз Оке слышал, чтобы рабочий решил использовать свой четырехдневный отпуск для отдыха.
«Все равно не хватит ни времени, ни денег съездить куда-нибудь, так уж лучше на сенокос пойти», – говаривал обычно дядя Стен.
Ёста загорал на пляже, нежился в теплых волнах залива и заплывал под водой так далеко, что Оке начинал беспокоиться, вынырнет ли он вообще. Гость выдержал целых два дня такого непривычного существования. На третий день, однако, ему стало не по себе, и он стал придумывать занятие, которое напоминало бы работу.
– Попробуй под вечер поставить сети на камбалу, если погода не подведет, – предложила ему бабушка.
Оке упросил Ёсту взять его с собой, а потом выговорил обещание, что Ёста разбудит его на следующее утро выбирать сети.
Он так боялся проспать, что то и дело просыпался ночью. Сквозь полусон он прислушивался ко всем звукам, которые могли бы означать, что ветер усиливается. Если с рассветом подует сильный ветер, то Ёста может и не взять его…
Воинственно прокукарекали первые петухи; вот и солнце медленно выбирается из розовой мглы на востоке. Мысленно Оке был уже на пути к берегу. Земля покрыта росой, словно инеем, скрипучее колесо тачки оставляет на траве темную полосу. Остатки ночного холодка облизывают голые пятки…
Вдруг Оке соскочил с кровати. Кто-то вышел из сарая… Салли?! Он даже удивился. Она всегда работала в ресторане допоздна и отнюдь не спешила вставать по утрам без нужды.
Волосы Салли были растрепаны, словно она только что поднялась с постели, но глаза сияли ослепительным блеском над порозовевшими щеками. Она задержалась на пороге, прислушиваясь к чему-то, и вдохнула полной грудью прохладный, пахнущий лесом утренний воздух.
Потом мягко улыбнулась и тихонько скользнула в каморку на чердаке…
* * *
В самый разгар лета, когда, согласно старому поверью, можно ожидать всяких бед, к ним влетела, запыхавшись, морщинистая, иссохшая старушка:
– Господи помилуй и спаси! Мандюс-то – сколотил ящик и ловит им разговор да музыку за тыщу километров!
Обычно эта старушка доставляла на Нурингский мыс новости совсем иного рода. Впрочем, если бы она проведала, что две незамужние сестры родили по ребенку, то и тогда не была бы так взволнована, как сегодня.
– Вот ведь выдумщик! Может, тебе лучше не сплетничать про него? – спросила бабушка лукаво: она подозревала, что сплетница наговаривает на нее Фине Лагг.
– Так ведь он слышит только, что со станции передают, – объяснила вестница, делая вид, что не поняла намека.
– Выходит, он телефоном обзавелся?
– Да нет, прямо из воздуха ловит, без всяких проводов.
– Не понимаю, как это… Одно верно: кроме Мандюса, некому такую штуку придумать, – смирилась бабушка. – Он, когда молодой был, весь уезд всполошил – первый велосипедом обзавелся, с такими высокими колесами, первый и моторную лодку купил. Но он не только Умные вещи затевал, – продолжала она, посмеиваясь. – Прочел это Мандюс в газете, что железо для человека очень полезно. Так что вы думаете? Полный колодец всякого лома набросал. Вода покраснела, загустела от ржавчины, а он пьет! Несколько месяцев пил!
И на этот раз нововведение Мандюса вызвало противоречивые толки. Одни считали, что его аппарат – истинное чудо. Другие были разочарованы и уверяли, что звук в наушниках такой, словно кто-то фальшиво свистит и подыгрывает себе на скрипке перед сборищем растревоженных поросят.
– Хотя бы на минуту оставил ручки в покое! – возмущались они.
Тем не менее в домике Мандюса постоянно теснились люди. Многие приезжали издалека посмотреть и послушать таинственный ящик. Наконец главный поток любопытных схлынул, и Мандюс появился у бабушки.
– Хотите послушать радио? Приходите вместе с внучонком! – произнес он гордо, не скрывая, что удостаивает их особой чести.
Бабушка и в самом деле была польщена; она спросила, нельзя ли прийти прямо сейчас.
– Отчего же! – ответил Мандюс. – Пожалуй, еще успеем, прежде чем кончится программа.
И вот они снова в комнате у Мандюса. Хозяин посмотрел в газету, потом на часы, послушал в наушниках и стал осторожно крутить какую-то иглу в стеклянной трубочке. Внутри трубочки слабо поблескивал кристаллик – видимо, в нем-то и таилось все колдовство.
– Хорошо слышно? – спрашивал он взволнованно, пока бабушка слушала.
Незадолго до этого Оке привили на руку три новые оспины, и, когда Мандюс надевал ему на голову металлическую дужку, это было почему-то очень неприятно: вспомнилась сестра в белом халате, которая царапала ему кожу острым ножичком. Черные баночки больно прижали уши. Оке услышал загадочный металлический голос, потом нежные звуки скрипки.
Ну, теперь ему есть чем похвастать перед Гюнвор и Бенгтом! Они обычно возились в песке на «своей» стороне шоссе. На обратном пути от Мандюса Оке услышал их голоса; бабушка неохотно разрешила ему остаться.
– Иди скорей! Лев вылазит! – крикнул Бенгт.
Он сидел вместе с Гюнвор на корточках перед аккуратной ямочкой в песке. Большой лесной муравей тщетно пытался взобраться по гладким стенкам песчаной воронки. Вдруг на дне ее что-то завозилось; две мохнатые нити молниеносным движением обхватили рыжего муравья и неумолимо потащили вниз.
– Из муравьиных львов потом получаются мошки, – сказал Оке. – Маленькие хорошенькие мошки.
У Бенгта на лице было написано недоверие. Он только недавно обнаружил, что это неправда, будто комары сосут кровь, пока не лопнут. Еще менее верилось ему, что муравьиный лев превращается в существо, которое порхает на блестящих крылышках куда захочет. Этот-то серый мешок, робко прячущийся от дневного света и вооруженный парой длинных опасных челюстей?!
Бенгт почесал затылок; его пальцы нащупали и вытащили что-то белесое и копошащееся.
– Посади и вошь туда! – предложил Оке взволнованно.
Бенгт быстро щелкнул ногтями.
– Какая еще вошь! Ты что, блохи никогда не видал? – произнес он вызывающе.
Оке слишком хорошо знал, как выглядит блоха, однако посчитал, что из-за такого дела не стоит заводить драку, и не стал спорить.
– А я слушал радио у Мандюса! – сообщил он вместо этого, стремясь хоть чем-нибудь уесть Бенгта.
– Нашел чем хвастаться! Смотри, не придется тебе больше кататься в нашей лодке! – пригрозил Бенгт.
– А кто ее придумал? – обиделся Оке.
Лодкой они называли старую тачку, и мысль эта действительно пришла в голову Оке, когда он увидел песчаную рябь, которую нагнал вокруг тачки ветер. Зато парус из драной мешковины и обрывков бечевки был сделан ловкими руками быстрого на выдумку Бенгта. Труднее всего оказалось удерживать мачту прямо.
– Не скандальте, – произнесла Гюнвор примирительно. – Поплыли лучше к Восточной мели.
Бенгт взялся за шкоты,[11]Шкоты – снасть, притягивающая к борту нижний угол палубы. Гюнвор подпирала мачту, Что касается Оке, то он и без того умел мысленно перенестись к последнему рифу, который лежал уже за горизонтом. Там шхуны обычно бросали на ночь якоря возле своих сетей, только Оке еще ни разу не брали в такое дальнее плавание.

Эх, и понеслись же они! Сверкающие на солнце брызги хлестали лицо соленым холодком, нос лодки весело прыгал с волны на волну. Подветренный борт наклонился так близко к воде, что пена захлестывала через край. Бурное море грозно билось о тонкий корпус, но форштевень смело устремлялся вперед над мрачными глубинами.
Земля терялась вдали за кормой. Вот уже нельзя больше различить отдельные деревья и кусты береговых зарослей – все слилось в сплошное голубое пятно. Лодки и лебедки на дюнах превратились в черные точечки на ярко-желтой песчаной полоске.
Над Рёрудден показалась сначала макушка, а потом и вся высокая белая башня маяка. Все ближе придвигался Рёрхольмен со своим каменистым берегом, иссохшей сосной и серыми сарайчиками.
Порывистый ветер раздул парус до отказа, так что даже мачта прогнулась. Оке быстро налег на наветренный борт, а Бенгт потравил до отказа шкоты. Кончилось тем, что тачка повалилась, мешок сорвало с палки, и вся компания покатилась кубарем по песку.
– Крушение! – закричал Бенгт и стал изображать, что плывет к берегу.
В действительности же ни он, ни Оке плавать еще не умели. Правда, то же можно было сказать и о многих старых рыбаках, большую часть своей жизни проведших в море.
Громкий, пронзительный звук заставил ребят вскочить на ноги. Они едва успели заметить, как между стволами сосен промелькнула большая черная птица с ярко-красным теменем.
– Желна кричит. Это к дождю, – сказала Гюнвор.
– А Мандюс говорит, что желна – заколдованная попадья, – произнес Оке таинственно.
Старого гравера занимали не только новейшие изобретения. В его большом альбоме для рисования можно было найти листы бумаги, исписанные словами, которые в наше время вышли уже из обихода в Нуринге. А еще у него было записано множество сказок.
«Я знаю несколько господ в Стокгольме, которые интересуются нашей старинной речью», – сказал он бабушке, когда она как-то спросила его, зачем он собирает слова.
Гюнвор стала просить Оке рассказать, как попадья превратилась в желну. Они укрылись от ветра за тачкой, тесно прижавшись друг к другу, и Оке приступил к рассказу. Друзья слушали его с горящими глазами, хотя он и не умел говорить так хорошо, как Мандюс.
Вот как звучала эта сказка, когда бабушка впервые услышала ее от старого гравера.
Однажды, давным-давно, выдалась суровая зима. Везде, где она проходила – на море, на суше, – она несла с собой холод и голод. Морские птицы замерзали на лету, тюлени выползали далеко на берег, а жители побережья, которым случалось забрести на занесенные снегом ледяные поля, никогда уже не возвращались домой.
В то время хозяйкой поповской усадьбы в Нуринге была на редкость высокомерная женщина. Она держала подвалы и закрома на семи запорах и никогда не помогала ни одному бедному человеку.
Но вот подошло рождество. Хозяйка захотела устроить большой пир, только все у нее не ладилось, хотя она то и Дело кричала на слуг, чтобы они живее поворачивались, а служанок била по щекам. Дрова не хотели гореть, тесто не поднималось, и, когда настал первый день праздника, рождественский каравай еще не был готов.
Дворня давно уже спала, а попадья все лежала без сна под перинами и ломала голову над своей неудачей. Когда стало совсем тихо и только мороз потрескивал на дворе, она поднялась с постели, впопыхах надела черную рясу, а на голову натянула красный колпак.
Тесто лежало и кисло в деревянном корыте. Ей нужно было только затопить печь и поставить хлебы. И что же вы думаете? Дрова загорелись так, что лучше и не надо! Выше и выше взлетали языки яркого гудящего пламени. Наконец попадья решила, что протопила достаточно, открыла заслонку и приготовилась выгрести уголья и золу. Она уже радовалась, что сможет подать к столу свежий хлеб, когда в поповскую усадьбу соберутся гости. Но в этот самый миг услышала, как зазвонили к заутрене. И вдруг языки пламени превратились в рыжего человека с горящими глазами и черным копытом на одной ноге. Он зловеще расхохотался и обнял попадью.
– Теперь ты моя! – крикнул он громовым голосом и скользнул с ней в дымоход.
– Сгинь! Сгинь! – визжала попадья, исчезая в холодной звездной ночи…
Оке так удачно передразнил резкий крик желны, что Гюнвор и Бенгт покатились со смеху…
Они отлично ладили втроем, но вот наступила осень и разом нарушила компанию.
Каждое утро Гюнвор шагала в школу. На спине рядом с желтыми косичками болтался ранец с книжками. Бенгту тоже не стало времени прибегать на песчаный бережок: пришла его очередь нянчиться с младшими.
Оке снова остался один. Ему было и грустно и скучно; он так привык играть с товарищами. Однажды он стоял печальный на кухне и смотрел, как бабушка готовится варить уху из свежих тресковых голов. Она раскрывала рыбе рот и засовывала туда приправу – кусочек желтой печени.
Оке спросил:
– А мне можно ходить с Гюнвор в школу?
– Придумаешь тоже! Небось на следующий год тебя туда калачом не заманишь, – ответила бабушка неодобрительно.
С бабушкой всегда было трудно говорить, когда она была чем-нибудь занята, и он не решился больше ей надоедать.
– Лучше сбегай отнеси вот эту банку в погреб. А когда вернешься, я тебе что-то покажу. Да смотри не растянись по дороге!
Оке получил оставшиеся тресковые головы и выскочил за дверь. Погреб был вырыт во дворе, в нем было холодно и темно. Из бочек и кадушек с соленьями на никогда не просыхавший земляной пол сочился рассол. Отсыревшие жерди на потолке пустили маленькие ростки, совсем как картофель в яме, а рядом с ярко-зелеными почками торчали большие почерневшие деревянные затычки, которыми бабушка заделывала многочисленные дыры.
Погреб вырыли еще во времена старого Самюэля. Он первый в этих местах надумал обирать потерпевшие крушение суда, и на крышу погреба пошли доски с севшего на мель английского барка. В сарае до сих пор среди кучи мусора хранился обрывок якорной цепи «англичанина». Остальные звенья давно уже перековали на багры, крючья и прочие полезные вещи.
На одной из полок в погребе стоял синий деревянный сундучок. Бабушка складывала в него яички, хотя он был уже основательно изъеден древоточцем и ему давно было пора на свалку. В этот сундучок старый Самюэль клал еду и флягу с водкой, отправляясь на своей лодчонке собирать добро с разбитых кораблей. Иногда случалось, что какое-нибудь судно застревало на большом рифе, который начинался от Нурингского мыса и тянулся в море на добрых полдесятка километров. Тогда, рассказывала бабушка, старик так спешил, что даже забывал свой сундучок дома.
Понатужившись, Оке прикрыл дверь в погреб и заторопился обратно к бабушке. Она сидела за столом с очками на носу, перелистывая изрядно потрепанную книжку. На залоснившейся обложке красовался важный петух.
– Видишь этого петуха? – показала она. – Он снесет тебе золотое яичко, когда ты прочтешь все, что написано в этой книге.
Петух снесет яичко! Оке вытаращил глаза, потом громко рассмеялся.
– Ну-ну, мусьё! – проворчала бабушка. – Иди-ка сюда, займемся азбукой.
Ноготь ее указательного пальца двигался по бумаге от одной закорючки к другой. У каждой закорючки было свое необычно коротенькое имя, которое бабушка старалась вытянуть нараспев. Оке с готовностью вторил ей; однако больше всего ему понравилось, когда немного спустя ее палец принялся прыгать по азбуке туда и сюда. Иногда он прыгал слишком быстро, и Оке выпаливал, что придет в голову.
– Ну, ты, кажется, устал уже, – сказала наконец бабушка и убрала книгу, несмотря на все его возражения.
Урок постепенно забывался, а бабушка все не могла выбрать время еще поиграть с Оке в азбуку. Как-то поздним вечером он пристроился за столом над раскрытой газетой. Салли захотелось почитать, и она попросила у него газету.
– Но ведь я читаю.
– Не говори ерунду! Небось уже давно все картинки пересмотрел.
– Я читаю по-настоящему, – настаивал Оке.
Салли досадливо сдвинула брови, потом на ее губах заиграла лукавая улыбка:
– Ну что ж, послушаем, как ты читаешь.
Оке выбрал заголовок покороче и принялся разбирать его, медленно и важно:
– Ц-е-н-а н-а р…
Бабушка и Салли удивленно переглянулись, но Оке отодвинул газету с огорченным вздохом. Он забыл, как читается следующая буква… Бабушка поспешила достать старый учебник, и Салли принялась учить его, как составлять из букв слоги и целые слова.
Скучные страницы с черными каракулями, которые он обычно спешил перелистать в поисках картинок, постепенно оживали и приобретали смысл. С каждым новым разобранным предложением Оке испытывал радостное изумление. Скоро он знал уже, что книга – бесподобный рассказчик. Теперь он был спокоен: пока у него есть книга, скуки бояться нечего.
* * *
Около коварного рифа настойчиво мычал автоматический бакен, со стороны нурингских маяков доносился сквозь туман глухой кашель сигнальных пушек. Туристы уже давно разъехались, двери ресторана были заперты, опустел песчаный пляж.
Осень казалась мрачнее и тоскливее, чем когда-либо. Мокрый песок приставал к ботинкам, оставляя некрасивые следы на полу и дорожках.
– Ох, теперь заладят холода и дожди!.. – протянула Салли уныло.
Она безуспешно проездила в Бредвика в поисках работы и теперь никак не могла решить, чем заняться.
– Шерсть свивается, словно червь в муравейнике! – произнесла бабушка сердито, прогревая карды[12]Карды – приспособление для расчесывания шерсти. у огня.
Она тоже была недовольна пасмурной погодой и теперь задумчиво смотрела на беспокойно мелькавшие в золе красные искорки.
– Не иначе буря собирается, – заметила она.
– Вот и хорошо, не так тошно будет! – выпалила Салли.
– Храни бог всех, кто в море, – сказала бабушка серьезно.
В ее словах прозвучали вековая тревога и смирение.
– Что, баптисты[13]Баптисты – религиозная секта. обратили бабушку в свою веру? – спросила Салли с лукавинкой.
Бабушка усмехнулась.
– Скорее со мной обстоит дело так же, как с дурачком Биркес-Ула. Собрался это он записаться в секту к методистам и говорит: «Все-то мы, черт дери, господа бога дети!»
– Проповедники всё жалуются, что им еще нигде не попадались такие закоренелые грешники, как в Ну-ринге.
– Поделом им! Какие только секты здесь не перебывали, только не очень-то им удавалось развернуться. Не пойди баптисты собирать деньги по всему острову, им никогда бы не осилить часовни. Здесь на мысу народ был всегда себе на уме… Ты слыхала вечернюю молитву наших дедов?
– Нет. А какие в ней слова?
– Да вот, говорят, что в старое время нурингцы такую молитву читали:
Дай, господи, чтобы много судов
Напоролись на наши рифы,
Чтоб мы могли грабить и красть.
Оке задумался над бабушкиными словами. «Наши деды» – это были, наверно, совершенно особые люди, которые жили совсем иначе и творили смелые, геройские дела в те смутные, отдаленные времена, когда даже бабушки не было еще на свете.
– И поговорить-то не с кем… Так со скуки помрешь, – вздохнула Салли.
– Только за этим дело стало? Что ж, тогда и в самом деле иди в часовню. Они и поют и играют красиво, да и поболтать с кем всегда найдется, – предложила бабушка.
Салли покосилась на темные окна. Бабушка лукаво сощурилась:
– И когда только ты вырастешь! Бери Оке с собой – он не боится темноты.
Бабушка была не совсем права. Иногда Оке чудилось, что на чердаке бродят серые привидения, а на лесной опушке его подстерегает косматый медведь с желтыми клыками. Только Оке никогда не поддавался страхам. Если же смелость ему изменяла и по спине начинали бегать мурашки, он вооружался палкой или камнем, и этого оказывалось достаточно, чтобы воображение мальчика прогоняло все страшные призраки.
Часовня лежала на краю Биркегарда, и идти туда было далеко; поэтому они решили двинуться напрямик, через лес. Под гнилыми досками мостика, переброшенного через глубокий канал, тихо журчала вода; в траве на откосе что-то шуршало и фыркало. Салли крепко стиснула руку Оке и прибавила шагу. Он-то хорошо знал, что это бродит какой-нибудь замешкавшийся ежик, которому давно уже пора зарыться на зиму в норку. Потом им нужно было пройти мимо заброшенного хутора. От него остался только сад – мшистые ветви яблонь напоминали мохнатые руки, а вся прогалина казалась озаренной призрачным светом.
Оке не раз бывал в Биркегарда, но ему еще не приходилось видеть красную деревянную часовенку внутри. Яркие огни ослепили его и заставили на мгновение зажмуриться. Начищенная бронза ламп сияла, словно маленькие солнца. Высокий мужчина в черном ходил от одной лампы к другой и накачивал их – совсем как примус накачивают.
Людей в помещении было мало, только на передней скамье теснились верующие да у самой двери стояла кучка подростков, которые фыркали и шумели все время, пока длилось пение первого псалма.
За белыми колоннами и резными карнизами возвышения был натянут кроваво-красный шелк, а посередине, на аналое, стоял лакированный поднос. На нем лежала, приковывая к себе все взоры, библия с золотым обрезом. На возвышение поднялась женщина с простым, грубоватым лицом; ее гладко причесанные волосы были собраны узлом на затылке. Поначалу она говорила неуверенно, запинаясь, потом голос зазвенел, и на щеках зарделись красные пятна.
– Нуринге давно уже является одним из тех темных углов, о которых говорит священное писание. Но Иисус Христос озарит своим светом и здешние места!
Оке глянул на лампы. Похоже, она говорит правду… Члены секты затянули «Аллилуйя» и «С нами бог» и принялись тяжело вздыхать, пряча лицо в руках. Поначалу это производило смешное впечатление, но по мере того как проповедница входила в экстаз и паства вступала все дружнее, слушатели либо начинали клевать носом, либо заражались настроением молящихся. Но вот проповедница смолкла, и воцарилась напряженная тишина. Лишь негромко потрескивал огонь в печной трубе. Молодая женщина, сидевшая на скамье с самого края, стала тихонько наигрывать на гитаре.
– А сейчас сестра Лизавета споет для нас соло, – объявил мужчина, который накачивал лампы.
У молодой баптистки был красивый профиль, только весь нос покрывали яркие веснушки. На белой шее висела тонкая золотая цепочка с маленьким крестиком. Оке слушал песню с восхищением. Сестра Лизавета пела приятным, задушевным голосом, притом песня привлекала его внимание еще и своим содержанием.
Искал везде я злато,
Я мыслил стать богатым,
Но силы зря затратил —
Ни цента не собрал.
Но я ничуть не потерял:
Я душу спас,
Да, чудом спас!
Земные ж блага
Все – для вас!
Свое сокровище не променяю
На миллионы – так я процветаю!
Так, чего доброго, и дядя Хильдинг никогда не разбогатеет? Может быть, с ним будет там в Америке то же самое, что с золотоискателем из песни?
Салли сидела притихшая, обхватив, незаметно для себя самой, руками одно колено. Когда молитвенное собрание кончилось, она поднялась было, но тут к ней подошла сестра Лизавета:
– Вы не хотите отдать свое юное сердце господу в этот вечер?
Салли вспыхнула и отвела глаза. Последние участники собрания покидали помещение. Не нашлось того маловера, который поддержал бы ее в эту минуту, а горячий призывный голос звучал так убедительно… И вот она пошла, словно лунатик, за проповедницей в заднее помещение, где обычно совершались всякие таинства.
Сестра Юханна уже зажгла две свечи на низенькой скамеечке и положила между ними библию.
– Помолимся за спасение души твоей, дорогое дитя, – сказала сестра Лизавета и преклонила колени вместе с Салли перед импровизированным аналоем.
Она заговорила тихо, почти шепотом, но постепенно молитва вылилась в горячий, бурный поток слов.
– Молись и ты сама, молись! – крикнула сестра Юханна.
Она вперила в Салли мрачный, колючий взор, потрясая яростно сжатыми кулаками над ее склоненной головой.
– Еще сатана не выпустил из своих когтей твою душу! Изгони сатану!
Оке стоял в дверях, совершенно окаменев. На обложке библии поблескивал золотой крестик, колеблющееся пламя свечей рисовало на стенах причудливые тени коленопреклоненных фигур. Чей-то неподвижный взор жег ему затылок.
Оке резко обернулся и увидел толстую, отвислую губу и два лишенных всякого выражения глаза. Они принадлежали жалкому подростку, дурачку от рождения. Он всегда бегал и стучал в окна во время молитвенных собраний и вот теперь, когда в часовне опустело, прокрался внутрь.
Леденящий ужас пронизал Оке. Вот так же будет выглядеть его красавица сестра, когда встанет после этой безумной молитвы! Он хотел оттянуть Салли от скамейки, но только собрался ринуться к ней, как она выдавила из себя несколько слов детской молитвы и залилась слезами.
– Слава тебе, господи! – произнесли баптисты хором, и их голоса разом стали простыми и естественными.
Я душу спас,
Да, чудом спас!
Земные ж блага
Все – для вас!
По пути домой Салли все время напевала; теперь она ничуть не боялась идти через лес.
– Как я счастлива! – воскликнула она и прижала к себе Оке.
Ему все еще было не по себе, и он никак не мог понять поведения сестры. Как она может быть счастлива – она, которая только что так безудержно рыдала?
– Это еще что за шутовство! – воскликнула бабушка сердито, узнав великую новость. – На земле жил только один, кому было дано спасать людей. Книжники и фарисеи велели замучить его… Недолго продлится твое обращение, если только я верно знаю тебя.
Внезапное обращение Салли в баптистскую веру и в самом деле очень скоро вступило в противоречие с ее веселым нравом и жизнелюбием. В морозный субботний вечер неожиданно зашел Ёста.
– Пойдем в клуб трезвенников. Там сегодня танцы, потом любительский спектакль.
Салли заколебалась. Послышался веселый смех бабушки.
– Говорят, что искуситель является в образе черного хвостатого урода. Где же ты спрятал хвост, Ёста?
Он посмотрел с недоумением на них обеих.
– Бабушка глупости говорит. Конечно, я пойду с тобой на танцы, – решительно произнесла Салли, беря его под руку. – Я только переоденусь.
Когда она вышла к ним снова, губы ее были краснее, а брови четче обычного.
Ёста улучил мгновение, когда бабушка отвернулась, и поцеловал Салли.
– Придется тебе ехать на багажнике, раз нет своего велосипеда, – сказал он, вытирая губы платком.
Оке проводил их до дороги. Салли помахала ему на прощанье, затем мелькнуло улыбающееся лицо Ёсты, и они исчезли за поворотом.
Не знал Оке в этот вечер, что видит Ёсту в последний раз…
В понедельник пришел домой дядя Стен. Он вел велосипед по песчаной тропинке так тяжело, словно на нем лежал невидимый груз.
– Ты что – никак, выпил сегодня? – удивилась бабушка.
Лицо дяди Стена совершенно окаменело и взор был спокоен, но голос задрожал, когда он произнес:
– У нас… несчастный случай в каменоломне.
Салли вскрикнула в соседней комнате:
– С кем?
– Ёста… Его убило.
Она припала к плечу дяди Стена в беззвучном рыдании. Оке глотал, глотал и никак не мог проглотить ком в горле. Финн Мякки, Большой Смоланд и все остальные, отдавшие свою жизнь каменоломне, были для него лишь именами из мрачного предания. Но то, что он больше не встретит Ёсту, – было непостижимо.
– И кто бы подумал в субботу… Как же это случилось? – спросила бабушка, громко сморкаясь.
– Обвалилась глыба. Я отскочил в сторону, а Ёста стоял, как в ловушке – между стеной и вагонеткой.
Бабушкины щеки заблестели от слез.
– Так что же ты не окликнул его?
– Не успел я! Остальные видели только, как он вскинул руками, и тут его накрыло.
– Бедный Еста, всегда был такой веселый… Долго он мучился?
– Нет, его разом убило.
Салли вышла, тяжело ступая, из комнаты.
– Мы разгребли всё ломами – одни куски мяса да раздробленные кости нашли, – продолжал дядя Стен. – Глыба весила не меньше семи тонн.
Рушились представления Оке о смерти. Он думал, что мертвый – это очень старый и очень усталый человек; он лежит с закрытыми глазами в черном гробу. А у Ёсты не осталось ни лица, ни рук, которые можно было бы сложить крест-накрест на груди…
* * *
Ёсту несли на кладбище те самые товарищи по работе, которые извлекли из-под камней его расплющенное тело. Гроб был весь покрыт цветами, за ним шло много людей, хотя Ёсту хоронили вдали от дома и от родных.
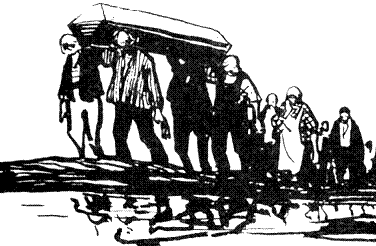
Вскоре после похорон из жизни Оке исчезла и Салли.
– Заработаю немного денег в Висбю и поеду на материк, буду искать работы в большом отеле. А здесь меня теперь ничто не удерживает… – сказала она на прощанье.
С ее отъездом стало как-то пусто и печально. Все равно как если стоишь в тихий вечер на берегу моря и смотришь на его бесконечные серебристые волны. Однако понемногу поток будничных дел принял иное направление, так же незаметно и быстро, как темная рябь на поверхности моря.
– Что за чудеса? – удивилась бабушка в один морозный день.
Напрямик через промерзшее поле шагала Фина Лагг, явно направляясь к ним. Бабушка даже слегка растерялась от радости. Она всегда стремилась ладить с соседями, да к тому же скучала без общества.
– Здравствуйте! Пришла спросить, нельзя ли будет дрожжей занять, – сказала Фина как ни в чем не бывало.
Бабушка тоже решила не показывать вида, что они вот уже скоро год как перестали разговаривать друг с другом.
– Ну конечно, можно, – ответила она.
Так кончалось большинство размолвок между соседями в Мурет. Почти все местные жители были бедняки и«висели друг от друга, однако гордость не позволяла им извиняться.
– Что, Стен все работает на каменоломне, даже после этого ужасного случая? – спросила Фина.
– Да вот, проработал пару недель грузчиком на пристани, а потом вернулся на старое место.
Фина поговорила еще о том о сем, потом опять повела речь о дяде Стене.
– Он жениться не собирается?
– Не знаю, не слыхала, – ответила бабушка сухо.
– Вот как… А то ведь в таких делах и оглянуться не успеешь… – протянула Фина многозначительно.
Бабушка заволновалась, но не стала показывать виду, пока не ушла гостья:
– Ну, жди теперь в дом какую-нибудь неряху, которая и делать-то ничего не умеет, только покрикивать горазда!
Намеки Фины имели под собой основание. В один прекрасный день дядя Стен вернулся домой вместе с крестьянской девушкой – с хутора, который лежал неподалеку от каменоломни. У нее был заметно увеличенный живот, на коже лица проступали коричневые пятна. Немало толков ходило об их женитьбе…
– Да они, никак, и не повенчаны как следует! – говорили одни.
– Их бургомистр в городе окрутил – разве это венчанье!
– Так ей, наверно, уже стыдно было идти к священнику, – ехидно замечали другие. – А он-то – известный безбожник, не признает ни бога, ни священного писания.
Оке проникся к жене дяди Стена подсознательной враждебностью.
Он решил, что она должна считать его обузой, эта новая, которую он непонятно почему обязан был называть тетей. Оке упорно уклонялся от этого, пока бабушка не стала на ее сторону.
– Ты должен говорить – тетя Мария, – заметила она строго.
Как-то в воскресенье, когда бабушки не было дома, тетка безжалостно ткнула его носом в умывальный таз.
– Опять где-то вывозился! – сердито проворчала она. Оке попала в глаза едкая мыльная пена, и он громко заревел, уверенный, что ослепнет.
– Ты что, воды боишься?
Дядя Стен вышел из себя и влепил ему оплеуху. Оке рванулся к дверям и выскочил на двор, несмотря на попытки тети Марии удержать его.
– Пусть бежит. Небось вернется, как замерзнет, – успокоил ее дядя Стен.
Оке хотел было убежать в лес, с тем чтобы никогда больше не возвращаться, но дело ограничилось тем, что он выплакал свою обиду под старой рябиной во дворе.
Мощный ствол укрыл мальчика, словно делясь с ним своей спокойной силой. Под сенью этой рябины стоял когда-то домик, в котором родилась его мать…
Это дерево с широкой кроной, опирающейся на три узловатых сука, было самым большим на дворе еще тогда, когда в Мурет приехал Самюэль Шёберг. Никто не знал, сколько лет старой рябине, а между тем ее не смогли заразить ни гниль, ни плесень. Только в одном месте виднелся большой шрам – там рос раньше четвертый сук, обломившийся в незапамятные времена. Потом в этом углублений проросло семечко одуванчика, заброшенное наверх вместе с землей.
Повыше пристроились три скворечника. Сюда прилетал первый скворец еще в ту пору года, когда морозный рассвет голубел, как льдинка. Он садился черным комочком на самых верхних развилках и звонко пел про свою весеннюю радость. Весной мрачный великан преображался, весь покрываясь белым цветом.
…Как-то под вечер, когда Оке любовался ярким убором рябины, в воздухе послышался мощный, все нарастающий гул.
Оке ждал, что рябина закачается под напором страшного вихря, о котором он знал только по рассказам бабушки. Однако ни один листок не шелохнулся.
Ходившая на болоте корова испуганно замычала и прибежала к калитке. Задребезжали оконные стекла, кошка спряталась под кровать, а бабушка, мывшая в это время посуду, уронила тарелку на пол. Вот уж много лет, как она не слышала ничего подобного.
– Что это еще там приключилось! – крикнула она тете Марии и поспешила наружу.
Они обе так и замерли на ступеньках, не в силах вымолвить ни слова. Над самым лесом неслись, словно стая диких гусей, пять крылатых машин, отсвечивая на солнце серебром. На бабушкином лице было написано удивление, смешанное с восхищением.
– Летчики! – воскликнула она наконец. – Они летают по воздуху, словно птицы.
До сих пор бабушке все как-то не верилось, что людям удалось воплотить в жизнь древнюю мечту о крыльях.
Оке поначалу тоже был подавлен торжественностью момента, но потом вдруг присел от смеха.
– Петух! – еле выдавил он из себя. – Посмотрите на петуха!
Перепуганные куры попрятались под куст смородины. Петух бегал вокруг них, встопорщив свой яркий воротник, и взволнованно хлопал крыльями. Видно было, что он пытается подать голос, но мужество изменило ему, и вместо звонкого «кукареку» раздавался жалкий хрип. Лишь после того, как гудящие коршуны превратились в черные точки на горизонте, петух собрался с духом и издал свой боевой клич.
С этого дня Оке перестал считать чудом автомобили туристов. Зато он вел счет всем самолетам, совершавшим учебные полеты над мысом, и был счастлив, что Бенгт отстал от него на целых три штуки.
…Летняя засуха выдалась в том году необычайно сильная и затяжная. Кое-кто обвинял в этом аэропланы. Люди считали, что это противоестественно – носиться вот так с грохотом по воздуху, и видели в засухе возмездие всевышнего.
Белые пышные облака проплывали мимо острова. Иногда было видно, как на море идет дождь, но над островом не выпадало ни капли. Палящее дыхание ветра несло известковую пыль, чуть сдобренную терпким запахом лилово-красного тимьяна.
Хлеба созревали до срока; маки казались яркими огоньками на обожженных солнцем полях. Колодцы мелели, и приходилось издалека возить в пузатых бочках теплую болотную воду.
В эти дни бабушка переселилась в тесную чердачную каморку. Там даже ночью было жарко, как в бане, но она почему-то не выражала никакого недовольства – видно, решила, что тете Марии требуется больше места. А тетя с каждой неделей становилась все толще и неуклюжее.
…В тот вечер сумерки спустились необычно быстро, словно солнце спрятали в мешок. Оке томился от жары под простыней, отбиваясь от назойливых мух. И что это бабушка не идет? Или она сегодня совсем не думает ложиться?
Вдруг каморка наполнилась на мгновение ярким голубым светом.
«Тетя Мария грозы боится», – подумал он мстительно, ожидая грома.
Гром прогремел угрожающе близко, заставив дрожать стекла. Долгожданный дождь яростно забарабанил по крыше, зашуршал в листве деревьев, захлестал серебристыми плетьми по земле, освещаемой молниями.
– Тебе не страшно там одному? – крикнула бабушка с лестницы.
Оке только фыркнул в ответ и забрался на самый подоконник. Над мысом сверкало, грохотало, пламенело. Куда ни глянь, всюду причудливые узоры молний на фоне тяжелых черных туч. Внезапно ему послышался стук колес на дворе, однако он тут же решил, что ошибся. Кто высунет нос на улицу в такую непогоду!
Снизу донесся чей-то пронзительный крик. Он повторился снова и снова, с каждым разом все громче и страшнее.
Оке даже пожалел тетю Марию – он и не представлял себе, что можно так бояться грозы.
Утром он увидел, что тетя Мария осталась лежать в постели. Она была очень бледна, но лицо ее озарялось гордостью и счастьем, когда она смотрела в деревянный ящик рядом с кроватью. А в ящике лежали два странных существа. Они кричали так сильно, что их старческие, сморщенные личики побагровели.
– Ну, как тебе нравится двоюродный братик? – спросила тетя Мария.
Братик? Ах вот в чем дело! Оке вдруг ощутил бурный прилив упрямства и затопал ногой:
– Уходите домой отсюда! Я не хочу видеть этих писклей!
Тетя Мария слегка улыбнулась, а бабушка хлопнула себя ладонью по колену и залилась смехом. Это было хуже, чем если бы его отчитали.
– Ты решал, как мы будем венчаться. Теперь я буду решать, как крестить наших детей, – заявила тетя Мария, когда до этого дошло дело.
– Ну ладно, пусть поп приходит и обливает их водой, если это необходимо для того, чтобы у нас было мирно в доме, – уступил дядя Стен.
Мальчика назвали Лассе, а девочку – Анночка, в честь бабушки, которая никак не могла оторваться от малышей, хотя не уставала твердить, что детский крик и пеленки успели ей надоесть.
Когда бабушка и тетя Мария уходили в поле, присмотр за близнецами поручали Оке. Поначалу это казалось интересным, но очень скоро ему надоело быть привязанным к люльке. Его тянуло на берег или на песчаный откос, где играли и шумели его сверстники.
Теперь он с особым нетерпением ожидал, когда пойдет в школу. И когда этот великий день наконец настал ему все как-то даже не верилось.
Бабушка сама проследила за тем, чтобы он как следует помыл шею и уши. Оке никак не мог понять, к чему в" такую жару надевать чулки и сандалии, но помирился на том, что это часть его нового костюма. Больше всего он гордился фуражкой. Он давно мечтал о такой и теперь удовлетворенно разглядывал в лакированном козырьке отражение собственной сияющей физиономии. Если поворачивать козырек, щеки становятся то толстыми, как тыква, то худыми, словно хилая морковка.
Бабушка, как обычно, поспешила. Когда они пришли на школьный двор, там было пусто и тихо. Оке робко остановился у крылечка и задрал кверху подбородок. Длинная трещина в штукатурке убегала под крышу, где комками висели гнезда ласточек.
– Пойдем посмотрим, – предложила бабушка и взяла Оке за руку.
Позади школьного здания было не так пусто и голо. Здесь росла невысокая, но густая травка, а вдоль стены школьного здания выстроились высокие деревья. В стороне, на краю дышащей сыростью низинки, росла старая рябина. Осенью, когда сквозь желтую листву рдели багряные ягоды, низинка совершенно заполнялась дождевой водой. Незатопленным оставался лишь маленький песчаный полуостровок, посреди которого был вырыт колодец. Еще несколько лет назад этот колодец использовали для школьных нужд; теперь же около восточной стены школы появилась колонка. Вода поднималась по тридцатиметровой трубе, и Оке предстояло скоро узнать, что она обладает солоноватым привкусом, даже если пользуешься ею не для того, чтобы смыть кровь с разбитого носа после неудачной схватки…
Звук гулких шагов и голоса в коридоре школы заставили бабушку прервать прогулку и присоединиться к толпе приветствовавших друг друга матерей и толкавшихся исподтишка ребятишек. Оке сразу почувствовал себя увереннее и поспешил первым войти в класс.
Учительница встретила его улыбкой, стоя у своего стола. Несмотря на тонкие губы и острый нос, она показалась Оке красивой. Волосы спускались на виски мягкими волнами, карие глаза светились лаской, когда она смотрела на стайку оробевших новичков. Большинство были даже рады, когда кончилась запись, но Оке не хотелось уходить домой. Бабушка с трудом утешила его, пообещав, что на следующий день он пробудет в школе гораздо дольше. Дружелюбие фрекен Энгман оказалось, однако, непостоянного свойства. Она легко переходила от одного настроения к другому, хмурила свои красивые брови и больно била Оке по пальцам.
Фрекен не терпела смеха во время уроков, и Оке приходилось сдерживаться изо всех сил, когда она расставляла таблички с большими буквами и учила его тому же, чему его учила бабушка год назад. Но Оке готов был сделать все, чтобы не раздражать ее, только бы слышать, как учительница читает вслух из книжки со сказками, и смотреть на красивые картинки, которые она иногда вешала на школьную доску.
Когда Оке стал учиться писать, его терпение и терпение учительницы подверглись серьезному испытанию. Различить буквы было легко, но вот самому начертить их казалось совершенно невозможным. Оке обливался потом от натуги, сжимая карандаш до боли в пальцах и помогая себе кончиком языка. Все напрасно: его «а» было похоже на сливу с выеденным бочком, а «и» все время склонялось не в ту сторону.
Тем не менее он очень скоро освоился с жизнью в классе. Куда труднее ему приходилось на усыпанном гравием школьном дворе – недаром Оке постоянно ходил с ободранными коленками.
В дальнем углу двора, где под защитой каменной ограды приютилось несколько хилых кустиков, лучше было не появляться. Лишь немногие могли показываться там, не опасаясь расправы со стороны безжалостных второклассников. К числу этих немногих принадлежал Туре, щупленький тихий сосед Оке по парте. Сам же Оке, по мнению школьных забияк, слишком уж задирал свой любопытный веснушчатый нос, а его упрямый чуб в первый же день обратил на себя их внимание.
– Это что еще за козел! – крикнул кто-то презрительно.
Оке наудачу ударил в толпу ехидно ухмылявшихся Мальчишек и попал в какого-то длинного второклассника.
– Смотрите-ка, он еще бодается! Ничего, я его сейчас укрощу, да так, что не скоро забудет!
Оке больно ударился о камни ограды. Из разбитой губы сочилась в рот теплая невкусная кровь, лицо горело от унизительных пощечин. Он весь сжался в комок в ожидании новых ударов.
– Трус! – донесся чей-то презрительный возглас сквозь хохот и крики обидчиков.
Оке словно раскаленной иглой кольнуло. С отчаяния он двинул кулаком прямо в широкую физиономию перед собой. К удивлению Оке и всех окружающих, его противник бросился бежать, плача от страха при виде хлынувшей из носа крови.
Так получилось, что Оке разом завоевал уважение своих сверстников. К сожалению, это не распространялось на враждебную территорию второй ступени. Старшие бы стро открыли, что его интереснее дразнить, чем других малышей. А Оке редко догадывался просто отойти в сторону; чаще всего он бегал за своими мучителями, словно сердитый, но беспомощный щенок.
Каждое утро первой четверти было для Оке кошмаром. Приходя к школьным воротам, он мечтал о том, чтобы сделаться невидимкой.
Там, у ворот, Оке всегда поджидала кучка старшеклассников, и ему приходилось бежать сквозь строй под толчками и ударами, к которым присоединялись всё новые и новые обидные клички, по мере того как прежние устаревали.
Лишь после того, как он научился молча переносить все издевательства, его оставили наконец в покое.
Но школьный день состоял не из одних драк и обид. Если бабушка просила его пройти через Биркегарда, купить что-нибудь по дороге, и ему удавалось улизнуть от своих мучителей, то радость жизни согревала его не хуже яркого сентябрьского солнца. На опушке леса цвел высокий благоухающий вереск. Первые высохшие золотые листья ложились на землю, а с травянистых откосов взлетали голуби, громко шурша отливающими сизой сталью крыльями.
В такие минуты он пробовал соединить все, что знал раньше о жизни, с тем, чему его учила школа. И ему казалось, что знания возвышают его над всеми обидами высоко-высоко, до самого неба, простершегося над мысом и морем.
Однажды учительница раздала всем по листу бумаги с яркими картинками. Оке не успел поднять руку первым, когда она спросила, какой из флагов самый красивый. Он никак не мог решиться, колеблясь между изображением сияющего солнца и красным флагом с белым и синим крестом.
Гюнвор опередила всех.
– Шведский, – ответила она решительно.
– Правильно, милая Гюнвор, – сказала фрекен Энгман, растроганно улыбаясь. – Шведский флаг – самый красивый.
Оке поднял глаза от картинок и поглядел на флагшток на школьном дворе. Ветер раздувал голубое шелковое полотнище с золотистым крестом.
«В старое время Готландом владели датчане», – рассказывала ему как-то бабушка.
Хорошо, что сейчас не старое время. Иначе готландцы не могли бы похвастаться тем, что у них самый красивый флаг. Оке не мог не удивляться, как ему повезло, что он родился именно там, где всё – лучшее на свете. Малейшее невезение, и он мог бы появиться совсем в другом месте!
* * *
Сердитый дождь упорно стучал в окна, сбегая по стеклам серебристыми струйками. На дворе все было серо. Потрескивала дымящаяся печка, в классе пахло мокрой одеждой.
Оке показалось, что воздух до того загустел, что время никак не может пробиться сквозь него. Фрекен Энгман решила, что пора учиться писать чернилами, и он насажал страшных клякс.
Наконец учительница распорядилась сложить учебники и скомандовала своим самым строгим голосом:
– Встать! Не хлопай крышкой, Оке.
Оке хмуро смотрел в пол, пока пели псалом, завершающий школьный день. Сегодня пение звучало еще фальшивее и унылее, чем обычно. Он успел сосчитать все гвозди, которыми были прибиты к деревянной подошве кожаные верха его старых грубых ботинок, появившихся на свет в кризисные годы. Бабушке было не по карману купить ему новые ботинки на зиму.
Правда, эти бахилы с их старомодными застежками были теплые и удобные, но зато сегодня с самого утра его преследовала дразнилка, которая колола хуже, чем гвозди под пяткой:
– Ха-ха! Козел в бабкиных бахилах, козел в бабкиных бахилах!
Дразнилка исполнялась нараспев, снова и снова, словно кто мельницу запустил.
Когда друзья Оке ринулись вперед, чтобы опередить второклассников, он остался, делая вид, что наводит порядок в парте. Все похватали верхнюю одежду с вешалокв коридоре и побежали на дорогу. Шоссе выглядело так, словно кто-то намазал его бурой кашей и плеснул в ямки снятым молоком.
Оке предпочел тропинку через поляну. Земля чавкала под ногами, ветер гнал по воздуху серые полосы дождя. Дождь пробивался сквозь одежду, стекал холодными струйками с фуражки за шиворот и заставлял Оке бежать, чтобы согреться.
Неподалеку от школы стоял небольшой серый каменный домик. Потемневшая штукатурка на стенах отвалилась большими кусками, сквозь гнилые оконные рамы в' кухню свободно проникал ветер, повизгивая, словно порезался о торчащие осколки стекла. Одна комната была забита, другая косилась на шоссе грязными стеклами без занавесок. Однако толевую крышу раз в году промазывали дегтем, а желтый почтовый ящик у некрашеной наружной двери свидетельствовал о том, что это не просто заброшенная халупа.
Здесь сортировалась почта для Мурет, Биркегарда и Хольмен, а также для маяка и разбросанных на дальнем конце мыса хуторков. Оке забежал с подветренной стороны домика и решил дождаться почты – домой он все равно уже опаздывал.
Почтальон почти всю дорогу добирался против ветра и пришел усталый, мокрый, забрызганный грязью с велосипедных колес. Оке поспешил отойти в сторонку, чтобы не мешать ему пройти с тяжелыми кожаными сумками к столу.
Пачки газет и писем быстро таяли. Монотонный голос, привычно перечислявший адреса, совсем было усыпил Оке, как вдруг сердитый окрик напомнил ему, что надо слушать.
– Тебя что, не касается, сопляк?
Оке удивился: обычно бабушка получала только газету, а тут вдруг еще и письмо!
– Письмо из Америки! – прошелестело в комнате.
Всем было интересно взглянуть на конверт с заморскими штемпелями и марками.
Дома, когда бабушка вынула из конверта письмо, на стол выпали еще три бумажки.
– Тридцать долларов! Это будет порядочно на шведские деньги. Теперь я смогу купить тебе ботинки.
Оке с любопытством разглядывал ассигнации. Они и на деньги-то не были похожи.
– Не говори никому про деньги, – заторопилась бабушка и спрятала их. – Я куплю чего-нибудь на рождество.
…Рождественские приготовления начались с того, что как-то рано утром пришел мясник, развернул покрытый заскорузлой кровью фартук и достал свое интересное и страшное орудие.
Бабушка велела Оке сидеть в комнате. Свинью вытащили из сарая, и вскоре он услышал душераздирающий визг. Глухой удар заставил ее затихнуть, и тетя Мария решилась выглянуть в окно.
Отсюда нельзя было увидеть густую пенящуюся струю крови, но тетя все же побледнела, когда бабушка взяла мешалку и наклонилась над тазом. Она вышла помогать только тогда, когда пришло время заняться внутренностями.
– Надо будет поделиться с Лаггами, – заметила бабушка, когда туша была наконец разделана. – Им в этом году не сладко пришлось.
Оке был рад случаю освободиться на время от своей доли работы, когда бабушка попросила его пойти с ней и понести фонарь. В лесу было уже совсем темно, и так же темно было в сенях дома Лаггов.
Сам Лагг сидел в своем кожаном кресле под маленькой лампой, подвешенной на стене, и читал вслух старую газету. Остальная часть длинной, узкой кухоньки тонула во мраке. Оке почудилось при свете керосиновой лампы, что ссутулившийся бондарь весь раздулся. Редеющие волосы казались белее и пышнее, и дужка очков важно поблескивала на переносице.
Овальная тень от абажура дотянулась до цветной картинки, выделявшейся ярким пятном на темных засаленных обоях. Картинка изображала большой пароход в гавани, окруженный стаей буксирных катеров.
Фина недавно поскользнулась и сильно поранила ногу; рана никак не заживала, и теперь она с трудом передвигалась, опираясь на палку.
– Плохо мое дело, – ответила она мрачно, когда бабушка справилась о здоровье.
Эрна Лагг приняла тяжелую корзину из рук бабушки. Она страдала ожирением, которое получилось совсем не от хорошей жизни, и смотрела на все усталыми, воспаленными глазами. Однако в этих глазах засветился благодарный огонек, когда бабушка сказала, что принесла хоть и немного, но все-таки это будет получше солонины.
– Что-нибудь слышно от Хильдинга? – спросила Фина.
– Да, только что письмо пришло. Передает всем привет, – сообщила бабушка и не удержалась от того, чтобы не похвастаться полученными деньгами.
– Да-а-а, Штаты – богатая страна, но только с Канадой им не сравняться, – важно заметил Лагг.
Бабушка глядела мимо него, ее глаза были устремлены на изображение эмигрантского судна. Оке угадал, что она смеется про себя над желанием Лагга щегольнуть своими познаниями.
В молодости Лагг ездил в Канаду, это ухудшенное издание Америки к северу от Штатов. Проведя год на работе у прижимистых фермеров, он вернулся в Нуринге без гроша в кармане. Попытка вырваться из нищеты не принесла ему ни богатства, ни славы…
Бенгт и Гюнвор возились с чем-то у плиты, и Оке подошел к ним. Бенгт сделал из птичьей косточки «лягушку» и ждал теперь, когда веревочка начнет раскручиваться и «лягушка» прыгнет.
– Спросим маму, чтобы позволила показать Оке чашки? – предложила Гюнвор.
Получив разрешение Эрны, они потащили Оке в нетопленную чистую половину и зажгли лампу. Здесь царил сыроватый холодок, со стен из черных рамок пристально смотрели большие фотографии. Гюнвор осторожно потянула старинную резную дверцу буфета.
На верхней полке выстроилась в ряд дюжина ярко раскрашенных фарфоровых чашек.
– Папа привез их из Египта, – сообщил Бенгт важно. – Там из таких чашечек пьют густой-густой черный кофе.
– А он не приедет к рождеству? – спросил Оке.
Бенгт промолчал, а бледное личико Гюнвор стало серьезным.
– Нет, он опять ушел в дальнее плавание – в Южную Африку, – ответила она, снимая с полки одну из египетских чашек. – Смотри, какая тонкая и красивая!
Интересно иметь отца, который путешествует по всему свету и приезжает домой с красивыми вещицами, как раз когда этого меньше всего ожидают! Но только пароходы никогда не возвращаются на север ради рождества…
Когда они с бабушкой шли домой через лес, мглистое ночное небо уже перестало озаряться мигающим светом маяка. Стояла глубокая тишина; между темными кронами сосен поблескивали звезды. Только море еще не совсем успокоилось, и с обеих сторон мыса доносился его глухой гул.
– Ветер на снег поворачивает, – заметила бабушка. – Не иначе будет белое рождество.
Оке боялся верить ей. Однако в первый день праздника он проснулся утром от того, что северо-восточный ветер принялся хлестать по окнам колючими ледяными крупинками. Под вечер вьюга сменилась густым снегопадом. Явилась стайка снегирей и уселась на лотке в развилке старой рябины. Синички неохотно потеснились перед важными красногрудыми чужаками.
Интересно, сколько мяса может получиться из одного снегиря? Бенгт похвастал как-то раз, что его старший брат подстрелил целую стаю и они потом зажарили их Фине, когда она лежала больная. Ведь это надо же придумать!
Тетя Мария крикнула Оке, чтобы он не слонялся без дела, а помог привезти дрова на санках. Дядя Стен специально нарубил их за несколько недель до рождества. Дров было столько, что они быстро заполнили дровяные ящики. Весь уголок у печи тоже заняли оранжевые чурки.
От чурок пахло так же хорошо, как от смолистой зеленой елочки, которая стояла еще неукрашенная в своем углу.
Бабушка сновала от кладовки к плите, распаренная и взволнованная.
– Коли станешь отказывать себе во всем, даже когда в доме есть что-нибудь, то так и проголодаешь весь свой век! – шутливо оправдывалась она.
За свою жизнь она наготовила столько вкусного у чужих людей, что ей теперь захотелось показать и дома, на что она способна, когда деньги позволяют немножечко разойтись.
Жаркое шипело на противне в золотистом облачке, на плите вкусно побулькивал большой котел. Оке начал волноваться, что дядя Стен не поспеет вовремя домой, чтобы нарядить елку.
Наконец кто-то затопал под окном, и дверь распахнулась настежь, так что кухонный чад вырвался наружу и расплылся на морозе белым облачком.
– Смотрите, он действительно пришел еще до того, как с елки осыпались все иголки и выкипел котел! – воскликнула бабушка медовым голосом. – В прежние времена люди на рождество сидели дома, а не шатались по соседям за выпивкой.
Дядя Стен только засмеялся и взялся за хлебную корзину.
– Не бойтесь, мама, старик Мандюс не очень-то щедр на спиртное.
Кончив стряпать, бабушка сразу забыла свое недовольство, а при виде сверкающей елки обрадовалась совсем по-детски. Живые огоньки свечей наполнили комнату теплом и светом, отражаясь в глазенках близнецов и множась в темном зеркале оконных стекол.
Оке с любопытством потрогал сверток с рождественским подарком бабушки. Нет, это никак не могут быть обычные чулки… Он поспешил сорвать обертку и вынул из нее книгу. «Знаменитый роман Фенимора Купера», – прочел он на обложке и тут же набросился на первую главу.
– Ну нет уж, придется тебе потерпеть, – вмешалась бабушка, поддержанная остальными. – Завтра ведь тоже свободный день, успеешь еще начитаться. А сегодня будем веселиться вместе.
После обеда тетя Мария подала всем инжир и яблоки, а когда дошел черед до глинтвейна и кофе, дядя Стен запел, не дожидаясь, когда его попросят.
Но вот уже близнецы начали сонно моргать, и разговор старших потек все ленивее и тише; заметались огоньки свечей.
– Чем лучше день, тем быстрее он пролетает, – заметила бабушка и принялась тушить свечи.
В комнате сразу стало как-то сумрачно, хотя фитиль керосиновой лампы был вывернут больше обычного.
Дядя Стен и тетя Мария поднялись наверх, бабушка постелила постель, но Оке ничего не замечал. Он весь погрузился в чтение и представлял себя лежащим под прикрытием большого Дерева, откуда были видны маневры краснокожих воинов. Индейские лодки бесшумно скользили вниз по реке…
– Ну-ка, раздевайся, я уже гашу лампу, – прервала его бабушка на самом интересном месте.
Она уснула не сразу – сначала прочла шепотом рождественский псалом и вечерние молитвы, которые заучила еще в детстве. Они мирно уживались в ее памяти с многочисленными историями о священниках и странствующих проповедниках, которыми бабушка любила повергать в ужас богобоязненных людей.
Вкруг нашего дома ангел идет,
Три яркие свечки в руках он несет…
Вспыхнуло в последний раз рождественское полено, по потолку и стенам пробежал багровый отсвет. Оке соскочил с кровати и подкрался к окну.
Может быть, этот ангел и в самом деле существует? Тогда он непременно должен появиться сегодня ночью – со снежно-белыми крыльями и отливающими золотом, словно огонек свечи, кудрями.
Над холмом взошла луна. Какие-то причудливые силуэты колыхались на опушке леса, сверкающие инеем кусты протянули длинные пальцы по снегу, а за сараем притаилась густо-синяя тень. Двор казался таким прекрасным в задумчивом серебристом свете, что у Оке защемило в груди.
Дождавшись, когда бабушка уснет, он взял со стола книгу. Долго не спал он в эту рождественскую ночь в обществе круглой луны и последнего из могикан.
* * *
Каждую осень самолеты покидали свою базу в Бредвика, совсем как перелетные птицы, и каждую весну возвращались обратно. Оке страшно хотелось, чтобы хоть один из них сел в Скальвика. Случалось, что самолет устремлялся вниз, изображая нападение на Страндосен, но каждый раз, очутившись над морем, снова взмывал вверх.
В сумрачный сырой вечер одинокий разведывательный самолет пролетел так низко над верхушками деревьев, что Оке смог различить кожаный шлем пилота. Мотор кашлянул несколько раз, потом стих совершенно. Можно было подумать, что самолет упал по ту сторону холма.
Оке помчался в страшном возбуждении в том направлении, где, по его мнению, опустился самолет. Первый весенний шторм нагнал большие волны, они с грохотом обрушивали на берег свои пенистые гребни, заглушая все остальные звуки. Колючие ветви молодых сосенок хлестали Оке по лицу, к одежде прилипла клейкая паутина.
Чей-то суровый голос помог ему сориентироваться:
– Лодки ни к чему! Лучше подайте сюда пару тросов!
Самолет успел дотянуть до залива и теперь беспомощно качался на прибое, сильно накренившись на один бок. Он казался удивительно маленьким и хрупким.
Из Мурет уже подоспела целая толпа на помощь необычному гостю. Со стороны Архаммарен примчался на велосипеде статный молодой мужчина. Он проехал около самой воды, где песок был твердый и ровный, и сразу же бросился в воду, как только поравнялся с остальными спасателями. Несколько сильных взмахов руками – и голова его скрылась за гребнями волн. Когда он показался снова, то был уже около самолета. Благополучно доставив тросы, он принялся крепить их к поплавкам.
Высокая волна подбросила самолет вверх. Спасатели потеряли было равновесие, но тросов не выпустили. Прибежал запыхавшийся Мандюс – он тоже хотел помочь. Молодежь закричала, чтобы он не лез в воду:
– Сегодня погода не купальная, уважаемый Мандюс!
Промокшие насквозь, стуча зубами, они подтащили самолет к дюнам. Только после этого Мандюсу и Оке было разрешено помочь отнести домой мокрые канаты. Мандюс поглядел с видом знатока на приборную доску и спросил пилота, что случилось.
Остальные расхохотались и стали перемигиваться у него за спиной.
– Он думает, что разбирается во всех машинах на свете, да только на этот раз, видно, нос не дорос!
Отважный пловец вышел вперед и вызвался позвонить в Бредвика, чтобы прислали механика. Костюм из дорогого материала обвис вокруг стройного тела, словно мокрый мешок. Оке сдернул фуражку: это был Русен, учитель старших классов.
…Месяц спустя все газеты писали о молодом американце, который один перелетел через Атлантический океан. Не было того школьника, который не строил бы из щепок «самолеты», перевоплощаясь в отважного покорителя Атлантики.
Однако знакомство с Америкой коснулось и других сторон. Смутный холодный ужас овладевал Оке каждый раз, когда дядя Стен заговаривал о приговоренных к смерти рабочих в этой стране.
– Они оба совершенно невиновны. Убийца кассира уже сам сознался, да только ничего не помогает! Их все равно хотят убить за то, что они социалисты и бедные эмигранты.
Оке не знал, что такое социалисты, но потихоньку плакал над страшной судьбой, которая ожидала приговоренных.
Как, бишь, их зовут? Сакко и Мацеппи?… Нет, Ванцетти![14]Сакко и Ванцетти – рабочие-революционеры, казненные в Америке в 1927 году на электрическом стуле. Сакко легче было запомнить, потому что эта фамилия напоминала употребительное на Готланде сокращение имени Захарий. Их будут казнить на стуле… Готберга – пресловутого грабителя с острова Сандэн, который основал хутор Гамлагорден, – тоже казнили сто лет назад. Но ведь он был кровожадный убийца, и о нем даже готландцы вспоминали только с ужасом.
– В следующую субботу у нас в Бредвика митинг протеста, так что я буду дома поздно, – сообщил дядя Стен в одно августовское воскресенье.
– А польза от этого будет? – усомнилась бабушка. – Кому какое дело до того, что мы думаем здесь, на маленьком островке…
– Так только раньше можно было рассуждать, – возразил дядя Стен решительно. – Теперь все связано. Рабочие во всем свете должны соединиться против господ, не то они совсем нас сомнут. Как-никак, а уже два раза приходилось откладывать казнь.
С каждым часом угроза смерти, словно горный обвал, надвигалась все ближе на обувщика и разносчика рыбы. Скоро неумолимая жестокая громада раздавит их. И вот каменотесы в Бредвика решили, как и другие, упереться плечом в эту страшную стену, задержать ее своей решимостью.
Однако, хотя у них были сильные плечи, не верилось, чтобы им удалось остановить лавину… Всеми силами своей души Оке мечтал о другом: дядя Хильдинг, который живет в Америке и строит там небоскребы, совершит неслыханный подвиг и спасет в последний момент обоих итальянцев.
На большой фотографии, которую дядя прислал бабушке, он стоит в таком шикарном костюме с шелковым галстуком, что, наверно, сможет пройти к самому королю Америки и попросить отпустить их на свободу. А впрочем, есть ли теперь у американцев король? Оке не раз слышал, как бабушка напевает коротенькую песенку:
Вы слыхали ужасное дело?
Это правда, известная всем!
Самого короля Америки
Застрелили, убили совсем!
Надежды дяди Стена не оправдались. Сакко и Ванцетти сожгли электричеством, как это решил суд.
…Более ясное представление о других странах и частях света стало складываться у Оке только тогда, когда он перешел в старшие классы.
За лето школьное здание несколько изменилось. Коридор расширили, и получилась настоящая столовая с раздевалкой; рядом устроили новое светлое помещение для занятий трудом. С шумом и грохотом переселялись вниз из чердачных каморок верстаки. Наверху было, конечно, по-своему неплохо – низкие потолки заставляли рослых старшеклассников усердно склоняться над инструментом, Еместо того чтобы играть в ножички и сыпать друг другу опилки в уши.
Русен не пользовался у них особенной любовью. Он умел быть крайне язвительным и не задумывался пускать в ход ореховый прутик, который постоянно вертел между ладонями. Вместе с тем ребята восхищались учителем – он умел во время игры в пэрк[15]Пэрк – игра в мяч, распространенная на Готланде наподдать мяч так, что тот летел с головокружительной быстротой через весь школьный двор, и теми же длинными, слегка узловатыми пальцами отлично управлялся с клавишами органа за утренней молитвой и во время уроков пения.
Для Оке же он был просто мастером на все руки, умеющим дать ответ на любой вопрос. В школе полагалось строго придерживаться программы, а жизнь сплошь и рядом ставила Оке перед вопросами, которые не укладывались в рамки его познаний. Он никак не мог заставить свои мысли держаться в пределах начальной школы.
Все четыре старших класса занимались в одном зале. Из щели в полу постоянно дуло, на сизо-зеленой каменной стене над высокими деревянными панелями проступала сырость: школа была построена прямо на скале, без фундамента.
Оке чаще прислушивался к тому, что говорили для выпускного класса, отвлекаясь от нудного чистописания и длинных, до скучного простых примеров на сложение. Ему не терпелось уловить и усвоить все сразу.
Сколько чудесных открытий таили в себе большие таблицы с изображениями млекопитающих, птиц, а также китов – они не относились к рыбам, хотя и жили в море, и всевозможных ползучих тварей, среди которых нужно было уметь выделять пресмыкающихся…
Если большая географическая карта оставалась висеть во время перемены, Оке часто забывал об отдыхе – так увлекало его изображение широких петляющих рек, несущих свои воды в Тихий океан. Тихий океан… Ни на одном другом океане не бывает таких штормов, слыхал он.
На китайских названиях можно было язык свихнуть. Видно, придется учителю повозиться с ним, когда настанет время для Оке учить про эту желтую страну… Сами китайцы считают, что их родина находится посередине всего света. На самом же деле середина, конечно, Италия, вытянувшаяся длинным сапогом в Средиземное море.
«Сицилия лежит около носка, словно футбольный мяч», – сообщил Русен как-то во время урока выпускникам, когда Оке, собственно, надлежало сосредоточить все свое внимание на рисовании.
«Пожалуй, об этот коричневый скалистый остров только ногу разобьешь», – подумал про себя Оке, глядя на узкий, изящный носок дворянского сапога.
Над органом висела другая карта. Ее никогда не скатывали и не убирали в угол. Неужели весь Готланд такой однообразно зеленый и плоский? Оке был недоволен собственным островом, пока не открыл, что его очертания напоминают неотесанную, узловатую дубинку. Если взяться за нее около мыса Фиденесет, как раз там, где виден вырез залива Бюргсвикен, то трудно будет вырвать ее из рук.
Оке глянул на беленый потолок. Пятна сырости срослись там в мрачный безымянный континент. Ремонт так и не довели до конца… Никто не знал, возобновится ли он через два года или через все двадцать лет. Неудивительно, что ребята пришли в крайнее возбуждение, когда Бенгт обнаружил новехонькую парту в сарайчике, где хранились инструменты.
Сквозь желтый лак красиво просвечивали жилки дерева, крышка была лишена прямого острого края, в который можно упереться животом, если он начинает слишком уж громко бурчать, мешая слушать уроки. Все было закруглено и прилизано.
– Это для кого же?
Девочки в последнем классе горячо обсуждали этот вопрос; каждая была уверена, что новая парта предназначена именно ей.
Однако парта простояла в сарае еще несколько недель и покинула его только тогда, когда в школе однажды утром появилась новая ученица. Ее бледное круглое личико казалось надменным, карие глаза смотрели на все с величайшей самоуверенностью. И когда Русен наконец представил ее классу, никто не удивился, почему эта девочка одна получила в свое распоряжение такую красивую парту.
Арениус… Носители этой фамилии привыкли держаться особняком от простого люда. На протяжении нескольких столетий род Арениусов был представлен вельможами, высокопоставленными чиновниками и священнослужителями. Правда, отец Стеллы был всего-навсего второстепенным, низкооплачиваемым служащим лоцманской конторы, но он еще вполне мог стать большим начальником.
Не один знатный род на острове был связан своим происхождением с большой усадьбой Архамра, где родился и Арениус. Близнецы фон Архаммар, возведенные в дворянское звание в XIX веке, заседали даже в шведском правительстве.
С почтительностью, смешанной со смутной неприязнью, вспоминал Оке свое первое посещение знаменитой усадьбы вместе с бабушкой. Они пришли туда под вечер. Багряное солнце уже задевало края деревьев, и тонкие травинки отбрасывали длинные тени на луг.
Гулко протарахтела в тишине разбитая телега, послышалось нежное ржанье, потом уныло замычала корова. Лишь курчавые овечки паслись молча и торопливо, не заражаясь тоской остальных животных по родному стойлу.
По ту сторону дороги в теплом золотистом свете простирались плодородные земли Архаммара. Над зеленью сада – и кипенью яблоневого цвета высились мощные прямые беленые стены, отсвечивая мягким розовым тоном. Вверху, где начиналась черепичная крыша, розовое сменялось темно-красным. Яркие зайчики играли на стеклах, вставленных в свинцовые рамы. Дом стоял пустой – памятник местной знати, богатым купцам и зажиточным крестьянам, которые в старые времена делили с часто сменявшимися завоевателями власть на острове.
Живая изгородь из низкорослых кипарисов окружала новое здание – современную виллу с фронтоном и ступенчатой крышей. С наветренной стороны деревья были подсушены и прорежены. Слуги жили в отдельном флигеле, но пристройки для батраков отсутствовали, и живущие в округе малоземельные крестьяне не были обязаны отрабатывать поденку на усадьбе. Правда, они предпочитали не отказывать господину Лауреллю, когда тому требовались рабочие руки. Во времена старого Микаэля Арениуса крестьяне были привязаны к усадьбе еще сильнее. Тогдашний хозяин беззастенчиво наложил лапу на большую часть лесов на мысу, построил там лесопилку и вывез уйму древесины.
Дед Оке последние годы своей жизни был шкипером шхуны, которая принадлежала Арениусу.
«Ему приходилось гнуть спину чуть не задаром, а вся выгода доставалась хозяину», – ворчала бабушка, когда речь заходила о деде.
Им пришлось довольно долго прождать в большой кухне, в обществе двух совершенно сбившихся с ног служанок, которые гремели кастрюлями и конфорками и непрерывно переругивались для бодрости духа.
Бабушка надеялась застать самого Лаурелля. Он был очень прост в обхождении и с ним было легко разговаривать, лишь бы старая вдова-хозяйка не находилась поблизости.
Наконец их провели в залу с окнами, завешенными длинными гардинами, с темной резной дубовой мебелью и дорогими хрустальными люстрами. В старинном кожаном кресле сидела фру Арениус. Ее вязаный платок и высоко причесанные седые волосы ослепляли своей благородной белизной. Зрачки были наполовину прикрыты тяжелыми склеротическими веками, лицо носило следы увядшей красоты – словно высушенная роза в шкатулке.
– Здравствуй, Анна, – произнесла она, пристально глядя на бабушку. – Ты просила разрешения воспользоваться телефоном? Он висит в конторе, можно звонить сколько угодно.
Снисходительная любезность фру Арениус, смущенные движения бабушки, когда она взялась за телефон, ее неуверенный голос – все это оставило неприятный, мутный осадок в памяти Оке.
Тем не менее необычная обстановка пробудила в нем любопытство, и теперь он решил постараться подружиться со Стеллой или хотя бы произвести на нее впечатление. Первое время он был твердо уверен, что она знает неизмеримо больше, чем он сам, – ведь она училась раньше в большой новой школе в Бредвика.
– Ты веришь, что бог в самом деле создал весь мир за неделю? – спросил он ее отважно, встретив как-то один на один в коридоре.
У Стеллы даже дыхание перехватило, и Оке ощутил мгновенное торжество, видя удивленное, слегка испуганное выражение на ее обычно таком холодном и безразличном лице.
– Да он ненормальный! – взвизгнула она и помчалась к своим подружкам из зажиточных крестьянских семей, с которыми целыми переменами болтала о платьях.
– Кто?… А, «премудрый козел»!
Оке почувствовал себя глубоко задетым обидной кличкой и девчоночьим фырканьем.
Никто его не понимал. Даже Гюнвор, которая упорно оставалась сидеть за партой и зубрила уроки на завтра. Длинный псалом с тяжеловесными словами и неуклюжими рифмами никак ей не давался.
Оке нахмурился и побрел задумчиво на поляну. В самом конце учебника по естествознанию был помещен немногословный рассказ о драматической истории земного шара. Этот рассказ Оке был готов перечитывать без конца.
Груда антрацита, поразившая его, когда он впервые приехал в Бредвика, была когда-то давным-давно огромным зеленым папоротником. А животных, которые теперь населяют Землю, тогда не было и в помине. По пышущим жаром трясинам вышагивали гигантские ящеры, а в воздухе летали их собратья, размахивая громадными кожаными крыльями. Ни звери, ни люди не появились на свет сразу в готовом виде, а сама Земля была поначалу не бескрайным водным пространством, а раскаленным шаром. Много миллионов лет ушло только на то, чтобы сложился такой остров, как Готланд. Он создан бесчисленным множеством ракушек. Кругом было сколько угодно камней и утесов, подтверждавших это.
Оке никак не мог примирить естествознание с библейским мифом. Но ведь должна же существовать какая-то связь между ними – ведь для того в школу и ходят, чтобы узнать правду!
– Берегись! – донесся до него чей-то вызывающий голос.
Над самой головой прожужжал плоский камень и с чавканьем врезался в землю около мишени – воткнутого в землю колышка, которого Оке поначалу и не заметил.
В стороне, шагах в двадцати, стояла кучка ребят, наблюдая с волнением за следующим броском. Рядом с ними Оке увидел Бенгта. Тот выпрямился, весь как-то подобрался, медленно занес назад руку, тщательно прицелился и послал биту по красивой дуге.
– Есть! – сообщил Оке торжествующе и принялся искать собственную биту, спрятанную под кустом можжевельника.
Море до того отшлифовало твердый камень, что трудно было поверить, что и он сложен из ила и крохотных древних ракушек.
* * *
Ночные заморозки покрыли болото белым инеем, на фоне которого горели тяжелые красные капли клюквы.
– Теперь они в самый раз для варенья, – приговаривала бабушка, нагибаясь за ягодами.
Она знала множество потаенных местечек, где росли редкие ягоды и травы. В самой середине большой глухой топи около хутора Лаггов укрылся островок, до которого можно было добраться, осторожно перескакивая с кочки на кочку. Однако никто, кроме бабушки, не решался идти туда в ягодную пору. Здесь росла особенно крупная брусника, но только она почему-то оставалась белой.
– Все думают, что она не созрела, – говорила бабушка, хитро улыбаясь. – А я видела такую бруснику еще на Сандэн. Там ее много, и варенье из нее очень хорошее, хотя она никогда и не краснеет.
Над макушками деревьев стелился редкий синий дымок.
– Не зайти ли нам к Лаггам, раз уж мы оказались поблизости? Говорят, хозяин опять расхворался.
Между холмами от топи тянулся широкий ров до самого залива Скальвикен. Песок осыпался с когда-то крутых откосов, и на дне уже пустило корни несколько молодых щетинистых сосенок.
– Почему тут не прокопают глубже, чтобы воду спустить? – спросил Оке.
Бабушка покачала головой:
– Лаггу это теперь уже не под силу. Стенки надо укрепить подпорками и слегами, не то они все время будут осыпаться. Для того чтобы отвести воду из этой топи, надо потрудиться основательно. Потому-то здесь, на лугах, больше мха и осоки, чем хорошей травы, и картошка на их участке плохая, стоит только в конце лета дождям пройти. Бабушка опасалась, что скоро хозяйство Лаггов придет в окончательный упадок:
– Фины дома теперь нет, хозяйничать некому – вот оно и сказывается. На Фине весь дом держался. Худшей беды для них и быть не могло, чем эта ее язва на ноге.
Они подошли к серому сараю, в котором когда-то мастерил Лагг. Бочарный станок стоял пустой, посреди прогнившего пола валялась недоделанная бадья с торчащими во все стороны белыми клепками, напоминая громадную ромашку.
Полосатый кот, лежавший в тени у стены, зашагал впереди них на кухню. Там они увидели Эрну Лагг – она торопливо сняла заношенный передник и отбросила со лба растрепавшуюся прядь.
– Из-за этих ребят никак не успеваешь привести себя в порядок, – пробормотала она извиняющимся голосом.
– Как отец? – спросила бабушка.
– Совсем плох… Правда, сейчас задремал.
На плите стоял большой чугун с картофелем. Крышка приподнялась с шипеньем, и кипящая вода плеснула через край. По кухне распространился острый чад. Оке захотелось поскорей уйти из душной кухни, но если уж бабушка и Эрна затеяли разговор, то можно было не сомневаться, что это надолго.
– Вот уж давно, как я ничего не слышу от Альбина, и денег совсем не шлет, – призналась Эрна чистосердечно.
– Уж не случилось ли какой беды?
– Да нет… Тогда бы мне сообщили из пароходства. Скорее всего, ушел с одного судна и теперь пытается устроиться на другое.
Слышно было, как Лагг закашлялся, потом он окликнул Эрну:
– С кем это ты там?
– Да вот соседка пришла с внучком.
– Пригласи их войти.
Пожелтевший Лагг полулежал, опираясь спиной на подушки. Воспаленные лихорадкой глаза глубоко провалились, худые щеки покрывала густая щетина.
– Не пора ли уж поправляться? – спросила бабушка бодро. – Мне нужны две новые кадушки к весне.
– Охотно бы сделал… а впрочем, невыгодно стало делать такую тару в маленькой мастерской. Теперь всем подавай фабричное. В старое время, когда все держались ремесла, земли да рыбного промысла, и жилось хорошо, а теперь мы никому не нужны стали.
– Хорошо было тому, у кого земли хватало и кто мог заставить других гнуть спину на себя. Им и правда жилось так, что лучше нельзя, – заметила бабушка сурово.
Лагг словно не слышал ее возражения. Руки его беспокойно перебирали ватное одеяло. Когда-то оно было обшито красным сатином, а теперь остались только заплаты на заплатах, из многочисленных дыр торчали клочья серой ваты.
– Раньше только не ленись – всегда можно было подзаработать. И где только взять денег на все?
– Муниципалитет должен вам помочь немного, – сказала бабушка осторожно.
Лагг выпрямился и взглянул на нее враждебно.
– То-то сплетницы пойдут языками чесать, если нам придется жить на общественные деньги! – воскликнул он сердито. – Обойдемся как-нибудь, не пойдем в призрение крохи просить, на них все равно не проживешь!.. Ты что скажешь, Эрна?
– Верно, верно, – ответила она успокоительно. – Но вам нельзя говорить так много, папа.
Оке прикусил губу. Он знал кое-что о Лаггах, что следовало бы знать и бабушке, но не мог заставить себя сказать об этом. В противном случае он обманул бы доверие Бенгта…
Однажды на большой перемене он обратил внимание на Бенгта. Тот сидел, сжавшись в комочек, в углу столовой и смотрел как-то странно вокруг себя.
Так же печально и рассеянно выглядела во время уроков и Гюнвор. Русен даже сделал ей замечание при всех:
– Ты ведь всегда так хорошо успевала, а теперь испортишь себе табель только из-за того, что ленишься!
Гюнвор покраснела и уставилась в пол. Оке тоже не мог понять, что это делается с его друзьями. Они избегали его, держались вместе только со своими младшими сестренками и братишками.
Но тут Бенгт небрежно пересек комнату и сел рядом:
– Послушай, дай-ка бутерброд!
Он выпалил эти слова с какой-то беспокойной торопливостью, словно боялся спохватиться и не договорить. Дрожащими руками он принял бутерброд с жареной свининой и стал глотать большие куски, не прожевывая.
– А ну дай еще один – у тебя их много!
Оке внимательно глянул на Бенгта и оторвался от бутылки с молоком.
– Понимаешь, я ничего не взял с собой, – объяснил Бенгт шепотом между двумя глотками.
Оке сразу стало как-то стыдно за свои солидные припасы, которых он все равно никогда не мог одолеть, и он разделил оставшееся пополам.
– Ешь скорей, чтобы никто не увидел.
Бенгт быстро уложил бутерброды в сумочку для еды, которая пустовала у него с самого начала четверти.
– Пойдем лучше поедим на воздухе, сегодня погода такая хорошая! – произнес он громко.
Оке улыбнулся с видом заговорщика, довольный тем, что посвящен в тайну товарища.
– А Гюнвор как же? – спросил он, когда они вышли на крыльцо.
– Она у подруг побогаче клянчит! – ответил Бенгт презрительно. Взор его посуровел и стал не по возрасту серьезным: – Ты все получишь обратно. Я это только взаймы, запомни!
На самом краю двора серыми горбами торчали из земли два больших камня. На них удобно было опираться спиной, и тепло – солнце быстро согревало известняк. Здесь мальчики могли уединиться. Никто не обязан видеть, что они едят одинаковые бутерброды…
В дождливые дни они забирались в дровяной сарай, где заодно стругали из коры быстроходные лодочки для соревнований на пруду Брюннсваттнет. Осенью пруд разливался в целое озерко, а с наступлением морозов озерко превращалось в длинный каток. Бенгт унаследовал от старшего брата основательно сточившиеся коньки и охотно одалживал их Оке. Было ясно без слов, что это плата за бутерброды.
Когда же ранней весной лед стал подтаивать, мальчики перенесли свой «питательный пункт» под одинокое дерево на берегу. Здесь снег сходил раньше, чем в других местах. Друзья предвкушали лето, устраиваясь прямо на сырой земле и щурясь сквозь ветки на яркое мартовское небо.
Лагг не уставал твердить своим, что летом все поправится. Но уже перед самым началом жаркого времени года наступило несколько недель, которые островитяне называли «злой весной». Тем людям и домашним животным, которые потеряли слишком много сил за темные зимние месяцы, трудно было выдержать эту пору резких ветров и беспощадно слепящего солнца.
В одно такое ясное и прохладное воскресенье Оке и Бенгт сидели на пробивающейся травке под яблоней и играли в ножички. Они увлеклись настолько, что забыли все предостережения насчет болезней, которыми грозили весенние испарения сырой земли.
– Бенгт! Иди домой есть! – разнеслось над пригорком.
Бенгт нехотя поднялся и заговорил с неожиданным рыданием в голосе.
– Есть? Есть! Небось опять все то же – картошка с солью! – вырвалось у него.
Бабушка стояла у порога дома; заметив ее, он ринулся прочь, словно пятки обжег. Она с изумлением глядела ему вслед:
– Картошка с солью! Неужели у них всю зиму больше ничего не было?
Услышав, как обстоят дела у Лаггов, дядя Стен даже побелел и бросился к своему велосипеду:
– Я сейчас же поеду в призрение и заставлю их, черт дери, что-нибудь сделать!
– Боюсь, они не станут торопиться… Скажут, мол, и без того в нашем уезде высокие налоги и большие расходы на бедных, – произнесла бабушка.
Она спустилась в погреб и обследовала бочку с солониной.
– Да-а, тут уже и делиться нечем. Хорошо, хоть рыбы вдосталь…
Под вечер она двинулась в путь, повесив корзину на руку. В сенях у Лаггов слышались чьи-то чужие голоса.
– Я смотрю, ты – сегодня важных гостей принимаешь, – сказала бабушка, обращаясь к Эрне Лагг, которая стояла смущенно у кухонного стола, в то время как две хорошо одетые женщины раскладывали на столе белый хлеб, масло, желтый сыр и жареную курицу.
В одной из женщин можно было узнать маленькую застенчивую госпожу Лаурелль из Архамры. Всю свою жизнь она прожила в тени мужеподобной и властной вдовы Арениуса и выглядела беспомощнее даже тех, кому помогала.
На расстоянии молчаливая нужда вызывала тихое, сентиментальное чувство; вблизи же лицо ее ужасало своей наготой, остро торчащими скулами, покрытыми пергаментно-желтой кожей…
Лагг до того исхудал, что его тело, казалось, совершенно высохло под грязным одеялом. Он с трудом проглотил немного сливок, после чего устало отодвинул от себя еду.
– Лучше бы фру Лаурелль привела сюда врача. Сами мы тут уже ничем не можем помочь, – произнесла решительно бабушка.
Она отвела Эрну в сторонку и сообщила ей потихоньку, что поставила корзинку с рыбой в сарайчике.
– Если тебе понадобится помощь, сразу же посылай кого-нибудь к нам.
Несколько дней спустя к ним прибежала Гюнвор и попросила бабушку прийти.
– Мама всю ночь не спала. Дедушка лежит и все твердит, что ему надо дойти до мастерской, – пролепетала она в испуге.
Бабушка вернулась домой лишь утром следующего дня, усталая после долгого бдения:
– Вот и упокоился Лагг. Может теперь не бояться, что окажется на муниципальном попечении…
Тетя Мария не сразу поняла смысл простых слов бабушки:
– Но ведь доктор сказал, что он всего лишь несколько истощен?
Бабушка провела рукой по лбу, словно желая разгладить самые глубокие из морщин:
– Так уж принято теперь говорить. А по правде, так Лагг помер с голоду.
* * *
Оке никогда не знал, что такое настоящий голод. Но ведь можно изголодаться не только по еде. Часто страсть к чтению охватывала его с такой силой, что он ощущал ее почти как физическую боль.
Бабушка настаивала, что достаточно с него уроков, и тетя Мария ее поддерживала, хотя сама была большой охотницей до чувствительных романов.
– Стоит ему дорваться до газеты, как он потом уже ничего не слышит. А спросишь, так пробурчит что-нибудь непонятное под нос. Прямо ненормальный какой-то! – возмущалась тетя Мария.
Ближе к лету в Биркегарда состоялся аукцион, на котором продавали с молотка имущество, оставшееся после местного краснодеревщика. Оке помнил его: жилистый старик с постоянно сощуренными глазами, у которого была привычка тереть жидкой бороденкой о левое плечо и то и дело энергично сплевывать перед собой.
Дяде Стену посчастливилось приобрести на распродаже хороший фуганок, а кроме того, он принес домой кучу непонятного хлама, за который на смех предложил тридцать эре. В грязном деревянном ящике среди пучков соломы, ржавых болтов и подков, дюжины негодных формочек для печенья и старинной пулелейки лежало несколько дешевеньких изданий.
Тетя Мария отобрала себе «Девичью башню» и «Дворянин и простолюдинка», а один томик, который совсем рассыпался и был украшен кофейными пятнами, очутился в уборной.
Оке удалось спасти эту драгоценность, покуда большинство листов еще оставалось в целости. Это был «Остров сокровищ» Стивенсона, и он весь день проносил растрепанную книжку за пазухой, используя каждую удобную минутку для чтения. Ночью он спал тревожно. Ему снился сурового вида мужчина; он сидел верхом на коричневом сундуке, когда-то принадлежавшем дедушке, и горланил:
Пятнадцать человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Когда пират отпивал из бутылки, на его бычьей шее вздувались тугие жилы. Брови его напоминали поросшие травой скалистые карнизы. Лоб и мощный подбородок тоже казались высеченными из камня. Не будь бутылки с ромом и безбожного напева, Оке мог бы поклясться, что Джон Сильвер – не кто иной, как Вилле Мерк.
…Мерк жил один в просторном, но уже пришедшем в ветхость доме близ оконечности мыса Рёрудден. Стены были снаружи вместо краски покрыты серо-зеленой плесенью и оранжевыми грибками. Крыша над террасой вовсе сгнила, резные украшения истлели, а дверной замок окончательно проржавел.
Приходившие к Мёрку попадали в дом через кухню, да он и сам без нужды не топтал половики в зале.
Дома Оке никогда не слышал о нем доброго слова. Однако, если неуклюжая фигура Мёрка не появлялась под окнами несколько дней подряд, за него начинали беспокоиться.
– Видно, боится подметки сносить, если дойдет до нас, – замечала бабушка едко.
– Просто он не придумает повода, чтобы зайти, – смеялась тетя Мария.
– Уж этот болтун и фарисей всегда повод придумает. Не может просто зайти поболтать, как все люди.
Всё-то в Мёрке раздражало бабушку: дурно пахнущая одежда, нередко грязная и засаленная, безапелляционные суждения о прегрешениях других людей и поразительная скупость.
– Не успели опустить в могилу гроб с его женой, как он уже заторопился на помойку – подсчитать по яичной скорлупе, сколько яиц я истратила на поминальное угощение. Потом начал ворчать, что в кофейнике мало гущи осталось после гостей. Мол, не иначе стряпухи украли!
Оке и сам видел не раз, как Мерк, засветив керосиновую лампу, подвешенную на проволоке над кухонным столом, спешил к плите, чтобы растопить ее той же спичкой.
– Нужно только держать ее огоньком кверху, тогда успеешь, – уверял он самодовольно, в то время как пламя обжигало ему пальцы.
Надо сказать, что это был совсем не легкий фокус для Мёрка. Он мог передвигаться только очень мелкими шажками, после того как много лет назад попал под перевернувшийся воз с дровами.
– Будь я каким-нибудь хиляком, так вообще живым бы не остался, – рассказывал он.
Но бабушка не очень-то верила его рассказу.
– Сдается мне, что это ему награда за службу охранником в лесу, – говорила она многозначительно.
Рано утром во время летних каникул Оке отправился к Мёрку с бутылкой молока. Еще от калитки он услышал громовый голос старика – тот читал священное писание своим двум одичалым кошкам, которые всегда при виде чужих бросались с шипеньем под диван и сверкали оттуда желтыми глазами.
Оке предусмотрительно воздержался от стука в дверь, пока Мерк не кончит утреннюю молитву. Стоило появиться постороннему слушателю, как старик был готов читать вдвое больше обычного.
В полуразвалившемся сарайчике около пустого коровника дремало несколько престарелых кур с бледными гребешками и мохнатыми ногами. Горы помета воняли особенно резко в жару. Оке решил посмотреть повозки Мёрка. Между запыленными неуклюжими телегами стояла элегантная рессорная коляска, которой пользовались всего пару раз. Мерк приобрел ее в неудачный момент – как раз перед тем, как на острове вошли в моду автомобили. Расчетливый Мерк быстро подсчитал, что выиграет, если продаст лошадь, с тем чтобы во время своих редких поездок пользоваться попутными машинами. Зато коляска стала для него источником постоянных огорчений. Никто не хотел дать за нее ту цену, которую запрашивал Мерк, а со временем число желающих купить ее становилось все меньше, да и цену они предлагали все более низкую.
На пригорке над всеми остальными пристройками возвышался дровяной сарай, на крыше которого печально поскрипывал ржавый флюгер. Он был сделан в виде военно-морского флага с тремя язычками – единственное, что осталось от боцманского домика в Мурет, где родился и вырос Вилле Мерк.
Оке прошел к сараю и разыскал топор; неуклюжий, ручной ковки, он то и дело соскакивал с топорища. Чем так ждать, лучше расколоть несколько поленьев для старика.
Когда Оке наконец вошел в дом, Мерк уже успел поставить книги на небольшую синюю полку на стене и был занят уборкой постели. Подушка и покрывало посерели, сквозь красно-белый полосатый чехол пробивалась соломенная труха, а когда Мерк решил встряхнуть матрац, в воздухе повисла густая пыль.
Услышав стук дров, ссыпаемых в дровяной ящик, он вскрикнул и схватился за свою палку. Она была сделана из узловатого можжевельника и снабжена наконечником из крупнокалиберной гильзы, с острым шипом, чтобы не скользить на льду.
Не иначе, кошки уронили ведро с табуретки или забрались на полочку над лежанкой в кухне! Именно там он нагромоздил всю свою посуду, так как считал слишком рискованным каждый раз снимать и ставить обратно фарфор на верхние полки в кладовой.
Оке стряхнул с куртки щепочки и громко поздоровался. Озабоченное лицо Мёрка сразу просветлело, вокруг его суровых глаз библейского пророка появились добродушные морщинки:
– Это ты? А я думал, что это пятнистый такой шум поднял.
Раскатистый сердечный смех старика как-то не вязался с его славой придирчивого и подозрительного скупердяя. Оке был почему-то убежден, что люди несправедливо судят о Мёрке, хотя в его нраве и было много противоречивого. Трудно было представить его себе с вязаньем в грубых руках – единственным мужчиной в обществе дородных, пожилых женщин и иссохших старушек. Между тем это можно было наблюдать каждый раз, когда собирался швейный кружок общества помощи миссионерам.[16]Миссионерство – одна из форм религиозно-политической деятельности церковных организаций.
– Присядь-ка, я чайник поставлю, – произнес он ласково. Оке не мог обидеть его отказом и неохотно сел на стул. Воздух в кухне был невероятно спертым. Половики слиплись от грязи, а из деревянной кадушечки поднимались какие-то кислые испарения, смешиваясь с запахом пригоревшего рыбьего жира.
Все редко употребляемые предметы были покрыты толстым слоем пыли и копоти. На подоконнике стояло несколько пожелтевших открыток, прислоненных к бутылке с мутным скипидаром, рядом лежали сломанные ножницы для стрижки овец. Глаза Оке миновали книжную полку, давным-давно не беленую печь, видавший виды комод, потом снова остановились на злополучной кадушке. Она казалась черной от мух, которые пировали на остатках отрубей.
Клеенка на кухонном столе с самого начала была практичного черного цвета, только теперь ее покрывал узор из светлых колец и сероватых пятен там, где проглядывала ткань или доски стола. Мёрк выбрал место почище и поставил кувшинчик со свежими сливками и блюдо с булочками. Булочки испекла бабушка, так что они никакого опасения не внушали. Стоило, однако, Оке взглянуть на посуду, которую Мёрк поставил для себя, как у него бесследно исчез всякий аппетит. Это была широкая чашка, расписанная золотой вязью. Ручка погибла во время одной из бурных потасовок хозяина с супругой, но зато теперь Мёрк пил исключительно из «ее чашки» и только раз в месяц решался подвергать ее опасностям, связанным с мытьем…

Правда, для Оке он выбрал в горе посуды чистую чаш-KV, да еще потер ее белой тряпочкой.
Кофе оказалось тоже не таким уж плохим на вкус, как опасался Оке, хотя и было заварено на самой дешевой смеси, какую только можно было найти в лавке.
– Можно тебя попросить сходить в лавку и купить кое-что для меня? – спросил Мёрк неожиданно.
Оке отлично сознавал, что такое поручение – проявление величайшего доверия, и тщательно завернул в носовой платок деньги и бумажку с поручением. Мёрк обычно подозревал всех, кто брался что-нибудь сделать для него. Оке понимал, что если не сможет отчитаться в каждом гроше, то поручение Мёрка окажется для него первым и последним.
– Я сам потом зайду к вам за покупками, – сказал Мёрк на прощанье.
Он пришел, когда Оке сидел за столом и доедал в одиночестве запоздалый обед. Рыбный суп пришлось разогревать, и Оке невольно сморщил нос, отведав первую ложку. Лохматые брови Мёрка неодобрительно нахмурились.
– Ты что это над едой гримасничаешь? Мне бы такой суп, когда я был в твоем возрасте! Смотрите – и коренья и приправы! То ли дело было у нас! Пара картофелин да несколько рыбьих хвостов – вот и все, что мать могла положить в суп.
– Может быть, налить тарелку? – предложила бабушка и стала накрывать, не дожидаясь ответа. Летом рыбный суп ели не очень охотно, и у нее всегда оставалось.
Мёрк почмокал губами.
– Сказать правду, так я уже поел, но для тарелочки супа всегда место найдется, – проговорил он, прочел молитву и придвинул к себе полную тарелку.
– Сколько вас было детей в семье, хотелось бы знать? – спросила бабушка задумчиво.
– Пятнадцать, да только одна из сестренок умерла совсем маленькой.
– И все выросли вместе на том хуторке, который снесли несколько лет назад?
Мерк молча кивнул.
– Чем же вы кормились? – продолжала допытываться бабушка.
– Рыбным супом… чем же еще! Утром суп, в обед суп и на ужин суп. А какие выросли крепкие парни и видные девушки на этой пище, скажу не хвастаясь! В хорошие времена по воскресеньям каждому полагалась чашка черного кофе, а отцу в таких случаях подавали на обед мясо. Больше всего он любил тюленину, но на худой конец не отказывался и от вороны.
Оке не мог удержаться от смеха. Ворон есть – надо же придумать!
– Они не так уж плохи на вкус, особенно в марте, – сообщил Мёрк деловито. – Летом, правда, довольно противные.
Поблагодарив за угощение, он стал рыться в большом кошельке с металлическим запором.
– Тебе причитается вознаграждение за выполненное поручение да за дрова, что утром наколол.
Оке покраснел и сказал, что ему ничего не нужно. Брать деньги за услугу соседу – это было не только не принято, но даже неприятно.
– Не отказывайся, возьми ты эти двадцать пять эре, – посоветовала бабушка вполголоса, так, чтобы глуховатый Мерк не слышал. – Не такой уж он бедный, каким кажется. У него и деньги в банке есть, и пенсию он большую получает.
Мерк убрал кошелек и вытащил берестяную табакерку. Изогнув по-особому большой палец, он сделал на руке глубокую ямочку. Затем осторожно насыпал туда основательную порцию нюхательного табаку, поднес к своему большому носу и гулко втянул в ноздрю, не просыпав ни крошки.
– Ты не приходила на молитвенное собрание в школе, – заметил он бабушке, когда церемония была окончена.
– Времени совсем нет – что в будни, что в праздник, – отвечала она уклончиво. – К тому же этот новый священник не очень-то хорошо служит.
Мерк высморкался в черный с красным платок и вздохнул:
– Пожалуй, ты права. Со времени Энбума не было у нас еще настоящего священника. Вот кто умел проповедь читать – никогда не забудешь!
– Зато и детей бедняков умел запугивать! – отрезала бабушка.
Мерк нахмурился и недовольно пожевал губами при нападении на его любимца.
– Он был поборник господа и великий проповедник, как сказано в писании.
– Защитник вдов и сирот! – воскликнула бабушка ему в лад с плохо скрытой язвительностью. – Есть одна вещь, о которой я по-настоящему жалею: это когда я в своей простоте пошла к священнику за советом и помощью против Арениуса и его шайки. Когда умер Янне и зашла речь о наследстве, писарь Улле мне и говорит, что долги, мол, превосходят стоимость всего имущества. Мол, если я немедленно не заплачу двести риксдалеров, которые причитались с Янне за его долю в большой шхуне, на которую Арениус поставил его шкипером, то весь двор с молотка продадут. Вот они до чего добирались! И что же мне сказал Энбум? «Надлежит быть покорным своим богоданным господам и хозяевам», – вот что он сказал.
С тем я и ушла.
Щеки бабушки запылали при воспоминании о прошлых обидах, глаза вспыхнули внезапным гневом:
– Ну, а я господам другую проповедь прочитала! Берите мою землю, говорю я им, берите! Но только вместе с ней берите и детей! Я-то как-нибудь справлюсь сама. Наймусь стряпухой или батрачкой, но детей кормить будете вы!
Бабушка тяжело перевела дыхание.
– Конечно, я не бросила бы ребят, да только Арениус и Улле-писарь сразу по-другому заговорили. Не достался наш двор этому воронью, а с долгами я понемногу расплатилась. Всё до последнего гроша вернула.
Мерк приоткрыл рот, словно хотел возразить что-то. Однако, когда бабушка разойдется, лучше уж было молчать…
Оке сидел на корме лодки и прислушивался к однообразному, унылому скрипу уключин. Тетя Мария гребла легко и быстро; она выглядела заправским рыбаком в старом комбинезоне дяди Стена и в резиновых сапогах. Головной платок был завязан тугим узлом на затылке. С убранными волосами лицо тети Марии стало не по-женски суровым. Впрочем, ветерок все-таки выхватил из-под платка прядь и пощекотал нос тети Марии, заставив ее лицо осветиться улыбкой. Оке тоже чуть улыбнулся. Если бы только тетя Мария смеялась почаще, он быстро преодолел бы чувство отчуждения к ней.
Ноги Оке было закоченели, когда он вошел в воду, чтобы столкнуть лодку с отмели, но теперь кровь опять приливала к коже, неся с собой приятное, чуть покалывающее тепло. Утреннее солнышко энергично сушило промокшие насквозь штаны.
Голый скалистый мыс Архаммарен еще купался в розовом свете зари. Четким силуэтом вырисовывались здания главной усадьбы, рожь покрывала склоны холмов правильными желтыми пятнами. Солнце поднималось все выше, и залив Скальвикен превращался в огромный, отливающий синью металлический диск. Бриз оставлял на его поверхности сверкающие вмятины, в глазах рябило, и было очень трудно заметить поплавок с флажком.
Оке усиленно щурился, стараясь обнаружить квадратик из черной материи, однако тетя Мария опередила его.
– Ну-ка, садись на весла, а я вытяну сеть, – сказала она, меняясь с ним местами.
Одна камбала за другой появлялись из зеленоватой морской толщи, напоминая большие белые хлопья. Некоторым удавалось вырваться на свободу у самой поверхности, и они исчезали, взмахивая плавниками, словно крыльями, но большинство очутилось в лодке.
Улов оказался богатым. Пока тетя Мария и бабушка выбирали камбалу и развешивали сеть для просушки, Оке пришлось заняться чисткой рыбы.
Остро отточенной финкой он без устали отрубал головы и хвосты, не обращая внимания на то, что ободрал себе в кровь пальцы о шершавую, словно наждак, рыбью кожу.
Со стороны скотного двора доносились хриплые, но по-своему мелодичные крики. Серая крыша пестрела ослепительно белыми птичьими грудками: поморники издалека почуяли запах рыбы и не замедлили явиться. Слегка наклонив желтые хищные клювы, они бесстрастно выжидали, когда Оке вынесет отбросы на помойку. Тогда они легкими тенями скользнут на пепельных крыльях вниз, доведут до остервенения всех ворон, до смерти перепугают кур и нахально отгонят потрясенного петуха, словно он какой-нибудь жалкий цыпленок. Потом исчезнут так же тихо и таинственно, как появились.
Не одни чайки учуяли хороший улов. Вот из-за сарая показался, прихрамывая, Мёрк. Оке гордо взмахнул в воздухе огромной камбалой, и старик приветственно поднял свою палку. Широкий, лопатообразный ноготь на большом пальце его правой руки был словно нарочно создан для того, чтобы вычищать из рыбы запекшуюся кровь.
Засыпающие рыбы устало хлопали жабрами. Самая жирная камбала взмахнула вдруг хвостом и принялась хлестать по своим товарищам в беде, заражая их последним приступом бессильной ярости. Мёрк схватил ее твердой рукой и стал разглядывать так, будто впервые держал в руках подобное существо.
– Эта тварь не захотела остаться такой, какой ей было предопределено господом богом, – произнес он с укором. – Ей захотелось жить на дне! И стать плоской, как блин. Посмотри на нее: глаза косые, рот кривой – урод уродом!
С приходом Мёрка работа пошла куда быстрее и веселее. Строгий взгляд на жизнь не мешал ему нет-нет, да и придумать что-нибудь забавное.
– В какой стороне лежит Мадагаскар? – спросил он вдруг. – Ты должен это знать, раз в школу ходишь.
Оке ответил ему как мог, но Мёрк остался недоволен:
– Так это что – страна такая в Азии?
– Нет, Мадагаскар находится около Восточной Африки. Это остров большой, как Швеция.
– Как вся Швеция? Ах ты, шут его дери!
Это было самое сильное выражение, какое позволял себе Мёрк.
– В миссионерской газете часто пишут об этом самом Мадагаскаре. Если туда отправиться, то как плыть надо?
Оке попытался описать ему большие морские пути. Его рассказ произвел сильное впечатление на Мёрка.
– Да, интересно вот так узнать, куда уходят наши взносы в миссионерское общество… Тебе бы капитаном быть или священником…
Мёрк явно сам не имел ничего против того, чтобы оказаться на кафедре проповедника, хотя злые языки утверждали, что он в молодости больше увлекался водкой и чужими женами, чем десятью заповедями.
Накануне полугодичного отчетного собрания миссионерского общества в Висбю неопрятный, оборванный старик словно преобразился. Он достал из какого-то тайника хорошо сохранившийся темный костюм, сменил можжевеловую дубинку на бамбуковую трость с серебряным набалдашником и насыпал любимую смесь двух различных сортов нюхательного табака в блестящую металлическую табакерку.
Седые волосы Мёрка были тщательно расчесаны на пробор, щеки гладко выбриты. И когда Оке помогал ему зашнуровать черные ботинки, которые старик не мог надеть без посторонней помощи, тот сидел прямо, словно вспомнил военную выправку.
Однако мысли Мёрка были далеко от Фаринге, где он проходил когда-то службу в качестве ревностного капрала.
В который раз поправляя шейный платок из желтого шелка, он беспокойно осведомлялся, не слышно ли машины.
– Нет, до прихода бредвикского автобуса еще долго, – успокаивал его Оке.
Мёрк погрузился на минуту в глубокое размышление. Губы его беззвучно шевелились – он репетировал то, что собирался сказать редактору готландской миссионерской газеты:
– В вашем последнем номере помещено не совсем удачное рассуждение. Ни один человек не может освободиться от наследственного греха, пока жив. Говорить о возможности полного спасения еще на земле – значит проповедовать баптистскую ересь.
Мёрк признавал, собственно, лишь двоих толкователей священного писания. Один из них был преподобный Мартин Лютер,[17]Лютер, Мартин (1483–1546) – видный религиозно-политический деятель в Германии. второй – он сам. Оке иногда завидовал способности Мёрка день за днем находить что-то достойное внимания на все тех же пожелтевших листах, которые он читал уже сотни раз. Оке даже проглотил головоломное теософское[18]Теософия – реакционное религиозно-мистическое учение. сочинение под названием «Глаголание апокалипсического зверя и мировая война», навязанное бабушке каким-то бродячим торговцем, после чего предпринял отчаянную попытку одолеть всю библию.
Это было все равно, что жевать щепки, чтобы заглушить приступ голода.
Потом Оке припомнил, как кто-то говорил, что у Мёрков было в свое время множество книг.
– Как же, Динес заставил книгами всю стену в чердачной каморке, – подтвердила бабушка. – Его голова вмещала все на свете, да он и сам красивые стихи сочинял.
Поэтов в Нуринге было много, если считать поэтом каждого, кто умел легко сочинить ехидный куплет про нелюбимого соседа или описать сухопутные и морские подвиги в многословных виршах на нурингском диалекте. Но Динес Мерк писал свои стихи на литературном шведском языке – может быть, именно поэтому никто их не знал?
– Все в огонь пошло – и книги и одежда его. Жаль было жечь такой добрый костюм, но иначе нельзя было, – рассказывал Мёрк.
– И книги – все до одной? – переспросил подавленный Оке.
– Все сжег, да их и не жалко – все больше мирские истории были да всякие выдумки.
Разочарование Оке было так ясно написано на его лице, что Мёрк счел своим долгом утешить его:
– Ну-ну, не падай духом, парень! Разрешаю тебе порыться на чердаке. Может быть, там еще завалялась какая-нибудь книжка. Зараза, наверно, успела выветриться за все эти годы.
– Берегись только, чтобы он после не сказал, что ты ограбил его, – предупредила бабушка.
Маленькие оконца были затканы паутиной, и на чердаке царил полумрак. Над балками серыми призраками висели иссохшие сети. Лежали в куче отслужившие свой век инструменты и изъеденная молью одежда, словно выброшенный волной мусор на островке. Из ящика торчала трезубая острога, на псалмодиконе покоился деревянный безмен со свинцовой гирей. Оке ущипнул единственную уцелевшую струну инструмента. Послышался глухой звук, и из отверстия в деке поднялось густое облачко пыли.
Около дымохода стоял ларь с маленькими дверцами. Рядом поднимался к крыше гладко отполированный шест. Оке потянул его – у самых ног послышалось глухое скрипение. Этим шестом приводился в движение тяжелый жернов, который в свое время смолол немало ячменя и ржи.
Перед дверью в каморку Оке остановился в нерешительности. Потом открыл ее – первый за много-много лет. В лицо ему ударил холодный затхлый воздух. Книжная полка стояла на месте, но, увы, совершенно пустая. Она была покрашена в синий цвет, и, может быть, именно поэтому те, кто сжигал книги, не заметили один том с синим корешком, лежавший на самом верху. Оке стало даже жарко от волнения, когда он увидел книгу; однако, полистав ее некоторое время, он положил ее на место. Речи Заратустры были для него непроходимыми дебрями. В таких дебрях обычно кроется лишь увядшая трава да гнилые листья… Ницше[19]Ницше, Фридрих (1844–1900) – реакционный немецкий философ-идеалист. Одно из его произведений называется «Так говорил Заратустра». только раздражал Оке, зато за полкой он нашел книгу, которая заставила его ощутить глубокую печаль.
Томик назывался «Молодая луна» и содержал стихи, которые Оке никак не мог понять до конца, хотя отдельные строфы поражали его чистой, простой красотой. Слишком мало он знал о бамбуковых рощах, буйволах и древних мифах, чтобы оценить величайшего поэта Индии. Само имя стихотворца звучало для него, как волшебное заклинание: Рабиндранат Тагор.[20]Тагор, Рабиндранат (1861–1941) – великий индийский писатель.
Не такие ли стихи мечтал напечатать и Динес Мерк? На бледных обоях одной из стен виднелись полоски – там, где стояла кровать Динеса. На этой кровати он прочел последнюю в своей жизни книгу и выкашлял остаток разрушенных легких…
Оке решил продолжать поиски. С волнением открыл он два кованых сундука, но в них лежало только постельное белье и домотканые ковры. Яркие краски свидетельствовали о том, что ковры ни разу не побывали в употреблении. Мёрк предпочитал путаться ногами в грязном, дырявом тряпье.
Оке медленно побрел вниз по лестнице ни с чем. Однако едва голова его сравнялась с полом чердака, как он рванулся обратно. В самой глубине под продавленным диваном его глаза заметили что-то, напоминающее книги.
Сначала он вытащил картонный переплет, в котором было собрано множество брошюрок в ядовито-зеленых обложках. «Цена 35 эре. При одновременном приобретении всех пятидесяти брошюр покупатель получает в придачу изысканно красивый кофейный сервиз», – гласила надпись в нижней части. На первой странице обложки красовался рисунок, повторявшийся на всех пятидесяти брошюрках. Трое мужчин в украшенных перьями шляпах и со шпагами в руках смотрели на четвертого. Этот четвертый был распят на железной ограде. Тело его было во многих местах пробито насквозь, из многочисленных ран обильно струилась кровь.
Однако Оке так и не пришлось узнать, кто был этот несчастный. Крысы изгрызли приключения трех мушкетеров вдоль и поперек, мало что оставив от них. Зато лежавшие тут же рядом «Сага о Фритьофе»,[21]«Сага о Фритьофе» – одно из самых значительных произведений видного шведского поэта Э. Тегнера (1782–1846). «Вокруг света в восемьдесят дней» и «Путешествия Гулливера» оказались, как ни странно, совершенно невредимыми.
– Ну вот, будешь теперь глаза портить и зря жечь дорогой керосин! – проворчала бабушка, когда он вернулся домой со своими сокровищами.
Оке взял с собой в постель карманный фонарик и читал полночи, накрывшись с головой одеялом. Раз открыв «Путешествия Гулливера», он уже не мог оторваться от них, пока не перевернул последнюю страницу.
* * *
Близнецы давно уже перестали быть непрестанно кричащими комочками, и Оке без устали возился с ними. У Анночки была такая же светлая челочка и такие же небесно-голубые глаза, как у ее круглощекой куклы. Она предпочитала играть тихонько в уголке. Зато Лассе был отчаянный озорник и выдумывал самые неожиданные проказы. Случалось, звон опрокинутой вазы возвещал о том, что он взобрался на буфет.
– Да, тесновато начинает становиться у нас в доме, – заключил дядя Стен однажды в воскресенье, понаблюдав за подвигами Лассе, которые кончились тем, что бабушка принялась сокрушаться над разбитым стеклянным блюдечком.
– Взял бы да расширил дом, чтобы у нас получилось две комнаты, – предложила бабушка.
Дядя Стен ответил не сразу. Он явно задумал что-то Другое.
– Надоедает это – ютиться всю жизнь в бараках, а каждую субботу и воскресенье за семь верст киселя хлебать. Я подумываю о том, чтобы переехать на новую каменоломню, к югу от Бредвика. Компания дает там строительные участки по сходной цене.
Бабушка возразила, что начинает стариться и ей становится все труднее управляться одной.
– А этот участок можно опять сдать в аренду, чтобы мама могла переехать с нами, – предложила тетя Мария.
– Нет, я уж останусь здесь. С меня хватит этих переездов с места на место по всему острову.
– Надо еще подумать, – возразил дядя Стен. Бабушка думала долго, но так и не изменила своего решения остаться в Мурет.
– Возьмите ссуду на строительство своего домика, если вам так будет лучше. А что касается меня и парнишки, то время покажет, – сказала она в конце концов.
Дядя Стен получил наполовину отстроенный дом, и уже осенью все было готово для переезда. День выдался серый, с упрямо моросящим дождичком, и погруженная на машину мебель успела отсыреть раньше, чем ее накрыли брезентом.
Тетя Мария с Анночкой заняли место около шофера, а дядя Стен с Лассе уселись на вещах, накрывшись плащом.
– Да вы же забыли настольную лампу! – воскликнула бабушка, когда машина уже была готова тронуться.
Тетя Мария получила ее в подарок к обручению – керосиновую лампу с красивой подставкой из желтого металла, вроде бронзы.
– Оставьте ее у себя, мама. У нас будет электричество. Повернул выключатель на стене – вот тебе и свет!
Оке с тоской наблюдал, как грузовик исчез за поворотом.
– А справимся мы зимой? – спросил он бабушку.
– Не беспокойся. Как-нибудь управимся, – ответила бабушка, успокоительно улыбаясь.
Она вытащила из кармана юбки письмо и показала Оке несколько строчек. «Климат здесь в Чикаго не по мне. Летом жара невыносимая, а зимой бывают сильные морозы. Либо я поеду на запад, в Калифорнию, либо вернусь домой, на Готланд».
– Я уже написала и просила Хильдинга не уезжать еще дальше от нас, а возвращаться домой.
Бабушка с волнением ожидала ответа из Америки и каждый день просила Оке забегать на почту. Наконец на ее имя пришло письмо, но конверт был надписан незнакомой рукой, а штемпель говорил о том, что оно отправлено из маленького приморского городка в Южной Швеции.
Бабушка перечитала письмо несколько раз, прежде чем заговорила. Внезапно она крепко прижала Оке к себе, и ее шершавая, искалеченная подагрой рука с непривычной лаской потрепала его непокорный чуб.
– Фанни… твоя мама… умерла, – сказала она просто.
Оке стоял в оцепенении, крепко стиснув губы. Мать была для него только именем, и он не мог плакать.
– Не будем горевать, – продолжала бабушка, словно прочла его мысли. – Я так и знала, что она уже неизлечима, когда ее перевезли на материк.
– Бабушка, у тебя нет ее карточки?
– Есть, как же, свадебная карточка, только я не знаю, куда она запропастилась.
– Можно мне поискать в сундучке?
Бабушка вручила ему ключ:
– Не думаю, чтобы ты нашел. Я сама много раз искала ее.
В синем сундучке, который ездил с бабушкой еще на Сандэн, хранились связки писем, поздравительные открытки, поблекшие бумажные цветы, поломанные брошки и другие маленькие памятки. Бабушка называла этот сундучок американским, потому что он первоначально предназначался для значительно более далекого путешествия, чем до маленького островка на севере.
– Мне тогда девятнадцать было, – рассказывала она. – Один родственник мамы написал из Нью-Йорка и звал меня к себе. В последнюю минуту я передумала. А будь я постарше, так поехала бы.
Если бы бабушка и в самом деле уехала, как это делали многие ее сверстницы, что же было бы с ним сегодня? Оке показалось, что у него все закачалось под ногами, когда он попытался найти ответ на этот простой, но вместе с тем такой замысловатый вопрос. Может быть, ни его мама, ни он сам так никогда бы и не родились… Или они жили бы там, в Америке, с совсем другими именами и говорили бы на совершенно другом языке?
Он тщательно и осторожно перебирал бабушкины сувениры. Наконец ему попался альбом со множеством наклеенных фотографий. На одних были группы рабочих в спецовках – на фоне скал, паровозов и грузовых кранов, на других красовался дядя Стен в мундире и с треуголкой на голове – во рту сигаретка, руки небрежно засунуты в карманы, чтобы никто не подумал, что он, чего доброго, действительно увлекся военной службой. Вот дядя Хильдинг в куртке юнги сложил руки на груди, стоя в ряду команды «Брунгильды»; это был его третий и последний рейс. Многочисленные родичи женского пола фотографировались в окружении кучи ребятишек, а молодые девушки стояли оцепенело около плетеного стула или диванчика – собственности профессиональных фотографов в Бредвика или Висбю.
Однако ни одна из этих женщин не могла быть матерью Оке. Он знал их всех по рассказам бабушки. Найти бы хоть маленькую любительскую карточку мамы, чтобы заполнить чем-то болезненную пустоту в груди, чтобы горе было направлено на что-то определенное…
Бабушка так и не дождалась ответа от дяди Хильдинга, но в один прекрасный день Оке увидел на дворе незнакомого мужчину в клетчатом пальто и светлой фетровой шляпе, внимательно разглядывавшего старую рябину.
– Все как было, – произнес незнакомец.
Он держал в руках тяжелые чемоданы, а позади него шли еще двое, неся здоровенный сундук. Присмотревшись, Оке узнал его, хотя лицо выглядело более усталым, чем на фотографиях, и у висков просвечивали серебряные нити. Бабушка была занята стиркой на кухне, и Оке поначалу даже не знал, что говорить или делать.
– А это, видно, Оке, – произнес дядя Хильдинг и улыбнулся, сверкая золотыми коронками.
Оке смущенно пожал его мощную руку и побежал вперед открыть двери, чтобы шоферы могли втащить свою громоздкую ношу. В дверях кухни показалась бабушка, руки ее до самого локтя были покрыты мыльной пеной. В ту же минуту она исчезла в могучих объятиях дяди Хильдинга. У обоих появились слезы на глазах.
– Как доехал? – спросила бабушка, преодолев волнение.
– Отлично! На второй же день в шторм попали, но у нас подобралась компания, которая тогда только и чувствовала себя хорошо, когда все остальные по каютам валялись!
Дядя Хильдинг рассчитался с шоферами, снял верхнюю одежду и быстрыми шагами вымерил комнатку.
– Раньше мне казалось, что она гораздо больше, – заметил он и осмотрелся кругом. – И в такой маленькой каморке мы все выросли!
– А мне достаточно, – сказала бабушка. – Мне бы только кухню расширить да новый котел с печкой под крышей поставить, так еще на много лет хватит.
Дядя Хильдинг сделал широкий жест рукой:
– Я построю новый дом, какого вы еще не видели! И именно здесь, на отцовской земле. Он так никогда и не смог отстроить свою усадьбу, но я еще докажу!
Бабушка улыбнулась горячности Хильдинга, счастливая уже тем, что снова слышит его голос.
– Что же тебе подать на обед? – спросила она растерянно. – У меня дома нет ничего вкусного.
Дядя Хильдинг расхохотался и пожал плечами:
– Что подать? Картошку и камбалу, конечно!
На лице Оке было написано удивление. Вот уж не ждал он, что человек, приехавший из Америки, попросит самой простой еды.
– Не думайте, что я там ел с золотого блюда, – продолжал дядя Хильдинг. – А уж по камбале так просто истосковался!
Он отпер сундук и принялся рыться в нем. Большая стеклянная банка с крупно нарезанным трубочным табаком, пахнущие новой кожей куртки, надушенные журналы на английском языке, несколько кило кофе, сушеные финики и инжир, купленные в Нью-Йорке, и многое другое, чего Оке никогда не видел прежде, заставили разыграться его воображение.
В маленькую комнатку ворвался большой мир, которому было тесно в ее стенах. Дядя Хильдинг озабоченно глялел на игрушки, купленные для маленького племянника.
– Я думал, что у вас тут время стоит на месте, а Оке вон уже какой вытянулся!
– Ничего, ты ведь пойдешь навестить Стена и Марию, – успокоила его бабушка. – Вот и неплохо будет захватить с собой подарки из Америки близнецам.
– Да, в самом деле! У них ведь тоже детишки есть.
Вместо игрушек Оке получил вечную ручку из зеленоватой пластмассы. Пока он восхищался ею, дядя Хильдинг достал футляр из бурой парусины.
– Вот, мать, смотри, сейчас увидишь настоящее охотничье ружье.
Быстрыми движениями он собрал ружье и зарядил магазин. Потом снова открыл его, высыпав на пол золотистые патроны.
– Немало уток пострелял я из него на озере Мичиган! Шесть выстрелов можно сделать без перезарядки.
Бабушка отлично понимала, как это важно для охотника, и внимательно рассматривала замечательное оружие.
– А гангстеров тебе никогда не приходилось встречать? – спросила она. – Я читала в газетах, что там столько убийств и других ужасов происходит…
Дядя Хильдинг весело рассмеялся:
– Простой человек, который не связывается ни с какими шайками, редко когда их видит. Я как-то даже с самим Аль-Капоне поздоровался, не зная, кто он такой.
Бабушка ужаснулась. Это имя она часто встречала в газетах, когда искала новости из города-чудовища, лежащего в центре далекой страны, в которой, наверно, жило больше нурингцев, чем на самом Готланде, если считать потомков самых первых эмигрантов.
– Как же ты мог его встретить?
– А мы строили большой дом в пригороде для одного из его людей. И вот однажды – я как раз заканчивал цементный пол в подвале – вдруг подъезжают несколько человек на «Паккарде» и начинают осматривать стройку. Я не стал к ним особенно приглядываться, но только потом десятник и говорит, что один из них был гангстерский главарь.
– Он хотел поселиться там?
– Нет, после в этом здании открыли публичный дом. Впрочем, несколько лет спустя другая шайка сожгла дом дотла.
Бабушка красноречиво моргнула в сторону Оке, и дядя Хильдинг круто переменил тему разговора.
– Только когда соберешься домой, узнаёшь, сколько готландцев там живет! Все шведские землячества проведали, что я уезжаю, и если бы мне брать с собой все посылки и письма, то пришлось бы отдельный пароход нанимать!
Дядя Хильдинг показал обвязанную красной шелковой лентой картонную коробку. Надпись на коробке, выведенная дрожащей рукой по-английски гласила: «Мистеру Вильгельму Мёрку. Нуринге, Швеция».
– Неужели у Мёрка есть родня в Америке? Он ни разу не говорил об этом! – воскликнула бабушка удивленно.
– Да он и сам об этом, вероятно, не знает. Она ему приходится двоюродной сестрой – маленькая такая, седая, сморщенная старушка. Я ее совершенно случайно встретил в Чикаго. Обрадовалась до слез. Юханна ее зовут, дочь Расмуса Мёрка.
Бабушка принялась усиленно вспоминать.
– Нет, что-то не припомню.
– Это и неудивительно. Она старше вас, мама, а уехала туда, когда ей было всего восемнадцать. Шведский забыла совсем, только – вот забавно! – помнит еще несколько слов староготландского диалекта. Знает, как в Нуринге называют тюленя и севшее на мель судно.
В тот вечер бабушка не скупилась на керосин для лампы, и Оке долго слышал сквозь сон голоса.
– В зале у меня будет дубовая мебель, большой письменный стол и толстый ковер – как ступишь ногой, словно на мох встал!
Дядя Хильдинг представлял себе, как будет выглядеть каждая комната; можно было подумать, что особняк уже стоит готовый на опушке, где он облюбовал себе участок.
– А не трудно будет зимой отапливать такую домину? – беспокоилась бабушка.
– Что вы! В подвале у меня будет большой котел для подогрева воды, от него пойдут трубы по всем комнатам к батареям.
Бабушка соглашалась, что большие удобства трудно себе представить, но были у нее и возражения.
– Так никогда и живого огня не увидишь, – заметила она. глянув печально на старую, закопченную печку.
Дядя Хильдинг перевел разговор на то, какая у нее будет кухня:
– Ни помои, ни воду таскать не надо. Будет и водопровод и канализация, да еще ванная с кафельными стенами.
– И на все это у тебя хватит денег? – спросила бабушка недоверчиво.
Дядя Хильдинг самоуверенно ухмыльнулся:
– Я кое-чего поднакопил за последние годы, а все цементные работы могу сам сделать. Впрочем, может случиться, что у меня появится настоящее состояние, – произнес он доверительно.
– Это как же?
– Есть у меня там хороший друг. Он из Смоланда. Мы выехали из Гётеборга одновременно. Ну вот, мы с ним вложили каждый по две тысячи долларов в земельный участок на окраине Чикаго. Город расширяется как раз в ту сторону, и через несколько лет цена на наш участок может вырасти раз в десять.
* * *
На пустынном берегу за Биркегарда сгрудилось, словно стайка продрогших воробьев, несколько сарайчиков. Около них вливался в море ручеек желтоватой болотной воды. Корюшки и мальки испуганно забились о ноги Бенгта и Оке, когда мальчики пошли вброд через устье ручья.
Между крутыми утесами тянулись груды булыжника – тяжелые, каменные волны, мрачно-серые рядом с зеленью кустов, но ослепительно белые или чуть отливающие голубизной внизу у воды.
Оке снова надел тапочки. Ноги болели, в правой пятке засела колючка от репейника. Хорошо будет окунуть их в прохладную морскую воду! Над берегом дрожало густое марево, было очень утомительно ходить по горячему камню.
– Здесь не меньше тридцати саженей до дна, – сообщил Бенгт и швырнул в море плоский камень.
Камень стал тонуть, петляя, словно сорвавшийся с дерева осенний лист, и исчез в темной бездне.
Оке удивился, увидев на берегу нагромождение ржавого железного лома.
– Это от «Юлиуса» – он затонул здесь недалеко и потянул за собой на дно три баржи с известкой, которые вел на буксире, – объяснил Бенгт. Он знал все о судах и крушениях и мог сколько угодно бродить по берегу – не то что Оке.
Около Нурингехюк торчали из воды причудливые каменные столбы. Некоторые напоминали остатки затопленных домов, другие можно было принять за громадного водяного или же за разъяренного тюленя, который приподнялся с рычанием на ластах, да так и окаменел. Прихотливо извивающуюся колонну увенчивала здоровенная глыба, разрисованная полосами птичьего помета. Здесь любили отдыхать чайки. Казалось, им ничего не стоит раскачать глыбу ударами своих мощных клювов и сбросить ее вниз, однако она тысячелетиями лежала нерушимо на каменном столбе.

Низенькие, то и дело исчезавшие под волнами горбы мраморно-розового известняка светились в зеленой воде, точно драгоценные камни.
Оке хотелось пить, нога болела до тошноты, но Бенгт весело карабкался впереди него, пристально разглядывая каменистый берег. Часто лишь несколько соломинок или перышек говорило о том, что здесь гнездо; пестрые яички чаек легко было прозевать.
– Когда минуем столбы, ты что-то увидишь, – произнес загадочно Бенгт.
– А что? – воскликнул Оке нетерпеливо.
Но Бенгт только рассмеялся дразнящим смехом.
– Вот она! – воскликнул он взволнованно, когда они обогнули скалистый мыс.
Далеко от воды, куда не доходил коварный прибой, стояла на берегу шхуна со сломанными мачтами. Часть палубы была разобрана и унесена. Вся шхуна стояла на виду, от киля до самого борта, и нос ее казался необычно высоким. Крики морских птиц звучали здесь особенно резко и зловеще, пустынность берега усиливала чувство тоски, а черная дыра в палубе неудержимо притягивала к себе взор, вызывая такое же тревожное чувство, как вид бесконечного морского простора. Сломанные дубовые доски пахли дегтем и просмоленной древесиной.
Бенгт хотел было забраться в каюту, однако нерешительность Оке заразила его, и он отказался от этого подвига. Выброшенное на берег разбитое судно было все равно что мертвый человек. Тени прошлого повисли над ним невидимым траурным флёром, до которого нельзя было дотрагиваться неосторожными руками.
Обратно друзья шли очень медленно. Последнюю часть пути Оке преодолел, хромая и припрыгивая на одной ноге, время от времени опираясь на Бенгта. Бабушка в ужас пришла, когда увидела, какой нарыв вздулся у него на побагровевшей пятке, и поспешила закатать штанину до колена.
– Заражения нет, слава богу! Тогда я как-нибудь сама справлюсь, без доктора.
Уездный врач жил в городе, в пятидесяти километрах от Мурет, а в переполненную больницу в Висбю обращались лишь в тех случаях, когда речь шла о жизни и смерти.
Бабушка сварила ржаной кисель с уксусом, приложила к пятке, обмотала сверху теплым платком, чтобы нарыв «созрел», и велела Оке лежать в постели, подложив под больную ногу большую подушку. Однако нарыв упорно не поддавался ни компрессам, ни мазям.
День за днем проводил Оке в постели, слушая стук молотков на новостройке. Один молоток постукивал особенно рьяно. Он находился в руках Ивара – веселого, добродушного плотника со светлыми, как лен, и курчавящимися, как стружка, волосами.
Дядя Хильдинг, в измазанном, пахнущем известкой комбинезоне, то и дело заходил попить.
– Этот парень работает прямо в американском темпе, хотя всю свою жизнь провел здесь, на острове! – восхищался он.
Дух большого города с его кипучей жизнью еще не выветрился из дяди Хильдинга, хотя он и объявил, вернувшись, что намерен теперь отдохнуть после тяжелых лет за морем, разве что на охоту сходит или съездит на рыбалку, – одним словом, будет жить в свое удовольствие. На деле же, по мере того как на исчерченной автомобильными следами полянке перед фундаментом росли горы мешков с цементом, рогож, досок и ящиков с гвоздями, им овладевало все большее возбуждение.
Бабушка всегда была занята каким-нибудь делом; теперь же она хлопотала больше, чем когда-либо. Под вечер она оказывалась совершенно измотанной своими многочисленными обязанностями.
– Напрасно вы взялись готовить обед рабочим, – говорил дядя Хильдинг.
– Не могут же они жить всухомятку! – отмахивалась бабушка.
Обреченный на безделье, Оке чувствовал себя совершенно беспомощным. Кровь гулко стучала в опухшей ноге, мерно отсчитывая время.
Под воскресенье дядя Хильдинг отправился в Висбю – договориться о поставках строительных материалов. Когда он вернулся домой, его лихо сдвинутая на самый затылок американская шляпа была сильно помята, на пиджаке и шелковой рубахе недоставало нескольких пуговиц, но зато он сам был в отличном настроении.
– Уж настолько я знаю бокс, чтобы справиться с какими-то там гуляками в пивнушке!
– Ас водкой как ты справился? – осторожно осведомился десятник, лысый мужчина с быстрыми, как у белки, глазами, и скосился на чемодан.
– Моя водка – что хочу, то и делаю! – ответил дядя Хильдинг вызывающе. – Семь лет мне пришлось обходиться канадской контрабандой да таким самогоном, что и луженое брюхо прожжет. Так что это не твое дело, если я позволил себе глотнуть немного настоящего товара!
– Но мне-то хоть литр причитается за то, что я одолжил тебе винную карточку? – упорствовал десятник.
Ивар поспешил обратить все в шутку, и дядя Хильдинг снова повеселел. Его настроение легко переходило от гнева к безграничной доброте.
– Слезайте с лесов, ребята! – крикнул он подручным. – Айда за мной – расправимся с остатками!
Бабушка подала закуску, и дядя Хильдинг принялся с хитрой усмешкой вытаскивать доставленные в полной сохранности бутылки.
– Чего же он голову морочил? – протянул десятник умиротворенно.
Освободив бутылки от соломенной упаковки, дядя Хильдинг разлил всем по чарочке, затем стал вспоминать поразительные случаи из своей недолгой матросской практики. Вспомнил он и о том, как заходил в порты Зеландии и Фюна.[22]Зеландия и Фюн – датские острова.
– Датчане – почти как мы. Им бы только язык приличный, так у них совсем хорошо можно было бы жить, – заверял он, уморительно передразнивая их хриплый горловой говор.
Бабушка задыхалась от смеха и вытирала глаза кончиком передника.
– Да это еще похуже нашей речи будет!
Оке наблюдал с тревожным предчувствием, как быстро опустошаются бутылки; веселье взрослых его не радовало. Один из подручных уже сидел наклонив голову и мрачно таращил глаза на стол, словно хотел пробуравить его насквозь своим взглядом.
Напарник толкнул его бесцеремонно в бок:
– Ну-ка, возьми себя в руки, черт подери! Пора и домой идти.
Десятник поддержал его и поднялся на заметно ослабевшие ноги. Однако он был еще достаточно трезв, чтобы вежливо поблагодарить бабушку за угощение и не забыть захватить с собой нетронутую литровку.
Ивар остался сидеть за столом. Он был холостяк, и никто не интересовался, когда он придет домой.
– Пошли, поднимемся в каморку, – позвал его дядя Хильдинг. – У меня в сундучке еще осталась бутылочка коньяку.
Оке лежал и слушал их нестройную беседу. Внезапно они заговорили громко и возбужденно. По полу со звоном покатился стакан, загремели опрокидываемые стулья, затем на лестничной площадке послышались удары и тяжелое дыхание. Оке спрыгнул с кровати. Ему надо было видеть, что происходит.
– Сейчас ты полетишь вниз за это! – проревел дядя Хильдинг и швырнул плотника по направлению к ступенькам.
Тот чуть было не упал, но удержался и ухватил противника за горло. Дядя Хильдинг побагровел и приглушенно застонал.
У Оке сердце зашлось от страха. Бабушка смело двинулась вверх по лестнице с легкостью, какой он не ожидал от нее.
– Да вы совсем с ума сошли! – закричала она, дергая плотника за рукав.
Оке так и ждал, что она покатится вниз по ступенькам, но вместо этого Ивар отпустил свою железную хватку и побрел мимо нее, всхлипывая, как ребенок. Дядя Хильдинг хотел было ринуться за ним.
– Ему причитается за то, что он стаканы разбил! – гремел он.
Бабушка встала перед ним на узкой лестнице.
– Иди, если хочешь, чтобы я упала и покалечилась, – произнесла она твердо.
…Под вечер к ним пришел Мерк и справился, нет ли у Хильдинга чего-нибудь спиртного.
– Он спит, и я будить его не стану, – ответила бабушка нелюбезно. – А что, свинья заболела?
Мерк смущенно хихикнул и принялся жаловаться на боли в животе.
– Не надо есть лежалое сало в такую жару, вот и пройдет все, – посоветовала бабушка.
– А всего лучше, говорят, немного спиртного глотнуть, – торговался Мерк.
Бабушка отыскала бутылку, в которой еще оставалось на дне.
– Вот ведь как забрало лицемера проклятого! – пробормотала она себе под нос и налила ему добрую порцию.
Едва Мерк проглотил водку, как страдальческое выражение на его лице исчезло и серые, глубоко сидящие глаза загорелись живым огоньком.
– Еще налить? – спросила бабушка нарочно, чтобы подразнить его.
Она знала, что Мерк откажется, как бы ему ни хотелось выпить.
– Оке еще не поправился? – спросил он удивленно и попросил показать ему нарыв.
Бабушка неохотно развязала бинты. Мерк задумчиво зарядил нос понюшкой табака и принялся разглядывать распухшую пятку, перебирая в памяти старинные способы лечения.
О том, чтобы заговаривать, не могло быть и речи: это колдовство, обращение к темным силам. Скипидар тут не подходил, водку тратить для внешнего употребления жалко, уксус уже испробован. Оставалось только одно средство, зато самое древнее и испытанное.
– Намажьте как следует самым обыкновенным дегтем, тогда парню не придется ехать в больницу, – прописал он.
Бабушка явно была смущена столь двусмысленным советом, однако была готова испытать все, что не могло повредить. Недолго думая она отправилась за дегтем.
Оке показалось, что черная клейкая масса пропитала его насквозь. Теперь деготь проникнет в поры, и он, наверно, никогда не сможет отмыть его начисто!
– Почему они хотели убить друг друга из-за какого-то разбитого стакана? – спросил он вдруг.
– Не говори глупостей! – ответила бабушка строго. – Много ли нужно мужчинам, чтобы затеять драку, когда они напьются до одурения…
– Кто не руководствуется в своем поведении священным писанием, подвержен опасностям и соблазнам во множестве, – произнес Мерк благочестиво.
Бабушка ничего не ответила, но в глазах у нее мелькнула веселая искорка.
– Вот еще праведный судия выискался! – заметила она презрительно, когда он ушел.
В эту ночь Оке спал крепким, беспробудным сном, а проснувшись наутро, сразу почувствовал непривычную легкость в больной ноге. Он поспешил сорвать бинт и посмотрел с удивлением на пятку:
– Бабушка, опухоль прошла!
– Выходит, старик не так уж глуп. Надо будет угостить его как следует, когда зайдет, – сказала она, сияя всем лицом.
Деготь ли помог или просто здоровый организм Оке переборол болезнь, – как бы то ни было, Мерк сразу же значительно вырос в ее глазах.
Оке стер деготь, обмотал ногу бинтом потоньше и смог даже обуться.
Веселый пересвист синичек выманил его в лес. Мох уже высох и ломко хрустел под ногами, воздух загустел от запаха смолы и хвои. Там, где проселок сворачивал на Стурхауен, Оке обнаружил на телефонном столбе объявление: «Большая ярмарка в Биркегарда».
–, Меня на здешние ярмарки калачом не заманишь!.. – протянул дядя Хильдинг презрительно, услышав взволнованное сообщение Оке.
– Что, уже нагулялся в городе? – осведомилась бабушка.
Дядя Хильдинг смущенно ухмыльнулся и вытащил из кармана несколько монеток:
– Держи, парнище! Тебе, наверно, хочется туда сходить.
Оке не привык иметь в своем распоряжении карманные деньги, и ему просто не терпелось поскорее их истратить. Он сделал отчаянную попытку пригладить волосы с помощью воды и расчески, чтобы выглядеть по-праздничному, но вихор торчал все так же упрямо.
Под вечер, когда предзакатный туман лег молочно-белыми лентами на поля, а хор сверчков сравнялся по силе звучания с утренней спевкой веселых птиц, Оке отправился в Биркегарда. С дороги доносился режущий ухо свист парней и звонкий, переливчатый девичий смех. Когда он подошел к месту гулянья, баян как раз заиграл веселую мелодию. В незнакомом зажигательном ритме совершенно утонули печальные звуки скрипки.
Шипящие керосиновые лампы отбрасывали белый свет на входную арку и серебряные монетки на столе перед кассиром. Оке крепко стиснул свое богатство в кулаке, не вынимая руки из кармана. Конечно, спокойнее иметь на рубахе значок, говорящий о том, что ты заплатил за вход, но за эти же деньги можно несколько лишних раз пострелять в ярмарочном тире. А если еще подбить на соревнование кого-нибудь из ребят побогаче, то есть надежда задержаться в тире подольше. Стоило Оке взять в руки ружье, и пульки с красными хвостиками неизменно укладывались в красивую розочку вокруг самого яблочка.
Пожилые супружеские пары сидели под орешником у ограды. Мирно беседуя, они терпеливо сражались с комарами и слушали даровую музыку.
– Банджо больно хорошо играет, – замечали старички, подкручивая кверху седеющие усы. – Можно еще зайти, тряхнуть стариной, если заиграют старинный вальс!
В темной гудящей толпе на лугу вспыхивали красными светлячками огоньки сигарет. Вдоль ограды выстроились деревья, перехватывая густой листвой свет фонарей, а многочисленные прилавки ярмарки неудержимо манили к себе дешевыми призами. Оке быстро скользнул под проволочное заграждение. С невинным видом и бешено колотящимся сердцем он прошел прямо туда, где торговали конфетами и лимонадом.
Двое плечистых парней, назначенных следить за порядком, были целиком поглощены наблюдением за группой шумливых гуляк, которые подозрительно раскраснелись, потягивая прозрачную жидкость из бутылок с наклейкой «Минеральная вода». В воздухе повис запах контрабандного алкоголя. Танцы еще не успели как следует наладиться, и стайки девушек выжидательно прижимались к увитой березовыми ветками ограде.
Оке протиснулся к танцевальной площадке – посмотреть на обладателя банджо. Это был моряк, недавно вернувшийся из дальнего плавания. Он орудовал своим необычным инструментом с нарочитой небрежностью.
Внезапно с края площадки донесся хриплый вопль:
– Убей кузнеца, гада проклятого!
Подгулявшие парни, которых Оке заметил у входа, напали на кузнеца с бредвикской каменоломни. Он форменным образом косил противников своими огромными кулачищами, но тут один рослый драчун угодил ему прямо в живот. Кузнец охнул и согнулся пополам.
Остальные воспользовались случаем пнуть его раза два ногами, после чего продолжали драться уже между собой, совершенно озверев от выпитого и старых обид, которые теперь выползали из тайников памяти.
Каблуки взрывали дерн, жестокие удары молотили по телам, сквозь ругань и подбадривающие крики пробивался отчаянный женский плач. Музыка продолжала играть, но танцующие пары оставили площадку и окружили тесным кольцом дерущихся.
Кузнец приподнялся и искал что-то руками у пояса. вдруг он снова очутился в толпе, словно разъяренный медведь. Рубаха на нем была изодрана в клочья, на голую волосатую грудь падали красные капли крови, стекавшей по щеке из разбитой брови.
– Сейчас я вам, землеедам, покажу, почем фунт лиха! – протянул он с кривой усмешкой.
Усеянный тяжелыми бляхами ремень кузнеца залетал по воздуху длинной сверкающей змеей. Один из противников свалился наземь от ее металлического укуса, и зрители поспешили расступиться.
– Дамский вальс! – поспешил выкрикнуть баянист, и оркестр заиграл вальс.
Девушки посообразительней ухитрились увести нескольких драчунов на танцплощадку. Дежурные оттащили в сторону горластого батрака, и только к кузнецу никто не смел подступиться. Он стер кровь разодранной рубахой и огляделся бешеными глазами:
– Кого еще здесь проучить!
Никто не принял вызова, и он отправился наконец на поиски пиджака, брошенного сгоряча в кусты.
Танцы продолжались как ни в чем не бывало. Надо было спасать положение, чтобы не испортить всю ярмарку. Однако Оке никак не мог забыть искаженного, окровавленного лица кузнеца – оно все время смотрело на него сквозь шумную радость праздника.
В груди его росло мучительное недоумение и жгучая ненависть к водке. Тяжелая участь матери родила в нем преклонение перед ясным, всесильным человеческим разумом, и Оке всегда испытывал ужас и отвращение при виде людей, напившихся до беспамятства.
Дядя Хильдинг успел подвести стены новостройки под крышу до того, как холодные осенние дожди смыли летнее марево и затянули небо над побережьем серой пеленой.
В это же время его веселая напористость сменилась непонятной раздражительностью, он стал вдруг скупиться в мелочах.
– Деньги кончаются, – признался он наконец бабушке. – Лесоторговцы содрали с меня безбожную цену, да и вообще каждый поставщик старается нажиться как может. Как ни рассчитывай, все равно больше уходит.
– Придется тебе взяться за какую-нибудь работу и постепенно прикупать мебель и все прочее, – посоветовала бабушка.
Она всю жизнь жила в бедности и отнеслась к его невзгодам довольно спокойно.
– Всегда управлялись и теперь управимся.
– Правда, у меня еще есть мои две тысячи долларов в Америке, – вспомнил дядя Хильдинг, воспрянув духом. – Предложу Гюсту либо взять мою долю участка себе, либо продать ее.
Он тут же сел писать письмо своему товарищу в Чикаго. Давно уж они не виделись… Весь следующий месяц Хильдинг жил ожиданием ответа. Наконец он пришел. Дядя Хильдинг торопливо вскрыл конверт и с улыбкой пробежал первые строки:
– Гюст все тот же!
Однако он тут же помрачнел. В печке печально попискивало обуглившееся сырое полено. Дядя Хильдинг молча уставился на гибкие язычки пламени.
– Плохие новости? – спросила бабушка осторожно.
– Все кончено! – вспылил он. – Конец! Сколько пота и крови вложил в каждый цент, а эти проклятые жулики все украли!
– Когда же можно будет доверять людям! – произнесла бабушка грустно. – Ты так хорошо о нем отзывался…
– Да Гюст тут ни при чем! Он-то не обманет. Он сам потерял все. Крах на бирже – и наш чудесный участок теперь и гроша ломаного не стоит.
Дядя Хильдинг настолько увлекся своим строительством, что все это время даже не обращал внимания на то, что происходит на свете. Он знал, конечно, про крах нескольких больших банков, про панику на нью-йоркской бирже. Но ведь так бывало и раньше, когда одна финансовая акула проглатывала целиком другую. О том, что это может затронуть его самого до такой степени, он никогда не подозревал.
Хотя было сделано только полработы, пришлось рассчитать и десятника и рабочих. Неудача дяди Хильдинга была только маленьким камешком в громовой лавине крахов, которая прокатилась по всей стране, оставляя за собой гнетущую тишину – безработицу.
Стук молота стих на многих каменоломнях. Шел слух, что цементный трест подчинил себе все цементные заводы на Готланде лишь для того, чтобы закрыть их и сосредоточить всю переработку известняка на материке.
Один из рабочих поселков Нурдрета был уже обречен на гибель. Молодые рабочие уходили оттуда, усиливая соперничество из-за работы в других местах.
– Придется как только можно растягивать мою пенсию, – заключила бабушка. – Никто не знает, сколько продлятся плохие времена и когда Хильдинг найдет работу. Стен пишет, что в Бредвика тоже дела плохи.
Рассчитавшись с рабочими, дядя Хильдинг уехал в Висбю. Вернулся он вдребезги пьяный и с огромным синяком под глазом. Бабушка плакала и хлопотала около него с примочками.
– Это тебе спасибо от приятелей, которые пили и гуляли на твои денежки! – причитала она.
Дядя Хильдинг ругал весь свет и вспоминал все пакости и мерзости жизни, словно разворачивал грязное, заплатанное одеяло. На висках у него заметно прибавилось седины, и прошла не одна неделя, прежде чем в нем возродился дух предприимчивости.
– Ладно еще, что я купил хорошую лодку, пока были деньги. Теперь надо раздобыть сетей и соорудить сарайчик на берегу. Море всегда прокормит труженика, – сказал он, придя в себя после первых тяжелых недель.
– Лучше снять у кого-нибудь сарай в Стадаре. Не все тамошние занимаются зимним ловом, – посоветовала бабушка.
Дядя Хильдинг горько усмехнулся:
– В Стадаре… Там, где отец надорвал себе сердце, когда бегал за баранами. Только и остается. Вот и я теперь у разбитого корыта – недостроенный дом да долги…
В прошлом, когда остров Готланд был республикой крестьян-мореходов, Стадар был большим портом, но уже в пору засилья Ганзы он утратил свое значение, став небольшим рыбацким поселком. На берегу, далеко от нынешней черты моря, можно было увидеть остатки каменных набережных. А в одном месте сохранились развалившиеся стены: здесь стояла, как утверждали, часовенка, которую построил легендарный норвежский король-викинг Святой Улав во время одного из своих походов в Балтийское море.
На изогнувшемся, как бычий рог, лесистом мысу высился утес со знаменитой пещерой. Предания рассказывали, что одна женщина в смутные времена спрятала там родовые сокровища. Теленок, постоянно ходивший за ней, выдал грабителям потаенное место, но самый клад они так и не смогли найти.
Холодным январским утром, перебираясь с холма на холм на взятом у товарища велосипеде, сюда приехал Оке. Он невольно спрашивал себя, не стоит ли попытать счастья и обыскать еще раз заветную пещеру…
Широкие лодки глухо бились о причалы рыбацкой гавани, крошились о мол кочующие по волнам льдины. Норд-вест трепал паутину антенн над крышами, срывал с дымоходов черные в красную искорку шапки дыма и тонко завывал в узких улочках между сараями.
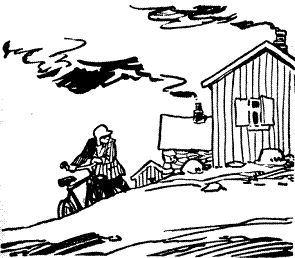
Над улицей вихрился снег, собираясь в небольшие сугробы в старой части поселка, раскинувшейся повыше, на берегу. Там выстроились низкие домики, сколоченные из бревен или сложенные из грубого камня. Глядя на них, можно было подумать, что время вот уже много веков стоит на месте. Тем неожиданнее казался большой бетонный склад рыболовецкого союза, куда свозили для взвешивания улов и откуда по телефону уславливались о цене со скупщиками.
Оке поставил велосипед под укрытие и пошел через лабиринт воткнутых в землю шестов. Широкие шлейфы развешанных для просушки буро-коричневых сетей застыли на морозе, тонкий ледок звенел на ветру стеклянным звоном. С нескольких лодок выгружали в желтые сосновые ящики салаку.
– Хильдинга ищешь? – спросил у Оке знакомый рыбак. дыша на замерзшие руки. Пальцы совсем посинели, несмотря на напряженную работу. – Он еще не возвращался – снасти ищет. Как бы его не унесло в Россию вместе со льдинами!
Оке справился, где стоит сарай дяди Хильдинга.
– Предпоследний вон в том ряду, лицом к морю. Если дверь заперта, ищи ключ под ступеньками.
Застоявшийся запах рыбы и машинного масла ударил Оке в лицо, когда он вошел в темный сарайчик. Стены были покрыты блестящим пластом рыбьей чешуи; такой же серебристый слой лежал на беспорядочно разбросанных на полу снастях. Во внутренней утепленной каморке железная печурка таращила слюдяные окошки-глаза на пару мокрых рыбацких сапог.
Рядом с вонючим примусом стояли закопченный кофейник и несколько немытых кружек. Беспорядочно скомканные постели на прибитых к стенам нарах говорили о том, что обитатели покинули сарай второпях.
Оке отложил в сторону сверток с носками и чистым бельем, который вручила ему бабушка, и стал около окна. Мимо мыса мчались мутно-зеленые валы с белыми барашками. Ему показалось, что он заметил на гребне волны что-то темное. Ветер притих на время, и послышался как будто слабый звук мотора.
Из бетонного здания вышел плотный мужчина в кожаной куртке и фуражке с теплыми наушниками. Он пристально разглядывал морскую даль в большой бинокль. Оке поспешил выбежать к нему и спросил, не видно ли лодки дяди Хильдинга.
– Идет, да глубоко сидит. Либо вытянули полные сети рыбы, либо корпус обледенел.
Вокруг Оке и весовщика столпилась целая куча рыбаков.
– Как, Андреас, справятся? Или выйти им навстречу на шхуне?
Налетевший снежный вихрь снова закрыл все белой завесой, но стук мотора все усиливался, заглушая плеск волн. Вдруг из пелены снега вынырнула лодка, направляясь прямо к пристани.
Дядя Хильдинг стоял на носу, готовый бросить чалку. Брезентовый плащ превратился в сверкающий панцирь, с зюйдвестки свисали длинные сосульки.
– Сети спасли? – крикнул весовщик.
– Потеряли семь штук. Из моих три совсем пропали, а от четвертой одни клочья остались, да и те едва подобрали, – отвечал дядя Хильдинг мрачно.
– Снастями потом займетесь, – заявил Андреас решительно. – Сейчас вам прежде всего надо согреться. У меня как раз кофейник вскипел.
– А глоток коньячку найдется? – спросил напарник дяди Хильдинга.
Он был плохо одет и страшно промерз за время долгих поисков в море.
– Грех было бы отказать вам сейчас, – ответил Андреас и повел их за собой в теплое вместительное складское помещение.
Набивая свою трубку и ожидая кофе, дядя Хильдинг расспрашивал Оке, как дела дома, в Мурет. Громкий телефонный звонок оторвал Андреаса от кухонного столика.
– Ну, какая цена сегодня? – спросил дядя Хильдинг, когда весовщик вышел из телефонной будки.
Андреас озабоченно покачал светловолосой головой:
– Еще с нас причитается за последнюю партию, что отправили в Стокгольм…
Напарник дяди Хильдинга недоверчиво рассмеялся. Уж этот Андреас – никогда у него не разберешь, шутит он или всерьез говорит!
– Вы что – не верите? За последние сутки не продано много рыбы, почти всю готландскую салаку вывалили обратно в море. А мы за перевозку все равно должны платить!
Дядя Хильдинг стукнул кисетом о стол, так что чашки зазвенели:
– И ты на это соглашаешься?! Мы тут снастями и здоровьем рискуем, выходим в море в мороз и шторм, и с нас же деньги брать!
– А что тут поделает союз, если горожане воротят нос от нашей салаки? – ответил Андреас.
Дядя Хильдинг посмотрел на него с усмешкой:
– Сразу видно, что тебе никогда не приходилось слоняться без работы по улицам большого города. Не то ты бы понимал, что есть тысячи людей, которые рады были бы иметь котелок салаки, да только им это не по карману.
– Чего ты из себя выходишь? Не может же наш рыболовецкий союз весь свет переделать?
– То-то, что не может. А не мешало бы, – ответил дядя Хильдинг. – Пусть бы сами оптовики вышли в море, а то они ни разу в жизни и сетей-то не ставили, а только деньги загребать умеют! Что до меня, то я теперь с места не сдвинусь, пока нам не станут платить за рыбу как следует!.. Передай маме, что я скоро буду дома, – добавил он, обращаясь к Оке.
Дядя Хильдинг хотел было сгоряча совсем отказаться от зимнего лова, однако дело кончилось тем, что он лишь перегнал лодку в Биркегарда, чтобы иметь ее под рукой на случай, если погода и цены на салаку переменятся к лучшему.
В водах около Скальвикена салака за последние десятилетия совсем перестала появляться, к тому же лову здесь обычно мешал ледяной барьер вдоль всего берега.
– В этом году лед совсем как в старые времена, – заметила как-то бабушка.
В тот день дядя Хильдинг отправился на охоту. Он вернулся домой с тремя нырками. С широких клювов стекали капли крови, рисуя красную цепочку на снегу.
– Двумя выстрелами уложил! – сообщил он горделиво и вспомнил по этому случаю самую короткую охотничью историю в Нуринге:
На море
С лодки
Из винтовки
Отбил утке клюв!
Бабушка усмехнулась и протянула птиц Оке. Была бы жизнь получше, она начинила бы их черносливом и зажарила в масле…
– Сходи на чердак, обери перья да сбереги их – пойдут на подушки, – сказала она.
Перепончатая кожа на утиных лапках казалась неприятно холодной на ощупь, и было больно смотреть на пробитые дробью ранки в красивых птичьих грудках. Однако выдернув первую горсть пуха, Оке стал уже предвкушать вкусный обед. Что, если бабушка все-таки зажарит их!
Он уже забыл, когда они в последний раз могли позволить себе намазать кусок хлеба маргарином. Соленая рыба и вареный картофель успели основательно приесться. Случалось, что у него как-то странно мелькало перед глазами и он ощущал приступы голода, хотя не мог заставить себя ничего проглотить.
Может быть, права бабушка, когда говорит, что он слишком утомляет зрение?
В школе только что открылась библиотека – целый большой шкаф, пятьдесят книг! Каждую пятницу Русен отпирал стеклянные дверцы.
– Тебе, конечно, надо книгу потолще, – поддразнивал он обычно Оке, щелкая его по уху отполированным острым ногтем.
Оке смущался, краснел, но каждый раз уносил домой по две книги. Пустые романы для детей учитель ему не предлагал, не читал он ему и обычных долгих наставлений о том, что нельзя пачкать книги и загибать углы страниц.
– Вот тебе книга о восстании Дакке, но только помни, что он был, собственно, каналья, хотя автор и симпатизирует ему, – сказал Русен, когда Оке пришел за очередной книгой.
Слова учителя, которому Оке во всем, что касалось книг, верил больше, чем кому-либо другому, сильно испортили ему удовольствие от толстого романа. Оке хотелось верить герою во всем… Когда вождь повстанцев, выступивших против Густава Васы,[23]Васа, Густав – шведский дворянин, возглавил народную борьбу против господства датских феодалов и стал шведским королем под именем Густава I (1523–1560). пал на поле битвы, пронзенный множеством стрел, Оке даже не знал, радоваться ему или горевать.
– Что-то сегодня мой ревматизм разыгрался! – ворчала про себя бабушка. Она пришла в сени под лестницу взять из мешка отрубей для свиньи.
День выдался на редкость тихий, и вечерняя заря долго держалась в морозных сумерках. Оке удивился, увидев, как на склоне холма вдруг завихрилось облачко снега. Снежинки тут же осели горстью белого пуха. Тишина стала еще глубже, будто все вокруг притаилось в немом ожидании.
Внезапно над лесом пронесся тяжелый вздох, верхушки сосен беспомощно закачались, и в то же мгновение все за окном скрылось в снежном вихре. Ветер свистел и выл во всех щелях, крыша стонала под его напором – казалось, дом покачивается на своем скалистом ложе.
– Я знала, что будет вьюга! – воскликнула бабушка. – Вот уже которые сутки все косточки ноют.
Дядя Хильдинг вызвался сделать что надо в хлеву.
– Да ты и подоить-то не сможешь! – возразила было бабушка.
– А сколько раз я доил мальчишкой, когда вы уходили на работу к хозяину! – ответил он обиженно и забрал у нее подойники.
В глубине души бабушка была только рада. В такой вечер лучше сидеть в теплой комнате перед очагом. Она внимательно прислушивалась к мощному гулу непогоды, вспоминая прошлые бураны, но ничего похожего не могла припомнить.
– Да, об этом шторме долго будут говорить, – произнесла она наконец серьезно.
– Ни в коем случае не выходите! – предупредил дядя Хильдинг, вернувшись с молоком.
Сам же он надел меховой полушубок, поднял воротник, так что нос почти исчез в овечьей шерсти, и сунул в карман маленький фонарик.
– А ты куда? – встрепенулась бабушка.
– Дойду до Биркегарда. Надо проверить лодку, чтобы море не разбило или не унесло ее.
Бабушка побледнела. Дорога шла только до деревни, дальше надо было пробираться по узким, запутанным тропкам.
– В такой буран ты непременно заблудишься на мысу.
Дядя Хильдинг только усмехнулся:
– Да я здесь с закрытыми глазами пройду!
– Во всяком случае, берегись, чтобы тебя не пришибло падающим деревом.
Дверь уже придавило снаружи высоким снежным сугробом, так что дяде Хильдингу пришлось поднажать на нее плечом. Сильный порыв ветра ворвался в дымоход и швырнул угольки на пол. Бабушка закашлялась от едкого дыма, Оке кинулся спасать половики.
– Придется топить осторожнее, – заметила бабушка. – Подкладывай не больше одного полешка зараз.
Неумолчный гул шторма перешел в ураганный рев. Яблоня отчаянно хлестала ветвями по крыше. Она всегда качалась и скрипела в ветреные ночи, но каждый раз, как кто-нибудь предлагал спилить ее, бабушка решительно возражала.
– Она у нас самая плодовитая, – говорила бабушка, а про себя еще думала, что ей будет недоставать привычного скрипа.
Вдруг Оке пронизал страх: он вспомнил, что пользовался дядиным фонариком без спросу и почти истратил батарейку.
– Не бойся, – заговорила бабушка, заметив его тревогу. – Хильдинг зайдет к кому-нибудь по дороге, если увидит, что не пройти. Мне бы только знать, что он надежно закрыл двери в хлев.
Бабушка имела в виду дверцу, через которую выносили навоз: она запиралась деревянной щеколдой, а при сильном ветре бабушка припирала ее еще и подпоркой.
– Если она распахнется, вся скотина замерзнет.
Оке разыскал керосиновый фонарь и захватил на всякий случай целый коробок спичек:
– Я пойду проверю.
– Только будь осторожен с огнем, если ветер фонарь задует, – предупредила бабушка.
Едва Оке вышел за дверь, как фонарь погас, словно незащищенная свеча. Морозный воздух проник сквозь ткань одежды, в лицо захлестали колючие ледяные иголки. Спотыкаясь, согнувшись пополам, Оке пробивался к хлеву. Его то и дело отбрасывало ветром назад. Особенно трудно оказалось преодолеть небольшой оледеневший участок. Наконец Оке догадался идти спиной к ветру, сильно наклоняясь, когда налетал особенно резкий порыв.
Что-то большое, черное прокатилось по сугробам и с грохотом врезалось в ствол рябины – очевидно, сметенная ветром клетка для цыплят.
В хлеву было тепло и уютно, хотя стены дрожали и поскрипывали. Сквозь щели в задней дверце залетал снег, тая в канавке для навоза. Дядя Хильдинг подпер ее надежно: бабушка зря беспокоилась.
Оке поставил еще одну подпорку и решил немного передохнуть. Корова шумно жевала жвачку и недоуменно смотрела на него большими фосфоресцирующими глазами. Она явно не могла понять, что он тут делает среди ночи, когда ей уже задали вечерний корм.
Но вот Оке снова нырнул в буран. Теперь ветер дул ему в спину, подталкивая так, что ноги едва поспевали. Вдруг он увидел колеблющийся отсвет на крыльце. Бабушка вооружилась маленьким штормовым фонарем и направлялась сама к хлеву.
– Я иду! Вернись! – закричал Оке отчаянно, но ветер сорвал крик с его губ и утопил в своем гуле.
Если бабушка успеет дойти до скользкого места, она может упасть и сильно разбиться!
– Тебя не было так долго, что я уж подумала – с тобой случилась беда, – объяснила она ему, когда они вместе вошли в дом.
Бабушка поставила на угли чайник, на тот случай, если дядя Хильдинг все же вернется.
– Ты бы ложился, – предложила она Оке, но он отказался.
В комнате становилось холодновато. Они подсели вплотную к печке, рассеянно прислушиваясь к бульканью чайника. Можно было только догадываться, что происходит снаружи в ночи.
Все Балтийское море кипело и бурлило. Над рифами и скалами взлетали столбы белой пены, буйные валы добегали до самых дюн, перехлестывая через них и унося с собой большие вихрастые кочки.
Одинокая сосна на Рёрхольмене кончила свое существование, зарывшись сучьями в прибрежную гальку. Стройные сильные деревья на мысу упорно сопротивлялись, крепко вцепившись корнями в почву, но ураган переламывал их пополам, прокладывая в самой гуще леса целые просеки. Старые великаны валились с громом на шоссе, обрывая телефонные провода, словно нитки.
Над равниной ветер бушевал с особенной силой. Он валил заборы и сараи, срывал крыши, уносил стога сена, увешивал пучками соломы кусты и свисающие провода. Не один телефонный столб был вырван из промерзшей земли.
Редким лесам вокруг Бредвика грозило полное уничтожение. Сосны валились тысячами, выворачивая длинными корнями большие пласты земли.
В заливе собралась целая флотилия различных судов. Несмотря на то что радио предупредило о шторме заблаговременно, не обошлось без несчастий. Две баржи захлестнуло водой, и они пошли на дно прямо у пристани. Одну моторную шхуну сорвало с причала, унесло в залив и перевернуло.
Оке вздрогнул: стенные часы, купленные дядей Хильдингом для нового дома, пробили двенадцать. В их мелодичном звоне появилось что-то зловещее. Казалось, сама темная ночь с ревом бьется в оконное стекло, силясь разбить его и загасить все огни. Буран затряс дверь – словно кто-то стучался.
– Это хорошая примета – Хильдинг вернется сегодня! – обрадовалась бабушка и принялась ворошить угли, чтобы подогреть остывший чайник.
Снова потянулось мучительное ожидание. И они дождались. Дверь распахнулась, и вошел дядя Хильдинг, щурясь на свет и растирая окоченевшие пальцы.
– А мы было решили, что ты остался в Биркегарда, – сказала бабушка.
– Я не хотел, чтобы вы волновались, – ответил он, швыряя фонарик на полку около печки. – Хорошо еще, что вы свет не гасили. Эта дрянь перестала светить еще раньше, чем я управился с лодкой:
– Значит, лодка цела? – взволнованно спросила бабушка.
– Еле отстоял. Волны так и бесились вокруг нее. Но теперь я затащил ее на сухое место и подложил несколько колод, чтобы она не перевернулась.
Ледяной ветер исхлестал щеки дяди Хильдинга докрасна, брови побелели от инея. Оке даже не верилось, что дядя действительно вернулся невредимым из этого ужасного бурана, который продолжал реветь над мысом с неослабевающей силой.
* * *
Весенний ветер шелестел в деревьях и гонял прошлогодние листья вокруг нагроможденных друг на друга столов на веранде ресторана. Оке стоял и читал старые, пожелтевшие газеты, приколотые на оконных рамах изнутри для защиты от солнца и любопытных взглядов. Дома всю зиму не было газет.
Он чувствовал во всем теле необычайный прилив сил.
Никогда еще весна не казалась ему такой прекрасной. Оке даже и не пытался понять, откуда в нем родилось такое радостное чувство – точно он сбросил с себя старую, испещренную шрамами кожу и на смену ей наросла новая, затянув ноющие ранки упругим покровом.
Вряд ли в этом году приедет много туристов – все жалуются на тяжелые времена… Прежнее детское убеждение Оке, будто туристы – это люди совсем иного рода, стоящие выше всяких забот и огорчений, уже исчезло. Оставался только тот бесспорный факт, что они предпочитали соблюдать известное расстояние между собой и людьми с мозолистыми ладонями.
Эгей! Вот когда можно пройтись по перилам вокруг всей веранды или растянуться во весь рост на диване, на котором через несколько недель будут сидеть с важным видом приезжие!
…Несмотря на кризис, количество туристов почти что не сократилось. Изменились сами туристы. По дорогам катил поток велосипедистов с огромными свертками на багажниках и полным отсутствием каких-либо познаний относительно того, как готовить пищу на свежем воздухе. Часто они забегали к бабушке и просили одолжить ведро или продать картошки. Обычно бабушка отказывалась брать деньги за такую мелочь.
– Только не разжигайте костров на берегу! – предупреждала она и рассказывала о последнем лесном пожаре на Сандэн, когда небо и море осветились красным заревом, которое было видно даже в Нуринге. – Искры от сигнальной ракеты попали на сухой камыш, а потом огонь едва не опустошил весь остров. Да и у нас здесь несколько раз занималось.
Бабушка обращалась к приезжим с материка каким-то смущенным, хлопотливым тоном. Она встречала их с почти наивным чистосердечием, которое раздражало Оке, потому что они слишком редко отвечали тем же.
Нужно ли, например, соблюдать простейшие правила вежливости и здороваться с ними, как с другими путниками, или не обращать на них внимания? Жители туристской гостиницы казались почему-то словно озадаченными, когда он снимал фуражку при встрече.
Однажды вечером, в разгар туристского сезона, Оке встретился с адвокатом, который путешествовал в обществе прыщавого подростка и маленькой аккуратной старушки. Он уже прошел было мимо них, как вдруг старая дама обернулась и обнажила белые вставные зубы в язвительной улыбочке.
– Маленьким мальчикам не мешает быть немножко повежливее, – сказала она, подчеркивая каждое слово и растягивая слога.
Щеки Оке стали такими же красными, как его ободранные, воспаленные коленки. Целую неделю он гнул спину на поросшем сорняком поле, прореживая морковку за харчи и двадцать пять эре в день. Штаны покрылись коркой грязи, левое плечо торчало наружу из рваной рубахи. Ткань перепрела от пота и палящего солнца и не выдержала нагрузки, когда он схватился в драке с Бенгтом.
Пожалуй, он и в самом деле был похож на маленького дикаря, выросшего словно зверек на приволье.
«Сама здоровайся, чертова кукла!» – подумал он и уставился ей прямо в глаза.
В округе постепенно назревало чувство отчужденности и даже вражды к самым богатым отдыхающим. Владельцы летних особняков уже не хотели просто довольствоваться ролью гостей. Нетронутая прелесть дюн и берегов не давала им покоя. Им во что бы то ни стало загорелось разделить на участки весь лес по берегу залива Скальвикен и забрать себе самые красивые места.
«Посторонним вход воспрещается!» – кричали унизительные черные надписи. Как раз посреди маленькой тропки, извивавшейся вдоль Страндосен, такое объявление вывесил адвокат. Тропа вела на луг, где Оке всегда собирал цветы для бабушки. Однажды он до того разозлился, что выдернул столб с объявлением и бросил его на землю.
– Это еще зачем? – произнес вдруг девичий голос на певучем диалекте жителей Висбю.
Смущенный и озадаченный, Оке обернулся и увидел смотрящие прямо на него синие глаза, затененные густыми ресницами. Они напоминали фиалки, которые девочка держала в своей тонкой красивой руке.
– Не на месте стоит! – ответил Оке хмуро, чтобы скрыть смущение.
Девочка опустила глаза на кончик ноги, которым рисовала что-то на песке:
– Как тебя зовут?
– Оке, Оке Андерссон, – и можешь ябедничать сколько хочешь!
– Почему? Если столб и в самом деле стоял на вашей земле, то папа и этот участок купит.
Оке ощутил тайное злорадство. Пусть адвокат Бергман считается правой рукой «готландского короля», все равно ему никогда не завладеть даже самым маленьким клочком нурингского берега. Этот берег свободен с незапамятных времен.
– Это не наша земля, но ни один человек не может купить того, что принадлежит всей общине.
Девочка мягко убрала со лба несколько шелковистых прядей и улыбнулась; на ее щеках появились круглые ямочки. Она казалась такой же хрупкой и по-весеннему прелестной, как лесные фиалки.
– А меня зовут Карин… Не будем ссориться из-за этого объявления.
Оке хотел было сказать, что все улажено, но растерянно промолчал. Его снова охватило такое чувство, будто вокруг все запело, словно самый воздух звенел чистым серебряным звоном.
– Каа-риии!
Скрипучий старческий голос, донесшийся со стороны особняка, вернул его к действительности; господская девочка исчезла легкой бабочкой в кустах.
Вскоре они случайно встретились еще раз. Девочка приветливо кивнула Оке, а он залился краской до самых корней волос. Он успел уже сочинить страшные опасности, приключения и подвиги, наградой за которые служила в его мечтах ее ясная, приветливая улыбка.
Вот – жаркое пламя охватило лес по всему берегу и наступает на дом адвоката. Оке прорывается сквозь огонь и дым и спасает всю семью.
Его фантазия воскресила даже самого разбойника Гот-берга. Туманной ночью Оке увозит с острова Сандэн королеву своей мечты. Рыжебородый пират со страшными ругательствами бросается в погоню. Но они прибегли к той же хитрости, какую придумали бежавшие от Готберга слуга и служанка. Услышав яростные удары весел преследующей лодки, они перестали грести и затаили дыхание, и разбойник пронесся мимо в густом тумане.
Каким-то совершенно непонятным образом Гюнвор очень скоро проведала о сокровенных мечтах Оке. Она без конца дразнила его. А однажды, когда они купались вместе в Скальвикен, принялась петь:
– Адвока-ти-шко, адвока-ти-шко!
Ее глаза озорно поблескивали. Оке принялся брызгать водой, пока не заставил ее выскочить на берег. Гюнвор давно уже рассталась со своими золотыми косичками ради модной мальчишеской стрижки. Соленая вода сбегала по прямым волосам на загорелые плечи и грудь, где уже намечались небольшие бугорки.
Оке впервые обратил внимание на округлость ее бедер и плавную гибкость движений. Неуклюжий, угловатый товарищ его игр, привыкший драться не хуже Бенгта и сопутствовать мальчикам в самых опасных походах и проделках, явно перерастал их, готовясь сделать прыжок в мир взрослых.
Бенгта страшно раздражало появившееся у сестры снисходительное отношение к мальчикам. Он принялся скакать вокруг нее и передразнивать вкрадчивый, скрипучий голос Мёрка:
– Хе, Гюнвор-то уже поспевает!
– Гюнвор поспевает! – подхватил Оке.
Гюнвор мучительно покраснела и швырнула в них горстью мокрого песка:
– Заткнитесь, сопляки! Вы еще даже и не понимаете, о чем говорит этот старый шут.
Оке разом смолк, пораженный справедливостью ее замечания. Он и в самом деле не понимал, что имел в виду Мерк своими загадочными словами, на которые бабушка и Фина Лагг отвечали когда смехом, а когда недовольным ворчаньем.
…В начале нового учебного года Оке несколько раз поглядывал на парту Гюнвор, удивляясь, почему там сидит другая девочка. Ему как-то трудно было привыкнуть к тому, что она кончила школу, да и он сам уже учится последний год.
Их дружба с Бенгтом стала крепче, чем когда-либо. Друзья по-прежнему делили завтраки под рябиной, хотя почти успели забыть причину этой привычки. Теперь их не беспокоило, что кто-нибудь посмеется над их незатейливыми припасами.
Бенгт стал общепризнанным главарем школьников. Смелый и ловкий, он никому не уступал в драке, но стремился в то же время во всем быть справедливым. Может быть, именно это качество, такое редкое в первом бойце школы, привело к тому, что на зеленой полянке около флагштока реже можно было видеть разбитые носы, а нескончаемые схватки между классами стали не такими острыми.
Тренировка команды игроков в пэрк к состязаниям будущего года с бредвикской школой была в разгаре, давая выход кипучей энергии ребят. Немного сутулящийся, переросший всех остальных на полголовы, Бенгт не спускал глаз с летящего со свистом мяча. Его сильный отрывистый удар не оставлял ни у кого сомнения в том, кто будет лучшим в школьной команде. При каждом удачном ударе его хмурое лицо освещалось теплой улыбкой.
Оке страшно переживал, что на спортивной площадке на его долю слишком редко выпадала одобрительная улыбка Бенгта. Зато на занятиях он был в числе лучших. Наука давалась ему легко, и у него всегда оставалось время на озорство. Особенно трудно было Оке сдерживать свою деятельную натуру во время длинной утренней молитвы. Как-то раз он осторожно скрутил трубочку из тетрадного листа, наполнил ее мусором из карандашной точилки и дунул. Затылок стоявшего впереди мальчика разом почернел и покрылся мелкими стружками.
– Оке, выйди вперед! – сурово приказал Русен, прервав молитву.
Он взял в руки страшный ореховый прут и принялся перекатывать его между ладонями.
– Не ожидал я от тебя такой глупости. Становись вон там! Это будет твоим местом во время утренней и послеобеденной молитвы на всю неделю.
Оке спасся от прута, но зато ему пришлось стоять на карауле в углу около свернутых карт… Вся школа фыркала и гримасничала, глядя на его маково-красное лицо. Он гримасничал в ответ, однако быть поставленным в угол оказалось хуже, чем отведать орехового прута, и Оке ходил надутый до самого конца занятий.
В тонком солнечном лучике, протянувшемся от окна, играли веселые пылинки. Орган заиграл вступление к послеобеденной молитве, и на душе стало легче. Первые строчки псалма, которым заканчивались занятия, были просты и искренни, словно взятые из печальной народной песни:
Вот день еще пришел к концу
И не вернется вновь…
Оке вдруг захотелось остановить полет времени и остаться в детстве, остаться в своей неказистой школе с ее сквозняками, задержать золотые дни ранней осени…
* * *
Жесткие стебли осоки нехотя покачивались под льющим с серого неба дождем. Около Рёруддена мелькал в море штормовой фонарь. Оке поднял воротник пальто и быстро зашагал в противоположную сторону. Он чувствовал слабость в ногах и легкую испарину после недавней простуды. Впрочем, ему всегда становилось жарко от волнения, когда он отправлялся на поиски трофеев, выброшенных на берег волнами.
Внезапно налетевший восточный шторм сбросил в море часть груза с палубы двух финских пароходов и облагодетельствовал нурингское побережье досками и крепежным лесом, который предназначался для английской шахты.
Оке проверил, лежит ли в кармане мелок. Он мечтал набрать целый воз золотистых еловых досок. Достаточно оттащить их, одну за другой, подальше от воды в дюны и пометить мелком, а еще лучше – ножом. Тех, кто присваивал чужие находки, считали самыми подлыми ворами и обращались с ними соответственно.
Гребни волн светились в сумерках словно гнилушки. Но, кроме них, Оке ничего пока не видел и начал уже расстраиваться. Не иначе рыбаки уже успели подобрать большую часть досок, выйдя в море на своих больших моторных шхунах.
Нет, вон в воде показалась длинная темная полоса… Оке замер в нетерпеливом ожидании. Доска медленно приближалась к берегу, но каждый раз, как он пытался схватить ее, волна относила добычу обратно. Будь он в сапогах, он бы давно с ней справился. В конце концов он все-таки выловил доску, но ледяная вода успела захлестнуть ноги, и ботинки громко чавкали на каждом шагу.
Дома на дворе уже лежал небольшой штабель пропитанного соленой водой леса – как раз столько, сколько разрешалось оставить себе, не заявляя властям о находке. Таможники в Бредвика отлично знали, что нурингцы придерживаются в таких делах своих древних законов, и не вмешивались без нужды.
Оке решил продолжить поиски и поспешил дальше, в сторону Архаммарен. Вдруг кровь громко застучала в висках, и все кругом внезапно потемнело. Дюны сдвинулись с места и ринулись навстречу волнам, но он так и не разобрал – песок ли принял его в свои объятия или вода…
Длинные слизистые водоросли обвили вокруг его тела свои зеленые щупальцы. Тем не менее он непрерывно всплывал наверх сквозь какое-то красное сияние. С невероятным трудом Оке поднял голову и почувствовал, как лицо овевает свежий ветер. Что-то холодное легло ему на лоб.
– У него страшный жар, – сказала бабушка, убирая со лба руку. К губам Оке прижался стакан со смородиновым соком. – Выпей-ка это от жара…
Он лежал дома в своей постели, но не мог вспомнить, как попал туда.
– Ты еле стоял на ногах, пришел домой словно пьяный…
Бабушка принудила его выпить все до дна. Оке стоило большого труда заставить себя глотать; кроме того, он боялся опять погрузиться в волнующуюся красную пучину.
Рубаха и подушка были горячими и липкими от пота. Кожа болела от веса собственного тела, малейшее движение причиняло страшную боль.
– Я переменю белье, – предложила бабушка.
Прохлада от чистых простыней помогла Оке сохранить сознание всю первую половину дня. Потом ему снова будто влили расплавленное железо в сосуды. Белая кладка печи распалась и поднялась пузырьками к потолку. Затем перед глазами выстроились колонны, которые то расширялись, то сужались, в лад с его дыханием. Он пытался заставить эти лихорадочные видения сузиться и совсем исчезнуть. Все его существо сосредоточилось на этом усилии. Тоньше, тоньше! Во что бы то ни стало не дать им разрастись во всю комнату…
– Воды, холодной воды! – умолял он.
Бабушка снова присела на край кровати:
– Воды нельзя. Это опасно.
Вместо этого она дала Оке горячего молока, которое заставило его основательно пропотеть. Светящиеся цветные точки, маленькие голубые огоньки заполнили комнату, словно узор на обоях. Усталый мозг мечтал о сне без видений, но прыгающие точки не исчезали, даже когда он закрывал глаза.
В течение ночи они выросли в скользящие по сетчатке глаз круги, такие же до боли яркие, как если бы он смотрел на пламя автогена. Сутки за сутками повторялось одно и то же. Утро приносило с собой недолгие часы ясного сознания; бред всегда начинался во второй половине дня с того, что печка принималась вести себя удивительным образом. Иногда пузырьки сливались вместе в большой белый шар. Этот шар катался взад и вперед по его голове, пока Оке сам не проникал сквозь его оболочку. Тогда весь дом превращался в неумолимо расширяющуюся сферу.
Под конец шар обнимал собой весь мир и лопался, рассыпаясь обгорелыми хлопьями, точно обожженная яичная скорлупа. Оке падал и падал в черную, как уголь, пустоту. Звезды погасали, земля больше не существовала. Он пытался крикнуть, чтобы прогнать сковывающий все его члены ужас от сознания, что он совершенно одинок в мировом пространстве. Мимо проносились в призрачном зеленом свете скелеты погибших людей. Наконец ему удавалось выдавить из себя крик, но этот крик бесследно поглощался мертвой тишиной. Мрак все сгущался и сгущался, и Оке знал, что будет продолжать падать вечно.
Словно слабое эхо между мирами, донесся до его слуха человеческий голос. Охваченный радостным томлением, он узнал голос бабушки, который приближался к нему, такой живой и теплый.
– Похоже, кризис миновал. Теперь пойдет на поправку.
Оке открыл глаза и увидел над собой дядю Хильдинга и бабушку. У него не было сил говорить, но боль в голове исчезла, во всем теле чувствовалась приятная легкость и прохлада.
Прошло еще много времени, пока Оке смог принимать что-то другое, помимо молока; и, когда бабушка разрешила ему встать, ноги у него подламывались, как у новорожденного теленка. Уже через несколько минут ему пришлось опять лечь.
– Вставать будешь только понемногу. Видно, у тебя было воспаление легких. Если бы температура не спала на девятые сутки, ты бы не выжил, – сообщила бабушка.
Длинный ряд однообразных дней прервался неожиданным приходом дяди Стена.
Он был немногословнее, чем когда-либо, и выглядел мрачным.
– Уж не заболел ли и ты? – всполошилась бабушка. Он вытащил из кармана бумажку, на которой врач прописал ему диету.
– Слишком тяжело поднимал, желудок испортил… Теперь мне разрешается есть только курятину, телячьи котлетки и овощи. Да еще следует подыскать работу полегче… Как хочешь, так и выкручивайся!
– А ты бы вернулся домой жить и был бы сам себе хозяин. За нашу землю только взяться как следует – она куда больше даст.
– Я уже и сам подумывал об этом. Но ведь надо еще с Хильдингом договориться.
Дядя Стен вышел посмотреть на хозяйство. Он покачал головой, увидев заросшую канаву, пощупал землю на поле, выкопал каблуком ямку на лугу. Всюду почва закисла и требовала удобрений.
– Не очень-то хороший земледелец вышел из тебя, – сказал он, встретив дядю Хильдинга.
– А когда мне было научиться этому делу? В семнадцать лет я пошел на каменоломню, а девятнадцати вышел в море. Потом на цементном работал, пока не скопил на билет в Америку. Зато ты начинал батраком, а батрацкая сноровка прочная!
– Вам обязательно надо перессориться из-за земли? – вмешалась бабушка.
– Да я и видеть этот клочок не хочу, только бы меня освободили от него! – воскликнул дядя Хильдинг.
– Ничего, я охотно возьму его на себя, – произнес дядя Стен холодно.
Дядя Хильдинг не унимался:
– А я что же, воздухом жить должен?!
– Хочешь пойти на каменоломню?
– На каменоломню? Да чтобы туда попасть, надо быть в родстве со всеми десятниками либо кандидатом в зятья управляющего!
– Я уже говорил с ним. Ты можешь стать на мое место.
Дядя Хильдинг удивился:
– Ты согласен меняться? Ты только проиграешь на этой сделке. Знаешь, сколько я получил за тонну картофеля осенью? Тридцать пять крон. Ради такой цены не стоило и выкапывать ее.
– У меня выбора нет. Если я останусь на каменоломне, то скоро совсем измотаюсь.
– А рожь и вовсе не удалась, – продолжал дядя Хильдинг. – Нам пришлось всю зиму покупать муку и корм птице.
– И об этом знаю. Да только зачем непременно выращивать все на свете на этих клочках? Я думаю совсем отказаться от зерна – это же самая подходящая земля для корнеплодов!
– Нельзя же прикупать все остальное.
– Теперь как раз такое время наступило, что надо продавать и покупать. Пришел конец девятнадцатому веку и на нашем острове.
* * *
На каминной доске стояла охапка душистой сирени. Темная, закопченная каменная кладка исчезла под молодыми березовыми ветками. По стенам зала висело множество венков, ради которых девочки не поленились обойти все луга и сады. Цветы торчали из каждой щели между досками.
Выпускники ходили окруженные ароматом туалетного мыла и новой одежды. Оке поднял взгляд от протянувшегося перед ним ряда ярких лент и аккуратно подстриженных мальчишеских затылков. Убор из маргариток и ландышей на книжном шкафу был делом его рук. Правда, с вечера цветы выглядели гораздо лучше; теперь они уже поникли головками. Только тюльпаны в вазе на кафедре да несколько огненных пионов сохранили свою свежесть.
Около доски стоял Бенгт и исписывал ее черную поверхность рядами цифр. Со стороны скамей, вытянувшихся вдоль стен, на него устремлялся не один критический взор. Какой дерзкий взгляд у этого верзилы, хотя всем известно, что его семья живет на пособие от призрения!
Оке крепко зажал в кулаке большой палец. Хоть бы Бенгт не ошибся! Учитель тоже взволнованно следил за бегом скрипучего мела – видно, думал о том же. По молчаливому соглашению Бенгт должен был в день экзамена одолеть самые трудные задачи, а Оке – ответить на наиболее заковыристые устные вопросы.
– Правильно!
Бенгт благополучно обошел все ловушки. Уверенными шагами, сурово поблескивая глазами, он прошел к своему месту.
Господин Лаурелль тяжело откинулся на спинку стула и стал задумчиво перебирать брелоки на золотой цепочке часов. Он председательствовал в школьном совете, и его подпись стояла на аттестатах рядом с подписью учителя.
Наконец наступил великий момент. Русен уступил кафедру священнику, и тот принялся вызывать по алфавиту:
– Оке Андерссон, Мурет.
Оке встал в проходе. Священник привычной скороговоркой перечислил предметы и отметки. Каждое слово стучало, словно молотком, в барабанные перепонки Оке. Когда он повернулся к учителю и открыл рот, чтобы поблагодарить, тот неожиданно прервал его:
– Поздравляю тебя: давно уже в нашей школе не было такого хорошего аттестата! Желаю успехов в будущем!
Оке осторожно принял толстый белый лист. Ему стало сразу как-то печально, словно он перевернул последнюю страницу волнующей книги. Не каждая страница была прекрасной, но сейчас школьные обиды и горести казались такими незначительными, совершенно исчезая перед лицом светлых и радостных впечатлений.
Бабушка сидела в дальнем конце зала, зажатая между двумя рослыми женщинами. Она гордо улыбалась и даже приосанилась во время короткой речи учителя. Оке еще не успел сесть на место, как горькая истина пронизала его резкой, ослепительной молнией: только для нее одной его аттестат имел подлинную цену…
Ему предстояло учиться еще несколько месяцев на дополнительных курсах, после чего учебе придет конец.
– Может быть, тебе удастся получить место у Бугрена. Нужна хорошая голова, чтобы вести книги или стоять за прилавком и обслуживать покупателей, – сказала бабушка, когда они протискивались сквозь восторженную толпу ребятишек на школьном дворе.
Оке промолчал, стараясь не думать о неизбежном вопросе: что же, собственно, из него получится? Ему не хотелось расставаться со своими радужными мечтами, хотя он и понимал их нелепость.
…Свет струится сквозь высокие окна в огромном зале. Все стены уставлены до самого потолка книгами. Рядом, в комнате поменьше, наполненной острыми запахами кислот и других химикалий, осторожно передвигаются юноши и девушки в белых халатах, внимательно прислушиваясь к указаниям седого профессора.
Так представлял он себе институты и университеты, где люди учились применять могучее орудие – пытливый разум, стремясь стать в один ряд с теми избранными, которые смело расширяли пределы человеческих познаний.
– У тебя есть еще несколько лет в запасе, – утешала его бабушка. – Сначала пройдешь конфирмацию, а там посмотрим, что будет.
Однако Оке знал, что ему придется решать этот вопрос значительно раньше. Еще в начале года дядя Стен обратился в комитет призрения детей, и ему назначили пособие на Оке – пятнадцать крон в месяц.
– Я вырастила мальчика как своего сына и думала обойтись без помощи муниципалитета те немногие годы, что остались, пока он станет сам зарабатывать, – возражала бабушка.
– Ерунда! Надо же одеть его к экзаменам. Мы и так уже много лет назад могли обратиться за пособием, – ответил дядя Стен.
Хотя председатель комитета призрения подтверждал это, было ясно, что пособие отменят, не дожидаясь, когда Оке исполнится шестнадцать лет. Он ясно представлял себе недовольные речи:
«И что этот здоровенный парень слоняется дома без дела? Пора ему уже поискать себе заработок».
Так будут говорить те, кто больше всего боится, чтобы их собственные дети не вздумали идти в люди… А вот Гюнвор уже нанялась батрачкой к одному крестьянину. Она тоже принадлежит к числу той молодежи, которой бедность не позволяет оставаться дома после конфирмации. Таков удел бедных: работать на чужой земле за низкую плату, такую низкую, что им вообще никогда не будет по карману купить собственный клочок… Владельцы поместий и богатые крестьяне нуждаются не только в молодых работниках: им выгодно, чтобы батраки отдали их земле всю свою жизнь.
Бесконечно серым казалось такое будущее, словно борозда на чужом поле. Но зато Оке знал эту работу, и он, не колеблясь, взялся бы за нее, если бы не боялся, что она будет уводить его все дальше от мира книг. Книги в каморке батрака были такой же редкостью, как вошь на лысой голове; читающий батрак рассматривался как нечто подозрительное. Что, мол, это за барские повадки! Или он собирается разорить своего хозяина, оставляя керосиновую лампу гореть за полночь?
Существовал еще выход – пойти в море, но в Висбю и без того перед конторой по найму выстроилась длинная очередь опытных моряков. Да и бабушка не советовала:
– Янне, мой старик, ходил не в одно дальнее плавание, повидал белый свет. Но он говорил, что молодому парню лучше стать кем угодно, только не моряком!
Спустя несколько дней после выпускного празднества Оке зашел в магазин в Биркегарда. По старому обычаю, вход в магазин был обращен в сторону шоссе, над дверью висела ржавая вывеска, рекламирующая какой-то сорт шоколада.
Внутри его встретил запах селедки и дрожжей, туалетного мыла, зеленого сыра и дешевых конфет. За недавно установленными стеклянными дверцами, защищающими полки от пыли, лежали и продукты, и игрушки, и кипы тканей.
Приказчик, флегматичный, но болтливый мужчина, делал все не спеша, и на скамейках скопилось множество ожидающих. Среди них были такие, что жили на самом дальнем конце мыса и принесли с собой длинные списки поручений от соседей.
Оке терпеливо уселся на свернутой в трубу скрипучей подметочной коже в ожидании своей очереди.
Прямо над ним висели на ввинченном в потолок двойном крюке тяжелые подковы, два мусорных совка и здоровенная кувалда. Из подвала поднялась длинноногая девчонка с банкой патоки. Она заворачивала покупки кое-как и то и дело справлялась у приказчика о ценах. Оке подумал, что сам оказался бы таким же растерянным и неуклюжим, если бы стал за прилавок. Однако, если Бугрен намерен сначала разместить в своих лавках всю родню, то Оке может и не мечтать о работе в магазине. Вот эта девчонка, например, – кажется, племянница жены хозяина.
– Чего изволите? – осведомился приказчик с профессиональной любезностью.
Оке только хотел попросить свешать кило колбасы, как открылась дверь, впуская нового покупателя. Все обернулись посмотреть, кто это. Оке показалось, что ему плюнули прямо в лицо: то, во что он верил так долго, оказалось наглой, бессовестной ложью! Пусть теперь кто-нибудь попробует ему сказать, что для учебы в гимназии необходимо иметь еще кое-что, кроме денег! Вот стоит перед ним в гимназической фуражке Стелла Арениус – единственная из всех выпускников, удостоившаяся этой формы, хотя ей, по справедливости, полагалось иметь двойки по многим предметам. Только снисходительность учителя позволила ей вытянуть на аттестат. Видно, в гимназии не слишком-то требовательны, если Стелла справилась с приемными экзаменами…
Дядя Хильдинг переехал в Бредвика, и дядя Стен с тетей Марией снова поселились в чердачной каморке. Однако бабушка по-прежнему вела хозяйство, и Оке помогал ей в самом тяжелом. Тетя Мария поступила работать в ресторан судомойкой, ее целыми днями не было дома, даже по воскресеньям.
Казалось, все идет по замкнутому кругу; однако, когда Оке принялся учить Лассе и Анночку азбуке, он все же почувствовал, что кое-что изменилось с того дождливого осеннего дня три года назад.
У дяди Стена остался еще со времен батрачества небольшой сундучок с инкрустацией под перламутр на крышке и с ржавыми замками. В нем хранилось несколько книг, которые дядя Стен любил читать, когда уставал работать в поле. Светлый чуб спадал на страницы, между густыми бровями появлялась резкая складка.
– Ты этого не поймешь, – возразил он, когда Оке попросил почитать книги.
Трудно было придумать лучший способ раздразнить пытливость и любопытство Оке. Как-то раз, когда бабушка послала его прибрать в каморке, он не устоял перед соблазном испытать прием, которому его научил странствующий барышник. Один из замков был сломан, а второй легко поддался усилиям Оке.
«Социализация», – прочел он на обложке толстого тома. Язык книги был насыщен незнакомыми терминами и иностранными словами, и Оке никак не мог добраться до смысла. Если бы не несколько ярких фраз, которые удивительным образом перекликались с окружающей жизнью, он сдался бы после первых же страниц.
«Освобождение рабочего класса должно явиться делом рук самих рабочих».
Эти простые гордые слова захватили его больше, чем что-либо, прочитанное до сих пор. Старое несправедливое засилье денег нужно уничтожить и создать новое общество, которое обеспечит всем право жить и работать, но не позволит никому использовать капитал и унаследованные привилегии, чтобы разорять и унижать других людей.
До сих пор все было для него ясно, но дальше он перестал понимать автора. Социал-демократы безжалостно клеймились за свое учение о переходе к новому обществу путем осторожных, скромных реформ. С другой стороны, доставалось рабочим и крестьянам большевистской России, которые сделали как раз наоборот, разом положив конец угнетению народа со стороны прогнившего царизма.
Книга утверждала, что для спасения человечества от кризисов, безработицы и новой страшной мировой бойни необходима победа рабочих во всем мире. Вместе с тем автор обрушивался на революцию и на новое общество в большой стране, где рабочим впервые удалось взять власть в свои руки… А в Италии, где решающее влияние среди рабочих принадлежало синдикалистам,[24]Синдикалисты – последователи мелкобуржуазного течения в рабочем движении. дело обернулось для народных масс совсем плохо: чернорубашечники Муссолини искореняли малейшие следы свободы для бедных.
Смятенный и удрученный Оке положил книгу на место и запер сундучок. Вода для мытья пола успела совсем остыть, и ему пришлось идти на кухню за новой.
* * *
Многие крупные знатоки истории культуры и церковной архитектуры, которые в своих исследованиях об острове никак не могли перешагнуть через рубеж ганзейской эпохи, утверждали, что церковь в Нуринге не представляет никакого интереса.
Однако местные рыбаки держались на этот счет иного мнения: белая башня с куполовидной деревянной крышей и высоким шпилем была видна далеко с моря и служила надежным ориентиром.
Бабушка могла немало порассказать о церкви:
– Моя мать говорила, что, когда проповедь читал протоиерей Бюль, люди толпились во всех проходах и на паперти. Вот уж кто действительно не скупился на громы и молнии! Епископ прислал его нарочно, чтобы спасти нурингцев от проклятия и горения в вечном огне, от участи городов Содома и Гоморры.[25]Содом и Гоморра – по библейской легенде, древне-палестинские города, уничтоженные землетрясением за грехи их жителей. А до тех пор, говорила мама, прихожане жили отъявленными безбожниками. Дошло до того, что крестьяне по воскресеньям возили сено, вместо того чтобы в церковь ходить…
Новообращенные ловцы тюленей и грабители разбитых кораблей не пожалели ни камня, ни труда, когда сто лет назад решили перестроить старую, средневековую церковку. С тех пор в ней стало достаточно сидячих мест для всего местного населения, включая грудных детей.
Однако, за исключением рождества и дня конфирмации, священникам чаще всего приходилось обращать свою проповедь к пустым скамьям да к херувимам на алтаре, изображавшим веру, надежду, любовь. Голос проповедника лишь с большим трудом добирался до немногочисленных слушателей из-под высоких, гулких сводов. Может быть, именно поэтому церковная усадьба так часто меняла владельца.
Последний духовный пастырь придумал, однако, простой и действенный способ обеспечить себе постоянный контингент слушателей. Он проводил занятия с конфирмантами только по воскресеньям и растягивал их на целые восемь месяцев.
Из-за конфирмации Оке между дядей Стеном и бабушкой разгорелся жаркий спор.
– По-моему, это совершенно ни к чему, – заявил дядя.
Бабушка возмутилась:
– Чтобы мальчик не прошел подготовку к конфирмации? Да где это слыхано!
– Не было слыхано, так будет!
– Да ты только подумай, что станут говорить все!
– Пусть себе говорят. Поговорят да перестанут. Оке решил, что дядя Стен против того, чтобы покупать ему шевиотовый костюм и белую рубашку, и стал упрямо на сторону бабушки.
– Ну, как хочешь! Постарше станешь – сам поймешь, – уступил в конце концов дядя Стен, пожимая плечами.
Оке и в самом деле очень скоро стал задумываться над тем, есть ли смысл каждое воскресенье проделывать длинный путь до церкви. Нудные, бессодержательные речи священника быстро наскучили, и ему не раз случалось вздремнуть в ризнице.
Когда становилось уж очень невтерпеж, кто-нибудь из подростков щипал или щекотал девчонок, вызывая тихое веселье у остальных.
Священник увешевающе вздымал руки и смотрел с упреком на озорника. Аккуратная седая бородка клинышком придавала ему сходство с добродушным домовым.
– Ризница – свято место. Не забывайте об этом!
Потом он вдруг вспоминал, что надо спросить домашнее задание.
– Андерссон, как начинается комментарий Лютера к четвертой заповеди?
Оке считал унизительным, что священник пичкает их с чайной ложечки псалмами и заповедями, которые проходят еще в первых классах школы. Он ожесточился и принялся тараторить наизусть со страшной скоростью.
– Довольно, довольно! – испуганно воскликнул священник.
Какой же вопрос он теперь придумает для других?
Бенгт называл его «травоедом», когда поблизости не было никого, кто бы мог наябедничать.
– Грех умерщвлять невинных животных. Человек живет гораздо дольше на здоровой растительной пище, – провозглашал священник кротко, раздавая маленькие брошюрки, которые призывали вести вегетарианский образ жизни.
В одно воскресенье они получили сочинение совсем иного рода. Оно было написано в отталкивающем, полном ненависти тоне, и Оке был очень удивлен тем, что чувствительный старый священник хочет, чтобы они читали такие вещи.
– «Церковь под знаком креста» – недурная вывеска для фашистской пропаганды! – воскликнул дядя Стен, перелистав тоненькую брошюрку. – Похоже, что этот «вождь», капитан Бергендаль, нашел в наших краях преданного сподвижника.
Серым зимним днем Оке сидел у печки и смазывал свои пьексы. Из котелка на треноге поднимался резкий запах дегтя. Надо было втирать смесь дегтя с бараньим салом, покуда она не перестанет впитываться. Тогда обувь сможет устоять и против сырости и против холода, что имеет немалое значение, когда с северо-востока приходит затяжной шторм с густым мокрым снегом.
– Что-то Мерк давно не показывается. Уж не упал ли он в колодец, или какая другая беда случилась? – затревожилась вдруг бабушка.
– Всякое может случиться. Плохо, что он живет совсем один, – откликнулся дядя Стен.
– У него столько родни, кто-нибудь мог бы и позаботиться.
– Вряд ли он ужился бы с ними… В богадельню тоже переселяться не думает. Видно, не хочется ему от моря уезжать.
Бабушка считала, что Мерк не стремится в богадельню по другим причинам:
– Тогда муниципалитет возьмет на себя попечение о его деньгах, и он не сможет ничего жертвовать миссионерскому обществу; нечем хвастаться будет.
– А вы уверены, что у него есть деньги?
– Да ты что! Об этом все знают.
– Если вы обещаете не говорить никому, я скажу вам, сколько у него на самом деле.
– Будто я когда сплетничала! – обиженно воскликнула бабушка.
– У него триста двадцать крон в банке, а больше четырехсот никогда не было.
– Не может быть! Как ты узнал это?
– Он мне сам показал книжку прошлой весной, когда я попросил у него взаймы пятьдесят крон на посевной материал.
Бабушке как-то трудно было расстаться с привычным представлением, что Мерк ведет образ жизни нищего отшельника исключительно из жадности.
– Мерк дал денег взаймы? Наверно, потом сколько ночей не спал, пока ты ему не вернул долг!
Дядя Стен выглянул в окно:
– А вот и он сам идет, легок на помине…
– Подкинь дров в печку. Похоже, он совсем закоченел сегодня, – сказала бабушка.
Скрюченные пальцы Мёрка дрожали, когда он протянул их к огню, на кончике носа повисла большая капля. Густая щетина на лице казалась такой же грязно-серой, как обтрепанные, покрытые невероятным количеством заплат штаны из домотканого сукна. На ногах у него были примотанные мокрой бечевкой огромные калоши.
– Не могу надеть ботинки – обморозил пятки и пальцы, – объяснил он.
– А я как раз собирался вас проведать, – сообщил дядя Стен.
Лицо Мёрка исказилось от боли:
– Поясница совсем разболелась от этой погоды, не то бы сам как-нибудь управился.
Отдохнув немного, он спросил Оке, не проводит ли он его, чтобы помочь устроить ножную ванну.
– Надо будет еще ногти на ногах постричь и положить мазь на болячки.
Оке нужно было подождать, пока подсохнут пьексы, и Мерк пошел вперед – поставить воду.
– Захвати с собой бинт и перекись водорода, – сказал дядя Стен племяннику.
Это оказалось хорошим советом. Вода, которую согрел Мерк в чугунке для варки картофеля, была далеко не чистой. На ее поверхности плавала пленка жира – такая вода годилась только для того, чтобы отмыть заросший грязью таз.
Оке чувствовал себя совсем скверно в грязной каморке. Выходит, под этим тряпьем отнюдь не скрывается золото, хоть все и были уверены, что Мерк нарочно прибедняется, чтобы сберечь состояние. Лишенный возможности навещать соседей, он оказался в страшном одиночестве. Его единомышленники по миссионерскому обществу нисколько не заботились о нем. Дом Мёрка был слишком холодным и неустроенным, чтобы созывать там собрания, а сделать доброе дело, вооружившись щеткой и половой тряпкой. – это христолюбивым женщинам и в голову не приходило.
Одна стена совсем прогнила. Плесень за кроватью забиралась все выше по обоям. Скоро она доберется до запыленной литографии в деревянной рамке… Первый раз, когда Оке увидел эту картинку, изображавшую мчащихся во весь опор через дворцовый парк всадников, она показалась ему красивой и забавной. Ребра гусаров оказались почему-то сверху красных мундиров![26]Шведские гусары носили красные мундиры с нашитыми сверху белыми полосками.
Стенные часы тоже произвели на него тогда большое впечатление. Он следил за качанием маятника, вертя головой, словно любопытный котенок, и приходил в восторг каждый раз, когда латунный диск вспыхивал на солнце. Часы были в доме единственным предметом, не отставшим от времени… Скорее даже наоборот: стрелки успевали отмахать далеко за полдень, когда солнце, касаясь сделанных Мёрком на подоконнике меток, говорило, что двенадцати еще нет.
– Ну что, скоро начнем? – спросил старик нетерпеливо, вытягивая ногу перед очагом.
Оке пришлось немало повозиться, чтобы подвернуть до колена затвердевшую штанину. Икры Мёрка покрылись слоем грязи, в глубокой гноящейся ране на пятке засох клочок серой бумаги.
– Без бумаги мазь не держится, – объяснил Мерк.
Оке стиснул зубы, чтобы не отпрянуть назад, и лоб его покрылся испариной. Болячки издавали отвратительное зловоние. Мизинец страшно распух, ноготь отвалился. Стоило тронуть багровую опухоль, как появлялось мертвенно белое пятно.
– Может быть, лучше с этим в больницу пойти?
Мерк решительно отверг его предложение:
– Все равно что выбросить деньги. Три недели я пролежал там в прошлом году, залечили было, а едва началась зима, все болячки снова открылись.
Оке осторожно взял кончиками пальцев черные гнойные тряпицы, отвалившиеся вместе с носком, и швырнул их в печку. У него даже отлегло на душе, когда огонь принялся пожирать их.
– Ты сжигаешь бинты? Да я мог бы выстирать их и еще раз использовать! – воскликнул Мерк недовольно.
Хорошее настроение вернулось к нему только тогда, когда ноги были вымыты, ногти подстрижены, а раны обернуты новым, чистым бинтом.
– У тебя легкая рука, парень, – произнес он с довольным вздохом.
…Прошло немного времени, и Мерк уже мог опять обуваться, а Оке получил от товарищей новое прозвище. «Маникюрша», – прочел он однажды на внутренней стороне переплета своего псалтыря, забытого в церкви в очередное воскресенье.
В воздухе повис дрожащий колокольный звон. Ослепительное солнце заливало окаймленную зеленью полянку перед церковью. Бабушка сидела у ограды и щурила глаза: все было белое – рубахи подростков, платья девушек, свежевыбеленные стены церкви.

Идя рядом в процессии, Оке и Бенгт казались близнецами. Одна и та же фирма сшила им на заказ костюмы, да и все остальное было одинаково.
Оке обратил внимание на то, что среди всех подростков только у него и у Бенгта были мягкие воротники. Привычное беспокойство кольнуло его: неужели он и здесь обойден, хотя бабушка так старалась, чтобы он получил все самое лучшее?
Однако когда торжество кончилось и конфирманты сгрудились у шоссе в ожидании автомобиля, который развозил участников церемонии по домам, он вдоволь посмеялся над другими ребятами. Натертые докрасна одеревеневшие шеи причиняли им немало неудобств.
– Небось с такими кандалами на шее и головы не повернуть? – спрашивал Бенгт не без ехидства.
– Не будь сегодня такой день, я бы вас обоих одной левой вздул! – отвечал плечистый подросток, сын богатого крестьянина, хвастливо вертя у них перед носом новыми часами на цепочке.
Бенгт решил не принимать угрозу всерьез и только широко улыбнулся в ответ. Он не сомневался в своих кулаках, которыми был готов в самом прямом смысле пробивать себе путь в жизни, если понадобится.
– Неплохая машина… А только я куплю себе ручные, когда распрощаюсь с сухопутьем.
Бенгт глянул в сторону залива, протянувшего свои берега, словно широкие объятия, навстречу поблескивающему на солнце, тихо дремлющему под жарким маревом морю.
– На следующую весну ухожу в море, – сообщил он доверительно Оке, когда они уселись в автомобиле.
– Говорят, трудно на судно устроиться.
– А я сначала пойду батрачить поблизости от какого-нибудь порта и постараюсь устроиться на перевозку извести. А там сразу вступлю в союз и стану настоящим моряком.
Оке не снял новые брюки, даже когда пришел домой, но белая рубашка показалась ему слишком уж шикарной. Он сменил ее на некое ядовито-зеленое изделие, которое приобрел по дешевке в Биркстарда именно благодаря цвету, и сдвинул кепку набекрень еще сильнее обычного.
Под вечер он вышел прогуляться в сторону особняков около Скальвикен. С благоустроенного участка адвоката Бергмана доносился девичий смех и топот быстрых шагов. Карин гонялась между клумбами за маленьким лохматым щенком:
– Топси! Топси! Брось фуражку!
Щенок выкатился из калитки, словно клубок серой шерсти, но тут Оке улучил момент и схватил его за шиворот. На гимназической фуражке Карин остались следы щенячьих зубов, однако владелица только весело рассмеялась, принимая от Оке свою собственность:
– Придется папе покупать мне новую!
Оке очутился от нее так близко, что услышал тонкий запах вьющихся золотистых волос. Горячая волна прокатилась по его телу, но он посмотрел на ее по-детски хрупкую фигурку, и мысли его снова обрели плавное течение.
Почувствовав, что что-то надо сказать, Оке спросил, как ей нравится в гимназии. Карин стала горячо рассказывать про разные черточки и привычки учеников и преподавателей, потом сообщила, что ботаника кажется ей скучной. Оке тщательно скопировал ее произношение незнакомого слова, когда пришел его черед говорить. В начальной школе это называлось просто-напросто естествоведением.
Вдруг он ощутил всю необычность того, что стоит около неприветливого объявления «Частное владение» и говорит с Карин как равный. Много недель после этого Оке помнил каждое слово их разговора…
Ее мир был, без сомнения, намного красивее и надежнее, чем его, но зато (он начинал понемногу догадываться об этом) и гораздо ограниченнее. Отцовская гордость и забота воздвигла тепличную стену между Карин и суровой действительностью.
Если будущее предоставит ему возможность спастись в такой спокойный уголок, под защиту чужого труда и чужих забот, он все равно не сможет согласиться на это. Слишком глубоко ушли его корни в самую скудную на всем острове, исхлестанную ветрами землю. Не раз его обуревало желание взорвать само небо над головой, сделать его еще выше и свободнее…
* * *
Маленькие безобидные медузы покачивали на волнах свои серебристые купола, а в глубине извивались редкие стебельки водорослей. Их принесло сюда течением с каменистых мысов Рёрхольмена, и они бросили якорь на причудливых камешках.
Оке набрал воздуха в легкие и нырнул к ним сквозь прозрачную, отливающую зеленью воду. Солнечные зайчики затеяли волшебную игру на мелких бороздах песчаного дна; при каждом взмахе рук в ушах раздавалось усыпляющее журчанье.
Вынырнув наверх, отдуваясь и фыркая, Оке увидел, что по мелководью идет тонконогий молодой человек. Турист. Это было видно по его белой коже и по тому, как осторожно он окунулся в воду.
– Вы, очевидно, уже давно здесь отдыхаете? – спросил он, глядя на шоколадные плечи Оке.
– Я здешний!
Незнакомец рассмеялся, однако у него хватило такта воздержаться от замечания, что это слышно по выговору. Вместо этого он сообщил, что его фамилия Хольм, и пожаловался, что сможет отдыхать всего лишь одну неделю:
– Мне нельзя оставлять свой магазин надолго.
Оке подумал про себя, какой бы это мог быть магазин. Своими близорукими глазами и вообще всем видом незнакомец напоминал скорее всего учителя-буквоеда.
– У меня есть в Клара[27]Клара – район Стокгольма.небольшая музыкальная антикварная и букинистическая лавка, – сообщил Хольм, когда они улеглись отдыхать на дюнах.
Оке попытался представить себе, что это значит.
– Неужели это выгодно – продавать подержанные ноты и инструменты?
– Прокормиться вполне можно, – ответил Хольм дипломатично.
Он очень интересовался историей и осведомился, нет ли в Нуринге старинных достопримечательностей. Оке вызвался показать ему курганы и другие археологические памятники, а также остатки крепостных валов времен великого переселения народов, когда, по преданию, треть населения острова была оттеснена через Нуринге на восток.
Во время длинных прогулок было легко разговориться, и Оке сообщил о себе Хольму больше, чем предполагал сам.
– Я напишу тебе, – сказал Хольм, когда неделя пришла к концу и настало время уезжать.
Оке не принял этого обещания всерьез – так говорили почти все туристы. Его терзало мучительное беспокойство, вызванное не только неопределенностью будущего. Мысли метались во все стороны, словно летучие мыши, без определенной цели и направления. Смущенный и встревоженный, он наблюдал, как меняется его организм и характер.
Когда дядя Стен поручал ему выполнить в одиночку какую-нибудь работу, им овладевала лихорадочная жажда деятельности. Однако она так же скоро проходила, оставляя после себя вялое уныние, будто душа покрывалась холодным серым пеплом.
Дядя Стен обычно занимал тягло у крестьян на Рёрудден; взамен он приходил с Оке помогать им во время уборки. Длинные, утомительные 'дни в поле не оставляли времени для беспорядочных размышлений.
В последние дни обмолота Оке вернулся домой несколько раньше, чем дядя Стен.
– Я получила странную весть, – встретила его бабушка на кухне.
Оке недоверчиво улыбнулся. Бабушка не отличалась пристрастием к россказням о призраках и всякой нечисти.
– Однако нерушимо верила в свою способность предсказывать события.
– Твоя мать не умерла тогда, когда нам сообщили об этом.
– Она жива?!
– Нет, теперь-то она наконец покинула эту юдоль, – ответила бабушка со вздохом.
– А то письмо?…
– Сегодня сюда приезжали на автомобиле один из врачей и старшая сестра из больницы в Висбю. Фанни перепутали с другой больной, когда перевозили на материк.
– Как же это могло случиться?
– Этого они не знают. Одна сестра как раз переехала из Висбю на новое место, и ее назначили дежурить у Фанни. Она и узнала ее. Врач страшно беспокоился, все спрашивал меня, буду ли я поднимать шум вокруг этого дела. Да только к чему это?
И в самом деле, к чему?
Ничего уже не изменишь. Маму перепутали во время переезда, словно чемодан, и похоронили под ее именем другую женщину…
Недавно он прочел что-то в этом роде в плохоньком журнальчике для «жителей села» и подумал, что таких вещей не случается с простыми людьми. Действие происходило во дворце, герой и героиня смогли соединиться исключительно благодаря тому, что каким-то образом перепутались все живые и мертвые.
В романах все обретало к концу свой смысл и объяснение. В действительной жизни дело обстояло иначе. За что страдала его мать все эти долгие мрачные годы, когда она не была даже в состоянии сказать, кто она? Тщетно искал он ответа на свои вопросы. Ловкое объяснение, которое ему предлагала религия, говоря о грехе и возмездии, о всемогущем справедливом боге, который ведал судьбой каждого человека, казалось Оке нелепым и жестоким.
– Пойду схожу к Бенгту, – сказал он бабушке.
Дома не сиделось. Оке зашагал механически в сторону Ступхауен.
Из-за деревьев просвечивали поросшие песочницей светло-желтые гребни дюн, по склонам спускались, словно белопенные водопады, две протоптанные «туристские улицы».
Ноги тонули в горячем, зыбучем песке. Как-то раз Бенгт и Гюнвор зарыли его в песок по самый подбородок, так что он не мог шелохнуться, а потом убежали со смехом.
– Сиди так, пока не сгниешь! – крикнул Бенгт напоследок, не задумываясь над смыслом своей угрозы.
Как знать – не погребен ли ты сейчас заживо и сохранил ли ты еще свой разум? В памяти Оке жил образ одного старого чудака, который почти весь год вел себя, как все, но каждую весну уходил бродить по дорогам. Изголодавшийся, с провалившимися глазами, он слонялся вокруг хуторов, словно робкое лесное животное, и замышлял, казалось, всякие каверзы.
– Не бойся Никкена. Он никого не обидит, – успокаивала бабушка Оке, когда за окном вдруг показывалось бородатое лицо под заношенной, источенной молью шапкой из тюленьей шкуры.
Никкен редко отваживался входить дальше сеней, хотя бабушка долго уговаривала его приветливым голосом. Когда она выносила ему большую кружку молока, его мрачный, отсутствующий взор теплел.
– Ты добрая, Анна! Остальные только и думают о том, как бы отравить меня, – шептал он хрипло и глотал «противоядие» одним духом.
Однажды в сочельник он ушел в лес и повесился, хотя обычно зимой голова у него работала лучше всего…
Склонившаяся травинка медленно покачивалась в вечернем бризе. Оке смотрел на полукруг, который она чертила на песке, и его возбужденные мысли стали успокаиваться.
Звуки нескончаемого движения на дороге и хлопотливой работы на хуторах мягко сливались в прозрачном, как стеклышко, воздухе с приглушенным ворчаньем волн.
Изогнувшаяся полукругом цепочка песчаных холмов медленно понижалась в сторону молодого елового лесочка. Зубчатые макушки елок горели на солнце оранжевым пламенем, напоминая волнующееся поле неспелой ржи.
Оке просидел на самой высокой дюне, пока сумерки не превратили сосновый лес, плотно выстроившийся перед Стурхауен, в темную стену. Казалось, белые холмы дюн ожили с заходом солнца и пошли через мыс.
В начале века этот оптический обман был грозной действительностью. Еще и сейчас, когда норд-ост начинал дуть всерьез, он поднимал маленькие песчаные смерчи и вырывал на откосах глубокие белые ямы. В одном месте, в узком овражке, торчали из песка верхушки сухих стволов с когтистыми ветвями.
Но что это? Одна из серых макушек сдвинулась с места.
Да это Мандюс!
Давно Оке не говорил с ним. Последние годы Мандюс большую часть времени жил у своего сына в Висбю. Волосы под его панамой заметно побелели, зрение уже не позволяло заниматься тонким граверным делом. В остальном он оставался таким же, каким его помнил Оке. Суровые черты лица с чуть изогнутым носом были словно вырезаны из красного дерева.
– Ты что это тут мечтаешь в одиночестве, парень?
Голос Мандюса звучал снисходительно, с оттенком печали. Не давая себе времени на раздумье, Оке выпалил мучивший его вопрос:
– Почему нет на свете никакой справедливости?
Бородка старика дернулась вверх, взор его быстро и внимательно скользнул по лицу Оке. Совсем как когда-то давным-давно Оке вдруг показалось, что Мандюс видит его насквозь, читая самые сокровенные мысли.
– Справедливость есть, только она не дается в руки готовенькая. Пойдем, я покажу тебе кое-что…
Оке в недоумении последовал за ним по иссохшему гребню дюн к кучке низеньких зеленых кустиков, которых не замечал раньше.
– Ты не видишь ничего необычного в этих кустах?
– Так у них же толстые стволы, как у деревьев!
– Да, здесь ольха растет прямо из дюны, хотя естествоведы уверяют, что она может жить только у воды.
– Как же это может быть?
– Сосна гибнет, стоит только песку подняться на несколько метров по ее стволу, а вот ольха оказывается дюнам не под силу, лишь бы ей удавалось держать крону над песком. Она здесь уходит корнями в болото, по которому я зимой на коньках бегал, когда был еще мальчишкой… – Мандюс указал на одно дерево: – Погляди на нижние суки!
Оке увидел, что они изогнулись и превратились в бурые корни, но потом шторм раздул песок вокруг них, и они снова покрылись листьями.
– Дюны заставляют ольху тянуться все выше и выше, а чтобы использовать нижние сучья, она превращает их в корни. Запомни это, парень! Кто сделан из настоящего материала, всегда найдет в себе силы подняться над песком!
Мандюс встряхнул его за плечо, и Оке словно пробудился.
Все стало как-то светлее и легче от слов старика. Гравер и сам принадлежал к числу тех, кто сумел подняться выше всего того, что душит и тянет вниз. Нищий, смертельно больной, он вернулся в Нуринге, отдав молодые годы работе на верфях и кораблях, однако у него оказалось довольно сил, чтобы спасти не только свою жизнь, но и родной край.
Беспощадная рубка леса и уничтожение молодых побегов овечьими стадами привели в движение пески Стурхауен. Небольшая дюна въедалась со стороны Скальвикен все дальше в зелень, словно гнойная болячка. Казалось, Мурет обречен на опустошение… Больше того: наступающие дюны грозили поглотить весь мыс.
– Ольха – редкость на нашем острове, и люди решили, что я свихнулся, когда предложил насадить из нее защитную полосу против песков, – продолжал Мандюс.
Вообще-то он был немногословен во всем, что касалось его самого, но тут вдруг по собственному почину принялся рассказывать об упорной борьбе с песками.
– Наконец мне удалось убедить здешний народ, что надо что-то предпринять. Один только Лагг был на моей стороне с самого начала. Его луга заносило песком, трава сохла и исчезала. Власти и Общество сельских хозяев выделяли нам всего по нескольку сот крон на год. Сажали мы поначалу песочницу и сосну, да много ли сделаешь на эти деньги!
Оке вспомнил, как бабушка рассказывала, что немало Дней проработала на дюнах, сажая сосну.
– Проклятые сосны! С наветренной стороны Стурхауен внизу простиралось сплошное болото. Как мы ни старались осушить участок, растения всё болели от избытка влаги… – Мандюс даже рукой махнул. – Но что поделаешь! Эксперты, видите ли, раз и навсегда установили, что сосны – лучшее средство остановить блуждающие дюны.
В конце концов Мандюсу удалось настоять на своем, и они посадили перед Стурхауен длинные ряды быстрорастущей ольхи.
– Никогда не следует слишком уж полагаться на непогрешимых специалистов! Пятьдесят лет назад врачи сказали, что моя чахотка неизлечима. А я вот жив еще!
* * *
Воскресными вечерами случалось, что в каморке у дяди Стена собирались несколько каменотесов, рыбаков и небогатых крестьян. Дымок из трубок струился к потолку, а собравшиеся рассказывали смачные истории или делились своими будничными заботами.
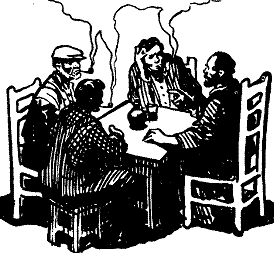
Оке понимал, что подслушивать стыдно, но не мог удержаться от того, чтобы не прокрасться к двери вверх по лестнице. Казалось, дядя Стен терпеливо и осторожно строит что-то новое. А чтобы расчистить место для этого нового, он безжалостно обрушивался на застаревшие представления. Временами Стен повышал голос, и тогда его речь звучала особенно убедительно, подчиняя себе остальных.
– Рабочим и беднякам не за что благодарить господствующий класс. Нам ничто не давалось даром. Малейшее завоевание стоило жестокой борьбы, и если мы хотим жить лучше, чем сегодня, то можем полагаться только на самих себя.
Среди друзей дяди Стена выделялся Сплавщик. Сильный, краснощекий, чуть кривоногий, он много времени провел на материке и перепробовал кучу удивительных профессий.
Нетрудно было поразить островитян, видевших лишь иссохшие ручейки, рассказами о том, как он мчался на плотах вниз по бурным рекам Норрланда и ютился в тридцатипятиградусный мороз в лесном шалаше. И в праздник и в будни Сплавщик носил остроконечную шляпу, заломленную особенно лихим образом, чтобы сразу было видно сезонника с Большой земли.
Дядя Стен очень дорожил его дружбой, хотя они нередко расходились во взглядах.
– Ну как, встряхнул рабочую организацию? – спросил дядя Стен как-то утром, когда Сплавщик пришел попросить у него заступ.
– Вот увидишь – осенью мы опять станем созывать собрания. Нам бы еще тебя заполучить, тогда бы и в этом захолустье закипела политическая жизнь!
– Я никогда не стану реформистом![28]Реформисты – последователи соглашательского течения в рабочем движении.
Дядя Стен прямо-таки выплюнул это слово, как какую-то гадость, а Сплавщик вспылил:
– И до чего же упрямы эти синдикалисты! Хорошо, что ты уехал из Бредвика и тамошняя синдикалистская лига рассыпалась. Зато теперь там во всех муниципальных органах есть рабочие, и это отнюдь не ваша заслуга.
Дядя Стен нахмурился, но голос его оставался спокойным:
– Ты прав, конечно, что нам повредило наше отношение к парламентаризму. Рабочие не могут обойтись одним только левым профсоюзом.
– Ну вот, ты и сам видишь! Социал-демократия – вот наш путь!
– Сомневаюсь… Что нам нужно, так это революционная партия, которая опиралась бы не только на промышленных рабочих, но и на рыбаков и бедных крестьян. Не говоря уже об издольщиках и батраках…
– Черт возьми! Да ты тут незаметно стал коммунистом, после того как ушел с каменоломни!
Дядя Стен сухо усмехнулся:
– Не знаю, совпадают ли взгляды коммунистов с моими, а не худо бы проверить. Ты же работал на материке – может быть, дашь мне адрес кого-нибудь из них?
– Подожди лучше, что покажут выборы в риксдаг![29]Риксдаг – название шведского парламента. – убеждал его Сплавщик. – У нас есть надежда победить правого кандидата, если голоса не расколются, и тогда от Готланда пройдет представитель рабочей партии.
– Знаю я вашего представителя… Его не мешало бы основательно толкнуть влево, чтобы он не спал на ходу, – ответил дядя Стен насмешливо.
– Коммунисты никогда не будут пользоваться влиянием здесь, на Готланде, попомни мои слова!
– Не зарекайся! Ты забыл, что прошло всего четырнадцать лет, как Мандюс и архамрский портной стали раздавать первое в нашем краю предвыборное воззвание против правых? Весь уезд взбудоражили!
– Нет, не забыл. Я сам был в числе тех семи, кто проголосовал за свободомыслящих, хотя, по существу, уже тогда был социал-демократом.
– Мандюс тоже считал себя социалистом, да только, если бы он заговорил об этом прямо, хуторяне растерзали бы его. Вспомни, как Лаурелль и старый Русен натравили их против него за то, что он агитировал за свободомыслящих!
У Сплавщика на лице было написано удивление.
– Уж не хочешь ли ты сказать, что Мандюс социал-демократ?
– Я этого не говорил. Знаю только, что он молодым рабочим на верфях в Стокгольме часто ходил на собрания, где выступал Аугуст Пальм.[30]Пальм, Аугуст (1849–1922) – первый пропагандист идей научного социализма в Швеции.
Меньше чем через неделю после разговора дяди Стена со Сплавщиком пришла пора Оке отправляться в путь. Бабушка выложила на стол свежевыглаженное белье, и он поспешил уложить его в небольшой серый чемодан. Он уже успел попрощаться с соседями и вырезать свои буквы рядом с буквами Бенгта высоко на стволе старой осины у дороги.
– Через десять лет вернемся сюда и залезем посмотреть, как разрастутся буквы, – обещали они друг другу.
Укладывая маленькую медную рамочку, ту самую, которую он получил, когда пришел в первый раз к Мандюсу, Оке вдруг подумал о Карин Бергман. Она уехала с родителями на лето куда-то за границу.
«Вот тебе для карточки твоей невесты!» – сказал тогда Мандюс и лукаво подмигнул.
Рамка до сих пор оставалась пустой… Оке решил, что надо что-нибудь вставить в нее, и достал старый календарь, выпущенный рабочим издательством. Там он нашел репродукцию аллегорической картины француза Делакруа[31]Делькруа, Эжен (1798–1863) – выдающийся французский живописец. «Свобода на баррикадах». Календарь был уже основательно потрепан, и Оке без особых угрызений совести выстриг картинку.
В рамке уместились только статная женщина с красной фригийской шапочкой на развевающихся волосах и маленький горнист рядом с ней.
Отделенная таким образом от рвущихся вперед сквозь пороховой дым повстанцев и павших в бою революционеров, Свобода странно видоизменилась. Теперь уже не видно было гордо поднятого над ее головой трехцветного флага, который обычно приковывал к себе взор. Взгляд Оке, горячий, необычно взволнованный, скользнул вниз, к ее нагой груди, и он поспешил спрятать картинку между вещами.
Не сон ли все это, за которым последует внезапное пробуждение? Завтра он уже будет в главном городе страны, с его кипучей жизнью… Громадные здания, красивые мосты, широкие улицы, кишащие людьми и автомобилями, – все, о чем Оке только мечтал и что так смутно представлял себе, он увидит своими глазами.
И еще там есть много молодых людей, которые борются за новую, лучшую жизнь.
Бледнолицый владелец нотного магазина предложил ему место у себя. Обещал комнату и питание, а также небольшие карманные деньги. Со временем, когда он немного освоится с работой, заработок, конечно, возрастет.
– Нельзя сказать, чтобы уж очень хорошие условия. – сказал дядя Стен, – но зато ты сможешь найти себе другую работу, когда пообвыкнешь.
Бабушка с трудом подавляла свою тревогу:
– И как только Оке справится один в таком большом городе?
Дядя Хильдинг, прибывший домой затем, чтобы попрощаться с Оке, не принимал ее волнений всерьез.
– Стокгольм – захолустье по сравнению с Нью-Йорком! Вот куда не так-то просто было явиться отсюда, не зная к тому же ни слова на чужом языке!
– Но зато тебе было уже не пятнадцать лет, и ты знал, что такое городская улица…
– Ничего, справится парень, если в нем есть хоть что-нибудь от старых нурингцев. Отцу как-то раз надоело торчать на Сандэн и рубить там лес, так он соорудил себе небольшую лодку и отправился на ней в одиночку в Стокгольм.
– Ну, не совсем в одиночку, с ним поплыл смотритель маяка с мыса Тернудден, – поправила бабушка. – Они там выгодно продали лодку и вернулись в Висбю на пароходе. Я-то хожу дома и жду, когда он приедет с лоцманской шхуной с острова, а он вдруг появляется и преподносит мне стокгольмский кофе и красивый материал на передник!
Дядя Стен достал из буфета поллитровку и коротконогую рюмку из толстого синего стекла с красивой гранью.
– Единственная памятка, какая осталась у нас от отца, – произнес дядя Хютьдинг задумчиво, рассматривая рюмку на свет.
– Налей парню. Пусть пьет первый по случаю проводов.
Оке сморщился.
– Не заставляй его пить водку, раз не хочет, – вмешалась бабушка.
– Верно, лучше не привыкать к этой гадости, – поддержал дядя Хильдинг.
– Почему же ему не глотнуть из отцовской рюмки, если он стоял на коленях перед священником и тянул вино? – возражал дядя Стен. Он никак не мог забыть спора из-за конфирмации.
Оке проглотил полрюмки, хотя ему страшно жгло горло и на глазах выступили слезы.
– Вот так! Теперь можешь бодро двигаться в путь! – одобрительно воскликнул дядя Стен и крепко пожал ему руку.
Дядя Хильдинг снабдил его последними напутственными советами и хлопнул ободряюще по плечу:
– Счастливо тебе! Ворочай мозгами как следует, не старайся все лбом пробить!
– Автобус уже едет! Все готово? – заторопилась бабушка и выбежала во двор.
Оке мысленно был уже в завтрашнем сказочном дне, но вдруг ощутил бурное желание никуда не уезжать. Бабушка пазом показалась ему такой маленькой и сгорбленной… Лицо ее словно посерело, голос прерывался…
– Мои глупые старьте глаза… Слезятся, да и только! – Она сделала отчаянное и тщетное усилие улыбнуться сквозь слезы. – Мне бы только радоваться, что ты посмотришь на белый свет…
Оке устроился на заднем сиденье и махал бабушке все время, пока видел ее.
– Смотри только, не ошибись пароходом, а не то вместо Стокгольма попадешь в Кальмар! – крикнула она ему вслед и медленно опустила руки.
Бредвикский автобус быстро катился вниз по склону последнего холма Мурет. С одной стороны шоссе росло множество маков. Горящее на солнце алое цветочное поле напоминало мягко развевающийся шелковый стяг. Казалось, вот-вот налетит шторм и знамя взметнется к небу громадным языком пламени. Тогда надо крепко держать его, чтобы не выпустить из рук символ борьбы!
Оке чувствовал себя все еще дома, хотя ни разу прежде не ездил этим путем. Почти на всех дорожных указателях он читал знакомые названия каменоломен и цементных заводов побережья.
Впереди над селом торчала острая церковная башенка, увенчанная черным шпилем. Воняющий бензином автобус подъехал к железнодорожной станции. Без особых приключений Оке купил билет и уселся в вагон. Время отправления уже прошло, а паровоз все еще стоял на месте и тяжело пыхтел. Видно, опаздывает, как обычно, почтовый автобус…
Наконец паровоз тронул вагоны с места. В купе третьего класса, где и так нечем было дышать, ворвался через окна едкий угольный дым. Пассажиры поспешили закрыть окна, и Оке ушел в тамбур. Он не собирался продремать за запыленным стеклом всю свою первую в жизни поездку по железной дороге!
Быстро бежал мимо однообразный лесок, перемежавшийся буроватыми плоскими болотистыми лугами, и Оке не успевал даже составить себе настоящее представление о местах, которые проезжал. Чтобы заставить время идти быстрее, он пел одну мелодию за другой в такт с перестуком колес. Тамбур дергался и грохотал так, что он еле слышал свой голос, и, когда паровоз громким гудком приветствовал появление Висбю, Оке успел охрипнуть.
Вдали призрачным видением возникли серо-белые городские стены. Оке увидел знакомые по многим открыткам и вполне достоверным гравюрам Мандюса характерные зубчатые очертания башен и узкие темные щели бойниц. Черные купола собора тоже полностью соответствовали его представлениям, тем не менее от них веяло чем-то сказочным, нереальным.
Унылый вид давно не ремонтировавшегося станционного здания быстро вернул его к действительности. Крепко сжимая в руке чемодан, Оке вышел на перрон. Поток приезжих направился к обсаженной густыми деревьями аллее; оставалось только следовать за всеми.
Оке пришлось основательно собраться с духом, прежде чем он решился войти под узкую арку Сёдерпурта, где нетерпеливо сигналили автомобили, теснились прохожие и извивались бесстрашные велосипедисты.
За аркой раскинулась под палящим солнцем пустынная площадь Сёдерторг. Стайки воробьев весело резвились в пыли и редкой траве между известковыми плитами. Их не пугали ни автомобили, ни шум из грязной пивной.
Площадь кончалась крутым уступом, густо поросшим зеленью. Из-за верхушек деревьев проглядывала синева моря, и Оке сразу же почувствовал себя спокойнее. Теперь он знал, во всяком случае, в какой стороне гавань.
Многочисленные витрины заманили его на улицу Адельсгатан. Он довольно долго шел вдоль торгового квартала, потом завернул в крутой переулок без тротуаров. Вдруг из-за угла выскочил автомобиль. Оке вздрогнул и прижался к стене дома. С машины его приветствовали хохотом и выкриками на английском языке туристы. Они явно чувствовали себя превосходно в этом коварном булыжном проулке.
Оке продолжал слоняться по городу наугад и очень скоро совершенно запутался в мешанине домов и улочек, которые взбирались вверх по уступам, словно дикий хмель. Потом он стал ловить себя на том, что попадает в уже знакомые места. Оке не раз приходилось слышать рассказы деревенских жителей, которые часами блуждали в городском лабиринте, и он уже начал побаиваться, что опоздает на пароход.
Однако спросить дорогу в гавань казалось стыдно.
– Где находится Большая площадь? – спросил он вместо этого старушку, сидевшую в низком окне покосившегося домика.
Она принялась многословно и обстоятельно описывать дорогу. В итоге он только хуже запутался в кварталах, которые еще в средние века завоевали себе славу коварных ловушек для чужаков.
В конце концов он уселся на чьем-то крыльце и вытащил из сумки кусок хлеба, ломая голову над тем, как быть дальше. Пароход отходит только к ночи, так что пока особенно спешить некуда.
На фоне неба на востоке четко вырисовывались строгие линии сторожевых башен с флагштоками. Пожалуй, самое простое – идти вдоль серой крепостной стены до берега.
Когда он спустился к воле, над Пороховой башней горела яркая вечерняя заря. В прошлом эти мрачные стены не раз лизало пламя пожаров, зажженных разбойниками из Любека. Пороховая башня, сторожившая вход в гавань, была значительно старше всех прочих укреплений и пережила много примечательных событий…
Сквозь ее зарешеченные бойницы ганзейские часовые видели в 1288 году, как отступает перед противником повстанческая армия борца за свободу Петера Хардинга после третьей большой битвы против Ганзы. Крестьянский вождь из Валла потерпел неудачу в своей смелой попытке сбросить захватчиков в море и спасти независимость островной торговой республики. Но имя его и слава о его делах долго еще жили в памяти народа.
Чтобы полюбоваться видом с башни, надо было платить за билет. У Оке в бумажнике лежали еще две нетронутые десятки, и он решил, что может позволить себе это удовольствие.
Сверху город напоминал большой сад. Сквозь зелень деревьев светились новые черепичные крыши, нал высокими замысловатыми строениями торчали затейливые флюгера. свежий бриз весело трепал заросли плюща на развалинах церковной стены. Над бетонной махиной гавани носились чайки, вспыхивая, как светлячки, когда их грудки обращались к солнцу.
Пассажиры уже устремились по пристани к белым пароходам. Поднимаясь по сходням на свое судно. Оке даже удивился, с чего это такому большому количеству людей одновременно пришло в голову отправиться на Большую землю.
С борта корабля было видно целое море поднятых вверх, ярко освещенных лиц, а когда пароход отчалил, над плотной толпой взлетела стая носовых платков. Оке вдруг захотелось, чтобы хоть некоторые из этих платков махали ему… Большинство провожатых смотрели на осыпаемую рисом и змейками серпантина молодую чету, счастливо улыбавшуюся в ответ на громкие возгласы «ура».
Одна за другой рвались бумажные ленты. Теперь только белый вихрь бурлящей воды за кормой соединял пароход с пристанью. В тот момент, когда судно огибало причал, над волнами полились звуки мандолины. И вот уже на краю причала в честь молодоженов играет целый оркестр. А на борту все были заняты добыванием одеял, шел ожесточенный спор из-за топчанов и плетеных кресел. Большинству пассажиров пришлось довольствоваться брезентовыми стульчиками.
Оке стоял у перил. Дядя Хильдинг снабдил его добрым советом сразу же занять себе удобное место для сна в грузовом трюме. Вот исчезла зубчатая линия карнизов портовых складов, город превратился в переливающийся огнями алмаз на фоне известковых скал. Сквозь тишину августовской ночи все еще доносилась музыка, заглушаемая мерным перестуком поршней машины.
На юге черной тучей вздымалась скала Хёгклинт, на север уходил вдаль плоский синеющий берег. Где-то на самом его краю неустанно мигал маяк – словно звезда над пустынным водным простором.
Стокгольм, 1948 год.
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления