Онлайн чтение книги
Чукотская сага
РАЗНЫЕ ЛЮДИ
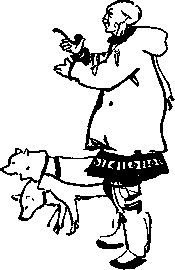
Субботний вечер. А по субботним вечерам в клубе особенно многолюдно. Скоро должен начаться киносеанс — передвижка уже приехала. После кино будут танцы.
Вся молодежь колхоза «Утро» собралась здесь сегодня. Да и не только молодежь. В те дни, когда должна приехать передвижка, мальчишки чуть не с самого утра поглядывают в море и, едва только покажется среди волн моторная байдара киномеханика Эттэлена, шумной ватагой бегут на берег. Поднести от байдары до клуба диски с кинолентами — это уже само по себе чего-нибудь да стоит. К тому же когда в руках у тебя диски и идешь ты рядом с Эттэленом, — разве найдется такой свирепый дежурный, который посмеет не пропустить тебя в клуб?
Старики приходят, конечно, попозже — всего за час до начала сеанса. Самое большее — часа за два. Разве что такие завзятые любители кино, как охотник Мэмыль или завхоз Гэмалькот, придут немного пораньше. Поиграют в шашки, поговорят с Эттэленом, узнают, какую картину он привез, о чём картина. Займут самые удобные места и неторопливо беседуют. У Мэмыля всегда есть о чём порассказать, какой бы темы ни коснулась беседа. Он прожил немалую жизнь, многое успел повидать, да и теперь его смешливые глаза смотрят на всё с таким же любопытством, с каким смотрели в молодые годы.
Рядом с клубным залом — вторая комната, чуть поменьше. Её называют библиотекой — тут стоят три шкафа с чукотскими и русскими книгами; тут же и шашки, и домино, и шахматы.
Несколько человек окружило столик, за которым играют в шашки «на мусор»: до первого проигрыша. Уже пятерых партнеров «вышиб» охотник Кэнири, не проиграв ни разу. Кто следующий? Сразиться с Кэнири решает старый Мэмыль.
Ещё больше народу возле Гонома, который вывешивает новую стенную газету. Кто-то держит коробку с кнопками, кто-то свёртывает старый номер, только что снятый со стены, другие пытаются прочесть заметки в новом, ещё не повешенном номере.
— Подождите, успеете прочесть, — говорит Гоном. — Подержи пока этот край, Унпэнэр.
Гоном отходит к противоположной стене комнаты и оттуда командует:
— Немного опустите правый край. Вот так. Теперь ровно.
Когда газета, наконец, повешена, он отходит к болельщикам, плотным кольцом окружившим Кэнири и Мэмыля. Но и отсюда он следит не столько за игрой, сколько за тем, какое впечатление производит на читателей газета. Ведь это творение его рук, и к тому же творение, стоившее немалого труда.
В редколлегии, кроме Гонома, ещё двое: учитель Эйнес и охотник Ринтувги. Ринтувги помогает собирать заметки, Эйнес помогает редактировать их. Но основная работа лежит всё-таки на Гономе, недаром его — рядового колхозника из первой охотничьей бригады — выбрали председателем редколлегии. Он отвечает и за сбор материала и за проверку, ему же приходится и оформлять газету, так как ни Эйнес, ни Ринтувги не умеют красиво писать заголовки заметок. С заголовками Гоном справляется неплохо, но вот рисунки у него не получаются, приходится вырезать подходящие из иллюстрированных журналов. Только в этом номере — впервые за много времени — удалось поместить карикатуру: нашелся, наконец, собственный художник.
Люди около стенгазеты громко смеются. Гоном прислушивается.
— Так это ж Кэнири! — говорит сквозь смех Унпэнэр. — Конечно, он! Кэнири, иди-ка сюда!
Кэнири поднимается, не отрывая глаз от доски. Впрочем, он может спокойно отойти: Мэмылю приходится туго, он уже минут пять думает над ходом и будет думать ещё столько же, наверно, если не больше.
Когда Кэнири подходит к газете, смех там замолкает… Но вот Мэмыль делает, наконец, ход, и болельщики зовут Кэнири обратно. Он возвращается, смотрит на доску, говорит: «Так… Так… Очень интересно…» — и в несколько минут проигрывает партию
— На мусор! — смеются болельщики, и Кэнири нехотя уступает место другому охотнику, желающему сразиться с победителем.
Чтобы кто-нибудь обыграл Кэнири — лучшего шашиста в нашем колхозе, — это случается редко. Хотя всё, что здесь описано, произошло на моих глазах, я затрудняюсь объяснить поражение нашего чемпиона. Одни объясняли это поражение тем, что Мэмыль придумал хитрую комбинацию, против которой уже ничего нельзя было сделать; другие утверждали, что Кэнири просто устал, — как-никак он играл шестую партию подряд; третьи считали, что он проиграл потому, что расстроился, увидев карикатуру в стенгазете. Сам я неважно играю в шашки и поэтому не берусь определить, какое из этих мнений ближе к правде.
Гоном выходит, чтобы покурить. На дворе уже темно, особенно когда выходишь из ярко освещенного клуба. Через минуту Гоном слышит, что кто-то подходит к нему сзади и говорит:
— Кто это позволил тебе издеваться над людьми? Думаешь, для этого тебя выбирали? Ошибаешься, Гоном! Это тебе так не пройдет, вот увидишь. Оскорбление это. Оскорбление и клевета!
Конечно, это Кэнири.
— Не грози, Кэнири, не испугаешь. Ни над кем газета не издевается. Газета во всеоружии борется за труддисциплину, за соревнование. Выступает против злостных нарушителей соцобязательств.
У Гонома — неизлечимое пристрастие к газетным оборотам речи. В другое время Кэнири не преминул бы придраться к этому, но сейчас он поглощен другим.
— Борись за что хочешь, а человека не оскорбляй! Не имеешь права!
— Никаких оскорблений там нет. А что смеются над тобой, сам виноват. Не лодырничай, не подводи бригаду. Несознательный элемент!
— Это я, по-твоему, элемент? Я лодырничаю? Да?
— Во-первых, не только по-моему, а по мнению всей редколлегии. А во-вторых, это каждый мальчишка знает. Если в бригаде скажут: «Опять нашего лодыря где-то черти носят», — каждый сразу понимает, что это про тебя речь идет.
— Мало ли что говорят. Язык без костей. Одно дело — говорить, а другое дело — осрамить человека в газете.
— А что ж, по-твоему, газета общими рассуждениями должна отделываться? Критика, Кэнири, должна быть конкретная. На фактах. Без этого никакой борьбы за труддисциплину не может быть. По лодырям надо бить, по симулянтам!
Гоном увлекается, забывая, что это не выступление на собрании, а разговор на дворе с тем самым Кэнири, по которому «надо бить». Но, как ни странно, на Кэнири это действует сильнее, чем весь предыдущий разговор. Он не находит возражений. Несколько секунд длится молчание.
— Хорошо, критикуй, если кто провинился. А оскорблять всё-таки не имеешь права, — повторяет Кэнири.
— Никаких оскорблений там нет, — повторяет Гоном.
Он бросает папиросу, затаптывает её и идет в зал: дежурный уже торопит, через пять минут начало сеанса. Кэнири тоже входит в зал.
Рядом с Гономом свободного места нет, и Кэнири усаживается позади него, хотя ещё час назад занял себе другое место — в самой середке. Что-то удерживает его возле Гонома, подбивает продолжать разговор. Озлобление, охватившее его при первом взгляде на карикатуру, а потом немного утихшее, теперь поднимается снова. Над ухом Гонома раздается сердитый шепот:
— Болтать насчет критики легко. А ты на себя посмотри. Тебя не критика интересует, тебя интересует, как бы товарища подвести. Тоже ещё художник выискался!
— А это вовсе не я рисовал.
— Не ты? А кто? Эйнес?
— И не Эйнес.
— Кто ж тогда? Ты на Ринтувги не вали, Ринтувги рисовать не умеет.
— Ни на кого я валить не собираюсь. Не собираюсь перекладывать ответственность. Почему ты решил, что это обязательно кто-нибудь из редколлегии? У нас авторский актив имеется.
Дежурный выключает свет. Но Кэнири продолжает жужжать над ухом:
— Твоя это работа, больше некому. Просто признаться боишься.
— Чего мне бояться? Всё равно я несу ответственность как редактор. Кто бы ни рисовал. А только рисовал не я, а стенкор.
— Какой Стенкор? Откуда он взялся? У нас во всем поселке никакого Стенкора нет. Выдумываешь всё.
Гоном еле сдерживается, чтобы не рассмеяться. Эттэлен уже включил ленту, на экране колышутся красивые волны. Но это не море, не вода, это созревшие под южным солнцем золотые волны колхозных нив.
— Ты ещё ответишь, Гоном, — жужжит Кэнири. — Тебе влетит так, что позабудешь все свои ученые слова.
— Не мешай. Не влетит, все факты у нас проверенные.
— Нет, влетит. Вот увидишь.
— Тише там! — слышится голос Гэмалькота. — Мешаете!
Кэнири, наконец, замолкает. Чукотские охотники смотрят фильм о кубанских казаках.
* * *
Охотник Кэнири был о себе очень высокого мнения. То, что это не совпадало с мнением большинства колхозников, мало его смущало. Он попросту не обращал внимания на такое несовпадение. А когда его дружно ругали за что-нибудь, Кэнири искренне предполагал, что это объясняется либо завистью людей к его уму, либо их прискорбным неумением правильно разобраться в обстоятельствах дела.
— Пусть будет по-твоему, — говорил ему бригадир Кымын. — Пусть ты один умный, а вся бригада — глупые люди, завистники. Как же так получается, что глупые лучше умного работают? Почему у тебя трудодней меньше, чем у всех? Почему у тебя дети ходят в латаном-перелатанном? А сам — ещё хуже — в рваных штанах ходишь! Только о галстуках и думаешь. Ты бы хоть из этого галстука заплату себе на штаны сделал… Почему даже старый Онна и тот больше тебя вырабатывает? А он тебе в отцы годится.
О, у Кэнири и на этот случай был в запасе целый ворох возражений, казавшихся ему вполне убедительными. «Во-первых, — рассуждал он, — охота — это всё-таки не то, что производство. На охоте одному повезет, а другому нет. Дело случая. Бывает, что мальчишка медведя убьет, а бывает, что опытный зверобой с пустыми руками вернется. Во-вторых, надо правильно использовать людей. Если человеку всё время поручают такую работу, к которой у него душа не лежит, так нечего ждать от него большой выработки…»
К какой именно работе тянется душа Кэнири — этого колхозники действительно никак не могли установить. Однако справедливость требует отметить, что иногда Кэнири умел проявить себя и с хорошей стороны. Он был сметлив и довольно ловок, отлично стрелял. Если дело не требовало ни большой смелости, ни напряженного труда, то Кэнири умел не отставать от товарищей.
И вообще он был полон самых благих намерений. Никогда не повышал голоса на своих детей, а было их у него к тому времени четверо; удивительное дело — две пары двойняшек! К водке он почти не притрагивался. Но лень овладевала им так же часто, как некоторыми людьми овладевает запой.
Не помогали Кэнири ни его искусная игра в шашки и в шахматы, ни слава первого щеголя. Правда, щеголем он был, если можно так выразиться, только наполовину, причем на верхнюю. Особенно заботился он о своих шляпах и галстуках. Штаны и торбаса были в самом плачевном состоянии, но это его нисколько не тревожило. Его гордостью было то, что именно он, Кэнири, первым в поселке оценил элегантность фетровой шляпы. До него фетровую шляпу приобрел только Кэлевги — механик колхозной электростанции. Но тот носил её лишь во время дождя. Кэлевги решил, что это дождевой головной убор, поля которого специально предназначены для того, чтобы вода не попадала за шиворот. Кэнири высмеял его, доказав, что единственное назначение мягкой фетровой шляпы — придавать обладателю красивый, культурный вид. «Надо только уметь носить её!'»
Бригадир Кымын не интересовался шашками, а из всех головных уборов предпочитал малахай. Кымын требовал от Кэнири того же, чего требовал от каждого члена своей бригады: добросовестной работы. А Кэнири не любил утруждать себя, ему казалось, что Кымын зря придирается. Вот на этой-то почве и произошла история, послужившая материалом для карикатуры в стенгазете.
Бригаде было поручено построить неподалеку от поселка ледник. Дело это нелегкое: приходилось долбить вечную мерзлоту. Сколько земли выдолбишь, столько поту прольешь. А может, и ещё больше. Зато важное дело, нужное для колхоза: в земле, которая и летом не оттаивает, большие запасы мяса можно хранить.
Кэнири всякими правдами и неправдами уклонялся от этой работы до тех пор, пока не услышал, что завхоз Гэмалькот привез аммонал и землю будут взрывать. Тогда он сам явился в бригаду и, делая вид, будто ничего не знает об аммонале, сказал Кымыну: «Ну, бригадир, ставь на работу. Пришел землю долбить».
Кымын, как и ожидал Кэнири, был удивлен и обрадован. Однако в остальном ожидания не оправдались: взрывчатка сделала своё дело, но и после неё надо было ещё немало потрудиться. Отколотые аммоналом куски мерзлой, тяжелой как камень земли нужно было выбрасывать из большой ямы.
После первого дня такой работы у Кэнири заныли и ноги, и руки, и спина. Он прогулялся на полярную станцию, что в двух километрах от поселка, и предстал перед фельдшером Алексеем Вадимычем.
Фельдшер встретил его приветливо: как-никак Кэнири частый пациент и к тому же прекрасный партнер для игры в шашки. Внимательно осмотрев «больного» и выслушав все его жалобы, фельдшер сказал:
— Понятно, понятно. Мускульная боль. Это с непривычки у каждого бывает. Поноют немножко мускулы и перестанут. Ещё денек поработаете, и всё пройдет. Главное — не прекращайте работу. А то у вас скоро начнет брюшко отрастать… Сыграем партию, что ли?
Кэнири очень хотелось поиграть, но он хмуро отказался, ссылаясь на плохое самочувствие. «Жаль, жаль», — сказал фельдшер и, видимо по рассеянности, всё-таки взял с полки доску и стал расставлять шашки.
Они сыграли пять партий в «крепкие», для отдыха — ещё две партии в «поддавки», и Кэнири, не умевший долго хмуриться, ушел домой вполне довольный. Его настроение было подобно ясному небу, на котором маячило только одно маленькое облачко. Этим облачком была мысль о том, что завтра придется снова ворочать тяжелые глыбы мерзлой земли.
Утром он пришел на постройку ледника и медленно спустился в котлован, где уже работали все его товарищи по бригаде. Часок он поработал вместе с ними. Потом подошел к бригадиру и, выразительно приложив руку к животу, сказал, что ему «надо отлучиться». Кымын кивнул головой.
Не отнимая руки от живота, Кэнири прошел метров сто в сторону моря и скрылся за одним из валунов. Вернувшись, он поработал ещё немного, снова подошел к бригадиру и, болезненно искривив лицо, сказал:
— С животом что-то неладно. Опять надо к валунам идти.
Так в течение всего дня Кэнири почти каждый час «отлучался», и «ходил к валунам», и проводил там минут по двадцать, а то и больше. Кымын сам предлагал ему отправиться домой, но Кэнири решил остаться. «Хоть от меня сегодня толку немного, — скромно сказал он, — а все-таки поработаю. Хоть немного, да помогу».
Такая тактика казалась Кэнири чрезвычайно хитроумной. Пусть теперь кто-нибудь посмеет назвать его лентяем! Теперь все узнают, каков на самом деле Кэнири! Даже больной и то не захотел уйти с постройки ледника!
Ему казалось, что он уже слышит эти уважительные отзывы. И они так понравились ему, что он сам почти поверил во всё это. Между тем не только живот у него нисколечко не болел, но и мускульная боль утихла гораздо раньше, чем предполагал фельдшер.
Он просто похаживал к валунам, присаживался за одним из них и отдыхал, бездумно доглядывая то на море, то на холмы. А когда, наконец, надоедало сидеть сложа руки — развлекался: подбрасывал охотничий нож так, чтобы он, перевернувшись в воздухе, вонзался в землю. Ведь всё равно никто этого не видит. Со стороны котлована могут заметить за камнем только его голову, а со стороны моря… Там, на берегу, безлюдно. Только на дальней косе возится с сетями какой-то человек. Это, наверно, Мэмыль. Первая бригада всегда сушит сети на той косе, и отвечает у них за это дело старый Мэмыль. Ну, он на таком расстоянии не увидит Кэнири. А если и увидит, так не узнает.
* * *
Может, на этот раз расчеты Кэнири и оправдались бы, если бы не два обстоятельства, которых он не учел.
Во-первых, у Мэмыля был бинокль. Как раз накануне приехала из Хабаровска на каникулы Тэгрынэ и в подарок отцу привезла морской бинокль тройного увеличения — правда, старинный, купленный в комиссионном магазине, но вполне исправный. Уважила дочка старика, не забыла о своём детском прегрешении, возместила давнюю потерю.
Этого обстоятельства Кэнири не знал и предусмотреть, конечно, не мог.
Второе обстоятельство заключалось в том, что у старого Мэмыля был молодой, беспокойный характер, были любопытные глаза и живой интерес ко всем колхозным делам.
Это Кэнири знал, и не учел он этого только по своему легкомыслию.
* * *
В то утро Мэмыль отправился на берег пораньше: вечером бригада должна была выехать на лов, нужно было подготовить сети, привести их в полный порядок.
Прежде всего он тщательно прощупал пряжу. Она была сухая — ветер и солнце поработали добросовестно. Но на верхней бечеве недоставало нескольких берестяных поплавков — хорошо, что Мэмыль предусмотрительно захватил с собой запасные.
Старик вытащил из футляра бинокль. Поверхность моря показалась вначале совсем пустынной. Но вот низко — почти у самой воды — пронеслась стайка уток. Вот далеко-далеко взметнулся над водой тонкий фонтанчик. «Кит, — подумал старик. — Очень далеко. Без бинокля, наверно, и не заметил бы».
Он с сожалением опустил бинокль, застегнул футляр, достал из своей холщовой сумки запасные поплавки и принялся за работу…
Здесь, на берегу этого холодного моря, прошла почти вся его жизнь. Неспокойная это была жизнь, интересная! Когда Мэмыль начнет вспоминать — заслушаешься!
В другой раз я ещё надеюсь рассказать кое-что из того, что слышал от старого Мэмыля. Теперь же коснусь только самого главного, без чего история со стенгазетой не была бы понятна.
Большую часть своей жизни Мэмыль был последним из бедняков. В молодости он испытал столько бед, что и половины хватило бы, наверно, чтобы десятерых навсегда лишить бодрости. Но не таков Мэмыль. Когда беседуешь с ним, можно подумать, что это счастливейший из людей.
Он был одним из организаторов и первым председателем колхоза «Утро». Может быть, и не пришлось бы выбирать другого, если бы Мэмыль был грамотным.
Но он не умел ни писать, ни читать. Когда он был молод, дорога к грамоте была закрыта для него, как и для всей чукотской бедноты. Когда эта светлая дорога открылась, Мэмыль был слишком занят. Он помогал устанавливать советские порядки на Чукотке, боролся с шаманами, агитировал за колхоз. Среди его многочисленных забот была и забота о ликвидации неграмотности. Но самому ему было некогда, не умел он тогда найти время для учения.
Мэмылю было трудно руководить делами колхоза. К счастью, очень скоро выросли люди, которым он мог передать руководство. Когда председателем выбрали Вамче, Мэмыль не испытал ни малейшего чувства обиды. Напротив! Ведь это были отчасти плоды его собственных трудов: именно за то он и боролся, чтобы могли вырасти такие люди, как Вамче. Он сам когда-то убеждал Вамче учиться, сам командировал его в Анадырь на курсы.
При новом председателе колхозные дела ещё быстрее пошли в гору. А старого Мэмыля и до сих пор каждый раз избирают членом правления.
Мэмыль взялся было за учебу, стал посещать кружок ликбеза. Но из этого ничего не вышло. Все обучавшиеся в кружке успели уже продвинуться далеко вперёд. Мэмыль решил, что ему не угнаться за ними.
Много времени и сил уходило на работу в охотничьей бригаде: Мэмылю хотелось показать, что за время председательствования он не разучился владеть ни ружьем, ни веслами; да и вообще не такой это человек, чтобы работать вполсилы. Много хлопот было и дома: нелегко вдовцу воспитывать дочку. К тому же натура у него увлекающаяся. То он всё свободное время проводит над ящичком земли, над торчащими из этой земли стрелками зеленого лука, о котором раньше в нашем поселке и не слыхали; то вдруг пристрастится к резьбе по кости, к вырезыванию смешных фигурок из моржового клыка…. Словом, кружок ликбеза он очень скоро бросил, а если нужно было где-нибудь поставить свою подпись, срисовывал её со спичечной коробки.
Этот способ он придумал ещё тогда, когда был председателем. Попросил дочку поразборчивее написать на чистой стороне спичечной коробки слово «Мэмыль» и, когда нужно было расписаться, ставил перед собой коробочку и тщательно срисовывал с неё свое имя.
Я понимаю, что после всего сказанного читателю нелегко будет поверить в то, что Мэмыль хранит в своей голове содержание доброго десятка романов, доброй сотни рассказов и повестей. Я понимаю, что это не очень правдоподобно, но ничего не могу поделать, потому что взял себе за твёрдое правило писать о своих земляках только чистую правду, как бы она ни была удивительна.
С тех пор как Тэгрынэ научилась читать, она привыкла пересказывать отцу содержание каждой прочитанной книжки, каждой страницы из учебника. Вначале Мэмыль завел такой порядок, чтобы следить за школьными занятиями дочки. Но потом он так полюбил её пересказы, как любит книги самый завзятый книгочей. Во всём нашем поселке, если, конечно, не считать школьных учителей, нет ни одного человека, который помнил бы столько всяких описанных в книжках историй, сколько их помнит Мэмыль. Его смело можно было бы назвать начитанным, если бы не тот печальный факт, что он не знал ни одной буквы. Такой это редкостный человек — наш Мэмыль!
* * *
Вот, значит, вынул старик из сумки запасные поплавки и взялся за починку сетей. Приладил три берестяных поплавка, а прилаживая четвертый, выронил его, и поплавок покатился к морю. Старик догнал его уже у самой воды. Возвращаясь, окинул глазами берег и разглядел какого-то человека, сидящего возле валуна.
Кто ж это может быть? Мэмыль поднес к глазам бинокль и узнал Кэнири. Правильно, неподалеку от этих валунов бригада Кымына должна строить новый ледник. Но почему же лодырь Кэнири сидит сложа руки и поплевывает, вместо того чтобы работать? Может, у них сейчас перекур? Тогда почему Кэнири сидит один, где все остальные?
Кэнири вскоре поднялся и лениво побрел по направлению к котловану, а мысли Мэмыля потекли по новому руслу. Он думал о том, что завтра, когда Тэгрынэ ещё будет спать, надо съездить наловить свежей рыбки, чтобы побаловать хабаровскую студентку. У них там, в Амуре, нет, наверно, такой нельмы, какая в Чукотском море водится. Если попадется хорошая нельма, надо будет Гэмауге с Инрыном в гости позвать.
Закрепив поплавки, Мэмыль проверил нижнюю бечеву и убедился, что в двух местах оборвались грузила. Он пошел вдоль берега, подбирая подходящие для грузил камешки, и заметил, что возле валуна снова сидит какой-то человек. И опять, поглядев в бинокль, старик узнал Кэнири.
Через некоторое время это повторилось в третий раз, ещё через час — в четвертый, потом — в пятый…
Что же там делает этот лодырь? Его поведение можно было бы объяснить самыми естественными причинами, но Мэмыль ясно видел, что в данном случае эти причины отсутствуют: Кэнири то сидел, играя охотничьим ножом, то валялся на траве, курил… И Мэмыль начал догадываться, какую нехитрую штуку придумал на этот раз Кэнири, чтобы увильнуть от работы. От возмущения старик даже погрозил в его сторону кулаком: «Ну, подожди, чертов обманщик! Мы тебя отучим от этих фокусов!»
Разные это люди — Мэмыль и Кэнири, во всем не похожи они друг на друга. Но больше, чем во внешности и в характере, сказывается это несходство в том, как каждый из них относится к новой жизни.
Для Мэмыля новая жизнь — это колхоз «Утро» и большая Советская Родина, это дочь Тэгрынэ, которая учится в институте, это Вамче, Унпэнэр, сотни других сыновей Чукотки, судьба которых так не похожа на судьбу их отцов; это его собственная счастливая старость. Ведь если бы жизнь не пошла по-новому, давно уже пришлось бы, наверно, Мэмылю распрощаться с нею, как это сделал когда-то его больной отец, как это делали многие заброшенные старики в бедняцких семьях. Теперь молодежь даже не верит, когда рассказываешь о жестоком обычае «добровольной смерти»… Тэгрынэ говорит, что Мэмыль должен жить, пока не появятся дети у её будущих детей. Надо думать, это будет нескоро — ведь Тэгрынэ ещё не замужем. Впрочем, за этим дело не станет, Мэмыль не хуже самой Тэгрынэ понимает, чьими детьми будут его внуки: они будут детьми Инрына — сына резчика Гэмауге. Но дожидаться правнуков? Что ж, Мэмыль не прочь. Оттуда, где славно живется, никто не торопится уходить.
Кэнири тоже любит новую жизнь. Но, во-первых, он не знает старой, прежней жизни, ему труднее сравнивать. А во-вторых, в новом ему больше всего нравится то, что вовсе не является самым главным. Он любит целые вечера просиживать в клубе за шашками, любит пофрантить. «Даже в кино, — говорит Мэмыль, — Кэнири видит совсем не то, что надо. На какое ухо шляпу надвигать — это его в каждой картине больше всего интересует».
Не раз пытался Мэмыль повлиять на Кэнири, пробудить в нем интерес к колхозным делам. И шуткой пытался действовать, и уговорами, и критикой, и примеры приводил — все это разбивалось о непреодолимое легкомыслие Кэнири. Не сумел повлиять на ленивца и строгий, требовательный Вамче. Многого сумел добиться Вамче такого, чего не удавалось добиться Мэмылю. А сделать из Кэнири хорошего колхозника не удалось и ему.
Кэнири старался пореже встречаться с Мэмылем, злился на него и за глаза называл «Кривым пальцем». Действительно, у старика на правой руке указательный палец поврежден, не разгибается. И, когда, разговаривая, старик подкреплял свои слова движением правой руки, Кэнири казалось, будто какая-то хищная птица то отлетает, то налетает, нацеливаясь своим кривым клювом прямо на Кэнири. Но такое впечатление создавалось почему-то только у него. Все остальные очень любят старого Мэмыля, а слушать его рассказы готовы хоть целую ночь напролет.
В тот вечер, когда Кэнири, вернувшись с постройки ледника, наивно радовался тому, как ловко он перехитрил всю бригаду, Мэмыль расспросил Кымына и окончательно убедился в правильности своей догадки. Весь следующий день он раздумывал над тем, как проучить бездельника Кэнири.
Рассказать Вамче? У Вамче и без того немало хлопот. Выступить на собрании? Когда ещё будет собрание! Вызвать Кэнири на заседание правления? Сколько раз уже вызывали его, стыдили, ругали, а толку всё равно никакого!
Так родилась у Мэмыля мысль написать о Кэнири в стенгазету. Это средство ещё не было испробовано. Он посоветовался со своим приятелем Гэмауге и пошел к Гоному. «Хорошо, — сказал Гоном, — приходи сегодня вечером в школу. Мы как раз очередной номер будем заканчивать. Там и Эйнес будет и Ринтувги — вся редколлегия».
В школе в одном из классов Мэмыль отыскал их. Они усердно трудились над стенгазетой. Большой лист белой бумаги, лежащий на темном полу, показался Мэмылю похожим на льдину, плывущую по морю, а члены редколлегии, ползающие на животах возле листа, были похожи на тюленей, вылезающих на эту льдину из воды.
Эйнес четким почерком выводил текст заметок, Гоном, не щадя цветной туши, писал заголовки, а Ринтувги наклеивал картинки, вырезанные из иллюстрированных журналов. Ринтувги был особенно рад приходу Мэмыля, так как появился повод прервать непривычный и очень утомительный труд: человеку, привыкшему орудовать веслами и ружьем, нелегко приспособиться к ножницам и кисточке. Ринтувги так боялся измазать клеем газету или косо налепить какую-нибудь картинку, что у него даже пот выступил на лбу.
Мэмыль рассказал о проделках Кэнири и добавил:
— Написать об этом я не смогу. Заметку вы сами составьте. А вот нарисовать я, пожалуй, попробовал бы.
Его усадили за одну из парт, дали бумагу, несколько карандашей, резинку, а сами снова распластались на полу. Но вскоре Мэмыль убедился, что рисование и резьба по кости — это совсем разные вещи. Прежде он считал, что рисовать гораздо легче: тут можно стереть, если что не так, — на то ведь и существует резинка. А уж если резцом не там проведешь, где надо, — никакие резинки не помогут… Но здесь Мэмыля подстерегали другие трудности. То у него ломался карандаш, то совсем, казалось бы, легкий штрих насквозь прорезал плотную бумагу. Даже если бумага оставалась целой, линии получались такие, что резинка оказывалась бессильной.
Испортив с десяток листов бумаги, Мэмыль всё-таки приспособился к этому не в меру нежному материалу. Меньше чем через час карикатура была уже почти готова. Старик так увлекся работой, что не заметил, как Эйнес, Гоном и Ринтувги подошли к нему. Он поднял голову только тогда, когда услышал, как они рассмеялись, посмотрев на его рисунок.
— Замечательно! — воскликнул Эйнес. — Да у тебя, дядя Мэмыль, настоящий талант! В этот же номер дадим. Ура, товарищи, у нас теперь собственный Кукрыниксы имеется!
Старый Мэмыль ничего не знал о Кукрыниксах, но понял, что это, должно быть, очень лестное сравнение.
* * *
Такова история карикатуры, которая, по утверждению Гонома, является «конкретной критикой», а по утверждению Кэнири — «оскорблением и клеветой». Но кому-кому, а уж самому-то Кэнири хорошо известно, что это вовсе не клевета, а чистейшая правда. Однако от этого сознания ему нисколько не легче. Он смотрит на экран и ничего не может понять. Ему сейчас не до «Кубанских казаков», не до кино…
«Откуда они могли узнать? — думает он. — Кымын ничего как будто и не подозревал. Даже сам хотел отпустить с работы. И другие тоже ничего не подозревали. Сочувствовали, всякие средства советовали».
Кэнири понимает: чем большее сочувствие вызвал он тогда у товарищей по бригаде, тем суровее осудят они его теперь, когда вскрылась правда.
«Откуда же все-таки они узнали?! Сам Стенкор ничего не видел — его там не было. Там вообще никого не было, кроме Кривого пальца. Может быть, Кривой палец всё-таки разглядел его? Конечно, это он, старый черт, больше некому! Разглядел и рассказал Стенкору. А тот нарисовал».
Первую часть фильма уже прокрутили, и Кэнири, воспользовавшись минутным перерывом, пробирается к выходу: не такое у него настроение, чтобы сидеть в кино. Чей-то голос кричит вдогонку.
— Что, Кэнири, опять к валунам побежал?
Дружный хохот покрывает эти слова. Неужели все они уже успели прочесть стенгазету? Кэнири, конечно, не отвечает насмешникам, но громко говорит дежурному:
— Открой, пожалуйста, библиотеку. Я там шляпу оставил.
Вдвоем они входят в библиотеку. Шляпа, новая, велюровая, действительно висит на гвозде — Кэнири забыл её, когда выходил вслед за Гономом. Он берет её, но по дороге к двери против собственного желания останавливается у стенгазеты, снова рассматривает карикатуру и перечитывает помещенную под карикатурой заметку.
Вот этот большой серовато-зеленый камень. Возле него сидит толстый смешной человечек с двумя головами. Одна повернута в сторону камня, доходящего почти до подбородка. На лице выражение мучительной боли. Другая голова немного пригнута и прячется за камнем: с противоположной стороны её не должно быть видно. По лицу расплылась самодовольная улыбка. Сколько уморительного напряжения вложил художник в страдальческую гримасу! И в то же время какими-то едва уловимыми черточками он подчеркнул, что страдания эти напускные. А в улыбке — сколько самодовольства, какая уверенность в силе своей хитрости! И эта уверенность тем более смешна, что обман уже раскрыт перед читателем, хитрость уже разоблачена.
По мнению Кэнири, этот толстый человечек нисколько на него не похож. А все говорят почему-то, что «вылитый Кэнири». Сразу почему-то узнали.
Заметка, помещенная под карикатурой, написана Гономом. В ней нет уже никаких шуток. Называется она «Позор симулянту»
«На постройке ледника, — сказано в заметке, — вся бригада Кымына работала хорошо, дружно. Особенно высокую сознательность проявил, несмотря на свой преклонный возраст, охотник Онна, а также молодой моторист Инрын. Они, а также сам бригадир всем показывали пример в работе, и все активно следовали этому примеру. Только один не следовал. Он не хотел работать, а хотел чужими руками жар загребать. Пока другие работали, он всё время нарушал труддисциплину и бегал к валунам. А бегать ему совсем не надо было. Он там прохлаждался и издевался в душе над товарищами, которые в это время работали не жалея сил. Факты показали, что он это делал без всякой надобности, а только для того, чтобы не работать и симулировать. Такому позорному явлению должен быть положен решительный конец».
Кэнири прочитывает до этого «решительного конца» и даже зубами скрипит от досады. Но, покосившись на дежурного по клубу, улыбается и, напевая, выходит. Впрочем, он сразу же перестает улыбаться и напевать, как только чуточку отходит от дежурного.
* * *
Солнце ярким светом заливает песчаную косу, на которой раскинулся поселок. Жарко. Ветерок, правда, чувствуется, но он дует с южной стороны и почти не приносит прохлады. Через косу, прямо над поселком, пролетают стаи уток. Но — странное дело — даже тогда, когда они летят совсем низко, никто не стреляет. Лишь изредка метко брошенная пятихвостка со свистом взлетает в воздух, и птица, опутанная ею, камнем падает на землю.
Стрелять нельзя, особенно при южном ветре: в море, на одном из островков, расположенных неподалеку от поселка, обнаружено лежбище моржей, ветер может донести до них звук выстрела. В поселке точат копья и на сверкающие холодным блеском острия надевают кожаные чехлы.
На байдарах меняют обтяжку. Вдоль берега, и там и здесь, кто-нибудь занимается этим делом — каждая бригада обтягивает свою байдару новой кожей.
Старый Мэмыль возвращается с сопки, со своего наблюдательного пункта. Оттуда он наблюдал за лежбищем. Голова его обнажена, на груди — морской бинокль. Пот светлыми бусинками блестит на лбу старика, тоненькими ручейками стекает по морщинам лица.
Первый привал Мэмыль сделал возле байдары молодежной бригады. Там работали Ринтувги и сам бригадир — Унпэнэр, сын Гэмалькота. Мэмыль потолковал с ними, рассказал о том, что делается на лежбище моржей. Рассказал с такими подробностями, какие могут быть оценены только настоящими охотниками. Унпэнэр и Ринтувги — настоящие охотники, они оценили.
Мэмыль прошел ещё шагов триста и теперь присаживается на песок рядом с байдарой бригады Кымына. Здесь работает Кэнири.
— Здравствуй, Кэнири.
— Здравствуй.
— Что ж это ты один работаешь? Одному несподручно.
— Бригадир мне Инрына в помощники дал. Только у него шило совсем тупое. Я его послал наточить как следует. Ведь с тех пор, как твоя Тэгрынэ приехала, Инрын всё на свете позабыл. Пойдет за него Тэгрынэ? Или у неё, может быть, кто-нибудь другой на уме? А? Может, в Хабаровске кого-нибудь получше нашла?
— Нет, Кэнири, не думаю. По-моему, дружба у них крепкая. Но разве девушка будет рассуждать о таких вещах со своим старым отцом? А Инрын что-нибудь говорил на этот счет?
— Он-то молчит, только мы ведь сами понимаем. Не слепые. Если Инрын скучный ходит — значит, давно письма из Хабаровска нет; если веселый — значит, письмо пришло. А сегодня бригадир ему говорит: «Ты, Инрын, пойдешь с Кэнири менять обтяжку на байдаре. Кэнири тебе покажет, что надо делать. А плохо будешь работать — я твоей студентке пожалуюсь».
Кэнири рассказывает об этом с явным удовольствием. Дело, конечно, не в Инрыне и не в Тэгрынэ, он приплел их только для вида, для того, чтобы между прочим, совсем как будто невзначай, рассказать о себе самом. Пусть Кривой палец видит, что такое важное дело, как перетяжка байдары, поручено именно ему, охотнику Кэнири. Пускай Кэнири будет лодырем, лежебокой — называйте его как вам угодно, — но когда пришло время обтягивать байдару, из всей бригады выбрали всё-таки именно его. И даже моторист Инрын сегодня под началом у Кэнири. Наверно, Кымын лучше знает своих охотников, чем люди из других бригад.
«Кымын знает, что делает, — думает Мэмыль, глядя на Кэнири. — Обтяжка байдары — это как раз такое дело, в котором Кэнири не подведет. Он это дело знает. Это не охота и не постройка ледника, тут не нужно ни особой смелости, ни напряжения всех сил. Тут нужны ловкие руки и аккуратность, а это у Кэнири имеется. Вон как он старается!»
— Правильно работаешь, — говорит Мэмыль, любуясь, как ловко орудует изогнутым шилом Кэнири, сшивающий на борту байдары желтоватую, чуть просвечивающую на солнце моржовую кожу.
Но старик не совсем прав на этот раз. Для того чтобы правильно сшивать на байдаре намоченную моржовую кожу, нужны не только знание дела, аккуратность и ловкие руки — кроме всего этого, необходимо ещё и душевное спокойствие. Один слой кожи надо проткнуть насквозь, а в другой — наружный слой — надо только войти шилом до середины, чтобы провести нить внутри него, параллельно поверхности.
Проткнешь насквозь наружный слой кожи — вода будет просачиваться в байдару. Такой шов, каким нужно сшивать обтяжку байдары, никогда не получится у человека с неровным дыханием. А откуда же взяться ровному дыханию, когда в душе поднимается буря?
Кэнири, польщенный похвалой, поднял голову и увидел на груди Мэмыля бинокль. Это и лишило его спокойствия. Последнее сомнение в том, что именно Мэмыль разоблачил его, окончательно исчезло.
— Отдохни, Кэнири, — говорит старик, вытирая пот со своего высокого лба. — Жарко. С тебя так течет, что, того гляди, совсем растопишься. Как кусок жира на солнце.
Это сказано вполне доброжелательно, с искренним сочувствием. Но Кэнири воспринимает это иначе. В предложении отдохнуть ему слышится намек на то, что он почти всегда предпочитает работе отдых. Сравнение с куском жира тоже не успокаивает его.
— Ты обо мне не беспокойся, — говорит он. — Мне не жарко. Ты лучше скажи, кто меня в газете нарисовал. Кому ты на меня наговорил?
— Зачем я на тебя наговаривать буду? Я не наговаривал, я правду сказал. И в газете я тебя сам нарисовал.
— Сам?! — обескураженно переспрашивает Кэнири.
— Конечно, сам, — отвечает Мэмыль как ни в чём не бывало.
Ему и в голову не приходит скрывать, что он автор этой карикатуры. Мэмыль умел открыто высказывать свои мысли даже в те времена, когда шаманы грозили ему за это жестокой расправой. Нет, старый Мэмыль не из робкого десятка. Просто он не знал, что карикатуры можно подписывать, и никто ещё не сказал ему об этом. Вот почему старик так невозмутимо подтвердил, что именно он рисовал карикатуру. А у Кэнири в это время всё внутри переворачивалось от еле сдерживаемой ярости.
— Так. Очень приятно, — говорит Кэнири, продолжая прошивать кожу дрожащей рукой. — Очень приятно. Ну, а Стенкора ты знаешь?
— Какого стенкора?
— Гоном не на тебя говорит. Гоном сказал, что меня Стенкор нарисовал.
Мэмыль беззвучно смеется, а Кэнири недоумевающе смотрит на него, сжимая кулаки. Не будь Мэмыль стариком, Кэнири, наверно, не сдержался бы.
— Ты не так понял его, Кэнири. Стенкор — это корреспондент. Корреспондент стенной газеты. Тот, который в стенную газету пишет. Понимаешь? Это Гоном меня стенкором назвал. Гоном очень любит такие слова. Он и мне это говорил. «Ты, — говорит, — должен быть нашим постоянным стенкором».
— По-нят-но, — медленно произносит Кэнири. И вдруг, злобно выругавшись, отдергивает руку. Но поздно: кожаная обтяжка насквозь проколота шилом. Когда прошиваешь обтяжку байдары, нужно, чтобы на душе был полнейший штиль!
Мэмыль легко вскакивает на ноги и подбегает к Кэнири. Несколько секунд они оба стоят, склонившись над байдарой, ощупывают прокол пальцами и сокрушенно покачивают головами.
— Дырка, — вздыхает Кэнири.
— Худо, — сочувственно отзывается Мэмыль.
Кэнири очень огорчен. Пропал целый трудодень. Кожу придется, пожалуй, перетягивать повыше, чтобы проколотое место перешло с наружной части обтяжки внутрь. Для этого нужно распарывать всё то, что уже прошито.
Да и не только в этом дело. Ещё досаднее, что сорвался на такой работе, на которой наверняка мог бы хорошо себя проявить. В положении Кэнири это теперь совсем некстати. Теперь Кымын, наверно, пожалеет, что назначил его на перетяжку байдары. Вот что значит невезение!
И надо же, чтобы это произошло в присутствии Мэмыля! Только что расхвастался перед ним, говорил о том, что назначен ответственным за перетяжку.
Мэмыль тоже расстроен. Ему жаль Кэнири, ему даже немного стыдно. Ведь это он отвлекал Кэнири от работы разговорами, это он разволновал человека, заставил вспомнить о всяких неприятных вещах. Уж он-то, старик, должен знать, что нельзя волновать человека, который занят такой работой! И что это за привычка вообще — останавливаться с каждым, кто попадается на пути? Давно бы надо было вернуться домой. Тем более там Тэгрынэ одна лежит: растянула ногу во время игры в волейбол.
— Постой-ка, Кэнири, — говорит Мэмыль. — Дай-ка сюда шило.
Кэнири покорно отдает инструмент. Мэмыль вынимает свой охотничий нож, выкраивает небольшую заплатку, прилаживает её так, чтобы прокол был закрыт, и начинает шить. Нелегко наложить такую заплатку: чтобы вода не просачивалась, шов должен быть частым и в то же время все стежки должны доходить только до середины наружного слоя кожи. Но уж если старый Мэмыль взялся за дело — значит, оно будет выполнено как следует. Перетягивать кожу повыше не придётся, через полчаса всё будет в полном порядке. «Хорошо, что это произошло при Мэмыле, — думает теперь Кэнири. — Во всём поселке никто, пожалуй, не смог бы лучше, чем он, помочь в такой беде».
…Как хотелось бы мне прервать на этом месте свой рассказ! Лентяй Кэнири чувствует угрызения совести; старый Мэмыль, разоблачивший лентяя, выручает его теперь из беды; чувство озлобления против Мэмыля, ещё недавно омрачавшее душу Кэнири, теперь сменяется чувством благодарности… Всё это, казалось бы, вполне подходит для конца рассказа.
Но нет, я не поддамся этому соблазну. Я обещал ни в чём не изменять правде. А если придерживаться правды, то история о том, как столкнулись на пути к новой жизни Кэнири и Мэмыль, — история, начавшаяся во время постройки ледника, — вовсе не закончилась во время перетяжки байдар. Напротив, в тот же вечер, всего лишь через несколько часов после того, как Мэмыль помогал Кэнири обтягивать байдару, произошло событие, придавшее совершенно неожиданный оборот всей этой истории.
* * *
Это произошло в клубе, в той комнате, которая именуется библиотекой. Обязанности библиотекаря выполняет в нашем поселке Аймына — это ее комсомольское поручение. Три вечера в неделю она проводит здесь по два часа — выдает книги и журналы, беседует с читателями. Последнее обстоятельство привлекло сюда многих молодых охотников даже из числа тех, которые никогда прежде не отличались пристрастием к чтению. После того как имя одного из них — бригадира Унпэнэра — стало занимать определенное место не только в списке читателей, но и в сердце библиотекаря, положение нисколько не изменилось. Уж если полюбил книги, то было бы глупо отказываться от чтения только потому, что славной девушке понравился не ты, а твой приятель.
Аймына сидит за столом, на котором разложены журналы и газеты. С ней рядом сидит колхозный счетовод Рочгына. Он принес книгу «Лик пустыни» и просит «что-нибудь в этом же роде».
За ним уже целая очередь читателей: школьник Йорэлё с книжкой Гайдара; старый Мэмыль с какой-то запиской; Кэнири с «Вечерами на хуторе близ Диканьки»; механик Кэлевги с «Молодой гвардией».
Трое русских — сотрудники полярной станции — заняли очередь за Кэлевги. Один из них отошел пока что почитать стенгазету, а двое сели поиграть в шашки. За другим столиком четверо молодых охотников «забивают козла» — играют в домино. Выставляя костяшку, каждый из них старается так громко ударить ею о стол, что можно подумать, будто выигрыш зависит от силы удара. Такими ударами можно, кажется, «забить» не только козла, но и моржа.
Счетовод Рочгына получает книгу «Солнечный камень». Школьник Йорэлё берет «Детство» Горького. Теперь рядом с Аймыной садится старый Мэмыль.
Он протягивает записку и говорит:
— Тэгрынэ прислала. Заболела она, ходить не может.
«Дорогая Аймына, — сказано в записке, — я лежу, растянула связки на ноге. Играла вчера в волейбол у полярников и прыгнула так неудачно. Алексей Вадимыч говорит, что нужно пролежать не меньше недели. Хочу использовать это время для чтения. Диккенс у тебя есть? Мне надо прочесть «Оливера Твиста», «Пикквикский клуб» и «Давида Копперфильда». Выдай, пожалуйста, отцу, что у тебя найдется».
— Сейчас, — говорит Аймына, — сейчас найдем, дядя Мэмыль.
Она становится на табуретку и достает книгу с верхней полки шкафа.
— Вот «Давид Копперфильд», первый том. Второй сейчас на руках, скоро должны вернуть. «Оливера Твиста» я ей в школьной библиотеке достану, там есть. А вот насчет… — Она смотрит в записку и продолжает: — Насчет «Пикквикского клуба» я не знаю. Спрошу у полярников. Или на заставе. Словом, я завтра забегу к Тэгрынэ, сама ей всё объясню.
— Так оно лучше будет, — говорит Мэмыль. — Мне даже не запомнить всех этих названий. Лучше ты сама объясни.
У Аймыны нет читательских карточек, какие имеются в больших библиотеках. У неё их заменяет толстая алфавитная тетрадь. Аймына уже записала в эту тетрадь: «Диккенс. «Д. Копперфильд». Том 1-й».
— Распишитесь вот здесь, дядя Мэмыль.
— Можно.
Мэмыль достает из кармана кисет, из кисета — спички. Нагнувшись и зажмурив глаза, сдувает со спичечной коробки табачную крошку и пыль. Потом кладет коробку на стол и начинает срисовывать с неё своё имя.
Он делает это очень медленно, осторожно. Старается, чтобы перо не рвало бумагу, не разбрызгивало чернил, чтобы в тетрадке подпись получилась точно такая же, как на спичечной коробке.
Одна жердь… Вторая жердь… Когда-то, должно быть, они были соединены наверху перекладиной, но теперь эта перекладина сломана посередке и прогнулась почти до земли… Так срисовывает старый Мэмыль первую букву своего имени. На это уходит столько времени, что ему приходится дважды макать перо в чернильницу.
Переведя дыхание, он готов продолжать. Но дальше подпись, сделанную на спичечной коробке, совсем трудно разобрать. Особенно вторую букву. Табачная крошка стерла её почти вчистую. «Сегодня же, — думает старик, — попрошу Тэгрынэ написать моё имя на новом коробке. Этот уже не годится».
Да, непромокаемый кисет, сшитый из нерпичьей кожи, — это, конечно, незаменимая вещь в охотничьей жизни. Это прекрасное, надежное хранилище для спичек, сохраняющее их сухими во всякую погоду, во всяких морских передрягах. Но для образца подписи такое хранилище, прямо надо сказать, не очень подходит.
— Давай я за тебя распишусь, — предлагает Кэнири, которому надоело ждать. — Задерживаешь людей. Смотри, какой хвост вырос.
— Ничего, я сам. Один момент.
— Ты пока что подбери себе книгу, Кэнири, — говорит Аймына. Она не хочет, чтобы Кэнири торопил старика, стоял у него над душой. — Эта тебе понравилась?
— Очень понравилась. Мне бы еще какую-нибудь вроде этих «Вечеров».
— «Миргород» читал? Сейчас я тебе достану «Миргород». Это тоже Гоголь написал.
— Вот, — говорит в это время Мэмыль, поставив точку и облегченно вздохнув.
Подпись, наконец, срисована. Она не уместилась в узенькую графу, которую указала Аймына, она заняла в тетрадке место, отведенное по меньшей мере для трех записей. Но не в этом беда. Хуже то, что в подписи допущена ошибка. И притом весьма существенная.
Как случилось, что вместо одной буквы появилась совсем другая, и к тому же на таком месте, где ей совсем не следовало появляться?! Может быть, и на самой коробочке было написано неправильно. Ведь за то время, что Тэгрынэ была в Хабаровске, старик не раз перерисовывал свою подпись с одной коробочки на другую, может, когда-нибудь и неточно перерисовал. А может быть, он заторопился, увидев, что задерживает людей, и взглянул не на ту букву, с которой ему нужно было в этот момент срисовывать.
Первым замечает ошибку стоящий рядом Кэнири Что стоило бы ему промолчать? Хотя бы из благодарности за заплатку, которую старик так искусно наложил на проколотую обтяжку байдары. Кэнири мог бы в крайнем случае отвести Мэмыля в сторону и с глазу на глаз сказать об ошибке, объяснить, какая конфузная получилась подпись.
Но, видимо, чувство мести имеет большую власть над Кэнири, чем чувство благодарности. Ведь здесь, в этой самой комнате, ещё висит тот номер стенгазеты… Тот, в котором Мэмыль так беспощадно расправился с Кэнири, осрамил его на весь колхоз. Как же не воспользоваться случаем, раз уж Мэмыль сам подставляет себя под удар?
Впрочем, возможно, что ничего этого и в мыслях не было у Кэнири. Кто его знает! Возможно, что, увидев, как подписался Мэмыль, он просто не удержался от смеха, как не удержались бы, наверно, многие на его месте. Он прыснул, схватив одной рукой тетрадь, а другой рукой стал тыкать в слово, написанное Мэмылем, пытаясь что-то сказать и захлебываясь от неудержимого хохота.
Вместе с ним начал хохотать Кэлевги. Даже охотники, игравшие в домино, прервали игру, чтобы узнать, что произошло. И каждый заглянувший в тетрадь присоединялся к общему веселью.
Дело в том, что в тетради вместо слова «Мэмыль» стояло старательно выведенное крупными буквами слово… «Мымыль»![1]Здесь непереводимая игра слов: по-чукотски «Мэмыль» — «тюлень», промысловый зверь, достойный, с точки зрения охотника, всяческого уважения, а «Мымыль» — это вошь (Прим перев).
Можно как угодно обозвать человека, и ничего в этом не будет смешного. Но если человек сам подписывается таким нелестным словом, да ещё в полной уверенности, что подписывает своё настоящее имя, — трудно, конечно, сохранить при этом серьезность.
Звонко, заливисто смеется Аймына. Покатываются со смеху молодые охотники. Йорэлё, обрадованный всеобщим весельем, старается произвести как можно больше шума: бегает по комнате, изо всех сил топая ногами, хлопает в ладоши и кричит: «Мымыль! Мы-мыль! Мымыль!»
— Тише, Йорэлё! Тише, нельзя же так! — кричит ему Аймына и, замахав руками, снова заливается звонким смехом.
— Ой, насмешил! Ой, насмешил! — стонет в изнеможении Кэнири. — Мымыль! Вот что значит одна буква! Самого лучшего зверя она может превратить в самое паршивое насекомое!.. Ох! Ох!.. Ой, перестаньте, я больше не могу!
— Вы не сердитесь, дядя Мэмыль! — говорит сквозь смех Аймына. — Вы на нас не обижайтесь! Но это… это… Ох!.. Вы понимаете?
— Понимаю, насмешница, понимаю, — улыбается Мэмыль. — Чего мне на вас обижаться? Сам виноват. Тут уж ничего не поделаешь, если рассмешил.
Он видит, что полярники с удивлением поглядывают на всех, и сам объясняет им по-русски свою ошибку, сам посмеивается вместе с ними над своей бедой. «Плохо, — говорит он, — когда грамоты не знаешь. Очень плохо. Скоро, наверно, даже медведь будет у охотника спрашивать: «Ты грамотный? Да? Тогда, — скажет, — стреляй». А неграмотный — домой будет отсылать».
Тетрадь Аймыны переходит пока что из рук в руки. Смех то утихает, к огорчению разыгравшегося Йорэлё, то разражается с новой силой — такой веселый, простодушный, незлобивый смех, что в положении Мэмыля только совсем уж глупый человек счел бы нужным рассердиться. А Мэмыль — умный, очень умный старик.
* * *
Однажды в поезде Москва — Хабаровск моими соседями по вагону оказалась чета бельгийских туристов. Они очень интересовались жизнью народов Крайнего Севера, хотя никогда не решались проникнуть на север дальше Ленинграда. Они спрашивали, в частности, как проявляется веселье у народов, живущих за Полярным кругом. По их глубокому убеждению, «родиной смеха является Средиземное море», а «характер северян отражает суровый характер северной природы».
Эти вежливые иностранцы всячески старались не обидеть меня, но видно было, что темперамент чукчей представляется им весьма схожим с темпераментом дрейфующих льдин или в лучшем случае моржей.
— О да! — восклицала туристка. — Я понимаю, что и за Полярным кругом можно увидеть улыбку. Но она должна отличаться от улыбки южанина, как мхи тундры отличаются от буйной флоры тропиков, как строгие, холодные краски севера отличаются от ярких, даже слишком, может быть, ярких красок южной палитры.
А супруг этой дамы, с трудом поверивший мне, что в чукотском языке есть слово «улыбка», никак не мог поверить, что имеется также и слово «смех». Раза три он настойчиво осведомлялся, не заимствовано ли оно из языка наших южных соседей.
Мне жаль, что этой любознательной четы не было в нашем колхозном клубе в тот вечер, когда старый Мэмыль так неудачно расписался в библиотечной тетради. Наверно, они всё-таки изменили бы свое мнение, услышав, как хохотали тогда молодые чукотские охотники.
Думается мне, что смех можно чаще всего услышать не среди тех народов, над которыми жарче светит солнце, а среди тех, у кого светлее, солнечнее на сердце.
* * *
В тот вечер, вернувшись домой, Мэмыль застал там Инрына, пришедшего навестить Тэтрынэ. Старик передал дочери книгу и рассказал обо всём, что произошло с ним в клубе. Затем он зашел к Гэмауге. Поговорил с ним о многих вещах, в том числе и об этом происшествии рассказал. Оба раза он говорил об этом между прочим, в шутливой форме, как о курьезном эпизоде, которому сам не придавал никакого значения.
Было бы, однако, неверно думать, будто Мэмыль не чувствовал обиды. Он действительно не сердился на тех, кто смеялся над его ошибкой. Но чувство обиды он все-таки испытывал.
Ему хотелось разобраться в этом чувстве как следует, спокойно продумать: что же, собственно, произошло? Но, вернувшись от Гэмауге, он сразу лег и постарался поскорее уснуть. И на следующий день, работая, тоже все время гнал от себя эти мысли. Дело в том, что у Мэмыля было излюбленное место, куда он всегда уходил, когда хотел спокойно, неторопливо поразмыслить над чем-нибудь.
Этим местом была вершина сопки — той самой, с которой он наблюдал за лежбищем. Туда он и направился после работы.
Хорошо на этой сопке! Мэмыль садится на землю, нагретую июльским солнцем. Далеко отсюда видно — и горы видны, и море, и тундра, и коса, на которой стоит родной поселок, и лагуна, отделенная этой косой от моря. Лет шестьдесят, наверно, прошло уже с тех пор, как Мэмыль ещё мальчишкой впервые взобрался на вершину сопки. И до сих пор никогда не надоедает ему любоваться отсюда родными местами.
На север посмотришь — Чукотское море плещет перед тобой. Направо, на восток, повернешься — далекие горы темно-синими отрогами спускаются к самому берегу. Позади далеко на юг расстилается тундра, за нею — опять горы. Самая большая из них называется Рэунэй — Кит-гора. Если дать волю фантазии можно представить себе, будто это действительно кит, попавший в тундру, окаменевший и лежащий здесь с незапамятных времен.
А если посмотреть на запад — весь поселок будет виден внизу. Как на ладони!
Кстати, пора и мне немного подробнее познакомить читателя с нашим поселком. Многие, конечно, и без меня слыхали о колхозе «Утро». Тем более им будет интересно узнать, как выглядит этот знаменитый колхоз.
Было б лучше всего, если бы читатель запряг собак или оленей, приехал к нам в гости, побывал в клубе, в домах и ярангах колхозников, познакомился со знатными охотниками: Унпэнэром, Ринтувги и Кымыном, — послушал рассказы старого Мэмыля и песни Атыка, поглядел на художественные изделия костореза Гэмауге и на узоры вышивальщицы Руль-тынэ… Летом можно приехать на байдаре.
Но я понимаю, что приехать, конечно, нелегко: у каждого свои дела. И кроме того…
Кроме того, что, если мои рассказы переведут на русский язык? Будем говорить откровенно: какой из советских писателей — пишет ли он по-украински, по-грузински, по-эстонски или на другом языке, — какой из писателей всего необъятного нашего Союза не мечтает в глубине души о том, чтобы его книга была переведена на великий язык России? Каждому — каким бы скромным он ни был — хочется, раз уж взялся он за перо, чтобы книгу его прочли и в Мурманске, и в Севастополе, и в Ленинграде, и во Владивостоке, и в Сталинграде, и в столице нашей Родины — в славной Москве. Не скрою, что и я лелею такую гордую мечту. Я пишу для тебя, моя родная Чукотка, но если голос мой не окажется слишком слабым, я расскажу о тебе большому читателю всей советской земли…
Прости, мой дорогой читатель, что я так размечтался. Я только хотел сказать, что если какой-нибудь, к примеру, кубанский казак прочтет мои рассказы о чукотских охотниках и захочет повидать колхоз «Утро», ему уж совсем трудно осуществить это желание. Тут уж ни на оленях, ни на байдаре, ни на кубанском скакуне не добраться. Самолетом и то за неделю не обернешься.
Лучше поднимемся мысленно на сопку, сядем рядом со старым Мэмылем и посмотрим отсюда на наш поселок.
Почти у самой сопки начинается песчаная коса. Вначале она идёт на север, но скоро загибает влево, к западу, и дальше идёт вдоль побережья, отделенная от него лишь неширокой лагуной.
Всё селение — одна улица, километра на полтора растянувшаяся по косе. На левой стороне — той, что ближе к лагуне, — больше новых бревенчатых домов: тут и правление колхоза, тут и магазин, и клуб, и школа — самое большое здание поселка. Рядом со школой два учительских домика. На правой стороне сохранилось много яранг, но и там уже с десяток домов наберется: с каждым годом всё большее число охотников решается расстаться с дедовскими ярангами.
На краю поселка — колхозная электростанция, рядом с ней — металлическая мачта ветродвигателя. Дальше коса начинает заметно сужаться. На берегу стоят байдары, кое-где развешаны для просушки сети. На самом конце косы, на большом расстоянии от поселка, виднеются постройки полярной станции.
Людей не видно: колхозники вернулись с работы и, наверно, обедают сейчас. Но для Мэмыля вся эта картина наполнена жизнью, каждая мелочь о многом говорит ему.
Не так, совсем не так выглядел поселок в прежние времена. Три десятка жалких яранг, лавка американского скупщика — вот и всё, что здесь было. На берегу было мало байдар, и ни одна из них не имела мотора.
Тянулись годы, а вид поселка почти не менялся. Однажды судьба оторвала Мэмыля от родных берегов — семь лет мытарился он в Канаде и на Аляске. Когда удалось, наконец, возвратиться — всё выглядело по-прежнему, будто и года не миновало. Только людей стало меньше: редкий год проходил тогда без губительной эпидемии.
А теперь всё больше и больше становится население поселка, и давно уже не похож он на стойбище прежних времен. Вот уж сколько домов появилось! Одни из них, выстроенные несколько лет назад, успели потемнеть полусырыми морскими ветрами. Школа — её построили прежде всего — выглядит так, будто давным-давно стоит здесь. А другие белеют свежими срубами — вон как весело выглядят новенькие дома Гэмалькота, Кымына, Кэнири! Кэнири, конечно, порядочный лодырь, но в окрисполкоме с этим не посчитались и, когда жена его родила вторую двойню, прислали один сруб сверх плана, специально для семьи Кэнири.
Какими невзрачными, маленькими кажутся яранги в сравнении с домами! Вон у Атыка такая яранга, какая в старину могла быть только у богача, у обладателя тысячного стада. Но рядом с бревенчатым домом Гэмалькота она выглядит как тот безыменный холм рядом с горой Рэунэй.
Да и сами яранги меняют свой облик. В одних вставлены окошки, другие покрыты не моржовыми шкурами, а толем. А такого жилища, как у Гэмауге, нигде, наверно, не видно: яранга, покрытая оцинкованным гофрированным железом!
Мэмыль вспоминает, как возникла эта необыкновенная постройка. Кровопийца-скупщик, когда увидел, что время его хозяйничанья кончилось, решил удрать в Америку, а перед отъездом поджег свою лавку. Пожар перекинулся на стоящую рядом ярангу костореза Гэмауге, служившего тогда у скупщика. Лавка сгорела только наполовину, многое удалось отстоять, железная крыша совсем не пострадала. А от жилища Гэмауге в несколько минут остались лишь обгорелые куски моржовых шкур. Вот охотники и постановили тогда, чтобы Гэмауге взял себе железную крышу для постройки новой яранги.
А на месте лавки скупщика построен теперь магазин. Там отпускает всякие товары румяная Кэргына. На ней белый халат — можно подумать, будто уже наступила зима и Кэргына собирается в тундру на охоту… Говорят, что Кэнири чуть не полдня проторчал сегодня в магазине и всем, кто туда заходил, рассказывал о вчерашней ошибке Мэмыля.
Незаметно для самого себя старике возвращается к мыслям об этом происшествии. И сразу всё становится на свои места, все проясняется. Удивительное свойство у этой сопки!
Мэмыль вынимает из кисета злополучную коробку, вытряхивает оставшиеся спички; нашарив возле себя камушек, кладет его для тяжести в коробку и, заговорщицки подмигнув кому-то, бросает ее вниз. Потом слушает, улыбаясь, как скатывается она по крутому склону сопки.
Начало смеркаться, и в поселке в двух-трех домах зажглось электричество. «Этот свет, — думает Мэмыль, — привезли нам русские. И ветродвигатель, и моторы для байдар, и дома — всё это дали нам русские люди. Много, много сделали они для Чукотки. Прогнали грабителей-скупщиков, научили жить без байдарных хозяев, без кулаков, помогли наладить колхозную жизнь… И ещё один свет принесли они нам — свет грамоты. Мудрые книги подарили они нам. Не было грамоты на Чукотке, тысячи лег в темноте жили. Никогда бы не вырваться из этой темноты маленькому чукотскому народу. Но Ленин послал к нам ученых людей и сказал им: «Откройте чукчам дорогу к свету. Составьте для чукчей грамоту. Такую, чтобы они могли писать и читать на своем родном языке. Другой дороги к свету нет». Так и сделали ученые русские люди. Изучили наш язык, составили для нас грамоту. По всей Чукотке построили они школы для наших детей. Они учат в Хабаровске Тэгрынэ и её подруг…»
Уже по всему поселку зажглось электричество. На сопке становится прохладно. Но Мэмылю не хочется уходить, не хочется прерывать течение своих мыслей. «Большой свет грамоты пришел на Чукотку, — думает он. — И чукчи открыли глаза. Только один человек остался с закрытыми глазами… Смешно! Кругом уже давно светло, а он всё ещё ходит, закрыв глаза. Тысячи лет они были закрыты, и вот он никак не может поднять свои тяжелые веки. Кто же этот странный человек? Это один глупый старик из колхоза «Утро». Как же его зовут? Его зовут старый Мэмыль».
* * *
Кэнири расстроен. Опять у него неприятности в бригаде. Тогда, после карикатуры в стенгазете, его «прорабатывали» на двух собраниях — на бригадном и на общем, вынесли ему общественное порицание. В следующем номере стенгазеты бригадир Кымын сообщил, что «факты, изложенные в заметке «Позор симулянту», полностью подтвердились» и что «охотник Кэнири обещал товарищам навсегда прекратить свое симулянтство и не позорить почетное звание колхозника».
С тех пор прошло три месяца. И даже дважды за это время пришлось Кэнири снова выслушивать упреки товарищей. Один раз его ругали за то, что он сплоховал во время выезда на лежбище моржей, — из-за него будто бы несколько зверей успело ускользнуть от охотников. А теперь вот совсем неожиданная неприятность: в бригаде Кымына перерасход патронов. По экономии горючего вышли на первое место, моторист Инрын даже премию получил. А по экономии охотничьих припасов оказались в хвосте. И всё будто бы потому, что Кэнири не научился ценить колхозное добро, расходует для личных надобностей патроны, полученные в бригаде.
Действительно, он несколько раз выходил в тундру с ружьем, не думая о том, что не мешало бы предварительно приобрести для себя патроны. Ему это и в голову не приходило: разве патроны не одинаковы, разве на них написано, колхозные они или собственные? При прежнем завхозе никто бы этого даже и не заметил. Это уж Гэмалькот завел такие порядки, что надо расписываться в получении патронов, надо сдавать стреляные гильзы…
За что его, собственно, ругают? Много он себе зайцев настрелял, что ли? Больше по тундровым мышам бил — просто для тренировки. Без тренировки никогда не будешь хорошим стрелком. Охотники должны бы, кажется, понимать такие вещи. Но его всё-таки ругают, и очень крепко. Кымын даже заявляет, что поставит вопрос об исключении Кэнири из бригады. Пусть правление переводит Кэнири в другую бригаду. Кымыну надоело возиться с ним.
К тому же придется возвращать стоимость недостающих патронов — это, пожалуй, ещё неприятнее, чем ругань Кымына. Хотя как сказать! Ведь будут ещё и на бригаде разбирать; там тоже не станут церемониться. Насчет исключения — это Кымын, наверно, зря пригрозил. Но и без этого придется послушать много неприятного.
Особенно обидно, что каждый раз вспоминают историю с проклятыми валунами. После выезда на лежбище, после того как Кэнири уступил дорогу моржу, дал этому зверю со страшными бивнями прыгнуть в воду, вспоминали почему-то историю с постройкой ледника. Ну, ругали бы за малодушие, за нерешительность, но при чем тут та история? А охотник Онна говорил: «Слишком ты за себя трясешься, Кэнири, слишком себя бережешь, жалеешь. Тогда силы свои жалел. Теперь зверя испугался, отбежал. Тогда не хотел ледник для мяса строить. Теперь не хотел мясо для ледника добывать. Одного зверя упустил — за ним ещё два в море ушли. И больше ушло бы, если бы Кымын не перехватил. Почему Кымын не побоялся? Ты, Кэнири, сам немножко меньше себя береги, тогда другие тебя больше беречь будут».
А в этой истории с патронами, — зачем нужно было и тут приплетать старые дела, которые давно уже, казалось бы, можно забыть? Но Кымын заявляет: «Не хитри, Кэнири, не надо хитрить. За тренировку тебя никто не ругает. Купи себе патроны и тренируйся сколько угодно. А общественное добро переводить мы тебе не позволим. Ты это хорошо понимаешь, только прикидываешься, что не понимаешь. Опять хочешь с двумя головами жить: одно лицо для себя, другое — для людей. А люди твое настоящее лицо видят, никого ты не обманешь. Правильно тебя Мэмыль нарисовал!»
Так опять и опять все возвращаются к этому рисунку Мэмыля.
Кэнири кажется, что именно от Мэмыля идут все его беды. А вот когда с Мэмылем что-нибудь случается, так этого никто не хочет замечать. Взять хотя бы ту историю с подписью — о ней почему-то никто теперь и не вспоминает. Кэнири считает, что это очень несправедливо.
Он рассчитывал тогда, что Йорэлё расскажет о том, как оконфузился Мэмыль, школьникам; полярники — у себя на станции; Аймына — своему свекру Гэмалькоту, а тот — в правлении колхоза. «Весь поселок будет смеяться над Мэмылем!» — предвкушал Кэнири.
Но этого не случилось. Не то, чтобы происшествие осталось неизвестным, — нет, почти все о нём знали. Не то, чтобы людям не было смешно, — нет, они смеялись. Но смеялись над самим происшествием, а не над Мэмылем. Кэнири чувствовал эту существенную разницу и был поэтому разочарован.
Воображение рисовало перед Кэнири такие картины: Мэмыль идет по улице поселка, а мальчишки бегут за ним следом и дразнят его «Мымылем»; кличка эта так укрепляется за стариком, что в поселке его уже иначе и не называют… Но так же как не прилепилась к Мэмылю кличка «Кривой палец», так теперь никто не стал называть его «Мымылем». Кэнири не понимал, что прозвище — даже такое, которое очень похоже на имя, никогда не прилепится к человеку, ежели оно ему не впору.
Несколько раз, беседуя с кем-нибудь, Кэнири называл Мэмыля Мымылем. И всегда собеседник переспрашивал: «Как ты сказал? Какой Мымыль?»
— Разве ты не знаешь?! — восклицал Кэнири и с готовностью начинал рассказывать о том, как Мэмыль расписывался в библиотеке. Но почти всегда собеседник прерывал его с первых же слов:
— А, ты про это! Знаю, знаю.
Словом, Кэнири не встречал никакой поддержки. Можно было подумать, что старый Мэмыль их всех околдовал.
* * *
Только один раз за все лето судьба улыбнулась бедняге Кэнири. Она пришла под видом председателя Вамче и постучала в окошко. Сначала она постучала легонько — Кэнири не обратил внимания. Тогда судьба постучала погромче.
Теперь Кэнири, лежавший под самым окном на меховом одеяле и читавший «Миргород», обратил внимание на стук. Но открывать он всё-таки не пошел. Во-первых, ему не хотелось вставать; уже темнело, читать становилось всё труднее, надо было бы включить свет — и то Кэнири предпочитал не подниматься. Во-вторых, ему было интересно узнать, чем закончатся старания миргородцев помирить Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем. А в-третьих, он никого не ждал, во всяком случае — никого, чьё посещение было бы для него приятным. У Тэюнэ свой ключ, она стучать не стала бы. Скорее всего, это бригадир Кымын. Наверно, ругаться пришел. «Почему, — спросит, — опять на работе не был?» Лучше не открывать, пусть думает, что никого дома нет.
Поэтому Кэнири только придвинулся поближе к стене, чтобы его нельзя было увидеть с улицы, и попытался продолжать чтение. Тогда судьба постучала в третий раз — ещё громче и настойчивее.
Кэнири чуточку приподнял голову и с удивлением обнаружил, что к нему пришел не бригадир, а сам председатель. Удивление подняло Кэнири на ноги, любопытство повело к дверям, а польщенное самолюбие помогло широко открыть их. Нет, он не сомневался в том, что Вамче будет ругать его, и всё же он был польщен таким посещением: одно дело, когда ругают в бригаде, в правлении или даже на общем собрании, но совсем другое дело, когда сам председатель приходит для этого к тебе домой
— Здравствуй, — сказал Вамче. — Ну и духота у тебя! Ты бы хоть окно открыл.
— Знобит меня что-то, — на всякий случай соврал Кэнири. — А на дворе прохладно уже. Кончается лето.
— Тэюнэ на работе?
— На работе ещё, — ответил Кэнири и решил, что сейчас Вамче поставит ему в пример Тэюнэ, скажет, что стыдно охотнику прятаться за спиной жены, жить её трудоднями…
Но Вамче только спросил:
— А дети где? В яслях?
— В яслях, — ответил Кэнири и уже почти услышал голос Вамче: «Ну так вот, Кэнири, последний раз они в яслях. Сегодня же скажу Вээн, чтобы не принимала она твоих детей. Колхозные ясли для тех детей, у которых родители в колхозе работают. А если ты в бригаду не ходишь, дома сидишь, так можешь сам своих детей нянчить».
Но председатель не сказал всего этого. Он опустился на шкуру и взял в руки раскрытую книгу.
«Надо было убрать», — подумал Кэнири, хотя Вамче с улыбкой разглядывал одну из иллюстраций.
— Я зашел поговорить насчет твоей яранги, — сказал Вамче, откладывая книгу.
— Насчет яранги?
— Да.
— Насчет какой яранги?
Кэнири думал, что председатель просто ошибся, оговорился: хотел сказать «насчет дома», а по привычке сказал «насчет яранги». Но тот спокойно ответил:
— Одна она у тебя. Или, может быть, не одна?
— Одна.
— Вот про неё и разговор. Будешь ты её разбирать?
— А кому она там помешала?
Только теперь Кэнири вспомнил о своей яранге. Он не только не заходил в неё ни разу, но даже и не вспоминал с того дня, как переселился в дом.
— Да я вовсе не к тому, — сказал Вамче. — Никому она не мешает. Просто остальные хозяева — все, которые в дома переселились, — разобрали свои яранги. Вот я и спрашиваю — какие у тебя планы?
У Кэнири никаких планов не было. Ни относительно яранги, ни относительно чего-либо другого. Он задумался. Не о том, что делать со старой ярангой, а о том, как лучше ответить председателю. Но для того чтобы придумать хороший ответ, нужно было прежде всего понять, чего, собственно, хочет председатель, что у него на уме. Догадаться об этом Кэнири не смог, а потому спросил:
— Думаешь, мне делать нечего? Некогда мне со всяким старьем разбираться. Там, наверно, половина шкур никуда не годится — насквозь прогнили.
На этот раз Вамче едва удержался — очень уж хотелось ему отругать как следует разгильдяя и за гнилые шкуры и за нахальство. Уж кто-кто, а Кэнири лучше бы не ссылался на свою занятость! Выходит, что бригадир Кымын, и Гэмалькот, и Кэлевги, давно уже разобравшие свои яранги, бездельники по сравнению с Кэнири? Вот бесстыдная личность!.. Но Вамче вовремя вспомнил, что пришел с твердым решением не ругаться.
— Ты меня неправильно понял, Кэнири. Я не уговариваю тебя разбирать ярангу, совсем нет. Наоборот, если ты не собираешься использовать её, так она для колхозных нужд пригодится. Насчет этого я и пришел к тебе.
— Для каких же это нужд?
— Задумали мы собачник организовать. Сам знаешь, на плохих собаках далеко не уедешь. Собакам забота нужна, не во всякую погоду будешь их оставлять на дворе. Если сильный мороз или пурга большая, хороший хозяин пустит своих собак в сенки. Так? А где колхозные упряжки держать? Пусть мерзнут? Особенно с молодняком плохо, со щенками. Весенний-то приплод уже сильный, перезимует, а осенний не успеет до морозов силу набрать. Обязательно нужен собачник! Правильно?
— Правильно, — сказал Кэнири, обрадованный таким оборотом дела. Хорошо уж и то, что председатель ни в чём не упрекает. И не только не упрекает, но даже вроде бы советуется — как с настоящим охотником, человеком хозяйственным, рассудительным. К тому же вырисовывается возможность избавиться от ненужного старья — избавиться без всяких хлопот, а возможно, что и с некоторой выгодой…
— Вот мы и подумали, — продолжал Вамче, — может быть, Кэнири уступит свою старую ярангу? Такой, значит, у меня к тебе вопрос от имени правления колхоза. Всё равно стоит она у тебя пустая, заброшенная. А если ты, может, собираешься жерди на топливо пустить, на дрова, так правление отпустит тебе соответственное количество сухого плавника. Согласен?
— Конечно, согласен! Я, Вамче, для колхоза ничего не пожалею. Собачник — это вы правильно придумали, очень правильно. А что касается шкур…
— Шкуры мы сменим, которые не годятся.
— Да там и менять почти не придется!.. Ну, может быть, три или четыре шкуры — не больше. Остальные должны быть в полном порядке, я за ними следил, менял, когда надо было. Я ведь не знал, что так быстро дом получу, думал, что в яранге ещё зимовать придется…
— Ну, значит, договорились.
— Договорились, Вамче, договорились. Со мной всегда можно договориться. Особенно если речь идет об общественном деле. Я знаю, бригадир тебе наговаривает на меня…
— Кымын — человек справедливый, он ни на кого наговаривать не станет.
— Вообще-то он, может, справедливый, а про меня наговаривает, я знаю. И он и Мэмыль. Ты им, конечно, веришь. Как же ты можешь не верить? Они люди авторитетные, помощники твои. А я рядовой охотник.
— Для меня, Кэнири, все колхозники равны. Хоть ты, хоть Мэмыль.
— Равны, да не совсем.
— Нет, совсем. Конечно, передовикам — особый почет, а лодырям один позор остается. Но в этом вопросе я не по разговорам сужу, а по фактам. По фактическим делам. И если человек вчера отставал, а сегодня вперед вышел — сегодня же почет ему и уважение. Так?
— Так. У тебя это так, Вамче. А у других не так. Ну, скажи сам: хорошо это, что меня до сих пор за ту историю ругают? Ну, ты знаешь, за какую. Это когда ледник строили. Ошибся я тогда, неправильно поступил. Я сам признаю, что неправильно. А Кымын до сих пор не может этого забыть. Сколько б я теперь ни старался — он всё равно придираться ко мне будет. Разве при таком отношении будет желание работать? Откуда оно возьмется при таком отношении?
Вамче хотел сказать, что особого желания работать никогда за Кэнири не замечал, но не сказал, сдержался. А Кэнири продолжал:
— Зато Мэмылю, например, всё с рук сходит. Хорошо он сделает или плохо, всё равно скажут, что хорошо. Ему какую угодно ошибку простят. А почему мне до сих пор не прощают? Справедливо это, скажи?
— Что же ты сравниваешь? Во-первых, ошибка ошибке рознь. Во-вторых, Мэмыль напрямки выступил, в стенгазете, а ты всякими разговорами занимаешься, стараешься настроить охотников против старика.
— Я не стараюсь настроить, я правду говорю. Разве я кому-нибудь неправду про него говорил? Только никто меня слушать не хочет.
Верный своему решению завершить переговоры о старой яранге самым дружественным образом, Вамче примирительно произнес:
— Видишь ли, Кэнири, у каждого есть свои недостатки. Есть они и у Мэмыля и Кымына. Наверно, имеются они и у нас с тобой. Ты вот жалуешься, что не слушают тебя охотники. Конечно, от разговора каждый может отмахнуться. Как говорится, в одно ухо вошло — в другое вышло. А если бы ты с деловой критикой выступил — хоть против Мэмыля, хоть против меня или ещё кого, — тут тебя все поддержали бы. Так?
В это время вернулась домой Тэюнэ, заходившая за ребятами в ясли. Вамче похвалил малышей, спросил и хозяйку насчет старой яранги. Тэюнэ сразу же согласилась: сухой плавник — это дело реальное, а жерди… Когда ещё допросишься у Кэнири, чтобы он разобрал их, принес. Быстрее самой сделать, но у самой и работа и дети.
Вамче позволил старшим мальчикам потрогать орден, привинченный к отвороту его пиджака, поинтересовался, не режутся ли ещё зубы у младших мальчиков; сказал Тэюнэ, что теперь в помещении пошивочной бригады посветлее будет: Кэлевги получил указание провести туда ещё три «точки»; спросил у Кэнири, верно ли, что есть такие шахматисты, которые могут на память играть, с завязанными глазами… И даже не высказал никакого недоверия, когда Кэнири заявил, что и сам смог бы так играть, если бы как следует потренироваться.
После этого несколько дней Кэнири чувствовал себя настоящим героем. Он тщательно убрал весь мусор из своей старой яранги — гораздо тщательнее, чем делал это, когда жил в ней. Когда он убирал возле входа, мимо проходил Кымын. Они кивнули друг другу, причем Кымын ни слова не сказал по поводу того, что Кэнири опять не явился на работу. Не сказал просто потому, что ему надоели эти разговоры, он считал их совершенно бесполезными и уже не смотрел на Кэнири как на члена своей бригады. А тот совсем по-другому понял молчание бригадира. Никакие угрызения совести не терзали его. Напротив, он был весьма собою доволен, был горд своим участием в подготовке собачника. Наверное, Вамче уже рассказал бригадиру про щедрый подарок, который сделал колхозу Кэнири. «Даже такой человек, как бригадир, — думал Кэнири, — понимает, должно быть, что подготовка собачника к зиме — дело более важное, чем какая-то работа в бригаде. Чем они там занимаются сейчас? Обработкой моржовых шкур, что ли? Фу! Нет ничего противнее, чем эта возня с вонючими шкурами!»
Пообедав, Кэнири пошел в правление и сообщил счетоводу Рочгыне (Вамче в правлении не было), что яранга готова. Он сообщил об этом без всякой торжественности, как о самом простом, обычном деле. Видимо, он говорил слишком уж скромно, потому что и Рочгына не придал его словам особого значения, хотя мог бы, по мнению Кэнири, не ограничиться прозаическим предложением выписать обещанный председателем плавник. Но Кэнири был так празднично настроен, что легко простил счетоводу эту маленькую бестактность, сказал, что плавником будет заниматься Тэюнэ, пошел домой и предался приятным размышлениям.
Будущий собачник колхоза «Утро» в его мечтах быстро превратился в исток большого дела, в начало перестройки всего собаководства на Чукотке. Почему, собственно, только на Чукотке? На всем Крайнем Севере! Сам Кэнири столь же быстро превратился в этих мечтах в инициатора такой перестройки. К вечеру в собачнике удалось вывести новую породу, получившую в честь колхоза название «эргыронская лайка»[2]«Эргырон» — по-чукотски «утро» (Прим. перев.).. Но почему, собственно, «эргыронская»? «Кэнирийская» звучало бы, пожалуй, ничуть не хуже!
С этими сладкими думами Кэнири уснул. А назавтра, проснувшись и едва дождавшись ухода Тэюнэ, он продолжал мечтать: ему удалось благодаря заботливому уходу, организованному в собачнике, полностью сохранить приплод. Разумеется, он получил за это хорошую премию, какую получают пастухи за сохранение молодняка в оленьем стаде. Примерно через часок выяснилось, что новая порода собак отличается исключительно густой и мягкой шерстью, так что заготовители «Союзпушнины» за каждую собачью шкуру дают дороже, чем за две лисьих. Что теперь делать Унпэнэру и Ринтувги? Они, конечно, прекрасные охотники, но, целыми неделями рыская по тундре и возвращаясь с богатейшей добычей, они никак не могут угнаться за Кэнири, заработки которого растут всё выше и выше, хотя на охоту он ходит теперь только изредка, только для собственного удовольствия.
Почти весь следующий день Кэнири посвятил мечтам о соревнованиях собачьих упряжек. Нечего и говорить о том, что упряжки, выращенные в колхозном собачнике, оказались самыми сильными, самыми быстрыми и выносливыми. Дух захватывало, когда Кэнири мчался на них, вздымая вихри снега и опережая всех соперников! И совсем по-другому — не от морозного ветра, а от радостного волнения — захватывало дух, когда под общие рукоплескания победителю вручали ценный приз. Но Кэнири, вовремя справившись с волнением, произносил, принимая приз, какие-то подходящие к такому случаю слова — торжественные и в то же время остроумные, так что их повторяли потом даже в самых дальних стойбищах побережья.
Фантазии хватило дня на три или на четыре. На работу Кэнири в это время не ходил, чтобы ничем не нарушать приятное течение своих мыслей. Но постепенно суровая действительность вытеснила эти мечтания, одолела их. Они поблекли, потеряли силу.
Отрезвление началось после разговора, который затеяла, не выдержав, терпеливая Тэюнэ. К тому же Кэнири узнал, что собачник — не такое уж новое дело: в нескольких колхозах они уже имеются. Никто по этому поводу шума не поднимал, славы себе не требовал.
Но если даже допустить на минутку, что создание собачника привело бы к тем фантастическим результатам, о которых мечтал Кэнири, — какое отношение ко всему этому имел бы он сам? Только то, что эта яранга принадлежала раньше ему? Да, только лишь это…
Всё стало на свои прежние места. А место Кэнири было одним из самых последних, хотя он был убежден, что заслуживает иного.
Может быть, самое огорчительное заключалось в том, что окончательно отрезвил его всё тот же старый Мэмыль. Именно он развеял остатки того приятного чувства, которое ещё чуточку согревало душу Кэнири. Глядя прямо в глаза, он спросил:
— Что же это ты — совсем, говорят, забыл дорогу в свою бригаду? Или думаешь, что от колхозной работы можно старой ярангой откупиться? Нет, Кэнири, не откупишься, от работы ничем откупиться нельзя!
А стоявший рядом моторист Инрын сказал:
— Ты бы, Мэмыль, ещё раз в газете его нарисовал! Тогда всё-таки помогло немного. Он всё-таки недели две тогда поработал как полагается, не отлынивал.
«Ну, хорошо, — думает Кэнири, — если люди не хотят забыть, как меня опозорил этот вредный старик, так я напомню людям, как он сам опозорился. Он меня в газете стукнул, и я его в газете стукну. Почешется тогда! Вамче правильно мне сказал — от разговора каждый может отмахнуться. А заметка в газете — это уже не разговор, от неё не отмахнешься. Две недели номер в клубе висит, все прочтут. Все до единого — у нас, слава богу, кроме Мэмыля, неграмотных нет. Да ещё и ответ придется старику держать — в следующем номере обязательно должен быть ответ, такой у них порядок. Что он сможет ответить? Был такой факт? Был, все видели. И тетрадка в библиотеке сохранилась, Аймына её в шкафу запирает вместе с книгами. В той тетрадке подпись эта самая — «Мымыль» — налицо! Вещественное доказательство! Нет, не отвертится старик, никуда не уйдет. Значит, «факты, изложенные в заметке, полностью подтвердились»! Позорные это факты? Можно в наше время цепляться за старое, срывать ликвидацию неграмотности? Нельзя! Вот, значит, и придется тогда старику признаваться в своем позоре».
И в один прекрасный день Кэнири принимается за составление заметки. Он так увлекается этим, что даже забывает на время о собственных неприятностях. И о том, что нужно работать, тоже забывает.
* * *
Кэнири не стал бы, конечно, корпеть над заметкой, если бы знал, какое решение принял Мэмыль на своей любимой сопке.
Всё свободное от колхозной работы время старик уделял теперь учению. «Я думала, что еду на каникулы, — говорила Тэгрынэ, — а попала на педагогическую практику!»
Она не могла нарадоваться успехам отца — так быстро овладевал он грамотой. Когда пришло время возвращаться в Хабаровск, она передала своего ученика попечению Валентины Алексеевны — школьной учительницы.
— Теперь, — сказал Мэмыль, прощаясь с дочкой, — можешь писать мне про всё. Все сердечные тайны можешь сообщать: кроме меня, никто не узнает. Сам теперь буду твои письма читать, никого не буду просить. Только поразборчивей пиши
Главное, что мешало ему раньше, заключалось, видимо, в том, что он не понимал, для чего существуют буквы. Он хотел, чтобы его научили читать, хотел сразу проникнуть в смысл книги. А его пытались учить каким-то значкам, изображающим, как ему казалось, бессвязные, бессмысленные звуки. Азбука, вместо того чтобы стать дорогой к книгам, показалась ему тогда неприступной стеной, преграждающей эту светлую дорогу.
История с подписью многое помогла понять. «Вот что значит буква!» — кричал тогда Кэнири, захлебываясь от смеха. И Мэмыль увидел, что буква действительно кое-что значит. Измени одну букву — изменится смысл целого слова!
И вот теперь неприступная стена рухнула, он переступил через её развалины, как через малый бугорок.
Мэмыль готов был заниматься без конца. Он терпеливо поджидал дочь, как бы поздно ни гуляла она с Инрыном. Едва она переступала порог — он выкладывал перед ней всё, что успел сделать за вечер. И они занимались до тех пор, пока у Тэгрынэ не начинали слипаться глаза. Тэгрынэ поражалась: ведь утром, задолго до того, как она проснется, отец уже уйдет в свою бригаду!
* * *
Кэнири трудился над заметкой четыре дня. Собственно, писал он её три дня — в четвертый день он пытался нарисовать карикатуру на Мэмыля. Только убедившись в том, что из этой затеи у него ничего не выйдет, он решил ограничиться одной заметкой, без карикатуры.
«Позор нарушителю сплошной грамотности», — так озаглавил свое произведение Кэнири. А вступление выглядело так:
«Живет в нашем колхозе один человек. Все его, конечно, знают. Называется Мэмылем».
Дальше шло описание случая, происшедшего в библиотеке, причем утверждалось, что «все, которые это видели, закрылись руками от стыда и многие говорили, что до каких же пор мы будем терпеть такие нарушения?». Не то чтобы Кэнири врал — нет, он просто считал, что так это было бы правильнее. Во всяком случае, для газеты. Рассказывая кому-нибудь об этом же случае, он не привирал ни слова. Но газета требовала, по его мнению, описания не столько точного, сколько торжественного.
«С этим пора покончить, — говорилось далее в заметке. — Это был бы позор даже для рядового колхозника, а тем более что он член правления. Если он член правления, так это не означает, что все должны молчать».
Отдать заметку Гоному Кэнири счел рискованным: Гоном с Мэмылем заодно. Да и вообще Кэнири считал, что доверить своё произведение кому-либо из членов редколлегии — это не очень надежный путь. Лучше сдать её официально, прямо на заседании. Тогда уж они ничего не смогут сделать. Захотят или не захотят, а всё равно должны будут поместить.
До ближайшего заседания редколлегии, как выяснил Кэнири у Ринтувги, оставалось ещё два дня. Кэнири знал, что на полярной станции, у одного из сотрудников, есть маленькая пишущая машинка. Он сходил на станцию и попросил перепечатать его заметку. В перепечатанном виде она заняла удивительно мало места — то, что было написано на трёх тетрадных страницах, не заполняло и половины печатной. Зато теперь заметка выглядит солидно.
* * *
В школе так тихо, что даже мягкие торбаса не заглушают шагов. Кэнири это кажется странным: у него о школе сохранилось воспоминание как о чем-то очень шумном. Впрочем, он не заходил в неё ни разу с тех пор, как окончил четвертый класс. Много времени прошло с тех пор.
Наверно, и тогда, когда он учился, по вечерам, после уроков, в школе было так же тихо, как теперь. Только он этого не знал.
Кэнири останавливается посреди коридора. Он забыл спросить у Ринтувги, в каком из классов будет заседать редколлегия. Наугад он толкает одну из дверей.
Прямо против двери стоит стеклянный шкаф. Полки его уставлены чучелами птиц. На Кэнири смотрит из-за стекла белоснежная чайка.
В классе темно, на шкаф падает свет из коридора. Кэнири входит заинтересованный: в его школьные годы здесь не было таких диковинок. Даже ничего похожего не было!
Рядом с чайкой стоит какой-то синевато-черный баклан. На других полках — кайры, гаги. На самом верху сидят птички пэкычын — морские кулики. Вид у них такой озорной, будто вот-вот вспорхнут, вылетят, сядут покачаться на гребень волны. Это их любимое занятие.
Кэнири рассматривает с большим интересом, ему никогда не приходилось видеть такие вещи. Вдруг он отшатывается: страшное отражение мерещится ему в стекле шкафа. Он осторожно оглядывается и видит, что ничего ему не померещилось: в темном углу класса действительно стоит человеческий скелет.
Не отводя от него глаз, Кэнири пятится к коридору и слышит голос учителя Эйнеса:
— Ты ко мне, Кэнири?
Только теперь вспоминает Кэнири цель своего прихода.
— Здравствуй, Эйнес. Да, к тебе. На редколлегию пришел, материал принес… А тут у вас, оказывается, интересные вещи есть.
— Да, имеется кое-что. Это кабинет биологии. Хозяйство Валентины Алексеевны. А редколлегия у нас рядом, в учительской. Пойдем.
Они заходят в соседнюю комнату, где за столом уже сидит Ринтувги. «Вот и хорошо, — думает Кэнири. — Пусть почитают, пока Гоном не пришел».
Он кладет на стул свою шляпу, достает из кармана сложенный вчетверо листок и подает Эйнесу. Учитель читает заметку вслух, Ринтувги слушает, и довольный Кэнири кивает головой в такт чтению, как будто подтверждает справедливость каждой фразы. Но едва учитель успевает дочитать, в комнату входят Гоном, Мэмыль и русская девушка, которой Кэнири не знает.
— Ну вот и вся редколлегия в сборе, — говорит Эйнес. — Садитесь, товарищи. Знакомьтесь, Валентина Алексеевна, это охотник Кэнири, наш будущий корреспондент.
Кэнири здоровается, с досадой поглядывая на Мэмыля. Зачем сюда пришел этот старик? Именно сейчас, когда должны обсуждать заметку!
С другой стороны, мимо внимания Кэнири не прошло и то, что Эйнес представил его как «будущего корреспондента». Значит, Эйнесу заметка понравилась. Иначе и быть не могло, учитель — человек понимающий.
— Слушай, Ринтувги, — шепотом спрашивает Кэнири, — а зачем здесь посторонние?
— Какие такие посторонние? Нас теперь в редколлегии пятеро.
Но Кэнири не успевает осмыслить эту новость.
— Товарищ Гоном, — говорит Эйнес, уступая председателю место во главе стола, — тут вот заметку товарищ Кэнири принес. Может, с неё и начнем?
— Вы уже читали?
— Прочли только что.
— Ваше мнение?
— Не знаю, как товарищ Ринтувги считает, а я думаю так: просить Кэнири быть в дальнейшем нашим корреспондентом. Что же касается этой заметки, то она явно устарела.
Он протягивает заметку Мэмылю. Тот, по-стариковски далеко отставив руку с листком, громко медленно читает:
«Позор нарушителю сплошной грамотности».
Метнув на Кэнири лукавый взгляд, старик продолжает читать вслух, пока не дочитывает заметку до конца.
— Жаль, что устарела, — говорит он, и искорки смеха прыгают в его прищуренных глазах. — Правильная заметка. Жаль, хорошую можно было бы карикатуру нарисовать! А?
У Кэнири такой оторопелый вид, что и карикатуры рисовать не надо, достаточно только посмотреть на него, чтобы рассмеяться. Опять старый Мэмыль оказался прав! Как же это могло случиться?!
Кэнири совсем растерялся. Он опустился на стул и ошеломленно смотрит на Мэмыля.
— Встань, Кэнири, — говорит старик, — встань, ты сел на свою знаменитую шляпу…
Кэнири живо вскакивает и пытается расправить шляпу, у которой сейчас такой же жалкий вид, как и у её хозяина.
Члены редколлегии дружно хохочут. Старый Мэмыль, дольше других старавшийся сохранить серьезность, тоже начинает смеяться. Можно подумать, что в учительской происходит не заседание, а демонстрация кинокомедии. Особенно заливаются Валентина Алексеевна и Ринтувги: Эйнес успел рассказать им, как Кэнири пятился от скелета в кабинете биологии…
* * *
Мне случалось слышать, как смеются южане. Хороший у них смех — раскатистый, легко воспламеняющийся, горящий весельем, ярким пламенем. Но сами они рассказывали мне, что в некоторых очень солнечных странах людям чаще приходится хмуриться, чем смеяться; чаще бывают в их жизни причины для слез, а не для веселья. Как было бы хорошо, если бы везде, под всеми широтами, люди могли почаще смеяться так заразительно, с таким легким сердцем, с каким смеются люди нашей Советской страны! И даже самого крайнего её севера!
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления