Онлайн чтение книги
Георгий Скорина
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. БРАТЬЯ МОИ – РУСЬ!
Иди в огонь за честь
отчизны,
За убежденья, за
любовь!
Глава I
Как ни тоскливо, как ни тяжело было на душе у Георгия, потерявшего возлюбленную и друзей, все же он не приходил в отчаяние.
Его окрепшая воля помогла выдержать и это испытание.
В часы бессонницы воспоминания томили сердце скорбью об утраченном, рука до боли сжимала спрятанный на груди маленький перстень. Но никто не слышал от Георгия ни жалобного слова, ни даже тяжкого вздоха.
С ним никто не заговаривал без дела, никто ни о чем его не расспрашивал. Монотонно скрипели по песчаному тракту колеса, мерно покачивались тяжело груженные телеги чешского купца.
Переправившись через Вислу, они выехали на мощенный деревом шлях Брестского воеводства, по которому Георгий проезжал два года назад, направляясь в Краков. Но теперь путь лежал в столицу Литовского княжества Вильну.
Георгий никогда не был в Вильне, и знакомство с одним из оживленнейших городов Запада было заманчивым для него.
Однако не простое любопытство заставило юношу предпринять это путешествие. Виленские купцы и старшины ремесленных цехов вели обширную торговлю со многими городами Германии, Венгрии, с Крымом и славянскими землями. Начала завязываться и торговля с Москвой. Если бы не мешали частые военные столкновения, с Москвой окрепла бы не только торговая связь. Георгий не сомневался, что встретит в Вильне московских или новгородских купцов, а с их помощью, воспользовавшись затишьем на литовско-русской границе, уедет в Московское княжество.
Хозяин обоза, купец Алеш, не знал о таком плане своего попутчика.
Рослый сумрачный чех с вечно озабоченным лицом, украшенным длинными, свисавшими на грудь, поседевшими усами, в простой одежде, вооруженный двумя дорожными пистолетами, на первый взгляд заставлял относиться к себе настороженно.
Но постепенно, наблюдая за ним, видя, как Алеш обращается со своими конюхами и молодым приказчиком, как помогает людям на переправах через реки, как делит с ними свою небогатую пищу, Георгий понял, что под суровой внешностью купца кроется доброе и мужественное сердце человека, прожившего нелегкую жизнь. Чувствуя, как Алеш по-отечески заботливо относится к нему, Георгий первый сделал шаг к дружбе.
– Пан Алеш, – сказал он на одной из остановок, присаживаясь возле купца, отдыхавшего в тени широкой ветлы на берегу озера. – Не знаю, как лучше отблагодарить вас за добро, и прошу, коли будет в том надобность, примите посильную помощь мою, как друга.
Алеш взглянул на него из-под нависших бровей и, кажется, в первый раз за весь путь улыбнулся.
– Слава Христу, пан бакалавр, – сказал он, погладив Георгия по голове, как ребенка, – с делами мы справимся. А от дружбы купцу как отказаться? Радостно мне, что очнулся ты.
Георгий удивленно посмотрел на Алеша. Тот пояснил:
– Тревожить тебя боялся, пока горечь вся на дно не осядет. Не смущайся, мне пан Глоговский все про тебя поведал. И про диспут, и про паненку.
– Зачем же… – смущенно пробормотал Георгий.
– А затем, – засмеялся пан Алеш, – что любят старики о молодых посплетничать. То не в обиду. Мне наказ дан увезти тебя не только от Кракова, но и от смуты твоей. Послушай меня, не томись. Помни, коли грабитель твой тебя веселым зрит, добро твое в его руках горит.
На этот раз привал затянулся надолго.
Неторопливо, словно разматывая запутанный клубок, протягивал Алеш нить своей долгой жизни к сегодняшним дням. В иных местах, будто завязывая узелок, сравнивал он рассказанное о прошлом с тем, что происходило на глазах у Георгия.
– Вот ты за наукой в далекие земли идешь, а я для науки той, покоя не зная, по белу свету шатаюсь. За купца выдаюсь, товары разные продаю, покупаю, а всего-то моего имущества здесь – конь да одежда на мне.
Старик доверил Георгию свою тайну. Обоз, с которым они двигались в Вильну, не принадлежал ему. Он всего лишь выполнял поручение общины «чешских братьев». Разъезжая по ярмаркам, продавал сукна, шерсть, куски тонкого полотна, металлические изделия, все то, что жертвовали ремесленники и крестьяне – члены «чешского братства» для строительства и содержания школ на родном языке. На вырученные деньги Алеш покупал воск, смолу и возвращался на родину. Прибыль сдавалась казначею общины. Были у него и другие поручения к некоторым образованным людям Польши и Литвы, но о них Алеш умалчивал.
– Добрые школы построили мы для малых детей, – с гордостью похвалился старик, – учат там на нашем родном языке. Но мало их… Все тесней и тесней становится, разоряют нас… – вздохнул Алеш.
«Стало быть, и на вашей земле…» – хотел спросить Георгий, с интересом слушая рассказ.
Но Алеш продолжал:
– Бьемся и за волю, и за веру свою. Сколько я себя помню, дня не было, чтобы не нависала над нами угроза чужого ярма.
Старик рассказал, как, будучи еще мальчиком, он принимал участие в защите «Табора», боевого революционного лагеря гуситов. Во время разгрома «Табора» погибли его отец и старшие братья.
Много горя пришлось тогда на долю таборитов. Крестьяне, ремесленники и обнищавшие землевладельцы, вооруженные косами и вилами, храбро бившиеся за свободу, равенство и братство, были обмануты и преданы сторонниками панов-феодалов.
Потерпев поражение, табориты все же не прекратили борьбы. Объединившись в общины «чешских братьев», они продолжали сопротивляться владычеству римского папы и германского государя. Пользуясь трудами выдающегося чешского ученого Петра Хельчицкого, «братья» создали стройную систему самоуправления своих общин.
– Не папа римский назначает нам священников и епископов, – рассказывал Алеш, – а на общем сборе синодом выбираем мы своих пастырей. Оттого и зовемся братьями, что у нас все люди равны. Нынешний король Владислав и многие паны ненавидят нас, с презрением обзывают «грязными земледельцами», «сапожницким обществом», трудно нам отбиваться, да все же держимся, а иначе и вовсе жить смысла бы не стало.
Долго рассказывал Алеш о самоотверженной борьбе чехов. Скорина слушал и думал, что в будущей жизни, о которой сейчас он только мечтал, он не останется одиноким. Новые мечты и новые планы начали возникать в голове юноши. Но не скоро суждено им было осуществиться.
Солнце уже окунулось в багряное озеро.
Потемнел и затих прибрежный камыш. Дважды подходил молодой приказчик, чтобы напомнить о позднем времени. Наконец Алеш поднялся.
– Что же, братцы, – обратился он к ожидавшим его людям, – скоро ночь. Не случилось бы худа ехать далее. Разводите огонь, здесь заночуем.
Коротка летняя ночь.
Георгий, казалось, едва только стал засыпать, как его разбудил лай собак и громкий говор людей.
Выбравшись из-под телеги, где он устроил себе ложе, Георгий увидел, что их маленький лагерь окружен вооруженными всадниками. Некоторые из всадников держали на сворках больших рычащих собак.
Сначала Георгий подумал, что это охотники, егеря какого-нибудь магната, случайно завернувшие на их огонек. Но скоро разглядел на всадниках одежду королевского войска.
Старший из них, не сходя с коня, при свете потрескивающего факела рассматривал поданную Алешем охранную грамоту.
– То добре, – сказал всадник, возвращая бумагу. – Але пану купцу придется не ехать на Вильну. – И, не слушая возражений Алеша, крикнул: – Пистоли, сабли забрать!
Трое всадников обезоружили Алеша. Один из них подтолкнул Георгия, стоявшего в стороне.
Шагнув вперед, Георгий обратился к старшему:
– Дозвольте пана спросить…
– Кто то есть? – прервал его старший, поднося к лицу Георгия факел. – Служка?
– Я не служка, – попытался объяснить Георгий.
– Пане товарищу,[27]Товарищ – военный чин в польском войске того времени. – вмешался Алеш, становясь рядом с Георгием, – это наш случайный попутчик. Он ученый. Бакалавр достославного Краковского университета, он направляется…
– То добре, – не слушая дальше, объявил пан товарищ. – Пану бакаляру надо вернуться до Кракова.
– Но мне надобно в Вильну! – запротестовал Георгий.
– Не можно! – грубо оборвал его старший всадник. – Никому не можно до Вильны! – И, перекрестившись, тихо добавил: – Умер король.
* * *
В ту же ночь к воротам города Вильны подкатили две закрытые кареты.
Взмыленные кони тяжело дышали. На каретах и усталых слугах, сидевших на высоких запятках, толстым слоем лежала дорожная пыль. Видимо, они проделали неблизкий путь и очень торопились.
Латники, охранявшие городские ворота со стороны Трокского шляха, окружили прибывших, приказав всем находящимся в каретах выйти.
Сопровождавший приезжих монах шепнул что-то старшине стражи, и тот разрешил не выводить из кареты молодую панночку и ее остроглазую экономку.
Из первой кареты, опираясь на трость, вышли грузный хозяин и пожилая, тяжело вздыхавшая, утомленная пани.
Латники видели, как старая пани хотела подойти к дверцам второй кареты, но толстый хозяин строго взглянул на нее и сердито стукнул о землю тростью. Пани только прошептала:
– Пресвятая дева, помилуй ее…
Монах торопил стражу. Скоро воротные цепи были опущены, и, прогремев по булыжнику под сводами арки, кареты выехали на мощеную улицу города.
Неприветливо, мрачно встречал город ночных гостей.
Со стен свисали длинные черные полотнища. Толстые восковые свечи горели у распятий и каплиц, уныло перекликались колокола католических и православных церквей. На высоких ступенях костела, мимо которого проезжали кареты, сидел воеводский служитель-бирюч[28]Бирюч – глашатай с бумагой в руке.
Дав знак каретам остановиться, он поднялся и, почти не глядя на бумагу, монотонным голосом объявил заученный текст «Повеления ясновельможного пана воеводы жителям славного места Виленского, всем приезжим и путникам»:
– Никто не должен носить другого платья, кроме как черного. Пусть снимут женщины ожерелья и кольца и всякие украшения. Никто не засмеется, не будет петь песни или слушать музыку… И будет так ровно один год!
Приникнув к окнам карет, приезжие с тревогой смотрели на затихшие улицы города. Хотя уже приближался час заутрени, на улицах не было никого, кроме вооруженной стражи. Это пугало приехавших господ и их слуг. Только одна печальная панночка, забившись в угол кареты, безразлично глядела перед собой и односложно отвечала на вопросы экономки.
Заехав в тихий переулок возле моста через Вилию, кареты остановились у высокой каменной ограды, заросшей диким виноградом.
Монах постучал в калитку. Ему ответил лай собак.
– Мы приехали? – словно очнувшись от сна, спросила панночка.
– Кажется, так, панна Маргарита, – шепотом ответила экономка, не отрываясь от окна, – ой, недоброе творится в этом городе…
Маргарита молчала.
Глава II
– Плачьте, люди места Виленского. Соедините скорбь свою друг с другом и рыдайте! В траур оденьте сердца свои…
Пан Николай Радзивилл поднял тонкий кружевной платочек и приложил его к сухим глазам. Длинные волосы воеводы упали на плечи, прикрытые черным плащом. Могучая фигура согнулась, словно от горя, и голос дрогнул.
– Нет более у нас отца, защитника и милостивого господина, – продолжал воевода, стоя на высоком балконе своего замка.
Но пока еще никто не рыдал.
Собравшись у воеводского замка, толпа молча слушала речь, ожидая погребального шествия. Не горе, вызванное смертью великого князя, отражалось на лицах простых людей, а любопытство и тревога.
Виленчане чувствовали, что воевода и городской магистрат обеспокоены не только тем, как, соблюдая древние обычаи Литвы и Польши, сладить траурную процессию из Вильны в Краков, но и чем-то другим.
Давно уже было неспокойно в столице Великого княжества Литовского. Не успели люди порадоваться миру, заключенному с Москвой, как начались неурядицы между панами магнатами и королем. Доселе шумный, оживленный город затих, насторожился, словно в засаде.
Торговля замерла. Иноземные купцы поспешили уехать, ничего не продав и не купив. У псковских и калужских купцов люди воеводы Яна Забржзинского отняли товары и многих побили. Козельские купцы еле спаслись бегством из самого города Вильны. И это было, пока еще жил Александр, да при нем был князь Глинский, у которого не раз искали русские люди защиту и управу на беззакония панских державцев.
А что будет теперь?
В мае месяце в земли княжества вторглись толпы перекопских татар. Запылали города и села, застонали нивы под копытами вражьих коней. Князь Глинский остановил это нашествие. Одержав блестящую победу под Клецком, он недавно вернулся в Вильну, гоня перед собой толпу пленных крымцев. Накануне его возвращения жители города готовились торжественно встретить победителя, да воеводские стражники плетями загоняли их во дворы и дома.
Вильна встретила Глинского пустынными улицами и молебнами костелов.
Король умирал.
Паны магнаты давно не ладили с Глинским. Потомок татарского князя, осевшего в городе Лиде еще при Витовте, Михайло Глинский был любимцем великого князя Александра. Хитростью и старанием он приблизился ко двору и скоро из придворного маршалка стал властным хозяином чуть ли не половины Литовского княжества.
Обладая острым глазом и пытливым умом, обученный военному искусству в странах Западной Европы, Глинский не только в ратных делах выделялся среди литовских и польских вельмож. Он прежде других увидел признаки распада и гибели Литовского княжества. Уния с Польшей, жестокий произвол, грабежи, чинимые населению королевскими державцами и католическими монастырями, вели край к полному разорению. Войны с русскими еще более отягощали положение. Уже не только пограничные, но и дальние бояре помышляли об отъезде к московскому государю.
Большая часть православного населения, люди Белой Руси, притесняемые иноземцами, теряли терпение, искали пути объединения с русскими, поднимали восстания.
Глинский, не боясь, указывал Александру на причины этих восстаний. Советовал изменить политику. Александр понимал правоту Глинского, доверял ему, но был бессилен против магнатов и шляхты. Видя слабость великого князя, Глинский пытался заключить союз с панами магнатами.
Ярый сторонник римского папы, Ян Забржзинский, завидуя Глинскому, не брезгал клеветой и обманом. Собирая доказательства о якобы подготавливаемой измене, о желании отделить Белую Русь от Великого княжества Литовского, он оговаривал Глинского. Защита Глинским некоторых обижаемых литовскими магнатами русских бояр давала богатую пищу клеветникам. Постепенно Глинский оказался в непримиримой вражде с Забржзинским и его сторонниками. Продолжая пользоваться лаской великого князя, он стал тайно накапливать силы.
Добиваясь назначения русских на «державные и коштовные должности», Глинский стремился окружить себя людьми близкими и преданными. Это не могло ускользнуть от пристальных взоров его врагов. Ненависть литовских магнатов росла. Росло и недовольство политикой Александра. Видя во всем руку Глинского, на сейме в Радоме паны выступили против короля, потребовав ограничения его власти. Желание ставить всякое решение короля под свой контроль давно уже не давало покоя завистливым магнатам.
Выслушав приговор сейма, Александр тяжело занемог. Болезнь обострилась здесь, в Вильне, куда привезли немощного Александра, покинувшего войско Глинского, защищавшее княжество от крымских татар. Александр едва дождался возвращения князя Михаилы с победой. Вскоре он умер, не оставив наследника.
Глашатаи возвестили о последней воле покойного, будто бы высказанной епископу виленскому Табару и воеводе Радзивиллу. Наследником объявлялся брат великого князя, пятый сын Казимира – Сигизмунд. Перед богом и людьми мог свидетельствовать Михайло Глинский, что не о Сигизмунде были последние слова великого князя.
– Гибнет княжество, – прошептал Александр, слабой рукой обнимая склонившегося Глинского, – защити его… На мудрость твою и мужество уповаю. Прости меня, брат…
Были при сем и епископ Войтэх Табар, и Николай Радзивилл, и польский канцлер пан Ласский, да только слышали они как будто другое.
Боялись магнаты, что гордый недавней победой Глинский, владевший отрядами испытанных воинов, захватит великокняжеский престол и, войдя в союз с Московским великим князем Василием, отдаст ему Литовскую Русь, чего хотел и Василий, и люди, населявшие большую половину Литовского княжества.
В Вильну съехались воеводы с отрядами вооруженных слуг. Прибыл смоленский наместник Станислав Кишка, полоцкий воевода Глебович, пан Ян Забржзинский и уже выживший из ума, подслеповатый староста жмудский Станислав Янович.
Желчный и подозрительный канцлер Ласский торопил отправить тело покойного в Краков, чтобы по старому обычаю похоронить его на Вавеле. Но Радзивилл отказал канцлеру, заявив, что, пока Глинский со своими людьми в Вильне, нельзя покидать столицу.
Решено было хоронить Александра в Вильне и сюда же как можно скорей вызвать Сигизмунда.
На воскресенье было назначено траурное шествие.
Все пять ворот города зорко охранялись латниками и ландскнехтами. Закрыты были и все дальние дороги, ведущие в Вильну.
Поняв причину неожиданных распоряжений виленского воеводы, взвесив свои силы и силы врагов, Глинский решил принять участие в шествии, подготовив неожиданный для панов воевод план отступления.
Многие жители Вильны другого ждали от Глинского.
* * *
В доме, в котором остановились Сташевичи, строго соблюдался этикет траура. Комната, отведенная для Маргариты, не отличалась от других покоев. Картины, бронзовые светильники и зеркала покрыты черными полотнищами. Узкие окна, на стеклах которых изображены жизнь и страдания пророка Иеремии, затянуты крепом.
Одинокая свеча изливала печальный свет.
Перед Маргаритой стояло распятие и лежала раскрытая книга.
Когда пан Сташевич вошел в комнату дочери, Маргарита поднялась навстречу ему. Лицо ее было бледно, глаза, веселые глаза Маргариты, потускнели и смотрели испуганно, жалостно.
– Маргарита, дитя мое! – дрогнувшим голосом проговорил старый пан, протягивая руки.
Маргарита упала ему на грудь.
Пан Сташевич в глубине души опасался, что строгие меры могут оказаться пагубными для его хрупкой дочери. Но угроза бернардинцев была так страшна и страх настолько непреодолим, что до приезда в Вильну он и не думал о смягчении участи Маргариты.
Теперь семья его далеко от опасного схизматика Франциска, или – как называла его Маргарита – Юрия, и девушка вернется к жизни.
В эти дни в Вильне нельзя было рассчитывать ни на какое веселье, но прогулка по городу и особенно зрелище торжественного обряда должны были оказать благотворное влияние на сердце юной католички.
Пан Сташевич отправился с Маргаритой к воеводскому замку. Улицы были заполнены людьми, каретами, колясками. Весь «Кривой град»,[29]Район у подножия горы, на которой стоял замок. вплоть до берега Вилии, протекавшей у подножия Замковой горы, шумел и колыхался. Даже на городской стене и на крышах домов сидели любопытные.
Сташевичи с трудом добрались до палат Радзивилла и поднялись на холм, где уже расположились в своих колясках ранее прибывшие виленчане.
Шествие только началось.
С горы спускались, прорезая толпу, нищие с толстыми зажженными свечами в руках. Их было много, не менее двухсот или трехсот человек. Одетые в траурные хитоны, нищие завывали, ударяя себя в грудь. За нищими на рослом белом коне ехал придворный хорунжий с обнаженным мечом, острием обращенным к сердцу.
Для Маргариты все это было новым и необычным. Стараясь ничего не пропустить, она встала на сиденье коляски и, опираясь на плечо отца, спрашивала его обо всем.
Отец охотно объяснял.
– Это придворный хорунжий, начальник охраны покойного.
– А почему он так держит меч?
– То знак горя и отчаяния, – пояснил Сташевич. – Когда-то телохранитель мечом прокалывал себе сердце, когда умирал его господин.
– Он тоже проколет сердце? – в ужасе спросила девушка.
– Нет, дочь моя, то было раньше, теперь это только напоминание.
Вслед за всадником медленно двигались четыре траурные колесницы и сорок латников, везущих одиннадцать знамен земель, объединенных Польшей, и двенадцатое самое большое, коронное.
На некотором расстоянии от них ехал рыцарь, наряженный в одежды Александра, представлявший в торжественном шествии особу покойного. Следом воеводы несли регалии великого князя. Старший из них двумя руками держал высоко поднятый меч с хорошо различимой щербиной на его лезвии.
– Сам виленский воевода, – тихо сообщил Сташевич, нагнувшись к Маргарите, – ясновельможный пан Радзивилл. В руках у него, очевидно, меч великого князя.
– Если позволит пан, – обратился к Сташевичу стоящий рядом невысокий мужчина с бледным лицом и широко расставленными добрыми глазами, – я расскажу уважаемой панночке, что то за меч…
Незнакомец поклонился Маргарите.
С самого начала Сташевич заметил, что человек этот не столько следил за процессией, сколько за ним и особенно за его дочерью. Сташевич даже подумывал переменить место, но теперь это сделать было трудно, да и внимательно посмотрев на незнакомца, он решил, что человек этот, видно, состоятельный и воспитанный.
Имея взрослую дочь, не следует избегать знакомства с молодыми мужчинами.
– Прошу вас, пан, оказать эту ласку, – согласился Сташевич.
Подойдя ближе и обратившись к Маргарите, незнакомец объяснил.
– Панна видит зазубрину на мече – это «щербец». А сделана эта щербина будто еще Болеславом Храбрым, когда этим мечом он постучал в ворота города Киева, матери городов русских, – с какой-то едва заметной горечью закончил незнакомец.
– А кто тот, рядом с паном воеводой? – спросила Маргарита, указывая на худого, с плоским белым лицом, высокого человека. – Ой, какой некрасивый!
– Т-с-с, – шутливо погрозил незнакомец и, понизив голос, ответил: – То польский канцлер пан Ласский, за ним на подносе несут жезл и державу, символы власти. Справа идет воевода полоцкий пан Глебович, слева – смоленский наместник пан Станислав Кишка.
– Так, так, – подтвердил Сташевич, – то, дочь моя, все наизнатнейшие вельможи.
– Да, – тихо заметил незнакомец, – только не вижу я самого наизнатнейшего…
– Кого пан мыслит?
– Князя Глинского.
Улицу уже заполнило духовенство, идущее впереди королевской колесницы, нагруженной драгоценными, шитыми золотом материями и заморскими шелками. Это везли подарки костелам, встречаемым на пути следования шествия.
Плакали, завывая, «траурники», монотонно звонили колокола.
Тридцать вороных коней везли золоченые дроги, на которых возвышался открытый пустой гроб.
– А где же?.. – успела только вскрикнуть удивленная Маргарита, как отец, жестом приказав ей молчать, опустился на колени и стал креститься.
Перекрестился и незнакомец, но Маргарите показалось, что он перекрестился не так, как крестился отец и как крестилась она.
Отец оставался на коленях все время, пока дроги с пустым гробом медленно двигались мимо них.
– Тело покойного князя в храме, – шепотом объяснил Маргарите незнакомец, – пока идет шествие, над ним совершается богослужение. Объехав все костелы, процессия должна вернуться…
Шум прервал объяснение незнакомца. В толпе, плотно обступившей процессию, мелькнули приветственно поднятые руки, послышались негромкие возгласы:
– Глинский! Князь Глинский!
Незнакомец вдруг оживился и, на мгновение забывшись, вскочил на подножку, схватил Маргариту за руку:
– Вот он, вот! Смотрите!
Лицо его осветилось радостью. Он указал Маргарите на спускавшегося с Замковой горы всадника, одетого в простое военное платье.
– Слава, князь! Виват пану Глинскому! – выкрикивали из толпы на разных языках: по-литовски, по-русски, по-польски.
Скованные торжественностью церемонии, виленчане не сразу решились нарушить строгий порядок траура. Сначала несколько смельчаков, поддавшись порыву, забыв, зачем они вышли на улицы города, подбросили вверх шапки, выкрикнули приветствия победителю татар. И вслед за ними, почувствовав силу, уже не боясь плетей воеводских гайдуков, народ подхватил:
– Слава Глинскому, защитнику нашему! Слава!
Над толпой взлетали шапки, платки. Букет цветов, рассыпавшись в воздухе, упал на дорогу под копыта коня князя Михайлы. Гул приветствия вызвал ропот среди панов.
Стоявшие позади пробивались вперед. Завязались мелкие драки, послышалась грубая брань. Латники повернулись к толпе и оттесняли ее.
Глинский ехал молча, не отвечая на приветствия.
Он поравнялся с коляской Сташевичей, и Маргарита могла хорошо рассмотреть его лицо. Смуглое, с небольшими черными усами и столь же черными нахмуренными бровями, лицо его было мужественно красивым. Но Маргарите оно показалось злым.
Глинский и в самом деле был рассержен. Он не хотел нарушать торжества похорон своего друга и боялся, как бы из-за неожиданных приветствий народа паны воеводы не наделали бед.
Впереди процессии пан Радзивилл уже шептал что-то пану Ласскому. Метались вокруг них растерянные слуги.
Почти дойдя до красных ворот, траурные колесницы остановились.
Неизвестно, как бы обернулись события, но тут из-за ворот послышался звук военной трубы. Два всадника, обгоняя друг друга, помчались навстречу шествию. Один спешил к виленскому воеводе, другой – к Глинскому.
Гремя, опустились тяжелые цепи, и в арке красных ворот, гарцуя на гнедой тонконогой кобыле, показался богато одетый всадник, сопровождаемый трубачами и вооруженной свитой.
В тот же миг, пришпорив коня, обойдя золоченые дроги, мимо возмущенных священников и вельмож проехал Глинский. За ним промчались Андрей Дрожжин и немец Алоиз Шлейнц.
Все, кто стоял вдоль мостовой, двинулись к красным воротам, окончательно сломав порядок траурного шествия. Некоторые бросились в обход, в переулки.
Путаясь в длинных хитонах, суетились нищие со свечами в руках.
Сердито кричал что-то пан Ласский. Радзивилл приказал латникам расчистить дорогу.
– Спокойно, панове, – гремел голос воеводы. – Ясновельможный наследник великого князя Литовского прибыл! Виват Сигизмунд!
– Виват! – заревели паны.
Подняв над головой меч-щербец, Николай Радзивилл торжественным шагом двинулся к Сигизмунду.
Но он опоздал.
Будущего великого князя и короля Сигизмунда встретил Михайло Глинский. Гордый и воинственный претендент на престол Великого княжества Литовского Михайло Глинский первый преклонил колени перед Сигизмундом.
Не сходя с коня, Сигизмунд выслушал верноподданническую речь Глинского.
Паны воеводы, минуту назад готовые броситься на Глинского, теперь остановились на почтительном расстоянии, обмениваясь недоуменными взглядами. Замолк и собравшийся вокруг народ. Мало кто понимал латинские слова, и еще непонятней слов было поведение князя Михайлы.
– Эге, – сказал незнакомец, стоя в коляске рядом со Сташевичем, – кажется, от большого грома и малого дождя не случилось. Не подъехать ли нам полюбопытствовать, пан… простите, не знаю вашего уважаемого имени.
– Сташевич Эдуард, – ответил отец Маргариты, продолжая настороженно смотреть в сторону красных ворот. – Позвольте и мне узнать имя пана?
– Адверник Юрий, – просто ответил незнакомец.
Маргарита пристально посмотрела на него. Адверник смущенно улыбнулся ей и счел нужным добавить:
– Я житель и домовласник этого места…
– Весьма рад, пан Адверник, вашей компании, – быстро сказал встревоженный Сташевич. – Но дочь моя не совсем здорова.
– Ах, отец, – горячо возразила Маргарита, – мне так хотелось бы посмотреть еще.
– Не каждый день, пан Сташевич, приезжают к нам в Вильну наследники престола, – поддержал ее Адверник.
Когда, оставив коляску и протиснувшись сквозь толпу, Адвернику и Сташевичу удалось подвести Маргариту почти вплотную к живой цепи ландскнехтов, охранявших будущего короля, церемония встречи уже подходила к концу.
Поцеловав меч-щербец в руках виленского воеводы, Сигизмунд по очереди обнялся с вельможами. К Глинскому подошел позже всех.
– Обнимаю друга нашего, верного слугу и брата! – громко сказал он, повернувшись к народу. – Пусть этот день, когда князь Михаил принес свою клятву, запомнят все!
– Запомнить! – с визгом крикнул Ян Забржзинский.
– Запомнить! – повторили за ним воеводы.
– Запомнить! – улыбаясь, согласился Сигизмунд.
По знаку Радзивилла латники схватили в толпе двух бедно одетых мальчиков и вывели на середину образовавшегося круга.
Мальчики испуганно смотрели на воевод, не понимая, что хотят от них эти богатые, сильные люди.
Сигизмунд бросил на землю два червонца. Телохранитель подобрал их и отдал мальчикам.
– Золотые, золотые, – зашелестел в толпе завистливый шепот.
И тут же кто-то, нехорошо засмеявшись, прибавил:
– А сейчас будет доплата!
Тут мальчиков положили на мостовую, лицом вниз, сорвали с них штаны, и над худенькими телами просвистела лоза.
Улица огласилась воплями.
Воеводы смеялись.
– Запомнят! – визжал Забржзинский, довольный тем, что это именно он первый сказал Сигизмунду о древнем обычае.
Он выхватил у одного из латников прут и, хохоча, сам стал сечь мальчиков.
– Навеки запомнят!
– Боже мой… за что их? – Маргарита закрыла руками лицо.
Адверник молчал.
– То есть наш старый обычай, – улыбаясь, разъяснил Сташевич, – чтобы не пропало в памяти событие. Вырастут хлопцы, состарятся, но будут добре помнить, как обнялись на дружбу Сигизмунд с князем Глинским.
Глава III
Весь день королевские стражники неотлучно сопровождали обоз купца Алеша.
Обоз возвращался назад, в Краков, по уже знакомой дороге. Ночью остановились на отдых, разбив лагерь на обочине возле густого паросника.
Дождавшись, когда все затихли, Георгий тихонько подполз к Алешу.
– Прощайте, пан Алеш, – прошептал он на ухо своему новому другу. – Я ухожу.
– Один? – удивился Алеш. – Опасно, Франтишек, теперь кругом тут неспокойно.
– Все же лучше, чем вернуться в Краков с конвоем, – ответил Георгий, сжимая руку пана Алеша. – Вы знаете мои планы, не удерживайте меня, добрый друг. Я должен идти.
Помолчав, Алеш обнял Георгия.
– Жалею, что расстаемся, – грустно сказал старик. – Мне также придется, видать, повернуть к дому. Думал я уговорить тебя поехать со мной в золотой наш стобашенный город… Через год-два я снова в этих местах буду, и ты бы вернулся.
Посетить Прагу – сердце Чешского королевства хотелось Георгию, и случай сейчас, казалось, был подходящий, но, избрав для себя другой путь, он не мог принять предложение чеха.
Алеш помог ему незаметно обойти спящих охранников. Проводив Георгия до опушки, он долго смотрел в густеющую темень, в которой словно утонул этот полюбившийся ему молодой бакалавр.
И снова, как в дни бегства из Полоцка, непреодолимая жажда увидеть новые земли овладела Георгием.
Быть может, теперь в этом желании было и неосознанное стремление забыть тяжелые дни испытаний, уйти от них, и тайная надежда на неожиданную встречу с возлюбленной…
Так или иначе, но он решил идти вперед и ни за что не возвращаться. Это чувство не покидало его. Если нельзя пробраться в Вильну и оттуда уехать в Московское княжество, он пойдет в Киев.
Не раз Георгий слышал о просвещенных людях древней русской столицы, о монахах, собравших в своем пещерном монастыре редчайшие рукописные творения русских летописцев и переводы с византийских списков.
Поговаривали даже о скором открытии в Киеве университета для православных с более широкой и свободной программой, чем в Краковском университете.
Трудно было поверить этому, пока Киев находился под властью польской короны, но Георгий надеялся, что все же найдет там ученых мужей, с помощью которых закрепит и расширит полученные в Кракове знания.
По совету Алеша он решил дойти до реки Припяти, а там, пристав к плотогонам или торговым караванам, спуститься вниз до Днепра и по Днепру приплыть в Киев.
Он шел один, останавливаясь на ночь в лесных хуторах и деревушках.
О пропитании почти не приходилось заботиться. Приближалась осень, на полях и в садах богатых фольварков было много работы. Георгий без труда находил применение своим силам. Он не жалел об этих остановках, как не жалел и обо всем своем путешествии.
Каждый день приносил новые впечатления. Перед ним открывался неведомый мир, наполнявший сердце любовью и радостью.
Медленно продвигаясь на юг, в конце сентября Скорина вошел в пределы бывшего Турово-Пинского княжества.
Он проходил через деревни и хутора, над которыми, казалось, века проносились, не разрушая ни чистоту языка, ни обычаи и законы древности. Здесь не было островерхих костелов с их коварными богослужителями. Повсюду звучала родная белорусская речь.
Природа, окружавшая Георгия, была красива и загадочна, как предания старины, живущие среди лесов и болот. Его обступали мохнатые ели. Тихая зыбь хвои и янтарь смолы наполняли воздух кружащим голову лесным ароматом. Не шелохнувшись, стояли дубы-великаны, на их могучих ветвях колыхалась заря. Приветливо звали путника отдохнуть лесные поляны.
Присев где-нибудь на опушке, Георгий подолгу любовался нежными красками лугов и болот. Тихо струился сладкий запах болотных цветов. Из вязкой земли по вечерам вставали дрожащие испарения и, медленно покачиваясь, тянулись вдоль леса. Тогда все начинало терять свои очертания, переноситься в призрачный мир, рождавший легенды. Легенды, предания, суеверия были неотделимы от жителей этого дикого лесного и болотного края.
Скоро Георгию довелось познакомиться с ними.
Однажды, миновав старый город Медники с разбитой и заброшенной крепостью, Георгий вошел в селение Рудня.
Небольшое селение было окружено болотом, расцвеченным бурыми пятнами. Здесь в земляных печах плавили железную руду, добываемую из глубин болота.
Оттого, вероятно, и селение получило название Рудня.
Георгий подошел к стоящей на отшибе курной хате. Навстречу выбежали трое детей. Выставив непомерно раздутые животы, они испуганно смотрели на пришельца. Все трое были одеты в одинаковые полотняные рубахи, прикрывавшие их худенькие тела.
Едва Георгий перешагнул через низкую изгородь, как дети шарахнулись в сторону и скрылись за хатой.
Из полуоткрытых дверей струился дым. В отверстии, прорубленном в стене вместо окна, виднелся огонек камелька.
Георгий постучал в притолоку.
– Господи Исусе, помилуй нас!
Из хаты ответил чей-то слабый голос: «Аминь!» – и Георгий, нагнув голову, вошел.
На битом земляном полу лежала женщина. Она тихо стонала и трясущимися руками натягивала на себя какое-то тряпье. В правом углу на свежевыструганном столе лежали остатки еды: кусок серого, землистого хлеба с примесью мезги[30]Мезга – тонкая прослойка мякоти между корой и древесиной. и наполовину очищенная луковица. Слева белела примятая солома. Там, вероятно, спали дети.
В сумерках хаты Георгий больше ничего не мог разглядеть. Да он и не пытался всматриваться. Ему уже хорошо были знакомы эти низкие, прокопченные жилища, где царит темень, нищета и запустение.
Женщина пригласила Георгия сесть, показав рукой на ровно обрубленный пень, и осведомилась, откуда он идет:
– С русского аль с польского боку?
Узнав, что родом он из русской стороны и здесь только заночует, женщина осмелела.
– Милости просим… Хозяин еще вчера по знахаря пошел, – рассказала она, продолжая тихо стонать. – Душит меня хворь ломотой и волосом… Колтун напал… Люди говорят, только Михалка один, знахарь наш, может эту болезнь выгнать, да не знаю, видно, пора моя пришла…
Женщина заплакала. Сквозь всхлипывания слышен был ее жалобный шепот:
– Детки мои, сиротиночки! На кого ж я вас покину теперь?
Георгия охватила тоска. Чем он мог помочь этим людям? На лекциях в университете он никогда не слыхал об этой болезни бедняков, не знал ни ее происхождения, ни средств избавления от нее. Да и захочет ли принять его помощь женщина, верящая лишь в силу своего знахаря?
Георгий вышел во двор.
Вокруг была сумеречная тишина. Сиреневый горизонт затягивался болотным туманом. Птицы уже умолкли. Войдя по брюхо в болото, лошадь мирно пощипывала осоку. Где-то журчала сбегавшая через запруду вода, словно повторяя: «торр-ропись».
Георгий лег на небольшой стожок сена, укрывшись тут же валявшимся старым армяком.
Трое детей, осторожно прокравшись мимо него, быстро юркнули в хату.
Утомленный дорогой, Георгий начал засыпать. С болота потянулся туман, и скоро Георгию стало казаться, что стог, на котором он лежит, превращается в маленький остров, плывущий среди океана.
Слабо сопротивляясь сну, он смотрел на торчащий перед стогом куст вербы. Ветер колыхнул туман и, разорвав его на длинные полотнища, повесил на сучья куста. Листья вербы обвисли и колыхались вместе с туманом, словно обрывки рубища.
Незаметно для глаза туман принял почти отчетливую форму, и Георгий решил: пришел какой-то монах…
На мгновение призрачные образы становились знакомыми и ясными, но вдруг таяли и больше не повторялись.
Почему-то вспомнилась давно слышанная им легенда об озере, которое заросло и стало болотом. Не об этом ли болоте сложили люди легенду?
Конечно, это здесь когда-то было светлое озеро, а посреди озера – остров. На острове стоял город. Да согрешили люди, озеро поднялось и поглотило его. Стала на этом месте дрыгва такая, что идешь, а земля перед тобой вздыхает, поднимается. На плесах бурые пятна: это кровь потонувших выходит наружу. От крови этой – горе и болезни для всех, кто живет на берегу бывшего озера.
В ясную погоду зоркие глаза видят на дне кресты и кровли, чуткое ухо ловит колокольный звон. Устрашенные птицы летят прочь. Серны и лоси, дрожа от страха, скрываются в пущах. А на болоте слышатся гул, вопли и бряцание металла. Слышно ржание коней, мычание коров, голоса людей.
Нужно спасти затонувший город, и тогда все успокоится. Но из всех людей только один хлопец семи лет может стать спасителем. Пусть он проедет по болоту на кобыле трех лет, найдет три камышины, возле тех камышин крест на цепи.
Пусть тянет за цепь!.. Но не может хлопец вытянуть. Потянет за цепь – город покажет свои крыши и уже раздаются ликующие голоса жителей, а он выпустит цепь из рук, и опять все погружается в болотную муть…
Да что же это такое? «Помогите! Помогите!»
Георгий спешит на помощь хлопцу, хватает цепь и, не оглядываясь, устремляется прочь. А цепь тянется, тянется и глухо звенит.
Над ним бьет крылом сказочная птица-вещун и голосом, похожим на голос больной женщины, поет: «торр-ропись»… «тор-ропись»… Маленький остров колышется и плывет среди океана. На острове танцует серый монах. Танцует на одной ноге и превращается в высокого старца…
Старец озирается по сторонам, вынимает из-за пазухи какую-то траву и кладет на голову женщины.
– Ты, волос, волос коловый, волос ломовый, и мозговой, и рассыпной… волос жильный и трехжильный, и волос денный, и волос ночной! Отчего ты колешь, отчего ты ломишь? – бормочет старец и поднимает женщину с колен.
Георгий смотрит на них из-под армяка и видит стоящего в стороне мужчину в свитке и трех пугливых детей в белых рубашках. Тогда приходит догадка. Это хозяин привел Михалку-знахаря, и он творит заклинание над несчастной женщиной.
Монотонное и таинственное бормотание продолжается:
– В буйной голове, в ретивом сердце, в скорых ногах, в ясных очах утишься, умирься и не коли, и не ломи ни на восходе красного солнца, ни на закате ясного месяца. Ступай в землю темную, в тьму кромешную! Не к людям живым, а к упырям лихим…
Михалка плюет на три стороны и трижды говорит «аминь».
К женщине подходит муж и уводит ее. Женщина идет медленно, превозмогая боль, но не стонет больше, хотя по всему видно, что страдание ее не уменьшилось. Муж и знахарь тихо разговаривают. Говорят о будничных крестьянских делах, словно не было только что ни заговоров, ни колдовства, а просто встретились два добрых соседа.
Георгий больше не мог заснуть.
Глядя на высокое звездное небо, он думал о том, что довелось ему видеть. Сроднившись с окружавшей природой, полесские жители, как эхо, повторяли то, что сказало им солнце и болотные травы, лесные птицы и звери. Они верили в силу волшебного заклинания так же бесхитростно и свято, как верили в христианскую молитву. Признавая греческих богов,[31]Так на Руси, принявшей греко-православную веру, называли иконы. поклоняясь им, они в то же время расчетливо сберегали старых, еще далекими дедами придуманных идолов, вполне могущих пригодиться, по их мнению, в быту, в хозяйстве.
Рядом с чудовищным суеверием, с набором бессмысленных слов заговоров он встречал и умение избавлять человека от многих болезней. Тогда-то и начал Георгий свои первые записи.
В толстый сшиток он записал несколько сказок и притчей: о трудолюбивой пчеле, о том, как на земле появился аист, как превратил бог в эту птицу любопытную женщину, заставив ее весь век собирать по болоту лягушек и гадов.
Отдельно Скорина сделал запись «О том, как исцелять разную хворь».
О «тетке-лихорадке», распространенной в Полесье болотной болезни, он записал: «Не ложись по весне спать без подстила, а непременно под крышей и на соломе или досках сухих. Почнет же душа колотиться и сотрясать все тело твое, выпей настой прегорький из полыни-травы дикой. Тогда кровь, что осталась холодной, разогревается и все тело греет, а лихорадка уходит».
О болях в животе: «От жара человек телом страдает, но жар многие хворобы уничтожает. У кого болен живот, кладут на то место скоринку хлебную, твердую, на ней кусок льна зажигают и тот огонь горшком прикрывают. От сего делается жар и живот в горшок тянется, через то боль отсасывает. А заклинаний при том можно не говорить вовсе».
Стремясь глубже понять связь существа человека и внешней природы, Георгий наблюдал за растениями, насекомыми и птицами. Он видел рождение и гибель организмов, видел, как крепнут и наливаются жизненным соком одни, как хиреют и гибнут другие.
Великая книга жизни раскрылась перед молодым Скориной, и он часто вспоминал слова Николая Кривуша, советовавшего изучать природу, а не пыльные фолианты университетских библиотек.
Георгий записал в своем сшитке:
«К природе, что с нарожденья нас окружает, надобно ласку иметь и знать ее добре. А еще надобно знать и сокровища человеческой мысли, заключенные в книгах ученых, без коих не способны прийти мы к знаниям истинным».
Эта мысль заставляла юношу отказываться от новых знакомств с лекарями и рассказчиками и быстрее идти туда, где ждал он найти высокую науку.
Так приближался Георгий к одной из больших и красивых рек Белой Руси – Припяти. Уныние и тоска давно покинули юношу. С началом каждого дня от земли исходила радость чистой любви ко всему, что окружало его, любви, растущей и крепнущей при каждой встрече с жителями полесского края и его природой.
Георгий был свидетелем того, как сопротивлялись полешуки, когда в их забытый край стала докатываться нарастающая волна порабощения.
Там, за кругом полесских болот, уже подходила к концу жестокая битва, в которой могучим оружием была новая сила – деньги.
Росли города и рынки, развивались ремесла. Продавался и хлеб, и пахарь. Панам-феодалам нужны были деньги. Опутанные хитрой системой денежных выкупов, бедные землепашцы, еще недавно бывшие «людьми похожими», то есть имеющими право свободно переходить с одной земли на другую, от одного пана к другому, становились «людьми непохожими», «отчинными» – крепостными.
Полешуки уходили, уходили в леса, за непролазные топи, собирали ватаги и отстаивали свою полесскую волю. Некоторые оседали на новых землях и начинали жизнь сначала. Многие гибли. Иные убегали в города, скрывая свое имя, нанимались на любую работу или шли в «полцены» на тяжелый сплав леса, попадая в новую кабалу.
С одним из таких беглых «отчинных» неожиданно встретился Георгий, придя в город Пинск.
Глава IV
Гулко шлепая босыми ногами, на палубу головного струга[32]Струг – речное судно, род барки. поднялся светловолосый, взлохмаченный, в изодранной, едва прикрывавшей могучее тело рубахе, двадцатилетний детина.[33]Детина – так назывался помощник лоцмана на полесских реках.
Не заметив Георгия, стоявшего возле сложенных в штабель дубовых клепок, почесываясь и сощурив припухшие глаза, он повернулся к солнцу и, опустившись на колени, перекрестился.
– Дякую господу богу, солнышку ясному, месяцу красному, звездочкам светленьким, миру крещеному, что я эту ночку переночевал, – полушепотом выговаривал детина, отбивая поклоны. – Дай, боже, этот денек передневать в счастье, в корысти, в прибытке и в добром здоровье. Во имя отца, и сына, и святого духа – аминь.
Молящийся услышал тихий смех и оглянулся.
– Пропил ты, хлопец, свою корысть и прибыток, – добродушно заметил Георгий, любуясь складной фигурой детины. – Теперь у бога не скоро допросишься.
Детина встал и, покосившись на Георгия, смущенно ответил:
– Я господу молюсь, а что будет – на то его воля.
– Лучше сберечь бы добытое, Язэп, то было в твоей воле.
Язэп осторожно шагнул к Георгию, тихо спросил:
– От Мосейки штоль? Приказчик новый?
– Не бойся, Язэп, – дружески успокоил его Скорина, – я не приказчик над тобой и не от Мосейки. Попутно мне. Вместе до Киева поплывем.
– А имя мое откуда ведаешь? – все еще недоверчиво спросил детина.
– Имя твое теперь, поди, всему Пинску известно, – улыбаясь, объяснил Георгий, – твое да дружка Андрейки. Я же тебя вчера на струг привел. С того часу ты только сейчас проснулся.
Язэп помолчал, видимо стараясь вспомнить вчерашнее, потом мотнул курчавой головой и, засмеявшись, сказал не без хвастовства:
– Ну, погуляли с обиды… одного пива да меду не меньше как по ведру на крещеную душу.
Георгию кое-что было известно про вчерашнее пьянство помощника лоцмана со своим дружком, подмастерьем Андреем. Догадывался он и о причине необузданного загула, но ему хотелось услышать объяснение самого Язэпа.
– Это с какой обиды?
– С обиды, с горькой обиды, – повторил Язэп, и красивое, еще по-детски округлое лицо его стало жалким.
Подойдя вплотную к Георгию, он строго спросил:
– Звать как?
Георгий назвался.
– Почто на струге сем?
– Говорю, попутно мне, до Киева.
– К святым местам, что ль?
– Я за наукой еду, – ответил Георгий.
– За наукой, – раздумчиво повторил Язэп. – А можешь ты крест дать, что обиды моей никому не расскажешь?
Никто не мешал их беседе. Головной струг, на палубе которого они находились вторые сутки, стоял на приколе у Лещинского предместья, ожидая, когда подвезут последнюю партию груза. Нанятая голытьба разбрелась кто куда. Старший на струге, набожный и сварливый кормчий, ушел к обедне в монастырь, видневшийся из-за рощи золотистых лип.
Несмотря на вчерашнее обильное возлияние, Язэп не изжил своей горечи и невольно искал сочувствия. Отнесясь с наивной доверчивостью к новому знакомцу, он подробно рассказал про «тяжелое свое вандрование».[34]Вандровать – путешествовать, бродяжничать (белорусск.).
– Жили мы на Днепре, возле Смоленска, – медленно вспоминал детина, прислонясь спиной к борту струга. – В недостатке жили, в убожестве. Порешили на лучшие земли идти. Люди мы были вольные, похожие. Вот и пришли всей семьей аж под Слуцк, осели на земле нового пана Кастуся Санковского, чтоб на нем черти на том свете оседали…
– Дурной пан был? – перебил его Георгий.
– Добрый да ласковый, – с нескрываемой злобой ответил Язэп. – «Я вас, любонькие мои, со всею душою приму, – передразнил он ласкового пана, – одного мы с вами роду, племени и веры одной».
Ну, было нам радости! Вот, думаем, набрели на добрую душу. Матка в церкви толстую свечу заказала. Батька похваляться стал: «Нас, говорит, вольных да работящих, кто хошь примет, не то что пригонное быдло какое». А пан поддакивает: «Так, так, любый братику, твоя воля в великокняжеском статуте оговорена. У нас все по закону будет».
Не сбрехал пан. Все было по закону. Дал нам и землю, и коня, и лес на хату, и семена – все по льготе на долгий срок. Почали жить, как арендаторы.
Язэп помолчал и, тихо вздохнув, прикрыл глаза.
– Придем, бывало, с поля, за вечеру сядем и словно сказку друг другу рассказываем… Вот пройдет еще лето, посеем-пожнем, поднимемся, землю откупим, сами хозяевами станем… Пан добрый, он нам уступит.
День за днем, лето за летом, а на третье лето приходит к нам пан…
В неизбывной досаде, захлебываясь, Язэп путал слова, рассказывая о роковом для его семьи дне.
Пан насчитывал за каждую льготную неделю аренды по десять литовских грошей.[35]Литовский грош – примерно девять копеек золотом. Да въездных двенадцать грошей, да долги разные за три года. Откуда было взять столько денег?
Тогда пан Кастусь прочитал им городское установление, по которому отец и мать Язэпа «вместе с детьми и домочадцами, не имея чем расквитаться, повинны работать на пана за каждую неделю по неделе, сколько было всего сроку льготы, да за долги по три гроша в неделю и на все то время считать их людьми отчинными – за паном Кастусем Санковским, – а не похожими, не вольными». Таков был закон.
– Будто цепями сковали нашу семью, – продолжал Язэп, – не смог я слезы маткины видеть, горе батьково, ну и решился…
– Пана убил? – невольно вырвалось у Георгия.
– Борони меня боже, – замахал руками Язэп, – я не душегуб, мыслимо ли? За того пана всех бы нас живыми в землю вкопали. Нет, пана я не убил.
– Что же ты сделал?
Язэп помолчал, потом, наклонившись к Георгию, прошептал:
– Убежал я от того закона великокняжеского, от батьки… совсем убежал.
Большие, доверчивые глаза его подернулись синим ледком.
– Найдет меня пан, вернет в свое господарство, навеки отчичем сделает, тогда и смерть не страшна.
– Успокойся, Язэп. – Георгий дружески погладил его руку. – Пан далеко, на сплаве не один ты беглый работаешь, кто узнает…
– Никто не узнает, – с горькой усмешкой перебил Язэп, – да, видно, правду старые люди кажут: «Паны да панята – одного черта сатанята». Слушай, что вчера было…
Вчера покрученик крикнул Язэпу:
– Эй, хлопец! После работы ты пойдешь к Мосейке-хозяину.
«Мосейкой» называли старого ростовщика Моисея, полгода тому назад взявшего на откуп половину речного сплава. Несмотря на почтенный возраст, ростовщик охотно откликался на свое уменьшительное имя «Мосейка», нередко сам употреблял его, говоря о себе в третьем лице. Он хорошо знал, что как бы ни называли его, а сила его крепнет и многие зависят от него, кормятся его милостью. Сначала была только одна небольшая меняльная лавка, теперь уже вырос дом на окраине Пинска. Сейчас он взял на откуп половину сплава, но кто помешает ему с будущего года откупить весь сплав?
Сгорбившийся, одетый в темный, засаленный полукафтан, Мойсей всегда неожиданно появлялся на пристани. Заложив руки и втянув шею, словно вынюхивая что-то своим большим горбатым носом, он только проходил мимо стругов и барж, ни с кем не заговаривая, ничего не спрашивая.
Из-под нависших бровей весело поблескивали прищуренные глаза. Так же неожиданно, как появлялся, он вдруг исчезал. А назавтра покрученики отдавали новые распоряжения, переставляя рабочих с одного места на другое, кого-то увольняли, кого-то нанимали.
Так был молчаливо замечен Мосейкой Язэп, старательно работавший на вязке плотов, и переведен в помощники лоцмана, на место начавшего слепнуть старика. Кормчие и хозяйские покрученики отнеслись к повышению Язэпа доброжелательно. Они ценили в ладно скроенном тихом парне силу, сметливость, душевную простоту и суеверную набожность, оберегавшую, как им казалось, всех плавающих от водяных и лесных духов.
Язэп обрадовался новой должности. В его чистом сердце зрела мечта накопить денег и выкупить из неволи мать и отца. Мечта, казалось, начинала сбываться. За пазухой, тщательно завернутые в тряпочку, уже хранились несколько монет.
В этот день он должен был получить деньги уже не как простой сплавщик, а как детина, помощник лоцмана. Язэп вошел в полутемную, запыленную меняльную лавку.
– Ты знаешь, Язэпка, – тихо сказал ростовщик, заперев за хлопцем дверь и усаживаясь на высокий табурет, – зачем я позвал тебя? Нет, Язэпка не знает, он думает, что он пришел за получкой и только, – сам ответил Мосейка. – Хорошо, ты получишь то, что тебе следует, заработаешь добре, – продолжал ростовщик. – А вот батьку с маткой забыл. Ай-яй, плохо…
– Не забыл я ни батьки, ни матки, – ответил Язэп, предчувствуя что-то недоброе.
– Не забыл, – словно обрадовался Мосейка, – так чего же ты тут сидишь? Беги лучше до дому! Там же тебя ждут и батька, и матка, и… вельможный пан Кастусь. Ого, какой важный пан. Не то что бедный еврей Мосейка.
– Хозяин, – прохрипел Язэп, задыхаясь, – не выдавай меня, Христом-богом прошу, не выдавай!
– Что значит – не выдавай? – весело спросил ростовщик. – Разве может бедный еврей не послушаться пана? Или ты думаешь, что я должен дать за тебя выкуп? Ты, верно, не знаешь, какой это выкуп…
Он нагнулся над столом и, быстро перелистав толстую книгу, начал считать:
– В каждом месяце четыре недели, а месяцев каждый год двенадцать, за три года будет недель уже сто пятьдесят две и за каждую надо по девять грошей… Ну, Язэп, ты уже подсчитал?
– Я отработаю, – еле слышно проговорил детина.
– Э, хлопец, – ростовщик захлопнул книгу, – я уже стар и не могу ждать. Но я помогу тебе.
Язэп смотрел на него с мольбой и надеждой.
– Я помогу, – повторил Мосейка, пристально глядя на побледневшего хлопца. – Никто здесь, кроме меня, не знает, что ты должник пана, так бог с тобой. Хочешь, можешь остаться моим должником, понимаешь? Не панским, а Мосейкиным, и я никому не скажу ничего, а?
– Лучше уж твоим, Мосейка, – словно в тумане, глядя на ростовщика, проговорил Язэп.
– Ты будешь работать, как раньше, а я буду платить тебе половину. Другая половина пусть останется у меня. А вдруг пан найдет тебя и потребует выкуп? Чем будет платить бедный Мосейка?
Язэп поставил свой крест на бумаге, которой он не мог прочитать.
– Половину того, что ты получал, пока не был детиной, Язэпка, – объявил ростовщик, кладя в руку Язэпа несколько монет.
Язэп безразлично посмотрел на деньги и вышел.
Он направился к своему другу и утешителю, подмастерью Андрею.
Но у Андрея самого дела были не лучше. Давно уже вышел срок хлопцу перейти мастером в цех. Талантливый резчик удивлял купцов тонким рисунком резьбы, хитроумным уменьем оживлять куски простого дерева. Изделия Андрея всегда продавались мастером втридорога. Они были лучше работ других подмастерьев и нередко лучше того, что делал сам мастер Яким. Это-то и мешало Андрею поступить в цех. Мастер оттягивал, насколько мог, экзамен Андрея, боясь потерять работящего, прибыльного ученика и нажить конкурента.
По законам цехов ремесленников каждый подмастерье мог быть принят в цех как равноправный после нескольких лет учения и при условии, если он представит на экзамене свою «главную речь» (вещь), сделанную самостоятельно, не хуже, чем по указанию мастера. Кроме того, он обязан был дать угощение за собственный кошт всем старейшинам объединения городских цехов. Иначе никто не станет тратить время на его экзамен.
У Андрея была «главная речь». Много дней тайком от Якима вырезывал он «райскую птицу» из дерева, почти не употребляемого тогда для резьбы: из вишни. Он выбрал вишню потому, что его прельстила окраска.
Случайно мастер увидел его птицу и понял, что перед ним одаренный художник, опередивший своего учителя. Злобная зависть вспыхнула в сердце разбогатевшего на трудах учеников старого резчика. Яким отказался ссудить червонец Андрею на угощение.
У Андрея не было червонца. Хитрый Яким посоветовал обратиться к Мосейке. Мосейка не отказал, но потребовал залог. Когда Язэп принес свое горе к Андрею, тот мрачно заворачивал в платок райскую птицу, чтобы отнести ее в залог ростовщику. Язэп не стал ничего рассказывать другу и, безразличный ко всему, остался ждать.
Случилось так, что именно в этот день Скорина зашел к Мосейке, узнав, что его струги готовятся к отплытию в Киев. Сговорившись об условиях, он собирался уходить, но его внимание привлек боязливо вошедший в лавку бледный, худощавый подмастерье с задумчиво-печальным выражением лица, на котором уже появилась русая бородка.
– Ну, Андрейка, – приветствовал его ростовщик. – Ты принес мне золотое запястье или, может быть, ожерелье из жемчуга? Что ты принес?
– Птушку райскую, – тихо ответил Андрей и начал осторожно разворачивать платок.
– Райскую птушку? – переспросил Мосейка. – Из чего она сделана? Из серебра с самоцветами?
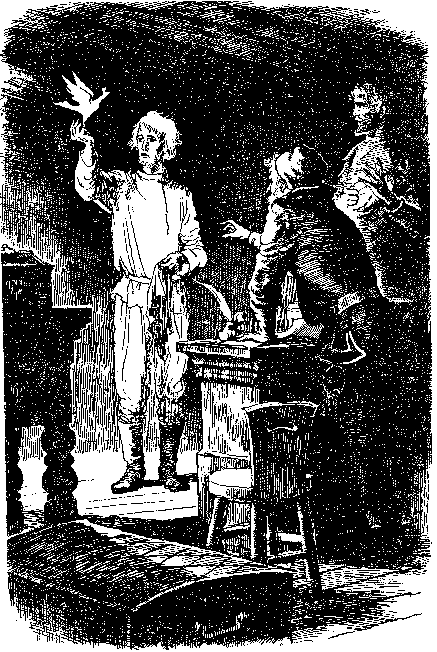
– Из вишенки, – ответил Андрей, и скулы на лице его дрогнули. Он поднял на ладони деревянную птицу.
Георгий видел, как жадно блеснули глаза ростовщика.
Птица была хороша. Размером не более одной пяди, она напоминала дикого голубя, но казалась нежней. Бледно-розовая, с чуть заметными отливами и тщательно выточенными перьями, она создавала впечатление живой птицы. К ней хотелось прикоснуться, погладить ее.
Мосейка уже протянул было руку, но Андрей отступил от прилавка и, попав в узкий луч солнечного света, выше поднял птицу. Свободной рукой он взял ее за ножки и слегка сжал их пальцами. Вдруг деревянная птица встрепенулась, взмахнула тонкими крыльями и начала медленно распускать веером хвост. Солнечные зайчики замелькали на перьях хвоста, как драгоценные камни.
Это было так неожиданно и прекрасно, что Георгий вскрикнул, а Мосейка коротко засмеялся.
Андрей разжал пальцы, и птица, словно избежав опасности, сложила перья, приняв прежнюю спокойную позу.
Андрей гордо взглянул на ростовщика, но тот уже успел побороть себя.
– А чего же она не поет? – спросил он безразличным голосом.
– Не надо, – насупившись, ответил Андрей.
– Не надо, – невольно повторил за ним Скорина.
– Ах, – насмешливо заметил Мосейка, – молодой панич тоже говорит, что «не надо», а бедный Мосейка думал, раз есть птушка, так она должна петь.
– Она сама как песня! – не выдержал Георгий, любуясь чудесным творением.
– Ой, какие хорошие слова, – заторопился ростовщик, почти выхватив у Андрея птицу и недовольно поглядывая на Георгия. – Андрейка еще подумает, что он сделал чудо… Ладно, хлопец, бери свой червонец, а птушка пускай постоит вот тут… Может, она еще запоет, а?
Андрей стоял молча, зажав в руке червонец, не спуская глаз с пыльной полки, где среди старых подсвечников, замков и битой посуды грустила его юная, бледно-розовая райская птица. Георгий видел, с какой тоской расстается мастер со своим, быть может, лучшим творением. Видел это и ростовщик. Ему хотелось как можно быстрее выпроводить Андрея, не дать ему передумать.
– Слушай, Андрейка, – ласково заговорил Моисей, доставая из-под прилавка небольшой запечатанный воском жбан, – ты становишься мастером, так прими подарунок от старого Мосейки. Это добрый мед, я берег его для великого свята, так пускай это свято будет у Андрейки. Такой хороший хлопец. На, иди…
Сунув ему жбан, ростовщик подтолкнул Андрея к двери. Андрей ушел.
Довольный Мосейка обратился к Георгию:
– Что делать, панич, надо же помогать бедным людям. – И, засмеявшись, добавил: – Теперь Андрей пойдет служить пану Хмелю. Пропадет мой червонец, что, неправда, панич?
Это была правда. В тот же день Георгий еще раз увидел Андрея, а с ним и Язэпа. Решив поискать, где бы можно было за недорогую плату покушать, Георгий вышел в предместье Каролич, к старому замку. Там, на рыночной площади, дрались пьяные. Компания оборванцев и скоморохов окружила дерущихся, подзадоривая то одного, то другого. Кричал пьяный Андрей, на всю площадь обзывая дурными словами своего мастера Якима и цеховых старшин. Язэп опрокидывал торговые лотки и, шатаясь, переходил от одной группы дерущихся к другой. В драку ввязывались новые бойцы, торговцы. Если бы не добрые приятели Андрея – молодые ремесленники, неизвестно, чем кончился бы этот день для Андрея и Язэпа.
Георгий помог побыстрее увести уже начавшего слабеть и затихать Андрея. Вернувшись, он разыскал уснувшего под чьей-то опрокинутой телегой Язэпа. Два лесоруба, знавшие помощника лоцмана, помогли Георгию отнести его на струг. Там и спал Язэп до сегодняшнего дня.
Георгию было нестерпимо жалко этих двух молодых друзей. Как помочь им? Ведь все, что имел Георгий, – это несколько монет, принесенных Кривушем в последний час расставания.
С берега послышался резкий свист. Язэп вскочил и подбежал к борту струга.
– Андрейка! – крикнул детина и, бросив Георгию: – Пришел, горемыка, – сбежал по пружинящим доскам сходней на берег.
Георгий пошел за ним.
Сидя на бревнах, опустив голову и машинально строгая маленьким ножичком поднятую с земли щепку, Андрей тихо говорил Язэпу:
– А Яким потребовал, чтоб я ту птушку представил. То, говорит, твоя «главная речь» и повинна быть цеху представлена. Коли не представишь, значит, и суду об ней не быть, и тебе в мастера не лезть…
– Ты бы сказал, чтоб обождал, – посоветовал Язэп, – пока Мосейка отдаст.
– Говорил, – махнул рукой Андрей.
– Ну?
– Ждать, говорит, нам особенно нечего. Ты, говорит, пропил свою птушку, делай теперь другую, а покуда мы тебя в цеху даром держать не станем. Как исстари ведется, так и мы. Пока не мастер, все, что сробил, повинен цеху отдать.
– Ишь куда гнет, сатанинская сила! – с гневом сказал Язэп. – Как же нам ту птушку вернуть?
– А никак, – неожиданно равнодушно отозвался Андрей. – Она теперь у Мосейки в гнезде. Оттуда не выпорхнет. Он сегодня за червонец свой полтора требует… Где мне взять?
И вдруг, резко поднявшись, сказал, захлебнувшись горечью:
– Проститься с тобой пришел, ухожу отсюда навсегда.
– Андрейка! – Язэп крепко схватил его за руку, как бы пытаясь силой удержать друга.
– Подожди меня здесь, Андрей! – крикнул Георгий и быстро, почти бегом направился к городу.
Когда Георгий снова вернулся на пристань, берег шумел окриками покручеников, бранью, звонким стуком падающего на палубы дерева. Последний обоз с товарами прибыл, и покрученики торопили людей, готовя отправку с рассветом следующего дня. На головном струге было людно. Георгий с трудом отыскал Язэпа, принимавшего груз возле визжащего деревянного блока.
– Где Андрей? – Георгий старался перекричать визг блока и грохот катящихся пустых бочонков.
– Ушел, – едва взглянув на Георгия, ответил Язэп.
– Куда ушел? Я птушку его принес… вот она! – кричал Георгий, поднося к самому лицу Язэпа завернутую в магерку райскую птицу.
Язэп, не понимая, посмотрел на руки Георгия.
– Вот она, – повторил тот, раскрывая магерку, – та самая, что у Мосейки была…
В мягком войлочном колпаке шапки, как в гнезде, сидела красивая и спокойная райская птица Андрея. Язэп улыбнулся, трясущимися руками взялся за край магерки.
– Подымай! – закричали на Язэпа с берега.
– Ну, подымай! – заревел рядом голос покрученика.
Но Язеп бросил канат и, прижав к груди птицу, прыгнул через борт на берег.
– Стой, быдло поганое! – Приказчик схватил суковатую палку и метнулся к сходням.
Георгий преградил ему путь.
– Подожди, пане милостивый, – решительно сказал он, отнимая палку. – Я за него стану, а Язэп скоро вернется.
И, не ожидая согласия, он взялся за толстый канат.
Приказчик остолбенел от удивления.
– Давай веселей! – крикнул Георгий.
Блок заскрипел, завизжал. Над узкой полоской реки, отделявшей головной струг от берега, поплыли высоко поднятые связанные ободья. С грохотом катились бревна, мягко шлепали рогожные мешки с золой.
Мышцы Георгия напряглись, кровь быстрее побежала по жилам. Из груди сама собой вырвалась песня:
Зялены дубочак,
Куды нахилиуся?
Малады малойчик, чаго зажуриуся?
С берега ответили лесорубы:
О, я зажуриуся,
Што не ажаниуся!
Жани мяне, матка,
Жани маладога!
Песня наполнялась хриплыми мужскими голосами, ритмом дружного труда, радостью теплого осеннего дня, росла и плыла над затихшей солнечной рекой.
Глава V
Головной струг легко рассекал стреж светло-зеленой осенней реки. За ним, не отставая, шли два других струга последнего в это лето торгового каравана. Мимо уплывали пестрые берега, поросшие ольхой, вербами, изредка кленом и молодыми дубами.
Деревья уже начали оголяться. Листодер – октябрь щедро сыпал на землю медяки, золотил берега. Местами сквозь поредевшие ветви виднелись желтые, опустевшие поля убогих крестьянских наделов. Звонко хлопая длинными бичами, пастухи сгоняли по отлогому берегу стада на водопой.
Изредка доносились голоса перекликавшихся в лесу женщин, вероятно собиравших грибы или бруснику.
Впереди съезжались к середине реки две черные, просмоленные душегубки. Рыбаки, стоя на коленях, одной рукой ловко орудуя веслом, другой выбирали из воды опущенную на длинных шестах сеть.
Когда головной струг поравнялся с ними, рыбаки уже съехались вместе и, оживленно переговариваясь, быстро освобождали запутавшуюся в нитяных ячейках рыбу: видно, у них была удача.
– Бог в помощь! – крикнули им с палубы струга.
– Дякуем! – одновременно отозвались оба рыбака и поклонились крикнувшему.
– Дякуем брюха не помажешь, – пошутил молодой багорщик, узнавший знакомого рыбака, – позвал бы на уху, дядька Василь!
– Милости просим! – добродушно ответил рыжий Василь и, зачерпнув деревянным черпаком со дна душегубки несколько небольших рыб, метнул их на струг.
Сверкнув на солнце, по палубе рассыпалась серебристая плотва. Багорщики только оглянулись на нее и, не став собирать, дружно закричали рыбакам:
– Помогай бог, чтоб не последняя!
– С одной породы не навариста!
– Без ерша – не хороша!
Рыбаки рассмеялись, и оба, рыжий Василь и его товарищ, швырнули на палубу еще несколько щупаков, мелких окуней и даже молодого соменка в локоть длиной.
– Кушайте на здоровье!
С веселым оживлением багорщики бросились собирать скользящую по палубе рыбу. Старый кормчий прикрикнул на них и, переложив руль, отвернул струг от лодок.
Рыбаки отплывали, выгребая вверх по течению. Скоро они поравнялись со стругами, шедшими вслед за головным. Оттуда послышались голоса новых любителей ухи. Но рыбаки только ответили им на приветствие, быстро повернув к берегу, заросшему густым камышом.
Снова медленно и плавно потянулись тихие берега, согретые последним теплом осеннего солнца. Вверху бороздили голубую лазурь журавли. Внизу отраженные водой Припяти облака ласково хлюпали о просмоленные борта и терялись в мелких струях, расходившихся по сторонам судна.
Легко и отрадно было на душе у Георгия. Все предвещало добрый путь: и тихая даль красивой реки, и золотистые берега, и мягкий солнечный день, и добрые рыбаки…
Все казалось наполненным любовью и дружбой.
Небольшая жертва, принесенная им ради избавления от несчастья другого, решительный шаг, сделанный в защиту обиженного, открыли ему ту единственную истину человеческого спокойствия и счастья, которая неизменно приходит вслед за выполненным желанием сделать добро. Кажущаяся невозможность отказа от некоторых собственных выгод и удобств ради кого-то другого нередко сдерживает чистый порыв, делает человека как будто житейски разумным, на самом же деле постепенно отдаляет от окружающих, ожесточает и лишает радости дружбы.
«Если бы все люди, – размышлял Георгий, – так же, как они стараются оградить себя от других, стремились бы помочь друг другу, то зачем нужны были б великокняжеские законы и стражники? Разве должен был бы тогда Язэп убегать от отца с матерью или отдавать за червонец свою райскую птицу Андрей?»
Вспомнив об Андрее, Георгий улыбнулся. Как хорошо, что он сберег деньги, полученные его другом Николаем у краковского менялы взамен дорогого плаща. Это были последние деньги Георгия. Неизвестно, как скоро он сможет заработать другие, но, ни на мгновение не задумываясь, отдал он их пинскому ростовщику.
Язэп догнал Андрея уже в Заречье, на дороге в Велятичи. Вернуться в Пинск Андрей наотрез отказался.
– Паничу скажи, – передавал он через Язэпа, – что век его ласки не забуду. Приведет бог, отслужу за доброту. А в Пинске дел у меня не осталось. Теперь мне туда путь закрыт.
Ушел на восток… Сколько тропок протоптано в эту сторону?.. На восток… на восток… Вот и Язэп, тоскуя о друге, признался Георгию, что хотел бежать вместе с Андреем «на русскую сторону», да побоялся. Ведь он крест на бумаге хозяина своей рукой поставил.
Три больших струга шли вниз по течению. Извилистое русло реки с песчаными откосами и перекатами таило немало опасностей для пловцов. Стоя на носу головного струга, Язэп замерял глубину длинным шестом с насечками.
– Круче давай! – кричал он кормчему. – Еще круче, под самые вербы правь!
И, выждав некоторое время, вдруг командовал:
– Выпрямляй!
Судно послушно сворачивало на середину реки, обходя неожиданно показавшийся из-под воды большой камень.
Язэп обладал удивительной памятью и чутьем. Однажды проплыв по реке, он на всю жизнь запоминал ее виры[36]Вир – омут, глубокое место. и отмели, безошибочно угадывал обмелевшие или начавшие зарастать песком перекаты. Даже сам кормчий, крепкий сухожилый старик, вечно ворчавший на багорщиков и бурлачную голытьбу, затихал перед Язэпом, когда тот выходил на нос со своим шестом.
Но выплывали струги на широкую ровную гладь, и оживление Язэпа сменялось унынием. Он садился куда-либо в угол, среди бочек и мешков, и молча смотрел на бегущую воду, словно искал в ней разгадку своим невеселым думам.
Так плыли весь день. Скоро по правому берегу открылся Туров. Первый этап пути пройден благополучно.
Кормчий стал на колени.
– Яко Давид-царь, воспою славу твою, яко твое есть царство, и сила, и слава! – говорил старик нараспев.
Все бывшие на струге повеселели и стали готовиться к причалу.
Город лежал в низине между двумя песчаными мысами, образующими широкую бухту. Разбросанные по берегу дома предместья, поднятые на высокие сваи и украшенные деревянной резьбой, напоминали огромные скворечни. Видно, здесь часто река заливала берега.
За насыпным валом, окружавшим город, виднелись купола храма, крыши новых построек и на большом кургане возвышался серый каменный замок. Вот и все, что успел рассмотреть с палубы струга Георгий.
Возле старой пристани толпилось много барж, лодок, стругов, сновали люди, со скрипом двигались груженые телеги.
Необычное в этот час оживление на пристани удивило прибывших. Удивление сменилось тревогой, когда, подойдя ближе, они увидели расставленные на мостках гаковницы[37]Гаковница – небольшая пушка. и возле них вооруженных людей. С левого берега, из-под кустов, вышли две плоскодонки и, держась посреди реки, перегородили путь. На плоскодонках также были люди с оружием, но не в форме жолнеров или ратников, а в обычном мещанском платье. Вероятно, жители города.
Едва струги причалили к торчащим из воды почерневшим сваям, как с берега потребовали к себе старших. С первого и второго стругов сошли кормчие, с третьего сбежал суетливый косоглазый покрученик.
Скоро до Георгия донесся его визгливый голос. Покрученику объявили, что струги дальше не пойдут, а весь товар и прибывшие люди останутся в Турове, на какой срок – неизвестно. Такова воля князя.
Всех прибывших из Пинска согнали под охраной на берег.
– Где это видано? – визжал косоглазый покрученик. – Купцов не с почетом, а с пищалями встречают!.. Галганы туровские, христопродавцы! Найду же я управу на них!
Проклиная и понося туровские порядки, косоглазый побежал искать управу в магистрате. На пристани посмеивались стражники:
– Зря человек жар теряет…
– Магистрат теперь заодно с князем стоит.
Прибывшим предложили устроиться на ночь в полусожженном сарае. Там уже находилось несколько человек, приплывших снизу и тоже задержанных в Турове. Бурлаки о чем-то шептались в темных углах. Кормчий тихо молился, готовясь ко сну.
Георгий поискал Язэпа и, не найдя его, прилег на охапке соломы. Из отрывочных, доносящихся до него слов он не мог составить себе представление о происходящем в городе, поняв лишь одно, что уйти из города самовольно никто не имеет права.
Язэпа все не было.
Поздно ночью прибежал косоглазый покрученик. Теперь он проклинал туровский магистрат, отказавшийся вступиться за его обиду. Осветив спящих фонарем, он растолкал Георгия.
– Вот тебе, пан грамотей, бумага, перо. Напиши за ради бога челобитную до князя. Сможешь ли?
– До какого князя? – спросил Георгий, беря бумагу.
– До Глинского, до князя Михаилы, он теперь сам тут.
* * *
Еще не успели сойти рубцы от розог на спинах мальчиков, высеченных в память дружбы Глинского с Сигизмундом, еще только отшумели салюты и фейерверки в честь избрания Сигизмунда великим князем Литовским и королем Польским, как Глинский сделал первый ход в своей двойной игре. Оставив короля в окружении придворных, усыпив его верноподданнической лестью, князь Михайло уехал в свое имение Туров и начал тайную подготовку к решительной схватке.
В Туров съезжались белорусские и украинские шляхтичи, мелкие землевладельцы. Обиженные королем и богатыми магнатами, они тянулись к Глинскому, надеясь на поддержку Москвы. Сходились в Туров и посполитые, видя в князе Михайле защитника веры и обычаев от жестоких притеснителей – литовско-польских феодалов и католических епископов.
В Турове обновлялись старые и строились новые укрепления. Делалось это под видом восстановления недавно разоренной татарами вотчины. А чтобы не было лишних языков, Глинский повелел запереть город с суши и воды.
Струги и баржи, еще летом свободно заходившие в Туров на торговом пути по Припяти и Днепру, теперь попадали в ловушку. Товары перегружались в княжеские склады. Иногда за них расплачивались, а иногда отделывались обещаниями. Людей переманивали на службу к Глинскому. Купцы, отправившие свои караваны, долго не могли разыскать их следы.
Улицы были оживлены, словно в дни большой ярмарки. То там, то здесь виднелись шатры прибывших обозов. Почти на каждом шагу встречались вооруженные люди. Мастеровые возводили новые временные дома, чинили городские стены, укрепляли земляной вал. Особенно шумно было в Заятелье и Запесочье, частях города, еще не залечивших раны после нашествия татар 1502 года. Следы недавних жестоких битв встречались в древней столице феодального княжества на каждом шагу.
С любопытством осматривая незнакомый ему город с высокого холма, прозванного «тур-горой», возле вросших в землю каменных крестов, Георгий вспоминал слышанное им раньше о Турове.
«Кто основал этот город? – думал Георгий. – Варяг ли по имени Тур, принявший здесь христианство, или вырос он из простого селения рыбаков? А может быть, пошло название города от зверя тура, в неисчислимом множестве водившегося на берегах Припяти?»
По-разному говорилось. Слава Турова далеко разнеслась по Белой Руси. Здесь был центр и оплот христианской веры всего полесского края. Отсюда, из Туровского монастыря, расходились по всей русской земле пламенные слова проповедника Кирилла, епископа Туровского, учителя многих просвещенных монахов.
Сойдя к урочищу Городище, Георгий остановился возле колодца, в котором, по преданию, крестился варяг Тур. Наклонившись над полуобвалившимся срубом, он увидел в глубине слабое мерцание криницы. Сквозь песок пробивалась, равномерно пульсируя, мутно-белая жидкость растворенного известняка.
Это был тот самый «Тур-колодезь», легенду о котором слыхал Георгий еще в Полоцке. Рассказывали, что злые татары, вырезав все население города, закидали колодезь телами грудных младенцев и теперь, вот уже сколько лет, бьет в колодце ключом из-под земли материнское молоко, взывая о мести.
Не просто рождались такие легенды. Многое видал город Туров… Что же готовилось в нем теперь?
– День добрый, панич! – услышал Георгий знакомый голос.
Оглянувшись, он увидел торопливо подходившего, запыхавшегося Язэпа и с ним стражника. Если б Язэп не окликнул Георгия, тот не узнал бы своего друга. Вместо рваной рубахи на детине была добротная крестьянская куртка, сапоги. В руках он держал новую жолнерскую шапку.
– Насилу нашли тебя, – весело заговорил Язэп, – от князя приказ в замок идти…
Большего ни Язэп, ни стражник объяснить не могли.
– Велено до князя доставить, – только повторил стражник.
Лицо Язэпа сияло. На вопрос Георгия, где он был и откуда у него такая одежда, хлопец уже на ходу объяснил:
– Попрощался я ныне со всем, что ранее было. Ха, ха… Было, да сплыло… Мосейка теперь сам до пана Кастуся пускай побежит, а я теперь вольный!
– Кто же дал тебе волю? – радуясь за хлопца, спросил Георгий.
Язэп, взглянув на шагавшего рядом стражника, подмигнул ему. Оба загадочно улыбнулись. Взяв Георгия за руку, Язэп шепнул в самое ухо:
– Князь Михайло… Он всем русским волю дает… и одежду, и хлеб… Я теперь…
Он вдруг замолчал, испугавшись, как бы не сболтнуть чего лишнего.
С тревогой и любопытством вошел Георгий в княжеские покои. Лысый дворецкий посмотрел на его запыленные сапоги и, неодобрительно чмокнув обвисшими губами, показал на скамью в углу, возле широкой лестницы. Георгий присел на скамью, раздумывая о том, что его ожидает.
Встреча с прославленным и всесильным князем тревожила юношу. Чего хотел от него Глинский? Что происходит здесь?
Молодой белокурый шляхтич в нарядном кунтуше, с короткой саблей у пояса, приоткрыв тяжелую дверь, негромко спросил:
– Дозволит ли ваша мосць? Тот человек разыскан…
– Пусть войдет, – ответил ему густой, сильный голос.
В широкой с низкими сводами комнате, устланной коврами и украшенной резными изделиями на русский манер, возле небольшого, покрытого парчовой скатертью стола, заваленного свитками бумаг, стояли два человека.
Георгий сразу понял, кто из двоих был князь Глинский.
Статный, широкоплечий, с гордо посаженной головой, одетый в шелковый домашний полукафтан, с дорогим перстнем на пальце левой руки, Глинский, не обратив внимания на вошедшего, продолжал беседу с почтительно стоящим перед ним толстым паном с длинными, по старой польской моде завитыми усами.
– Поляк мудр после беды, – говорил, очевидно разгоряченный спором, князь, – и нам, пан Андрей, забывать того не след.
– Так, – односложно ответил Андрей Дрожжин, слуга и поверенный Глинского и, предостерегая князя, кивнул на вошедшего Георгия.
Глинский взял со стола бумагу.
– Ты писал? – нахмурившись, обратился он к Георгию.
Георгий узнал челобитную, написанную им утром по просьбе косоглазого покрученика.
– Писал я, – смело ответил он, но, не зная, какова судьба челобитной, на всякий случай разъяснил: – По жалобному делу от старшего на стругах, где я попутчик.
– Стало быть, за проезд эта услуга? – улыбнулся Глинский.
– И слава грамоты сей не за тобой? Cui honor, cuidecus, cui vectigal,[38]Кому честь, кому слава, кому дань (лат.). – со смешком сказал Дрожжин, важно поправляя усы.
Георгия почему-то задел этот смешок и, обращаясь к Дрожжину, к которому он сразу почувствовал неприязнь, резко ответил:
– Ubi oficium ibi beneficium.[39]Где долг, там и заслуга (лат.).
– Браво, – весело сказал Глинский, – от меня это не раз слыхал пан Андрей. По заслугам! Однако… ты поляк? Учен?
– Я русский, – ободренный похвалой князя, ответил Георгий. – Учился в Кракове до степени бакалавра, теперь же направляюсь в город Киев за новыми знаниями.
– В Киев? – тихо переспросил Глинский и взглянул на Дрожжина. – Вот что, пан бакалавр, – мягко сказал он, подходя ближе к Георгию, – челобитную ты написал разумно и грамоту добро знаешь. Затем и велел сыскать тебя. А только струги я отпустить не могу. Да и людей, что разом с тобой прибыли… – Глинский взглянул в упор в глаза Георгию. – Кто хочет мне служить – приму с радостью. Мне каждый потребен, особливо русский да грамотный. Что скажешь?
– Нет, князь, – ответил Георгий, – я не служить, а учиться иду и здесь не останусь. Отпусти меня.
Глинский с любопытством смотрел на юношу, осмелившегося говорить так независимо. Вон Дрожжин сколько лет рядом, а все вздрагивает, когда к нему обернешься. Положив руку на плечо Георгия, Глинский сказал более твердо:
– Оставайся, побеседуем, потолкуем, авось решение твое переменится, когда дела наши поймешь… А что до Киева, и туда сходишь. Сам отправлю, как время придет.
Глава VI
В Киев Скорина попал не скоро. Ни высокие стены, ни княжеские дозоры, дни и ночи охранявшие городские ворота, ни отсутствие денег, необходимых для дальнейшего путешествия, не удержали бы юношу, если бы его не захватили события, начавшие развиваться в Турове.
От зари до сумерек сидел Георгий в полутемном покое княжеского дворца, где несколько монастырских писцов переписывали составляемые им обращения, или, как тогда их называли, «прелестные листы», прельщавшие «всех, от единой веры и единого языка на свет божий нароженных, собираться под стяги защитника нашего – князя Михаqлы Глинского».
В канцелярии князя были заведены порядки не хуже, чем при королевском дворе. По примеру того, как делалось это еще при Казимире Великом, у Глинского велись книги записей – «Справы судные», «Дани», «Аренды», «Реестры разных отправ».
Заполняя страницы книг, едва обученные грамоте писцы вносили в них не столько описания действительно важных событий, сколько то, что было «им по руке».
Книгой «Реестра разных отправ» ведал наистарейший полуглухой писарь Федор Янушкович, служивший в канцелярии Александра и после его смерти перешедший к Глинскому.
На одной из страниц книги Федор записал:
«Тут початы писатыса про память отправы листов его милости, князя Михайлы, до панов и бояр и до разных земян и люду лета 1506, ноября 20 ден, индикт 10. А писаны те листы в Турову, повелением его милости князя, ученым бакаляром Франтишком и во множестве переписаны дяками. Которы чисты отданы его милости князю, а которы обшарпаны тые заглажены.
Дале не было чего писати у той ден, а што было, тое записал я, писар Федька Янушков сын».
Старик присыпал мелким песком страницу, аккуратно закрыл книгу и перекрестил зевающий рот.
Георгий тоже отложил перо. Он устал. Мысли начинали путаться, трудно находились необходимые слова.
– Много листов сегодня до князя отправил? – громко спросил он старого писаря.
– Что тебе? – приставив ладонь к уху, переспросил Федор.
– Листов, говорю, много ли?
– Почитай, половина обшарпана, – думая о своем, ответил глуховатый старик. – Совести у людей нет. По такому святому делу пишут, будто слепые. Тут каждую литеру нужно от самого сердца вести, душевно выписывать, а они, писаришки негодные, все пообшарпали. Мне же от князя срам…
– Да, от самого сердца надобно… – задумчиво повторил Георгий, не слушая ворчания старика. В переписке ли дело? Были бы слова не обшарпаны… от самого сердца… Где взять пример? У каких писателей? – Скажи, дядька Федор, – нагнувшись к писарю, спросил Георгий, – не осталось ли в Турове списков со «слов» покойного епископа Кирилла?
– Не ведаю, – ответил рассерженный на переписчиков старик, – может быть, и осталось, не у меня про то спрашивать. Я здесь пришлый и в монастырь их всего два раза ходил, а более и не пойду…
Старик распалился, заворчал с озлоблением. Георгий уже не рад был, что задел эту больную струну Федора.
– Почали дома божие гаснуть, как лампада без масла, – возмущался писарь, – только дымят, а не светят. Теперь у них Стефан-богохульник в преподобных подвизается. В святые метит, а про грехи мирские не забывает. От Кирилла не токмо что листов, и духу, почитай, не осталось. Все к рукам прибрал: и «Слово», и дело. Ризы дорогие с икон попрятал, то, говорит, татары пограбили. Когда те татары были, а он все на них валит. Разорилась обитель… А до того, как епископскую кафедру отсюда в Пинск перевели, была тут благодать…
Увлекшись воспоминаниями, Федор не заметил, как слушатель его тихонько вышел за дверь. Не первый раз набожному старику приходилось заканчивать свой рассказ о благодати прошлого в пустом покое. Редко находился терпеливый человек, способный до конца выслушать жалобы на новые порядки в православных монастырях и храмах. Старик привык к этому и не обижался на легкодумную молодежь.
Георгий вышел на верхний двор. Город уже окутывал вечерний туман. Кое-где горели костры. Возле них было шумно и весело. Доносились песни, смех. Несмотря на поздний час, на улицах было много народу. В городе становилось тесно от новых жильцов…
Георгий с радостью видел, что слова его падали на благодатную почву. Он не знал, куда в точности отправлялись «прелестные листы», но из Турова ежедневно уходили во всех направлениях гонцы, путные слуги, унося в переметных сумах, в шапках или на груди под сорочкой переписанные дьяками обращения.
Не хуже, чем «прелестные листы», доступные только знающим грамоту, зазывали людей нищие старцы, слепцы-лирники. Они расходились по всему Литовскому княжеству. С серьезными, настороженно-сосредоточенными лицами пели свои печальные песни, говорили свои душевные слова, указывали путь в город Туров.
С одним из таких нищих, чаще других заходившим в канцелярию князя, Осипом, Георгий познакомился в первые же дни работы у Глинского.
Осип, видно, был старшим среди жебраков,[40]Жебрак – нищий (белорусск.). выполнявших тайные поручения. Придя во дворец, он подолгу беседовал с Андреем Дрожжиным, потом собирал где-нибудь в углу двора свою братию, рассказывал, о чем была беседа с паном Андреем, раздавал мелкие деньги, никогда не беря себе ни гроша, и отправлялся в путь.
С живым, привлекающим сразу внимание лицом, умный и бескорыстный Осип нравился Георгию. Юноша охотно беседовал с ним, нередко узнавая от бывалого жебрака то, что не доходило в канцелярию князя.
Возле сожженной татарами деревянной Преображенской церкви Георгий встретил Осипа, сопровождавшего небольшую группу пришлых людей.
– Далеко ли собрался? – спросил Георгий.
– К пану войту нежданных гостей провожаю, – ответил Осип, на минуту задерживаясь. – Нынче с татарами вместе прибыли. Слыхал небось, войско наше как разбогатело? Брат князя Михайлы, князь Андрей, на собственный кошт целый табун коней закупил. Сегодня пригнали нехристи.
Георгий не знал этого.
– Как же, – весело рассказывал Осип, – коней пригнали, а по пути людишек себе заполонили. Еле наши отбили. Вот тебе и купцы, не то что венгры, те честно идут.
– А венгры что? – поинтересовался Георгий.
– Большим обозом идут, – понизив голос, сообщил жебрак. – Будто бы пищали и сабли везут. А ты сходи вон туда. – Осип махнул рукой в сторону далеко видневшихся новых хаз.[41]Хаза (от латинского слова «casa») – домик, лагерный барак. Отсюда позднее – казарма. – Там тебе хлопцы все расскажут, поди, только о том языками молотят.
Георгий направился вниз. Проходя по улицам, он с интересом наблюдал многообразную жизнь города. Туров постепенно превращался в большой военный лагерь. Выросли новые загороды, на земляном валу появились пушки, умножилось количество кузниц, день и ночь наполнявших город звонкой перекличкой молотов. Прибывали обозы, шумели пьяные ратники возле одинокой корчмы в Заятелье. Лукавые горожанки распевали песни, заманивая бравых воинов на берег Припяти. Перекликались воротные часовые, опрашивая каждого входящего и выходящего.
Вспомнив рассказанное Алешем, Георгий невольно сравнивал Туров с чешским «Табором». Казалось, скоро князь Глинский поднимет знамя свободы, заиграют трубачи, ударят в бубны и литавры, всколыхнется, ощетинится город лесом пик, сабель, крестьянских кос и рогатин…
Георгий никогда не представлял себя в рядах воинов. Душа его по-прежнему восставала против кровопролития, он растил в своем сердце чистую любовь к людям и родине, но постепенно, с прожитыми днями, направление мыслей его стало меняться. Георгий все более убеждался, что одной любовью к родине, одними мечтами нельзя изменить ее печальную участь. В неволе люди темны. Чтобы дать им свет грамоты, надо дать им волю. А воля, видать, сама не придет.
Георгий не знал истинных замыслов князя, как не знал их никто, но он поверил в бескорыстность и святость дела Глинского, как поверили ему многие, и остался в Турове. Здесь окрепла и начала наполняться жизнью его мечта. Все то, что только искрилось в его представлении о будущем подвиге, теперь, казалось, находило опору в делах князя Глинского.
Спустившись к новым хазам и подойдя к костру, возле которого толпились ратники, Георгий увидал Язэпа.
– Слыхал, – радостно спросил его детина, – какая сила к нам прибавляется? От самого хана крымского – каждому по коню, от короля венгерского – по сабле!
Осип не ошибся: сообщенные им новости горячо обсуждались среди туровских воинов.
– Нет лучше воина, чем у нашего князя! – важно заявил гревший у костра зад в заплатанных штанах маленький человек, видно слывший здесь весельчаком и балагуром.
– Это почему же так? Растолкуй, Устин! – заранее улыбаясь, попросили окружавшие.
– А сами считайте, – загибая пальцы на руке, объявил Устин. – Воин хрестьянский, конь татарский, шапка-магерка, сабля-венгерка. Где другого такого отыщешь?
Ратники засмеялись.
– Ловко подсчитано.
– Верно, Устин, такого и у короля Жигмонта не найдешь.
– А я у Жигмонта другое поискать собираюсь, – весело возразил балагур.
– Это чего же?
– Сала с его королевской милости да с панов, что понаросло на них от нашего поту!
– Панское сало с душком, – заметил кто-то из-за костра.
– А ништо, – ответил Устин, – мне боты смазать, а то третий день скрипят, спасу нет. – И под общий хохот Устин поднял над костром ногу в старом, истоптанном лапте.
– Потерпи, Устин, – сквозь смех сказал Язэп, – придет час, оденешь панские боты.
– И шапку боярскую, – поддержал стоявший рядом.
– Слыхал еще я, вышла подмога нашему князю, – серьезно заметил пожилой рослый крестьянин, опоясанный саблей.
Все замолкли, повернувшись к нему.
– От московских бояр, – неторопливо продолжал пожилой, – обозы с пищалями и одеждой. К зиме обещалися тут быть непременно.
– А боле бояре те ничего не обещалися? – насмешливо спросил сидящий на корточках чернобородый мужик в рваном полушубке.
– Что?
– Да то, что московские бояре всего охотней дают! – ответил чернобородый, поднявшись и злыми глазами смотря на собравшихся у костра. – Я, братцы, сам из Москвы-матушки. Да только стала она мне злей мачехи… Не для нас Москва строилась, и не об нас там забота.
– Не бреши! – кинул ему пожилой.
Но чернобородый не обратил на него внимания.
– Тут у вас, – продолжал он, – паны да паненки, а там – батоги да застенки. Такая там воля, как на погосте поле…
– Что ж ты у панов волю искать прибег? – спросил Устин, подходя к чернобородому.
– А хоть бы и так, – огрызнулся тот, – ничем ваши паны наших бояр не хуже!
– Ах ты прихвостень панский! – шепотом проговорил Язэп.
Георгий оглянулся на него. Впившись глазами в чернобородого, сжав кулаки, Язэп вздрагивал от закипавшего гнева. Георгий взял его за руку, но Язэп, не глядя на друга, встряхнул плечом и шагнул к чернобородому прямо через костер.
– Ты что людей от братьев родных воротишь?
– Гони его в пекло к чертовой теще, – крикнул Устин, толкнув чернобородого на Язэпа.
Язэп взмахнул кулаком, чернобородый, пригнувшись, отскочил, попав ногой в костер и подняв облако искр и пепла.
– Что вы, братцы? Истинную правду скажу, провалиться мне на сем месте!
Чернобородый перекрестился.
– Вон, поганец! – наступал Язэп.
Георгий бросился к Язэпу, видя, что сейчас вспыхнет драка.
– Отойди, панич! – неожиданно остановил Георгия пожилой крестьянин. – И ты, хлопец, постой! – сурово приказал он Язэпу. – Вперед разобраться надо, что за человек…
– Верно! – подхватил насмешник Устин. – Может, при нем охранная грамота от князя или боярина!
– Грамота? – хрипло спросил чернобородый, метнув глазами на насмешника. – На, смотри, какую грамоту мне боярин выписал!
Быстро скинув полушубок, он поднял рубаху и повернулся спиной к Устину. Спина его была покрыта синевшими рубцами и лиловыми пятнами на местах вырванной кожи. В неспокойном свете костра раны будто ожили. Молча смотрели на них ратники. Потом кто-то тихо спросил:
– За что его так?
– Да, может, он злодей какой?
– Не злодей я и не вор, – говорил чернобородый, поворачивая спину так, чтобы было видно новым подходившим любопытным. – На боярина Ноздреватого всю жизнь спину гнул, а он по ней батогами пахал. Полюбуйтесь.
Окружившие его смотрели, трогали пальцами.
– Опусти сорочку, простынешь… – хмуро сказал пожилой. Ему неприятно было видеть, как человек хвалится своим горем.
Чернобородый одним движением заправил рубаху в штаны и стал натягивать на плечи полушубок. Он осмелел, почувствовав как бы свое превосходство над теми, кто зря смеялся над ним. Говорил зло, поучительно:
– Не нужны мне ни ваши паны, ни наши бояре. Будет! Теперь мой черед! Вы от князя своего воли ждете. Погодите, даст вам князь волю. Кому в рыло, а кому мимо, – сказал он, повернувшись к Язэпу.
Язэп молчал, исподлобья глядя на чернобородого.
– Ты нашего князя не тронь, – вступился за Глинского пожилой, – сам небось к нему прибежал.
– Может, к нему, а может, и нет, – загадочно ответил чернобородый. – Я землю ищу, где бы самого меня за князя признали… – ухмыльнувшись, пояснил он. – Да, видать, не с вами искать ее… Ну, расступись!
Твердым, решительным шагом чернобородый пересек светлый круг костра и ушел в темноту.
Оставшиеся зашумели, заговорили все сразу. На разные лады обсуждали непонятные слова.
– Видать, хлебнул борода горя…
– Это какую землю ищет человек?
– Где она, чтобы мужика за князя признали?..
– Вроде посмеялся над нами…
– А может, и в самом деле он… из каких-нибудь…
– Ну, чего языком мелешь, был бы из благородных, так не секли бы.
– Да, высекли крепко!
– Это баба его чепелом приласкала, – пытался шутить Устин, но шутку его никто не поддержал.
– Зря уйти дали, – словно опомнился Язэп, – надо бы его к пану Дрожжину отвести.
– Не совестно тебе, Язэп? – вступился Георгий. – Не от сладкой жизни сюда бежал человек.
– Знаю, – с неиссякнувшим еще возбуждением заговорил Язэп, – бегут к нам горемыки, и мы их, как братьев родных, жалеем, а этот…
– Что – этот?
– Глаза у него не такие… Брешет он, чует душа моя. Подосланный это.
– Кем подосланный?
– Панами подосланный, – горячо объяснил Язэп, – чтобы людей смущать, кого от Москвы отговаривать, кого от самого князя Михайлы. Слушайте, други, – обратился Язэп к собравшимся, – до князя разные люди приходят! От них только раздор. Вчера мы таких двоих повязали, смуту сеяли. А нам одного надо держаться!
– Верно, хлопец! – послышались одобрительные голоса.
– Святая правда твоя, нам за князя надо держаться.
– Он нас и на Руси в обиду не даст!
– Дай бог ему многие лета…
– Мы не боярские, – кричали одни, – а на Руси государь нашей веры!
– Нам другую землю искать нечего, – соглашались другие, – ишь чего захотел, самому за князя сказаться!
– Чужое горе-то далеко, – задумчиво сказал пожилой, – а свое – оно рядом. Вперед надо от него уйти, тогда закурим и другое кадило.
Долго еще по-разному обсуждалось сказанное чернобородым. Видно, слова его чем-то смутили людей. В темных углах шепотом рассказывали о нем тем, кто не был у костра. И, как всегда в рассказах, к малой толике известного о судьбе чернобородого прибавлялись новые, рожденные выдумкой сведения. Говорили, что прислан он от какого-то князя, бывшего простого мужика. Говорили, что сам он переодетый князь, бежавший с русской земли от злых братьев, захвативших его имение. Называли его и знаменитым разбойником, и тайным королевским соглядатаем. Верили тому, что кому больше было по душе. Кое-кто искал встречи с ним, таясь от своих товарищей.
* * *
Князь Глинский стоял у стрельчатого окна в просторном верхнем зале дворца и смотрел на поблескивающий редкими сторожевыми огнями ночной Туров. Только что он отпустил своего верного немца Шлейнца, умно и подробно рассказывавшего о настроениях в городе. О том, что делают городские мещане, стесненные военными приготовлениями Глинского, что говорят среди ратников, чего ждут приходящие на призыв князя люди.
Глинский смотрел в окно. Внизу, под горой, лежал темный разбросанный город.
Неспокойные думы тревожили князя. Скоро зима. Войско плохо одето, запасы продовольствия невелики, не хватает оружия. Братья – старший Андрей и киевский воевода Иван – медлят с помощью. А надобно торопиться. Того и гляди, разведает Сигизмунд о том, что готовится в Турове, и нагрянет раньше времени. Не отобьешься от коронного войска с этакой голытьбой. Где искать помощи? У перекопского хана Менгли-Гирея? Коварен, да и зол он на Глинского из-за битвы у Клецка. У Владислава венгерского? Тот далеко. Ладно, что обоз с оружием выслал, а большего вряд ли допросишься. У московского князя Василия?.. Всякий раз, когда мысли обращались к этому имени, сердце сжималось будто от страха.
Каждый день доносят ему, как растет в Турове надежда на Московского великого князя. Иной раз казалось, стоит только ворота открыть, уйдут посполитые «на русскую сторону» – не удержишь. И останется он, князь Глинский, сам-конь. Кто окружает его? Кучка мелких феодалов, обиженная православная шляхта да несколько иноземных наемников. Среди них есть неплохие военачальники, но сила не в них, а в больших полках простолюдинов. К их душе надобно путь найти. Увлечь за собой, через их мечту о воле достичь своей цели: отомстить Сигизмунду и панам магнатам, стать вровень великим властителям – королю польскому и великому князю Московскому, а пока не настал еще час, осторожно вести игру.
Даже самые близкие видят в нем вождя вольнолюбивых угнетенных людей, и никому не ведомо, чем пламенеет его душа. Так и должно быть. Сигизмунд и магнаты испугались его, хотят лишить всего, чего за долгие годы добился он миром, умом и отвагой. Что ж, теперь он заговорит с ними иначе.
Не видит нынешний король, как за его спиной растут силы Глинского. Да и что может видеть этот надменный властитель, окруживший себя иноземными советниками? Словно закрыл кто глаза королю. У Глинского глаза открыты. Вовремя он увидал, как росло недовольство людей на Белой Руси, как притесняемый иноземцами черный люд и купечество стали открыто искать дружбы с Москвой. За них вступился князь Михаил. К нему пристали братья его и несколько полуразоренных польскими магнатами феодалов.
Дружба их с Глинским была понятна. А чем объяснить поток посполитых людей, хлынувший на его призыв? Только ли силой «прелестных листов», сочиненных молодым бакалавром, задержанным в Турове и обласканным князем? Военной славой Глинского или самовольно объявленным им правом переходить от своих панов, не боясь преследования и нового закрепощения? Нет, в Туров шли, покинув своих панов, свои хаты и семьи, люди, давно копившие ненависть к гонителям веры и воли – католическим панам и епископам. Шли, надеясь на то, что он даст им долгожданное избавление, приведет под высокую руку русского государя, защитника и хранителя веры.
Он ненавидел нового литовского князя и короля польского Сигизмунда, ненавидел всех Радзивиллов и Забржзинских, готовился нанести им жестокий удар, но не хотел владычества над собой и московского князя. Боялся этого, потому и медлил с просьбой о помощи, хотя видел в Василии врага своих врагов.
Людская молва о якобы состоявшемся договоре Глинского с Москвой раздражала его. Он старался развеять эту молву, подсылая людей, пытаясь осторожно вселить неверие в русского князя. А молва росла, ширилась, и, что ни день, к нему во дворец приводили ратники связанных шептунов, требуя от князя Михайлы казни за смуту, за худые слова о братьях-единоверцах.
Глинский думал, что, пока его идея захватила весь лагерь, пока стали подвластны ее силе с таким трудом сколоченные полки, можно успеть повернуть людей. После, когда он одержит победу и запишет за своей вотчиной всех приходящих к нему посполитых, не страшна будет и дружба с московским Василием, как равного с равным. Надо выиграть время, еще раз попробовать уговорить Сигизмунда пойти на уступки… Или поискать помощи у Владислава… Надо действовать.
Глинский дернул шнур большого звонка.
– Коней! – приказал он вбежавшим слугам.
На рассвете Глинский выехал в Краков.
В Турове остался брат князя Михайлы Василий со своей дочерью. Он был слеп, немощен и, кроме того, что передавал брату часть своего имения «для общего дела», больше ничем заниматься не хотел. Даже его личным хозяйством он предоставил распоряжаться брату. А у Михаила дел было много.
В военном лагере Турова по-прежнему не затихали приготовления.
Дрожжин носился по городу, проверял работы, распределял людей, проводил обучение новоприбывших, судил, миловал и казнил. Все шло, как раньше.
Однако отъезд князя в Краков, а затем в Венгрию оказал неожиданное влияние на жизнь всего туровского лагеря. Скоро это почувствовал и Георгий, увлекшийся разысканными им старинными рукописями и давно уже не видевший никого из своих друзей.
Глава VII
В один из солнечных зимних дней Георгий отправился в монастырь к отцу Стефану, хранившему, по слухам, листы «слов» русского златоуста – епископа Кирилла Туровского.
Монастырь находился за городской стеной, и раньше посетить его Георгий не мог. Теперь же, став во дворце своим человеком, он получил право в любое время выходить за городские ворота.
Привратник, проводивший Георгия к отцу Стефану, приоткрыл дверь кельи и, молча указав на нее, ушел.
Георгий переступил порог и остановился. Черный гроб, поднятый на небольшой постамент, стоял посреди просторной сводчатой кельи, вдоль стен которой протянулись низкие дубовые скамьи и в углу, под тусклым киотом, стоял грубо сколоченный шкаф. Пахло ладаном и плесенью. В гробу лежал, сложив на груди руки, старик. Георгий подумал, что привратник ошибся или по какой-то причине не предупредил о смерти Стефана. Он взялся уже за ручку двери, чтобы покинуть келью, и… невольно вздрогнул. Из гроба послышался легкий свист и затем мерный храп спящего человека.
Георгий удивленно посмотрел на лежащего. Отец Стефан сладко спал, так широко открыв рот, что жиденькая бороденка переломилась о грудь. Вспомнив слышанное о фанатичных схимниках, избиравших при жизни ложе смерти, Георгий осмелел и сделал шаг к гробу. Навстречу ему из гроба поднялась лохматая, жалобно замяукавшая рыжая кошка. Стефан рывком поднял голову и, досадливо крикнув: «Псик, окаянная!» – ногой выбросил кошку из гроба. Тут он заметил Георгия.
– Кто здесь?
Еле сдержав улыбку, Георгий поклонился схимнику:
– Я из города, по делу до вас, отец Стефан…
Стефан посмотрел на него из-под красных припухших век, потом медленно и тяжело потер рукой лоб.
– Выйди, – тихо приказал он, – помолюсь, позову.
Георгий вышел, за ним шмыгнула и рыжая кошка.
– Дверь прикрой, – услышал он сердитый голос святого.
Плотно прикрыв дверь кельи, Георгий прошелся по коридору.
Скоро Стефан окликнул его, и, вернувшись в келью, Георгий почувствовал, как к запаху ладана прибавился новый, острый и стойкий запах вина.
Стефан снова лежал в позе покойника, но лицо, чуть порозовевшее, больше не казалось сердитым. Тихонько икнув, он ласково спросил:
– Что ищешь, сын мой?
– Ведомо мне, – как можно почтительней ответил Георгий, – что вам, отец Стефан, удалось спасти от иноверцев некие творения преподобного Кирилла…
– Святого, – поправил его монах.
– Святого Кирилла, – повторил Георгий, – записи собственноручные сказанных «слов».
– Боже, – протяжно произнес Стефан, – поем и воспеваем силы твоя! – и снова икнул.
– Я ученый, – продолжал Георгий, – хотел бы увеличить знания свои, прочитав хоть однажды те листы, вами сохраненные.
– Вси языци, восплещите руками, воскликните богу гласом радости! – пропел Стефан, явно оживляясь и всплескивая руками. – Оскудела обитель наша, только и храним, что святыню, слова Кирилла… ик… яко зеницу ока… За помощь нашу духовную, – плаксиво продолжал старик, – не благодарствуют. Не себя ради во гроб сошел, ради приношений для братии, а мне ничего не надо, я во гробе…
Георгий догадался. Вынув несколько монет и положив их на скамью так, чтобы видел Стефан, он смиренно сказал:
– Беден я, но поделюсь чем имею за помощь вашу…
Стефан метнул взгляд на скамью и приподнялся.
– Туда не клади, сюда подай… Не для себя, для братии благодарствую. Теперь вдругорядь выйди. Помолюсь за тебя.
Георгий вышел. На этот раз Стефан долго не окликал его. Когда же наконец Георгий снова вошел в келью, Стефан сидел в гробу и раскладывал на поднятых коленях старые свитки.
– Святые слова, святые слова, – бормотал он заплетающимся языком. – Никому зрить, не токмо читать не даю. А тебе дам, дам на малый срок… Только ни-ни! – погрозил он толстым пальцем. – Прокляну! – Он вдруг, хитро подмигнув Георгию, прошептал: – Я сам сии слова из гроба реку… живым вещаю.
Георгий взял у захмелевшего схимника несколько свитков и с чувством гадливости покинул келью.
Придя домой, он, однако, увидел, что вознагражден за неприятные минуты, проведенные в монастыре.
Несколько полуистлевших свитков, доставшихся Георгию, были лишь отдельными частями разных «слов» проповедника. На них не было даже обозначено, какому дню праздника или какому событию они посвящены. Вероятно, Стефану удалось припрятать лишь то, что было забыто при переезде высшего духовенства в Пинск, и вряд ли было необходимо хитрому монаху приводить их в порядок и устанавливать причины появления «слов», которыми он пользовался по своему усмотрению.
Разбирая ровный почерк Кирилла, Георгий поражался яркости поэтических символов, образности языка.
«Грехи расслабили члены тела моего, – читал Георгий. – Богу молюся, и не слушает меня. Врачам роздал все мое имение, но помощи получить не мог. Нет у них зелия, могущего переменить казнь. Ближние мои гнушаются мною. Смрад мой лишил меня всякой утехи… Нет утешающего.
Мертвым ли себя назову? Но чрево мое пищи желает, а язык иссыхает от жажды.
Живым ли себя помыслю? Но не только встать с одра, подвинуть себя не могу. Ноги мои непоступны, руки бездельны.
Мертвый я в живых и живой в мертвых. Как живой, питаюся, как мертвый, ничего не делаю. Лежу наг без божия покрова. Человека не имам влажаша мя в купель…»
«О чем это „слово“? – размышлял Георгий. – Только ли о недугах одного человека, имя которого оставалось неизвестным, или о судьбе многих в иносказательной форме говорил проповедник? К чему звал он людей, пребывающих живыми в мертвых и мертвыми в живых? Чему учил?»
Георгий развернул другой пергамент.
«Что глаголеши: человека не имам? – отвечал поэт. – Небо и земля тебе служат. Небо – влагою, земля – плодом. Для тебя солнце светом и теплотою служит и луна со звездами ночь обеляет. Для тебя облака напояют землю дождем и земля на твою службу возвращает всякую траву семенитую, древа плодовитые, для тебя текут реки и пустыня зверей питает. Трудолюбивые пчелы летят на цветы и творят для тебя медовые соты».
Георгий и раньше знаком был с некоторыми поучениями Кирилла – «Словом в новую неделю по пасхе», «Словом на Фомину неделю» и другими, попадавшими в руки читателей в виде переписанных, а иногда и по-своему переложенных монастырскими писцами листов. Теперь же в руках у него то, что не подвергалось чужому домыслию. Так ли велики эти «слова», как казалось прежде?
Форма их сравнения, вопросы, обращения и аллегории отличали «слова» от сочинений других церковных писателей. Но поэтический взор проповедника, обращенный к явлениям природы, уводил слушателей в сферы религиозного созерцания, поэтому назидательность его «слов» была далека от жизни народа, нуждающегося в общедоступном, ясном просвещении. Георгий же мечтал о таких сочинениях, в которых бы каждое слово было понятно и грамотному монаху, и прибитому нуждой землеробу.
Не ради туманных будущих благ, а ради сегодняшнего вызволения писал свои «прелестные листы» Скорина, и потому слова ему надобны были про людей, что «на своей земле, как чужие, живут, и про чужих, что их трудом, как своим добром, распоряжаются».
Засидевшись до полуночи, Георгий убрал пергаментные свертки и уже хотел погасить свечу, как в комнату, не постучавшись, вошел Осип.
Отряхнув снег, поставив в угол посох с надетой на него шапкой, Осип сбросил с плеча полупустую суму.
– Слава богу, что ты вернулся, – обрадовался Георгий.
Осипа не было в Турове более двух недель, и Георгий опасался, что жебрак попал в лапы королевских соглядатаев.
– Трудна дорога сейчас? Намело сугробы? – спросил он.
Осип присел на скамью, помолчал.
– Тяжело, да не сугробы повинны. Что сугробы? Снег, он и есть снег… бел, чист, недолговечен… Солнце поднимется, снег ручьями сойдет, а молодую землицу снова наши слезы польют…
– Что случилось, Осип? – встревожился Георгий.
– Горе, – тяжело вздохнув, ответил жебрак. – Обманет князь.
– Обманет? – удивился Георгий. – Князь Михайло обманет?
– Он, – кивнул головой Осип. – Кто же еще? Оттого только и горек обман, на кого надежда была.
– В чем же ты видишь обман для себя? – не поняв его, спросил Георгий.
– Не для себя, – отмахнулся жебрак, – меня обмануть нельзя. Не на чем обмануть нищего, – объяснил он, постепенно оживляясь. – На деньгах обмануть захочешь – я их и так не беру, должности не присудишь – и ее я не жду, а хлеба кусок от камня за версту отличу. Убить меня или в темницу бросить можно, а обмануть – нет. Тебя вот да, тебя обмануть легко.
– В чем же?
– В надеждах твоих, в чаяниях, – ответил Осип. – Тебя да несчастных тех, что на слово твое, как на приманку, шли, родные места покинули. К воле шли! Ты их прельстил твоими листами. Ты да мы, неразумные. Поверили князю, смутили людей! – с гневом закончил Осип.
– Постой, друг! – Георгий присел рядом с ним на скамье. – Видать, ты узнал что недоброе?
– Узнал. – Осип резко повернулся к Георгию. – Князь к королю Жигмонту поехал, – заговорил он шепотом торопливо, взволнованно. – У его милости ласку выпрашивает, чтобы миром все кончить. А людишек зазвал сюда, дабы короля напугать. Дескать, вон какая сила у меня, не хочешь мира – я войной пойду… И еще знаю, к хану крымскому от себя посылал. Может, и ему передаться согласен. Видно, заговорила кровинка татарская. Ты вот думал, что людей до московского князя зовешь. Тому поверили многие, ан все иначе выходит… Слушай меня: князь замирится с королем либо союз с ханом заключит, куда люди пойдут? Кто им защиту даст? Хлопы, рабы, отчинники княжий… Боже ж ты мой, сколько жизней загинет! – Осип уронил голову на руки и закачался, причитая: – Боже милостивый!.. Под кнутом, в колодках, на виселицах… за что? Сирот сколько новых, за что? Господи, смилуйся ты над нами, грешными.
– Успокойся, Осип, – проговорил Георгий, чувствуя, как его самого захватывает тревога высказанной жебраком страшной догадки. – Дай рассудить… не может того быть. Это злые люди так о князе… Нет, Осип, не покинет князь посполитых…
– Покинет! – почти выкрикнул Осип и быстро поднялся. – Только вперед я покину его!
Он шагнул к двери и поднял свою суму. Движения его были решительны.
– Куда ты, Осип? Отдохни у меня… обсудим…
Жебрак посмотрел на Георгия. Лицо его вновь приняло обычное, ласковое выражение.
– Куда? – переспросил он с улыбкой. – А никуда… На волю… Подале от князей – голова целей!
Низко поклонившись Георгию, он вышел за дверь. Больше никто не видел в Турове старого жебрака.
* * *
Посещение Осипа лишило Георгия покоя на всю долгую зимнюю ночь. Вспышка гневного недоверия к князю, убеждение в грозящем обмане, высказанное старым жебраком, обычно лучше других осведомленном о делах князя, наконец, его уход из Турова взволновали юношу.
Он не верил в обман Глинского, быть может, потому, что многого не знал, не видел. Запершись в своем покое, увлекшись разбором старых пергаментов и подорожных записей, он мало интересовался тем, что творилось за стенами дворца. А за стенами дворца уже появились первые признаки разлада в туровском лагере.
В городе было неспокойно.
Горожане выказывали недовольство. Размещенные в их домах ратники с каждым днем вели себя все смелее и нахальнее, разоряли хозяйство. Приходилось прятать от них не только сало и хлеб, но и дочерей с женами. Коли дальше пойдет так, то не от войны, а от одного постоя нового войска погибнет город Туров.
По улицам, словно в праздничный день, разгуливали молодые ратники, горланя непристойные песни. Чаще стали вспыхивать драки между полоцкими крестьянами, приставшими к Глинскому, и литовцами, между русскими и иноземцами.
Воротные стражники, что ни ночь, ловили людей, занесенных в реестры князя, пытавшихся обманом, а то и открытым боем прорваться за городские стены. Некоторым удалось уйти.
По берегам Припяти, грабя соседние фольварки и богатые хутора, разгуливала вольница чернобородого атамана, не признававшего ни князей, ни бояр.
Застрявшие в Турове купцы и покрученики подбивали народ к неповиновению. Обещали награды тому, кто вернется к своему старому господарю. Распускали слухи против князя Михайлы. Одни говорили, что Глинский хочет продать все поспольство, замириться с королем и панами магнатами. Другие сообщали как достоверное, что князь сторговался с татарским ханом Менгли-Гиреем и будет менять людей на золотые цехины. По пять грошей за голову.
Но самым злым слухом, более всего разжигавшим волнения, была весть о том, что Глинский отказался от помощи и покровительства Московского великого князя.
Находились «свидетели», будто бы видевшие в Турове московских послов. Привезли будто те послы волю всем русским от московского князя Василия, да Глинский напоил послов отравленным вином и ночью бросил в Турколодезь, а грамоту Василия сжег не то на трех, не то на двенадцати свечах.
Те, кто еще верили Глинскому, защищали его и словом, и кулаком. От этого нередко страдали и непричастные к тайному шепоту люди.
Дрожжин, оставшись за старшего военачальника и пытаясь успокоить непомерно выросшее пестрое и разноязыкое население туровского лагеря, до отказа набил сторожевую башню пойманными шептунами, публично сек главарей, но сдержать разложение лагеря не мог.
Он отправил одного за другим четырех гонцов к князю в Краков, а затем в Венгрию, требуя возвращения Глинского. А Глинский, не добившись успеха в своих переговорах ни в Кракове, ни у короля Владислава, покинул Венгрию и, разминувшись с гонцами Дрожжина, возвращался в Туров, ничего не зная о происходящем.
* * *
Проведя в тревоге бессонную ночь, взволнованный виденным и слышанным в городе, Георгий находился в крайне возбужденном состоянии.
Чувство обиды и ненависти захватило его. Обиды на маловеров, поддавшихся обману панских лазутчиков (он не сомневался в этом), и ненависти к врагам, пробравшимся в лагерь.
Он понимал, что крутые меры, принимаемые недальновидным и нелюбимым народом паном Дрожжиным, из-за которых страдают и невинные люди, могут вызвать еще большее озлобление. Надобно действовать иначе. Пока не приехал князь и пока еще не стало поздно, надо собрать верных людей, таких, как Язэп, и заставить самих посполитых охранять свою веру в начатое ими дело.
Отправившись искать Язэпа, он столкнулся со своим другом на повороте узкого переулка, ведущего к рыночной площади.
– Беда, – крикнул запыхавшийся Язэп, – к тебе бегу! Уходи, заховайся куда-нибудь… придет князь, оправдаешься…
– В чем оправдаюсь? Перед кем?
– Перед людьми! – проговорил Язэп, испуганно оглядываясь назад. Со стороны площади доносился неспокойный гомон множества голосов.
– Листы! – торопился хлопец. – Побьют тебя за листы обманные… Беги! Там человек один грамотный листы читает, что ты писал, говорит: «ради обмана»!
Георгий схватил Язэпа за плечи.
– Ради обмана? Листы наши обманные?
– Ну да!.. Сейчас на дворец пойдут: листы сжигать и писцов топить. Я хлопцев к пану Дрожжину послал предупредить.
Но Георгий будто не слышал этих слов.
– Слова там про волю твою… За тебя же, а ты – «обманные»!
– Да что ты трясешь меня? – вырвался Язэп, с удивлением глядя на друга, никогда еще не бывшего в таком состоянии. – Не я то говорю. Человек там один…
– Что за человек? – Георгий решительно шагнул в сторону гудящей площади.
Теперь Язэп схватил его за руку:
– Не шути, панич! В большом гневе народ. Могут что хошь сейчас учинить. Лучше и не кажись.
Георгий остановился, повернув к нему бледное с горящими глазами лицо.
– Ты поверил тому человеку, Язэп? – спросил он таким голосом, что тот невольно отпустил руку и машинально перекрестился.
– Бог с тобой, Георгий Лукич… Я тебе как брату родному и князю верю… да не я один… боюсь только, кабы…
– Бояться нам нечего, – перебил его Георгий. – Правда наша! Стало быть, за нас люди будут. Идем!
Не дожидаясь Язэпа, Георгий быстро направился к площади.
– Коли так, – пробормотал смущенный отвагой друга Язэп, – и моя голова с тобой! – Придерживая висевшую у пояса новую венгерскую саблю, он побежал вслед за Георгием.
Язэп несколько преувеличил опасность. На площади было пока относительно спокойно.
Худой, с вытянутой шеей человек, одетый в потертую купеческую чугу, возвышаясь над любопытной толпой горожан и молодых ополченцев, потрясая каким-то листом, кричал охрипшим, надорванным голосом:
– Ты нам грамоту московскую покажи, а не брехню дьякову! Обманные тут слова написаны, верьте мне, я все литеры знаю!
– Читай, что написано! – требовали вновь подошедшие.
– Про Москву, про русских что сказано?
– Про князя что? – гудели другие. – Когда татарам продался?
– Спалить листы! Разом с теми, кто набрехал их!
– Заманили нас, темных, неписьменных!
– Слушайте, слушайте, люди добрые! – призывал хриплый голос. – Ничего тут про волю вашу не сказано. И про Москву ничего! Только чтоб до князя шли. Сами теперь растолкуйте: вы до князя, а князь куда?
– Князь к татарам пошел, а нам куда?
– Князь с панами опять… против русских!
Не видя, не замечая никого, кроме стоящего на возвышении человека, не отрывая от него горящего взгляда, Георгий пробивался вперед, расталкивая плотный круг слушателей. За ним шел Язэп, по пути выискивая знакомых ему ратников.
– Может, листы эти нехристь какой складывал, а вы им поверили! – надрывался охрипший. – Татарам за обман крещеной души по ихнему корану все грехи прощаются!
Добравшись до сваленных бревен, на которых стоял ораторствующий, Георгий прыгнул к нему и, поскользнувшись, ухватился за полу охрипшего.
– Ай! – испуганно вскрикнул тот, подавшись назад, словно ожидая удара.
Но Георгий не выпустил полы.
– Стой! – крикнул он, становясь рядом. – Я тоже грамотный, дай сюда лист!
Глаза охрипшего забегали по толпе.
– Братцы! – прохрипел он осевшим голосом, пряча за спину лист.
– Отдай! – грозно потребовал Язэп, встав с другой стороны и положив руку на эфес сабли.
– Тут и читать нечего… брехня это. – Трясущейся рукой человек протянул лист.
Георгий выхватил его и поднял над головой.
– Листы эти, – крикнул он в затихшую, жадно ждущую новых событий толпу, – помолясь богу, я складывал! – И, опустив полу чуги, свободной рукой осенил себя крестом.
– Ага! – взвизгнул кто-то над ухом Георгия. – Вот он, подманщик! Бей его!
Георгий увернулся от удара.
– Эй! Не балуй! – Одним прыжком Язэп оказался возле Георгия. Он толкнул в грудь замахнувшегося, тот качнулся, распростер руки и покатился вниз с бревен.
Из толпы с руганью к бревнам бросились двое мещан. Язэп выхватил саблю. Охрипший, видя все это, хотел было юркнуть вниз, но подоспевший к Язэпу молодой ратник схватил его за воротник.
– Погоди! Разом читать будешь!
– Ты за что человека бьешь? – визжал внизу сбитый с бревен. – Кто таков?
На Язэпа наступали подголоски.
– Вязать их обоих!
– Слушайте, что тут написано! – кричал Георгий, стараясь перекрыть поднявшийся шум.
На бревнах уже было несколько молодых ратников. Человек в купеческой чуге хрипел, вырываясь из их цепких рук.
– Разбой!.. За правду средь бела дня убивают!
– Узнаем, чья правда!
– Пущай читает!
– Читай, панич! Мы тебя знаем! – гудела толпа, напирая на стоящих впереди.
Ратники держали охрипшего, зажав ему рот. Язэп размахивал саблей, не пуская на бревна лезущих в драку.
– «Люд посполитый!» – начал Георгий, держа перед собой лист.
– Тише, тише! Дайте слово человеку сказать!
– «Люд посполитый!» – еще раз громко повторил Георгий, глядя в бумагу, и, не ожидая, пока установится тишина, стал читать дальше.
Голос его был звонок, силен, взволнован. Смелость, с какой оборвал он ораторство хриплого, и любопытство к написанному сделали свое.
Зажатые в толпе, укутанные платками женщины зашипели на мужей. Пожилые мужчины крикнули на молодежь, и толпа стала затихать, боясь не расслышать слов того листа, который только что, не зная его содержания, она считала «обманным», а теперь, может, он и вовсе окажется правдой.
– «Кому веру свою отдадите, – читал Георгий, – панам ли католикам, что забрали и землю вашу, и дом, и волю? Или же братьям своим единокровным от единой матери нашей – Руси?»
Словно последняя волна затихшего шторма, шелестя, прокатилась по площади и рассыпалась, затихая в глубине, возле амбаров.
Когда Георгий уже заканчивал чтение, пан Андрей Дрожжин в сопровождении двадцати конников прискакал на площадь. Настроение толпы так же быстро, как оно было поднято против «обманных листов» и их составителей, теперь поворачивалось в противоположную сторону. Но пану Дрожжину было известно только то, как сообщили ему посланные Язэпом хлопцы, что на площади подбивают людей идти жечь дворец. Увидев в центре толпы молодого бакалавра, он удивился, но не стал медлить. По его команде всадники, горяча коней и ругаясь, врезались в толпу. Мещане шарахнулись в стороны, увязая в сугробах. Поднялся женский визг, вопли. Пешие ратники закричали, пытаясь объяснить конникам, но поднятый шум потопил их голоса.
Люди, теперь боявшиеся наказания за свой первый порыв, разбегались, толкая друг друга, попадая под копыта коней.
Язэп с товарищами тащил по снегу упирающегося хриплого человека в купеческой чуге.
– Пан Дрожжин! – еще издали кричал возбужденный хлопец. – Вот он, зачинщик! Он подговаривал!
– А тот где? – грозно спросил пан Дрожжин. – Бакалавр?
Язэп не знал никого с таким именем. Но Дрожжин уже сам увидел спешившего к нему Георгия.
– Вот ты как на князеву ласку ответил? – прошипел он, нагнувшись с коня и угрожающе сжимая плеть.
– Пан Андрей, – проговорил Георгий, с удивлением глядя на взбешенного Дрожжина. – Народ в сильном волнении…
– Связать! – приказал Дрожжин, ткнув плетью в Георгия. – Об народе сам князь позаботится! – громко сказал он, приподнявшись на стременах. – Едем встречать его милость!
Крикнув всадникам, он поднял коня в галоп, обдав застывшего от удивления Георгия брызгами снега. Двое конников, спешившись, подошли к Георгию и молча скрутили ему руки. Юноша не сопротивлялся и только выронил на снег все еще зажатый в руке «прелестный листок».
* * *
Вернувшись в Туров, князь Глинский понял, что его лагерь в опасности. Слишком открыто проявлялось нетерпение, колебалась вера в него – Глинского. Боязнь вернуться под власть ненавистных феодалов-католиков или попасть в рабство татарского хана толкала людей на необдуманные поступки, разлагала воинов.
Глинский, хорошо знакомый с историей крестьянских войн в Европе, знал, что массы легко отрекаются от своих поводырей, чуть только те сворачивают с желанного пути. Чтобы стать вождем людей, жаждущих воли и союза с русскими, а не просто смены властителя, надо поддерживать их веру в единомыслие с ними.
Как ни темен, как ни придавлен народ, все же он сильнее, чем кучка жадных дворян, ищущих только своей личной выгоды. Чтобы не быть раздавленным, надо идти с главными силами. Другого выхода нет.
Переговоры с Сигизмундом лишь ухудшили отношения. На помощь Владислава или Менгли-Гирея нельзя рассчитывать, да и при таком настроении людей в самом лагере их помощь была бы опасней молчаливого невмешательства.
Отругав Дрожжина за то, что тот без разбору хватал и виновного, и невиновного, слишком доверясь доносам и слухам, Глинский велел выпустить всех томящихся в сторожевой башне и начал осторожно, не наводя страха, очищать лагерь от смутьянов и маловеров.
Молодого бакалавра, по словам Дрожжина, подбивавшего людей разграбить и сжечь дворец, и еще нескольких заключенных он вызвал к себе.
До сих пор Глинский не слышал плохого о Скорине. Приласкав его, князь рассчитывал получить неплохого помощника, и вначале надежды его как будто оправдывались.
Владевший многими языками, Глинский совершенно не был обучен языку большинства примкнувших к нему людей, поводырем которых он становился. Счастливый случай привел к нему Скорину, когда надобно было составлять обращения. «Прелестные листы», написанные Георгием, убеждали искренностью, подкупали простотой слога, употреблением привычных слов, более понятных простому народу, чем монашеская церковнославянская речь. Скромный и трудолюбивый юноша понравился Глинскому. Неужели князь ошибся в нем, не разглядев за кажущейся преданностью тайных желаний?
* * *
Несколько дней, проведенных в сырой, темной башне, были невыносимо тяжелыми для Георгия. То, что его, вставшего на защиту дела Глинского, связали люди Дрожжина, сначала поразило своей нелепостью, затем вызвало чувство гневного возмущения против насилия, творимого приближенными князя.
Впервые лишившись свободы, оказавшись среди таких же, как он, несправедливо заключенных людей, Георгий не мог избавиться от мрачных мыслей. Его просьбы и протесты оставались без всякого ответа. Он с ужасом представлял себя оторванным от мира, ставшего глухим к его голосу. Сознавать это было мучительно.
«Значит, – думал Георгий, – достаточно глупому и своевольному пану Андрею, не пожелавшему даже выслушать объяснения, произнести одно только слово, и человека лишают света, воли, могут казнить, объявив изменником».
Каждый день, проведенный здесь, казался Георгию украденным у жизни, которая именно теперь, как никогда, безраздельно должна принадлежать борьбе, начатой в туровском лагере.
Узнав, что скоро его поведут к самому князю Глинскому, Георгий не испугался. Он решил высказать князю не стесняясь все, что думал сам и что думали простые люди о порядках, заведенных в Турове помощниками Глинского.
С таким настроением он вошел во дворец. Похудевший, отчего теперь казался более рослым, с бледным лицом и сердито горящими, ввалившимися глазами, в испачканном, местами порванном кафтане, Георгий ничем не отличался от других узников, приведенных вместе с ним на допрос к князю. Однако Глинский сразу заметил его и, улыбнувшись ему, как доброму другу, отозвал в сторону, предложив обождать, пока он окончит дела других.
Если бы Глинский отнесся к нему иначе, если бы с теми, которых привели вместе с ним, насмерть перепуганными людьми, туровскими мещанами, князь говорил строго, ругал их, угрожал, Георгий, забыв о неравенстве, наговорил бы немало злых, оскорбительных слов о пане Дрожжине и, наверное, рассердил бы князя. Но Глинский, видно, понимал состояние невинных узников, не одобрял действий пана Андрея и обошелся с приведенными к нему заключенными просто и ласково.
Глинский сказал, что их держали в башне напрасно, по ошибке, что, если за кем что и было, он забудет об этом и требует лишь верной службы в дальнейшем.
Радость освобождения не только его, но и томившихся с ним людей лишила Георгия гнева, вызвав чувство благодарности и прощения.
Без злобы к Дрожжину и тюремщикам, не упоминая о них, он рассказал о происшедшем на площади.
– Не поверил я сразу, что ты людей на воровское дело толкал, – просто заключил Глинский, выслушав рассказ Георгия.
– Спасибо, князь, – поблагодарил Георгий, ободренный доверием. – Но я привел бы их во дворец, кабы знал, что ты возвращаешься.
– Вот как? – Глинскому показался слишком смелым такой ответ, он нахмурился. – Зачем привел бы?
– Слово твое услышать, – горячо заговорил Георгий, – по сердцу слово! Истинное. Ответь мне, ваша милость, куда людей поведешь? Открой мысли свои народу, и, коли они справедливы, не будет вернее войска, чем твое!
– А коли нет? – тихо спросил Глинский.
– Сам знаешь, покинет тебя народ… как покинули уже те, кто душою слаб. Не дай бог этого!..
– Умен ты, – проговорил Глинский, отходя от Георгия к столу, – смел и душою чист, это в тебе ценю. Да только в ратном деле не все прямо дается. Кому просишь мысли открыть?
– Народу, воинству посполитому! – твердо ответил Георгий.
– Народ – не один человек. – Глинский задумчиво посмотрел в окно. – Люди разные. Другой на святом Евангелии клятву дает, а сам к Жигмонту о делах наших весточки шлет. Небось видел, какие здесь люди собрались. – И, повернувшись к Георгию, с гневом добавил: – Лгут про меня разные воры. То тоже Жигмонтовы старания. А придет время – все правду узнают. – Он схватил со стола исписанный лист и протянул его Скорине: – На вот, читай!
Это было составленное самим князем Михайлом письмо к московскому государю Василию III.
– Помоги, пан бакалавр, перепиши да подправь, где след.
С волнением и радостью писал Георгий под диктовку Глинского:
«Великий князь, государь. Шлю свое челобитие за себя, и за братию, и за приятелей, и за поспольство.
Прошу учинить ласку нам и жалованье свое. Вступись, государь, на всяких неприятелей наших, а нам помоги.
Люди веры одной и одного племени вельми тяжко живут в дому своем, как на чужбине. А все русские и на русской же земле испокон веков живущие.
Лепей бы нам вместе быть, и мог бы ты видети наше добро, а што нам доброго милосердный бог даст помощью вашей милости государскою, хотим до конца живота нашего вашей милости служить…»
Словно свалился камень с сердца Георгия: «Значит, не обманут народ, и Осип неправ».
– Дозволь, князь, – с сияющим взглядом попросил Георгий, – рассказать людям о письме том? Не будет крепче заслона от шептунов…
– Погоди, – остановил его Глинский, – отправим грамоту, тогда не опасно, а пока… Что ж, с другами близкими да верными поделись, пожалуй.
Первый, кого встретил Георгий, выбежав из дворца, был Язэп. Детина так обрадовался освобождению друга и так был счастлив, что его вера в князя не обманута и что многие брехуны посрамятся, узнав о грамоте к московскому государю, что ему захотелось ознаменовать этот день чем-либо особенно дорогим.
– Георгий Лукич, – сказал он, обращаясь, как к старшему, глядя на своего друга увлажненными от радости глазами, – не прими за обиду, коли много попрошу… Ты человек ученый, тебя паном называют… а я хлоп темный…
– Ну, что ты, Язэп… говори…
– Братом твоим стать хочу… – залившись краской, несмело выговорил хлопец.
Георгий молча снял с себя нательный серебряный крестик и надел на Язэпа. Язэп повесил на грудь Георгия маленькую овальную медную иконку. Они обнялись.
– Навеки брат! На веки веков!
* * *
Грамота московскому князю была запечатана и со строгим наказом вручена служившему у Глинского боярскому сыну Ивану, по прозвищу Приезжий.
Был этот Ивашка человеком странным и мало кому понятным. Откуда взялся он в Турове, никто не знал. На расспросы отвечал односложно: «Не здешний я, я приезжий». За то и прозвали его Ивашкой Приезжим. В самом ли деле был он боярским сыном или таким только сказался, никому не было известно. Но доставить важную грамоту в руки великого князя Василия Глинский поручил ему. И грамота была доставлена в самый короткий срок. С тем и вошел в историю неведомый сын боярский Ивашка Приезжий.
Отправив гонца, Глинский занялся делами с Андреем Дрожжиным. Проверял книги, реестры…
– Да, вот еще, – будто вспомнив только сейчас, сказал князь Михайло, – надобно брата Ивана кое о чем известить. Кого бы послать?
– К его милости князю Ивану путь недалек, – ответил Дрожжин, – до Киева – не до Москвы, любой слуга доберется.
– А что бакалавр сей? – тем же тоном спросил князь. – Он, кажись, в Киев плыл осенью? Вот его бы и отправить.
– Воля твоя, – поведя усами, ответил Дрожжин, затаивший на Георгия злобу после неудачного его ареста. – Сам слыхал, сколь дерзкие слова он перед твоей милостью говорил… холопий угодник.
– То верно, пан Андрей. – Глинский скрыл улыбку, зная, за что зол на бакалавра Дрожжин. – Горяч, да умен… только теперь он нам не опасен… и нужен не очень… Своим умом справимся. Пусть подале поживет пока что. Заодно и весточку передаст. Так что ты снаряди его к воеводе киевскому, князю Ивану. Пускай там науки свои постигает. Я письмо напишу.
Глава VIII
Весной 1507 года Георгий с оказией Глинского приплыл в Киев.
Древний город открылся ему в цветении садов, в сиянии золотых куполов церквей, освещенных ласковым солнцем. Раскинувшись на высокой гряде холмов, Киев отражался широкой поверхностью Днепра, манил пловцов приветливой, утопающей в зелени пристанью.
В этой поездке все радовало Георгия. И береговые пейзажи, и ясная, солнечная погода, и уверенность в том, что, выполняя данное ему от князя поручение, он в то же время сможет познакомиться с трудами киевских ученых монахов, о которых много говорилось среди живущих на Литве грамотных русских людей.
Георгий не знал, каково было содержание письма князя Михайлы к его брату, киевскому воеводе. Не сомневаясь в том, что он привез важное и тайное послание, юноша сразу с пристани отправился в большой стоящий на горе деревянный замок, где, как сказали ему, находился воевода.
В замке Георгия долго выспрашивали, откуда он, с кем и каким путем прибыл, что привез, но к воеводе не допустили.
Письмо от князя взял низенький, с круглой, наголо обритой головой и золотой серьгой в левом ухе воеводский кравчий. Он небрежно сорвал печать и, развернув лист, поднес его к своему носу.
Георгий был уверен, что, прочитав написанное, кравчий пригласит его к воеводе, и тогда все поймут, что он не простой гонец, а человек, которому доверили важное дело. Недаром же всю дорогу он оберегал это письмо, как самую большую драгоценность.
Кравчий поднял на Георгия узкие, насмешливые глаза и лениво проговорил:
– Гуляй, пан бакалавр, пану воеводе сейчас недосуг. А что до ученых монахов, то поищи их в здешних монастырях. Только из города пока не отлучайся.
Не попрощавшись, кравчий ушел.
Георгию было неясно, к чему относились его последние слова. Два дня бродил он по улицам Киева, знакомясь с городом. Почти на каждом шагу встречался с контрастами киевской жизни – богатством ее и нищетой. Роскошь первопрестольной столицы сменяли остывшие пепелища – следы жестоких войн и разорений. Златоверхие храмы, воздвигнутые древнерусскими и греческими мастерами, нередко оказывались лишь сохранившейся оболочкой. Широкие проломы дверей зияли черной глухой пустотой. Каменные ступени зарастали травой.
Покрылись серо-зеленой плесенью разорванные, наклонившиеся друг к другу широкие башни Золотых ворот.
Невдалеке от них, возвышаясь над низкими мазанками, стоял тринадцатиглавый Софийский собор. Он был недавно отремонтирован и восстановлен. И хотя служба в соборе еще не отправлялась, у его входа толпились нищие, уродцы и попрошайки. Побывав в соборе, Георгий сделал несколько зарисовок с древних фресок и мозаичных картин, украшавших своды, колонны и лестницы храма.
Спустившись к реке, Георгий запутался среди узких и кривых улочек тесно застроенного, убогого и грязного Подола. Здесь ютился ремесленный люд со своими кузницами, гончарными, кожевенными мастерскими, прядильнями и столярными.
Жилища ремесленников резко отличались от богатых построек Верхнего города. Копоть, дым и кислая вонь размачиваемых кож, лязг и грохот железа, плач детей, лай собак и мычание возвращающегося с поля стада коров по вечерам висели над Подолом.
Вверху улицы были по-весеннему оживлены и веселы. На восьми торговых площадях не смолкал разноязыкий говор украинцев и поляков, греков и венгров, шведов и евреев, татар и немцев. Казалось, со всего света съезжались сюда люди. Одни – по торговым делам, другие – помолиться в киевских храмах, третьи – в погоне за легкой наживой и в поисках приключений.
В центре города разгуливали богатые пани. Георгий не мог без улыбки наблюдать, как важно плыли по тротуару толстые, молодящиеся красавицы в сопровождении служанок, державших над ними, как опахало, сделанные из материи большие подсолнечники, чтобы солнце, не дай боже, не спалило белого лица госпожи.
На третий день, рано утром, еще до того, как зазвонили в церквах, уныло заговорил одинокий колокол костела. Его нечастый, дребезжащий звук повис над пустынными улицами. Затем появились конные разъезды, у городских ворот встала усиленная стража. На земляной вал выкатили пушки. Ставни в домах оставались закрытыми, отчего казалось, что город будто ослеп. Из-за заборов выглядывали и тут же скрывались чем-то встревоженные жители. Двери и ворота дворов запирались на двойные запоры.
Георгий прибежал в крепость, когда там только что было получено приказание закрыть город, приготовив его на всякий случай к осаде.
Воеводы в Киеве уже не было. Не было и бритоголового кравчего. Воеводский писец, укладывая в мешок какие-то пожитки, на ходу объяснил Георгию, что брат воеводы, князь Михайло Глинский, пошел войной против короля и уже разбил королевское войско где-то под Гродно, что пан воевода ускакал по Броварскому шляху неизвестно куда и что, если приезжий пан бакалавр хочет остаться цел, пусть скорее идет вместе с ним в Печерский монастырь, куда собираются все русские, так как теперь им опасно оставаться на виду.
– Может, еще все миром кончится, – сам себя успокаивал писец, – да только береженого и бог бережет.
В город прибывали военные. Улицы наполнила вооруженная шляхта. В костелах служили панихиду по зверски убитому изменником Глинским ясновельможному пану Яну Забржзинскому.
* * *
Челобитная, отправленная Глинским великому князю Василию, явилась тем верно угаданным шагом, который, с одной стороны, успокоил начавший было бунтовать лагерь повстанцев, с другой стороны, на долгие годы сдержал стремление посполитого люда к воле и объединению с русскими.
Король Сигизмунд понимал, что означала завязавшаяся дружба Глинских с Москвой. Готовясь ознаменовать свое восшествие на престол войной с московским князем Василием, вернуть волости, отданные Москве по договору, заключенному покойным Александром, Сигизмунд разослал послов к ливонскому магистру Плеттенбергу, перекопскому хану Менгли-Гирею и казанскому Магмет-Аминю, приглашая их вместе выступить против Москвы.
Король торопил союзников.
Послы объяснили:
– Для того такой срок короткий войны положен, что медлить никак нельзя. Как бы Василий московский да с его помощью Глинские, узнав о воле нашего государя свои земли добывать, не предупредили бы его и в наши земли не вторглись бы.
Уже дряхлеющий Менгли-Гирей устал от походов. За него все решали сыновья.
Молодые жадные ханы приняли польских послов почти с насмешкой.
Девять сыновей Менгли-Гирея собрались на совет в шатре старшего брата – Магмет-Гирея. Послов Сигизмунда весь день держали за дверью шатра, не допустив на совет. К ним по очереди выходили Магмет-Гирей, Ахмат, Фети, Мубарек, Магмут, Буретв, Саип, Саадет и Алли. Молча выслушивали просьбы и жалобы и снова уходили в шатер. Пили кумыс, думали… Наконец позвали послов, и самый младший, Алли-Гирей, объявил решение братьев:
– Московский князь для нас не скупится, и, пока не будет нам видна выгода со стороны Сигизмунда и шляхты, кони наши не вспотеют.
Уклонился от похода и Плеттенберг. Он советовал подождать, пока передерутся между собою молодые князья – великий князь Василий со своим братом, димитровским князем Юрием.
Начинать одному войну было опасно. В Литве, как большая заноза посреди ладони, не дающая крепко сжать кулак, сидел Глинский с массой взбунтовавшихся хлопов и приставших к нему русских земян.
Узнав о том, что Глинский уже снесся с Москвой, Сигизмунд забеспокоился. Начались лживые переговоры. Литовские послы заверяли Василия, что Сигизмунд хочет с ним вечного мира при условии возвращения забранных отцом Василия волостей, и в то же время подбивали Юрия на восстание против брата.
«Узнали мы о тебе, брате нашем, – тайно писал Сигизмунд князю димитровскому Юрию, – что милостью божией в делах своих мудро поступаешь, великим разумом их ведешь, как и прилично тебе, великого государя сыну».
Польстив Юрию, польский король недвусмысленно предлагал:
«Готовы для тебя, брата нашего, сами на коня сесть со всеми людьми нашими, хотим стараться о твоем деле, все равно как и о своем собственном».
Но и здесь Сигизмунд обманулся в расчетах. Князь Юрий, почуяв беду для отечества, открыл брату Сигизмундовы подговоры. А еще до того, как в Москву приехали литовские послы, великий князь Василий пригласил послов из Казани и договорился о мире.
Дела Москвы требовали передышки. Недавний поход на Казань был неудачным. Крымский Менгли-Гирей мог каждый час изменить слову и соединиться со своим пасынком Магмет-Аминем, казанским царем, и Литвой против Москвы.
Литовским послам Василий ответил:
– Мы городов, земель и вод Жигмонтовых под собой не держим, а держим свою отчину и от прародителей наших. Вся русская земля – наша отчина. Коли мира хотите и доброго согласия, наши земли под собой не держите!
Он не торопился с войной. Мир пока еще был нужнее и выгоднее молодому государю. Однако дать понять Сигизмунду, что Москва не боится его, дать почувствовать русскую силу и заставить пойти на уступки при переговорах было необходимо.
Василий отправил к Глинскому своего посла, боярского сына Митьку Губу, наказав через него ждать помощи, сообщал, что «вскорости направляет к Литве двух воевод, а пока – в глубь Королевства Польского не ходить, а добывать города ближние и крови большой не разливать».
С тем же Губой Василий отправил письмо сестре своей, вдове покойного Александра Литовского.
«Ты пишешь, – говорилось в письме этом, – что прислал к нам бить челом князь Михайло Глинский, да не один он бьет к нам челом, а многие люди русские, которые греческого закона держатся. Сказывают, что теперь беда на них пришла большая за греческий закон, принуждают их приступать к римскому закону, и они били челом, чтобы мы пожаловали их, за них стали и обороняли их».
Приезд московского посла обрадовал Глинского. Час его возмездия наступил. Едва дождавшись того дня, когда к литовской границе подошли русские полки, он поднял туровский лагерь, оправдывая старую латинскую поговорку: «Кинжал длинен, а терпение коротко». Отобрав семьсот лучших конников, Глинский двинулся в глубь Литовского княжества. В Турове остался Андрей Дрожжин с обозами, пешим войском и небольшим количеством оснащенных для ратного дела стругов.
Переправившись через Неман, Глинский уже подходил к Гродно, когда ночью ему сообщили, что невдалеке от города, в небольшом неукрепленном имении, празднует день своего ангела злейший враг его Ян Забржзинский.
Вместо того чтобы, напав неожиданно на Гродно, захватить крепость, овладеть городом и укрепиться в нем, как предполагалось вначале, Глинский повернул конников и той же ночью окружил имение Забржзинского.
Схватка была короткой и жестокой. Жолнеры, охранявшие пана Яна, не успев выхватить сабли, были зарублены. Пользуясь темнотой, разбежались слуги и некоторые еще не захмелевшие гости. Сам пан Ян, запершись в верхних покоях вместе с несколькими шляхтичами, отстреливался, защищая согнанных в спальню визжащих паненок.
Дом обкладывали соломой, собираясь поджечь его. Возбужденный боем и легкой победой, Алоиз Шлейнц подскочил к Глинскому.
– Мы казним пана Яна по латинским законам, – смеясь, крикнул Шлейнц. – Он сгорит на костре со всеми своими грехами. Аутодафе!
Глинский схватил Шлейнца за руку:
– Подождите с огнем! Я хотел бы посмотреть в глаза пану Яну. Видит ли он теперь Сигизмундову силу?
– Гут, майн герр! – захохотал Шлейнц и, кликнув богатыря-татарина, вооруженного большим немецким мечом, бросился к дому.
Забржзинский, видя, что им не вырваться из дома и что их могут сжечь живьем, велел выставить в окно на пике белую простыню. Он приготовился к сдаче, надеясь договориться с Глинским, и сам распахнул дверь перед вбежавшим немцем.
Не слушая слов о милосердии к побежденному, Шлейнц, остановившись на пороге, выстрелил из пистолета. Забржзинский упал на колени. Бывшие в комнате шляхтичи побросали оружие и подняли руки. По знаку Шлейнца татарин взмахнул мечом, и голова пана Яна покатилась по ковру, брызгая кровью и часто моргая веками.
Схватив пику, на которой была выставлена в окно белая простыня, Шлейнц проткнул голову Забржзинского и поднес ее вошедшему Глинскому.
– Вот его глаза, майн герр, – сказал немец, – они еще видят тебя!
Даже мертвые глаза пана Яна были злы и ненавистны князю Михайле.
Зарево пылавшего пожара освещало конников на пути к Гродно.
Впереди всех ехал татарин с большим мечом. Он нес на пике мертвую голову врага и окровавленную белую простыню как символ мести, как знамя непримиримой вражды.
В Гродно звонили в набат. На городских стенах толпились люди. Город приготовился к осаде. Нападение на имение Забржзинского лишило Глинского возможности неожиданно захватить гродненскую крепость. Это был первый просчет опытного военачальника.
Глава IX
После бегства киевского воеводы к своему брату Михайле Глинскому власть в городе Киеве перешла в руки людей князя Константина Острожского, богатого магната и гетмана Литовского княжества.
Сигизмунд, не объявляя «всеобщего рушения», спешно собирал полки против «мужицкого князя» Глинского. По его приказу гетман Острожский повел войска на Припять и Днепр, преграждая дорогу казакам, волновавшим днепровский «низ» и пытавшимся присоединиться к восставшим. Коронные войска стремились расчленить отряды Глинского.
Небывалый зной, державшийся все лето, изнурял солдат. Не были подготовлены запасы продовольствия, не было единого плана военных действий. Среди польских жолнеров вспыхивали недовольства, нередко выливавшиеся в злобную и бессмысленную месть всему, что было связано, как им казалось, с причиной тягостного похода.
Это настроение находило отзвуки и в городе Киеве. Не только попытаться покинуть город, но просто не вовремя показаться на улицах Киева для многих русских было опасно.
Георгий жил в Киеве в Печерском монастыре. Это был тяжелый год его жизни.
Достигнув, казалось, цели, к которой он стремился, Георгий не почувствовал удовлетворения. Знакомство с прославленной Печерской лаврой разочаровало его. Стремясь в Киев, молодой ученый надеялся там обрести новые знания, обогатить себя встречами с мудрыми наставниками, найти то, чего не мог он узнать в схоластическом университете… Здесь же все оказалось иным, чем ожидал Георгий.
Отгородившись высокими стенами и аскетическими правилами от всего мирского, монахи Печерского монастыря не гнушались, однако, подношений горожан. Осторожное поведение монастырских владык ограждало жителей пещер от вмешательства светских властей. Потому при первых признаках смуты сюда спешил тот, кто не успел вовремя покинуть город, спасаясь от польской шляхты.
В дни волнений, поднятых в Полесье, Печерский, как и другие монастыри, приютил многих русских жителей Киева.
В монастыре было тесно. Мирян разместили в кельях иноков. Георгий жил в келье, такой же узкой и темной, как первая келья-пещера, выкопанная на берегу Днепра основателем монастыря Илларионом. Земляные стены, потолок, закопченный масляным светильником, жесткие лежанки из досок, едва прикрытые сухой травой и крестьянским рядном, грубо сколоченный стол, лампадка над ним, несколько икон, украшенных сухими цветами-бессмертниками, – таково было это жилище. Дневной свет едва проникал сюда через открытую дверь и небольшое запыленное оконце над ней.
Жизнерадостный и веселый юноша, жадный до всего нового, Георгий первые дни с интересом наблюдал жизнь монастыря. Его сосед по келье, монах Иона, охотно знакомил его с монастырским укладом.
Скоро Георгий узнал образ жизни и поведение печерских отцов.
Никто не заботился здесь о просвещении простого народа, облегчении его участи. Была в монастыре школа, но обучались в ней лишь нуждающиеся в грамоте монахи Печерского и соседних – Выдубицкого и Межгорского монастырей да несколько молодых попов из киевских церквей. Учили же здесь только тому, что необходимо было для отправления церковной службы.
Понадобилось немалое время, прежде чем эта школа Печерского монастыря, пережив лихолетья униатских реформ и разорений, отвоеванная в жестокой борьбе и возглавленная одним из образованнейших людей того времени – Петром Могилой, превратилась в «коллегиум» – академию, воспитавшую достойных памяти писателей и борцов за просвещение посполитого люда.
Иначе выглядела знаменитая Киево-Печерская лавра во времена Скорины.
Тесно и душно было Георгию в земляной келье. Днем и вечером слушая поучения Ионы, считавшего себя временным наставником молодого смышленого мирянина, Георгия поразили выработанные монастырским уставом понятия о нравственности человека, постоянное напоминание о ничтожестве земной жизни и необходимости скорби.
– Помни, ты хуже всех, человек, – поучал его брат Иона, – должен ты Христа ради смириться!
Георгий пробовал возражать.
– Я встречал немало людей, – с улыбкой отвечал он, – кои хуже меня… Я не вор, не лжец…
– Не смейся над словами моими, – прерывал его монах, – смеяться вообще грех, ибо смех не созидает, но погубляет. – И, воздев очи горе, Иона молил бога: – Отыми, господи, от меня смех и даруй плач и рыдания, его же присно ищеши от меня.
Но не только скорбь была обязательна в жизни монастыря. Покорность настоящему, отсутствие суждений и мыслей о жизни общества считалось достоинством.
– Зачем тебе рассуждать и умствовать? – сердито говорил юноше Иона. – Будь покорен духовным вождям своим великим и малым, но стоящим выше тебя, и ты спасешься!
Для примера Иона дал Георгию одну из имевшихся в монастырской библиотеке повестей, в которой рассказывалось об умершем и чудесно воскресшем монахе. Когда монастырская братия с законным любопытством спросила этого монаха, как следует содержать себя в загробной жизни, воскресший ничего другого не ответил, как только то, что и там следует быть покорным игумену.
Добившись от настоятеля монастыря разрешения ознакомиться с рукописными списками сочинений, хранившихся в круглой каменной башне, Георгий понял, что слава Печерской лавры, долетавшая к нему в Полоцк и Краков, была отблеском давно минувшего.
Здесь, в библиотеке, Георгий увидел, как высоко развита была грамотность в Киевской Руси и сколь пагубно отразился на ней распад великого государства. Подобно прекрасным творениям зодчества, еще сохранившим свои величественные очертания, – Золотым воротам, храму Софии и многим другим сооружениям, поруганным иноземцами, но таившим под обломками следы высокого творчества, в башне монастыря тлели ненужные трусливым монахам поэтические творения старых писателей и мыслителей.
Теперь Георгий большую часть дня проводил в круглой башне.
– «Взору его открылись мучения грешников. В огненну реку погружены проклинавшие мать и отца и те, что ложно клялись…» – негромко читал Георгий, низко склонившись над пергаментом.
Бледнолицый послушник со впалыми, окруженными синевой глазами слушал его.
– «В смоляном клокочущем озере кипят клеветавшие на ближних своих…»
Георгий поднял голову и улыбнулся.
– Так, именно так, – проговорил он и, закрыв глаза, продолжал: – «А то вижу я людей, что сырую землю жрут, давятся, кровь изо рта течет. То те, кто чужую землю забирали. По заслугам и плата…»
– Мати божья, помилуй нас! – испуганно перекрестился послушник.
Георгий оглянулся.
– Что, брат Грицько, страшно?
– Страшно! – дрожащим голосом ответил отрок. – А ты чего радуешься?
Георгий встал и, притянув к себе мальчика, ласково объяснил:
– Читал я это и раньше, давно… на своей родине. И не только читал, а еще слыхал, как старец слепой да хлопец малый на ярмарке пели…
– Про богородицу? – осмелев, спросил Грицько.
– Нет, только похоже очень. Понимаешь, слова эти о «хождении богородицы по мукам» более как двести лет тому написаны, а я такие же от неграмотного нашего певца слыхал.
– Так то же не про богородицу… – робко заметил Грицько.
– Про муки, про те самые муки, что народ наш бедный по темноте своей принять винен. – Георгий взял в руки листы. – И еще про то же читал у итальянского автора Данте Алигьери, в терцинах своих жизнь в аду описал… Похоже, и его народ в таких же муках был, как и наш… Изложить бы теперь про то, что на земле деется простыми словами, как Андронова песня… – задумчиво проговорил Георгий.
– Святые отцы в книгах про тот, а не про этот свет пишут! – сердито, с укором сказал мальчик.
– Так, хлопчик, – согласился Георгий, – святые отцы про тот, а нам, смертным, про этот надобно говорить. Пошто людям и там и здесь мучиться?
– Бог милостив, – привычно вздохнул послушник.
– Милостив, да ненадолго, – улыбнулся Георгий и, подняв листы, показал: – Вот, гляди!
Георгий прочитал в конце апокрифа:
– «По делам их буде тако!» – это богородица говорит, а господь облегчение дал: за многие слезы грешникам от великого четверга до дня всех святых. Посчитай-ка, надолго ли?
Мальчик отшатнулся от него и, схватившись за ручку двери, словно боясь, что Георгий не выпустит его из книгохранилища, задыхаясь, крикнул:
– Ты… ты… над господом насмехаешься! Меня искушаешь! Ты грамоте обещал учить, а сам…
– Постой, Грицько! – пытался остановить его Георгий.
Но мальчик хлопнул дверью, и только слышно было, как торопливо застучали по крутой лестнице его кованые сапоги.
«Теперь, поди, побежит исповедоваться, – с досадой подумал Георгий, – наговорит невесть что, а игумен рассердится и запретит пользоваться библиотекой…»
И зачем было высказывать свои мысли? Не первый раз ругал себя Георгий за неосторожную откровенность. На всякий случай он решил сходить за свечой и, оставшись в башне на всю ночь, прочитать как можно больше.
Направляясь к ближним пещерам, возле деревянного забора Георгий наткнулся на сидящего на земле Грицька.
– Послушай, хлопец… – хотел объяснить ему Георгий, но Грицько предостерегающе поднял руку.
– Дай мне крест, – прошептал мальчик, – что боле не будешь… так и я промолчу… бо дуже я грамотой заохоченный.
Георгий повеселел. Значит, не так уж сильна суровая монастырская святость, если смог Грицько решиться на мировую с ним, грешником. Да и ни над кем не насмехался Георгий. Это сам неизвестный автор, стремясь приблизить сочинение к простому народу, наделил своих божественных героев реальными чертами, взятыми из обихода или устных сказаний и песен. Оттого и наполнилось это произведение душевной простотой и лиричностью, выделившими его среди других «житий» и «сказаний».
За лето Георгий ознакомился со многими списками «слов», апокрифов и «повестей».
Теперь Георгий не жалел о том, что обстоятельства задержали его в Печерском монастыре. Поднимаясь на темные этажи «книжной башни», видя перед собой полки с пожелтевшими рукописными книгами и пыльными свитками пергаментов, просиживая над ними, пока не догорала свеча, он словно посещал давно забытый, но дорогой сердцу мир. Грудь его наполнялась желанием видеть близких людей, мчаться, бежать туда, где подхватят его радость, поймут его мысли и с любовью услышат родное, правдивое слово.
Напряженные дни, проведенные им в полутемной башне, жизнь в мрачной пещерной келье и скудная пища согнали румянец с его щек. Георгий стал походить на бледного и покорного инока. Он ослабел настолько, что, когда с Днепра подул первый осенний ветер, затрясся в ознобе и, мучимый злой полесской «теткой-лихорадкой», уже не поднимался со своего ложа. Борясь с болезнью, в редкие часы облегчения он перечитывал при свете лампады свои записи и делал новые.
«Как прекрасны и как богаты были сочинения ученых людей на Руси, – думал Георгий, – сколь велика была их любовь к своей земле, ее чести и судьбе народа! Как часто восставали они против корыстных князей, разрывавших единое тело русской земли „несытства ради, богатства и насилия ради“».
То было в древности. А что происходит сейчас? Разве не к сегодняшним людям относятся старательно переписанные им слова?
«Мужи смысленные, почто мы распря имати межи собою? А погани губять землю Русскую, иже беша стяжали отцы ваши и деды ваши трудом великим и храбрьством!»
Глава X
После знойного, засушливого лета и короткой осени небывало рано наступила в Полесье зима. Остановились заледеневшие реки. Белыми овчинами укрылись одинокие хаты прибрежных селений, сровнялись под снегом поля и мшистые болота, окостенели дороги.
Не слышно больше ни выстрелов, ни ржания коней, ни военной трубы. Все успокоилось, затихло, казалось, люди надолго покинули этот край.
Старый рыбак вышел из своей скрытой в лесу хаты и подошел к реке. Свирепеет мороз. Холодно старику, да все же надо пробить лед и через лунки запустить хоть малую сеть.
Неспокойно было это лето на Припяти, и хозяйство старика пришло в полный упадок. Разорили его военные люди. Много шаталось их тут – и своих, и чужих. Тот овцу возьмет, тот куренка. Весь огород вытоптали. Последнюю долбленку-душегубку и ту у бедного рыбака угнали. А осенью, в самое рыбное время, пришлось в лесу прятаться. По всей реке королевские жолнеры топили русских людей. Тех, кто стоял за князя Михайла, да не успел с ним уйти. Кое-кому удалось в леса убежать. Вот и у него на хуторе скрывается один. Да только ли у него? Поди, в каждой хате, в каждом лесном шалаше прячется кто-нибудь. Князь-то в Москву ушел, а они вот бедуют тут, как звери лесные.
Ждут, говорят, вернется еще. Может, и вернется. Кто их княжеские дела разберет? Пока тихо на Припяти. Старик вздохнул и только было ступил на лед, как с противоположного берега послышались голоса, конский топот. Старик стал за дерево.
Из-за бугра к реке выехала группа всадников на заиндевевших конях, укрытых цветными попонами. Дорогая сбруя поблескивала на морозе.
Впереди, видно, был самый главный. Белая кобыла играла под ним. Ярко выделялся на снегу темно-вишневый плащ, колыхалось белое перо на круглой шапке. Следом закованный в железо рыцарь вез белое с золотом знамя.
Всадники остановились на берегу. Как раз против старика.
«А вдруг через лед пойдут?»
Прячась за деревьями, старик побежал. Надо предупредить хлопца.
– Язэп, чуешь, Язэп! – шептал старик, увидев хлопца, притаившегося за стоящим у берега стожком сена. – Паны приехали. Важные, с белой хоругвей…
– Сам король, – объяснил Язэп испуганному старику, – Сигизмунд.
Глаза Язэпа горели жарким огнем. Пальцы крепко сжимали рукоятку кинжала.
– Ишь любуется, – шипел хлопец, – погоди, даст бог, еще повстречаемся…
Старик испуганно держал Язэпа за рукав.
– Борони бог, увидят паны.
Но король не видел ни Язэпа, ни старика. Перед ним расстилалась немая, застывшая Припять. Он был в прекрасном расположении духа.
Обидчивая шляхта, получив долгожданные новые привилегии, видит в нем умного повелителя. Литовские магнаты с ним заодно. Хорошо, что он вовремя отстранил от двора всем ненавистного Глинского, а теперь и вовсе выгнал его с братьями за пределы великого княжества. Пусть целуется с московским Василием. Недолог час, и туда достанет польская сабля.
Слаб еще молодой московский государь против него, короля Польши и великого князя Литовского. Обещание русских помочь изменнику Глинскому оказалось не крепче слова неверной паненки. Да и на что мог рассчитывать Глинский? У Василия самого горела земля под ногами. Нет, недаром Сигизмунд слал дорогие подарки Менгли-Гирею. Вовремя крымский хан потревожил Москву, и Василий вынужден был отозвать свои полки от литовской границы, а за ними, не взяв Гродно, ушел в Новгород Глинский. Правда, он увел с собой много людей и имущества, но то были люди, негодные для королевства, неспокойные хлопы. Тем лучше будет теперь.
– Вот и Туров… Надо бы стереть до дорожной пыли это гнездо презренной измены, – нахмурился Сигизмунд.
Он застал город пустынным и грязным, как базарная площадь после ярмарки. Повстанцы покинули его, уведя обозы и пушечный наряд. Разбежались шайки разбойных хлопов, а те, кого успели схватить, лежат на дне холодной реки. Так будет всегда!
Никто не смеет тревожить Литву и коронные земли. Зима – плохое время для ратного дела, но придет лето, и он сам поднимет славное рыцарство в поход на Москву!
Сигизмунд оглянулся. В нескольких шагах от него стояла нарядная группа придворных. Разноцветные перья колыхались на шлемах военачальников. В ровных квадратах стыли немецкие рейтары – королевская охрана. Все почтительно молчали. Сигизмунд почувствовал, что сейчас он должен сказать какое-то историческое слово, что стоящие на берегу дикой реки ждут от него этого слова, чтобы потом на сеймах и балах повторять его и гордиться тем, что они собственными ушами слыхали, как он, Сигизмунд, говорил.
Заученно величественным движением руки он сбросил подбитый соболем плащ и, сверкнув боевыми доспехами, легко соскочил с седла. Шагнул на лед. Придворные, быстро спешившись, заторопились к нему.
– Опасно, ваше величество, здесь лед бывает тонок.
Сигизмунд улыбнулся.
– Теперь он уже крепок, друзья мои! – И, повернувшись к свите, сказал громко, так, чтобы слышали и рейтары: – Как этот лед сковал реку и заставил ее покорно течь там, где указано господом богом, так сковали мы буйство хлопов неверных. Отныне покорна будет вся земля наша!
– О-о-о! – восхищенно отозвались придворные.
– Эх, – вздохнул за стогом Язэп, – коли голова не отсохнет, так вырастет борода…
Сигизмунд взмахнул белой перчаткой:
– Виват!
– Виват! – прокричали рейтары.
Сигизмунд стукнул по льду высоким точеным каблучком. Зазвенела серебряная шпора. Улыбаясь, довольный собой, король прислушался и стукнул еще раз. Еще раз зазвенела серебряная шпора.
Король слышал только звон своей шпоры, а чуткое ухо старого полесского рыбака слышало другое. Другое слышал и своим сердцем Язэп.
В глубине недр свершался вечный процесс обновления. Под ледяным покровом глухо роптала на перекатах Ясельда, вливаясь теплой струей в воды Пины. Обходя подземные скалы, пробиваясь сквозь наносы липкого ила и корни погибших деревьев, спешили навстречу друг другу Лань и Горынь, Птичь и Словечно. Гонимые вешними ветрами, десятки маленьких рек сбегались со всех сторон для того, чтоб раствориться, исчезнуть, потерять свое имя, но укрепить силу старшей сестры. Припять поглощала их, наполняясь и медленно приподымаясь с песчаного ложа, пробуя – не пора ли? Тогда слышны были тихий стон льда и тяжкие вздохи воды.
Шли дни. Поднималось солнце, посылая на помощь реке свои золотые мечи. Таял снег, расступаясь под узором ручьев. Обрывались и, зазвенев, падали с крыш ледяные сосцы зимы-мачехи.
И однажды, решившись, ударила Припять в ненавистный ей лед. Всей силой стрежи! Вздрогнули на берегах реки сосны, уронив на землю белые рукавицы с мохнатых лап. Эхо пробежало меж деревьев, оповещая о том, что началось…
Заскрежетали, зашипели ледяные обломки. Сбиваясь в груды, они кружились на месте, упирались в отмели и выступы, пытались сдержать кипящие струи, словно можно было остановить то, что уже почуяло солнце и волю. Освобождалась река! Поднимаясь все выше и выше, гоня прочь разорванный лед, она наполнялась до берегов и, не вместившись в них, хлынула на поля и в леса, подступила к селениям.
От холмов и курганов по оврагам весело бежали к ней, сверкая на солнце, ручьи талого снега. Припять увлекала их с собой в дальний путь. Встречный ветер мутил ее огромное зеркало, с шумом рушились подмытые глыбы земли, падали береговые дубы, словно пытаясь загородить путь реке, но Припять разбрасывала тяжелые стволы, продолжала идти и, повернув на юго-восток, соединялась с Днепром.
На Днепре весна была в полной силе.
Синее небо колыхалось на широких волнах его, шумела молодая листва на его берегах, и первые журавли уже протрубили ему высокую славу.
Дни и ночи уносил старый Днепро в далекое море то, что присылали ему полесские реки. То щепу разбитого струга, то пробитый пулями стяг, то алую кровь храброго воина. До кипящей пены днепровских порогов весенний ветер пригонял запах порохового дыма и пожаров.
А навстречу ветру, от речных островов, от Канева, от Триполья скользили легкие чайки. По неведомым протокам, среди камыша и деревьев, пробирались к Припяти вольные казаки Днепровского низа. Происходило то, чего не ожидал Сигизмунд.
Стояла весна 1508 года.
Обманчивое затишье зимы взорвалось событием, какого еще не видали, пожалуй, с тех пор, как литовские князья захватили земли Древней Руси. Как наполненная весенней силой река не могла вместиться в старые берега, так накопившийся гнев, вспыхивавший ранее небольшими восстаниями, захлестнул многие села и города, разлившись по земле Литвы и Польского королевства.
Теперь уже независимо от того, дождался бы или не дождался Сигизмунд помощи от магистра Ливонии и перекопского хана Менгли-Гирея, успели или не успели бы литовские послы обмануть московского государя, а королевскому войску пришлось оседлать коней. Шляхетские дворы пылали один за другим вдоль всей Припяти – и на Соже, и в верховьях Днепра.
Припять вновь огласилась грохотом пушек, звуками труб, литавр, криками военной команды.
Счастливый Язэп, стоя на носу нового струга, приближался к пылавшему Мозырю. Теперь это был не бедный детина с вечным страхом беглого хлопа, а старшой на военном судне, храбрый сотник полесского войска. И струг его вез не бондарные клепки да ободья, а воинов князя Глинского, вооруженных добрыми саблями и пищалями. У ног Язэпа стояла небольшая пушка-гаковница, лежали сложенные пирамидой ядра.
За стругом шли долбленые чайки-душегубки, на них – бывалые плотогоны-полешуки. Знатная голытьба! Не меньше чем сотня пищалей.
– Гей, дядька Панас! – крикнул Язэп своему кормчему, старому рыбаку, у которого он скрывался прошедшую зиму. – Бери круче к берегу, видать, нас уже ждут!
К сожженной пристани с горы, укутанной дымом пожаров, шли люди с топорами, рогатинами, вилами и церковными хоругвями. Впереди размашисто шагал седой поп, высоко подняв крест.
На чайках приготовились к бою, но Язэп остановил их. Приложив руки ко рту, он крикнул:
– Туров наш, и люди кругом за нас, князь Михайло за вами прислал! С кем вы будете?
– С вами, браты! С князем Михайлом! – дружно закричали с берега.
– А где ваши паны? – еще не доверяя, спросил Язэп.
– Вот он, староста, а боле нема! Побиты паны! – ответили из толпы и подтолкнули к самой воде связанного, с петлей на шее, толстобрюхого, с обвисшими усами человека.
Язэп держался строго и солидно, как и полагается настоящему предводителю войска. Сойдя на берег, он сначала подошел к попу под благословение, потом поклонился мозырянам, подал команду своим и уж только после этого с сияющим лицом обратился к дядьке Панасу:
– Ну, старик, говорил я тебе, что будешь закидывать свои сети до самого Мозыря!
– Говорил, говорил! – подтвердил старый рыбак, не перестававший удивляться перемене, происшедшей с тихим и набожным хлопцем, прожившим у него всю зиму. – Все сбывается, все по-твоему получилось…
– Эх, – улыбаясь, вздохнул Язэп, – нема моих побратимов – Андрейки да Георгия Лукича. Вот бы погуляли с победы.
* * *
Далеко были его побратимы. Андрей – неизвестно где, а Георгий стоял на высоком берегу Днепра, прислонившись к каменной ограде Печерского монастыря. Он смотрел на речную даль, и никогда еще так тревожно не билось его сердце, как теперь.
На похудевшем, прозрачно-бледном лице то совсем потухали, то загорались лихорадочным светом глаза. Грудь жадно пила весенний воздух, губы тихо шептали что-то. Всю зиму Георгий боролся с жестокой болезнью, то выбираясь из тьмы мрачных видений к слабому свету тусклой монашеской кельи, то снова впадая в забытье. Раздвигались земляные стены пещеры, и с безбрежной дали разлива белой чайкой приплывала к берегу лодка. В лодке стоял Язэп и, смеясь, звал его.
«Заждался небось, побратим. Гляди, кого я привез тебе!»
Со скамьи поднималась одетая в черное, как монашка, Маргарита и, обливаясь слезами, протягивала к нему тонкие руки.
«Иди… ну, иди же, Франтишек! Мой Юрий… Ведь я поклялась… мужем моим будет только тот, кто носит это дорогое мне имя… Юрий».
Монах Иона еле мог удержать его, силой укладывая на жесткое ложе. Трижды в день он молился за Георгия, сначала прося у бога исцеления, а затем, потеряв надежды, прощения грехов. Вызванный игуменом из города врач определил сильный прилив крови к печени и не высказал надежды на выздоровление. Георгия окропили святой водой, причастили… И все же он вернулся к жизни. С помощью Ионы или послушника Грицько Георгий стал совершать небольшие прогулки.
Келья стала ненавистна юноше. Преодолевая слабость, он старался как можно дольше оставаться на тихом монастырском дворе или проводить одинокие часы возле каменной стены, отгородившей монастырь от Днепра. Выходить за ворота монастыря было теперь строго запрещено.
Георгия манила голубая даль половодья. Думы все чаще и чаще обращались то к дому, то к Припяти, к Турову. Днепр катил мимо мутные волны и редко когда приносил монастырским затворникам вести о событиях на Белой Руси.
Оттого и щемило сердце тоской, что доходили сюда только отблески взрывов, сверкавших вдалеке. Он не знал, найдет ли силы уйти отсюда, но хорошо знал, что оставаться здесь больше сил не было. Бежать, хоть на лодке, хоть вплавь, пешком по берегу, но бежать к ним… туда, на Припять!
– А ты крест целовал, что не побежишь! – услышал он чей-то голос.
Георгий вздрогнул и оглянулся. У ног его, под самой стеной, сидел Грицько.
– Слышал, – объяснил послушник, последнее время очень привязавшийся к Георгию, – как ты тихонько сам с собою говорил.
– Грицько, – Георгий присел с ним рядом, – не говори никому. Это у меня от хвори моей, от горячки… понимаешь?
Грицько утвердительно кивнул головой.
– Понимаю, – зашептал мальчик, – я и сам як в горячке… Побег бы до низу, до казаков… дали бы мне шаблюку добру, от я бы показал тем шляхтам…
– Ты ж монахом будешь, Грицько?
– Ну так что ж? За веру Христову, як те лыцари наши!..
– Ты храбрый, Грицько, – улыбнулся Георгий, – придет еще и твое время, а сейчас… помоги мне, браток!
– Як бог не поможет, что я зроблю? – тихо ответил мальчик.
Георгий осмотрелся. Вокруг никого не было видно.
– Достань мне, Грицько, одежду переодеться послушником.
Грицько посмотрел на Георгия, прикидывая, как будет выглядеть этот рослый человек в платье послушника. Мальчик чуть не рассмеялся, но быстро зажал рот рукой.
– Послушника за ворота не пустят, – таинственно зашептал он, – надо иноком, а то чернецом…
Возвращаясь к себе в келью, проходя мимо игуменской калитки, Георгий увидел, как игумен провожал какого-то не по-здешнему одетого гостя. Гость показался Георгию как будто знакомым, но калитка закрылась за ним, и Георгий не смог вспомнить, где он встречал этого человека.
Игумен поздравил Георгия с выздоровлением и позвал к себе на вечёру.
– Простите грешное мое любопытство, – осторожно сказал Георгий, когда вечера уже подходила к концу, – гость, которого вы сейчас проводили, будто б знаком мне.
– Вряд ли, сын мой. Вряд ли… – несколько насторожившись, ответил игумен. – Многих господь сотворил по подобию. Человек он не здешний и не из ваших краев.
– Откуда он?..
– Из Чехии, заезжий купец. Имени тебе его не открою, а кое-что сообщу. Только запомни, сие не для глагольства пустого, а для размышления.
Пребывая, как всегда после ужина, в миротворном состоянии духа, игумен рассказал, что купец этот чешский направлялся в Киев, да не доехал. Побоялся везти обоз в город. Остановился далеко на Днепре и по старому знакомству пришел в монастырь расспросить, своими новостями поделиться.
– Жалуется. Торговать, говорит, в нашей земле стало трудно.
Был под Минском, там неспокойно. Глинский у Борисова, московский Василий воеводу Шемячича ему в помощь прислал. Король им навстречу выступил. От дыма да пыли днем солнца не видно.
– Господи, – перекрестил игумен плаксивое лицо, – пошто не смиришь гордыню людскую? За грехи наши невинные муки имут… Кровь, аки воду речную, на земь выплескивают.
Глава XI
День, когда русские полки соединились с повстанцами, был наполнен всеобщим ликованием. Трудно было сдержать порывы буйной радости недавних подневольных хлопов, увидевших ратников московского государя.
Молчаливые и суровые полешуки разрушили парадный строй. Не слыша окриков своих командиров, они бросились на ряды авангарда, сжимали стрельцов в медвежьих объятиях, кололи друг друга щетинистыми усами, кричали, плакали и плясали.
Князя Василия Ивановича Шемячича, старого грозного воеводу, одним взглядом повергавшего в трепет своих воинов, ссадили с коня и на руках поднесли к князю Глинскому. Окруженные боевыми хоругвями, под радостный звон колоколов и восторженные крики народа Шемячич и Глинский трижды обнялись и по-братски облобызались.
С треском вылетели днища у бочек с медом и крепким пивом. Задымили костры, наполняя весенний воздух запахом жареной баранины, лука и медового варева.
До ночи не умолкали сурмы, волынки и хоровые воинственные песни.
Слово «брат» слышалось в каждом углу военного лагеря. Воины обменивались железными и деревянными нательными крестами, клялись на веки веков не щадить живота за брата, за единую веру, за русскую землю. Теперь и смерть не разлучит их!
Слепцы-лирники сложили новые песни. Про братьев московитян, про храбрых новогородцев, про больших воевод, что пришли освобождать землю Белой Руси.
А у поли, у поли
Зашумело жито,
Уродила земля,
Крывею полита.
А на той на земельце
Браты повстречались,
Браты повстречались,
хрестами менялись,
Хрестами менялись,
за шабли узялись
– пели старцы в селах, при дороге, встречая и провожая ратников.
Певцы шли вслед за своими земляками. На привалах собирали вокруг себя усталых, изнуренных жарой, не привыкших к походам молодых воинов и седоусых московских стрельцов. Простыми словами прославляли их путь. Пели о том, чего уже не видели их потухшие очи, но что слышали уши и чуяло доброе крестьянское сердце.
Ах, и дым по дороге,
Ах, и пыль по широкой,
Князь Михаила иде, на войну нас веде!
Все люди дивуются, как Михайле воюется.
А нечего дивовать, не один он идет воевать!
С ним боярин Василий и московская сила!
Слушали воины, и сердца их наполнялись радостью долгожданного братства, верой в победу, в скорую волю.
Молодые гордились тем, что идут бок о бок с войском московского государя, с завистью поглядывали на их пеструю, красивую одежду, на стрелецкое оружие. Старики жадно выспрашивали у стрельцов о жизни на московской земле. Рассказывали о своей.
Шли по кривому Борисовскому шляху, по дороге на Минск, на Вильну.
В мареве знойной коричневой пыли колыхались островерхие шапки стрельцов, поблескивали стволы ружей, пики. Плыли расшитые золотыми нитками боевые хоругви. Тянулись обозы. Скрипели низкие, тяжелые телеги пушечных нарядов. Раскачиваясь на ременных рессорах, грузно ныряли по ухабам воеводские кареты. Обочь, вспахивая копытами молодое жито, топча узкие полоски посевов, обгоняла обозы конница. Пожилые ратники глядели, как чернело поле там, где проходило войско. Молча вздыхали, хмурились, ни с кем не делясь своими мыслями.
Лишь иногда скажет кто-либо:
Пахали – сеяли, на бога надеяли,
А жать – придется подождать.
И остальные еще больше нахмурятся.
Шли…
Вечерами небо освещалось заревами далеких пожаров, доносились глухие отзвуки коротких боев. Это разосланные вооруженные загоны охотников и крестьяне, проведавшие о движении русских полков, расчищали путь.
Под самым Борисовом, не доходя до переправы через реку Березину, к воеводской карете подскакал конный дозор. Обнажив голову, перегнувшись с седла, сообщил что-то в затянутое кисеей окно.
Грузный седобородый воевода Шемячич распахнул дверцу кареты и с неожиданной для его возраста легкостью выпрыгнул на дорогу. Стремянные подвели красивого, гнедого с лысинкой коня.
Заиграла труба. Послышалась громкая и торопливая команда сотников. В рядах зашумели. Головной полк остановился, готовясь к бою.
Окруженный телохранителями, вперед проскакал Шемячич.
Еще издали он увидел, как с противоположного берега к реке спускалась беспорядочная серая масса людей. Их было несколько сот человек. Вооруженные пиками, крестьянскими косами и вилами, изредка и пищалями, они шумно входили в воду и, подняв над головой свое оружие, шли вброд. Иные, оттесненные товарищами, сбивались с брода, проваливались в ямы. Плыли, размашисто рассекая воду, поднимая каскады брызг. Далеко за ними, закрывая Борисов, к небу тянулись клубы черного дыма.
Несколько рыбацких лодок, опередив пловцов, пристали к песчаной отмели возле группы стоящих всадников. Подъехав ближе, Шемячич узнал среди всадников князя Глинского.
Рослый полуголый мужик с лохматой черной головой крепко обхватил одной рукой ногу Глинского, словно боясь, чтобы он не убежал, другой махал, зазывая.
– Тута! Тута! – кричал мужик, чему-то радуясь и торопясь сообщить свою радость другим. – Все тута! Браты наши… Москва тут!
Выбравшиеся из воды бежали на его голос. Возле Глинского быстро вырастала толпа. Спотыкаясь на неровном дне реки, падали, захлебывались водой, спешили отставшие.
Стрельцы входили в воду навстречу им, помогая выйти на берег. На двух лодках вылавливали не умевших плавать, сбившихся с брода.
Шемячич, отъехав к бугру, нависшему над рекой, молча смотрел, как мокрые, оборванные люди заполняли берег, обнимались с воинами, низко кланялись Глинскому, тянулись к его стременам и наперебой выкрикивали какие-то слова, тонувшие в общем шуме.
Глинский, заметив Шемячича, тронул поводья. Толпа расступилась, освободив дорогу его коню, и сейчас же сомкнулась, двинувшись вслед. Полуголый мужик, все еще не выпуская ноги Глинского, шагал рядом. Князь что-то сказал ему, мужик засмеялся и отпустил руку. Пришпорив коня, Глинский на легком галопе взъехал на бугор.
– Victoria![42]Победа! (лат.) – весело приветствовал он Шемячича. – Почитай, весь Борисовский повет нам навстречу поднялся… Шляхту, не дождавшись нас, сами разогнали. Бьют челом, в русское войско просятся!
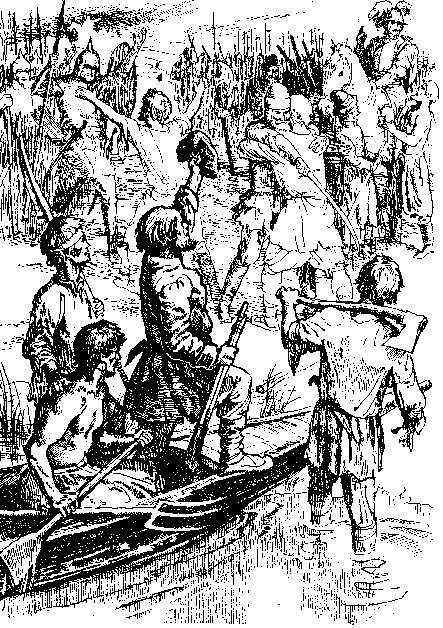
Вслед за Глинским двигалась толпа мокрых борисовских кметов. Теперь уже можно было разобрать отдельные выкрики.
– Слава, князь! Защитникам нашим слава!
– Челом боярину!
– К тебе, батюшка! Все разом теперь!
Почерневшие от солнца и копоти пожаров лица людей были радостно оживлены. Выкрикивая приветствия и кланяясь на ходу, они тянулись к глинистому обрыву, на вершине которого были воеводы.
Шемячич хмуро приказал стоявшим позади телохранителям:
– Черных на луг отвести… В сторону… Стрельцам быть в порядке.
Несколько всадников перегородили дорогу толпе. Пешие стрельцы теснили людей, отжимая их влево, на широкий, пестревший ранними цветами луг. Слабо упираясь, толпа медленно отступала. Полуголый рослый и сильный мужик, позже других уступивший требованиям стрельцов, пятясь от бугра, кричал:
– Не забудь же, князь! Слова своего не забудь! Меня Ригором, Ригором меня зовут… Семенов сын… – Но и его наконец оттеснили от воевод.
Шемячич был недоволен. Воеводу беспокоили эти слишком частые встречи с бунтовавшими крестьянами на пути его войска. Немало провел он военных походов, но с такими войсками шел впервые.
Старый боярин побаивался: не перешла бы зараза бунтарства и своевольства на его людей. Холоп, он и есть холоп. А стрелец – государев воин, и каждому от века свое положено. Сегодня они против своих панов топоры подняли, со стрельцами обнимаются, а завтра кого братами назовут? Мало ли на Руси воровского люда против бояр за пазухой камни держит? Лучше бы разделить войска. Он со своими, а Глинский со своими, с этой вот голытьбой.
Многое в делах Глинского не нравилось воеводе.
– Нынче гонец от герра Шлейнца был, – прервал размышления воеводы Глинский, – вся Копыльская волость под нами. Сказывал, трофеи богатые да пленных тьма.
Воевода молчал. Воевать Копыльскую волость Глинский отправил своего немца с большим отрядом наемных конников, не посоветовавшись с Шемячичем. Дошел слух, что волость эту наемники совсем разорили, что люди там не от панов, а от «защитников», посланных Глинским, в леса убежали. Местная православная шляхта к нему, Шемячичу, челобитную прислала. Пока что воевода не говорил о том Глинскому. Его дела, его и победа, и суд.
– А вот пану Дрожжину помочь надо, – продолжал Глинский.
Шемячич скривил губы усмешкой.
– Стало, не взял пан Андрей Слуцкого замка? Не по зубам орешек?
Глинский с трудом потушил вспыхнувшую обиду.
– Слуцкий замок укреплен изрядно… Я просил тебя, князь Василий, отдели хоть малый наряд. Сам знаешь, пушки мои непробойны. Замок же беспременно добыть надобно.
– А я, князь Михайло, не спорю! – не торопясь ответил Шемячич. – Надобно, так добывай! Только как можно мне государев наряд разбивать? Упаси бог, ляхи наши пушки захватят, чем отбиваться станем? – И, помолчав, сурово заметил: – У Слуцка зря людишек тратишь. Отзови! Повеличь силы свои. Тебе к Минску идти, на Вильну. Крепкий кулак надо. Жигмонт, поди, тоже не спит.
Кивнув в сторону луга, на котором расположились прибывшие борисовцы, он спросил:
– Али на них надеешься?
Глинский удивленно посмотрел на воеводу.
– Разве на Минск не вместе идем?
– Я здесь покамест останусь, – отведя глаза и легонько ударив коня шпорой, ответил Шемячич. – Повременю. Жду вестей от государя своего, великого князя Василия. Да и стрельцы притомились…
– Вот оно что… – тихо промолвил Глинский.
Шемячич медленно возвращался к своей карете. Глинский нагнал его.
– Добро, князь. К Минску один схожу. Обещаешь ли поспешить, коли о нужде своей знать дам?
– Обещаю, – едва скрыв радость, ответил Шемячич, довольный тем, что удастся без спора разделить войска.
Глинский по-своему рассудил эту беседу. С самого начала его злила медлительность воеводы. То, что Шемячич ссылался на усталость стрельцов, было неправдой. Воины шли дружно, охотно. Соединившись с повстанцами, они рвались к победе. Воевода их сдерживал. Не ждет ли он мира между Василием и Сигизмундом? А что, если Василий послал в Литву свои полки лишь для того, чтобы Сигизмунд стал сговорчивей? И впрямь, видно, так… Чего доброго, не успеешь дойти до Вильны, как мир будет подписан. Тогда все труды Глинского горьким дымом развеются по Литве… Надобно торопиться. Сделать так, чтобы мир этот был пока невозможен. Чтобы никогда не простили паны магнаты князю московскому его поддержку Глинского…
Не откладывая, Глинский послал гонцов к Дрожжину и Шлейнцу. Из примкнувших к нему беглых людей составил новые загоны, наказав разойтись по Литве как можно далее. Велел никому не давать покоя. Не щадить никого. Огнем и смертью пройти по литовской земле.
Забыл только князь, что рядом с панскими хоромами стояли хаты бедных холопов, что огню не прикажешь, не остановишь… Среди отчаянной голытьбы охотников, ушедших в загоны, были такие, которым не жаль ни земли, ни посева, ни двора, ни скота, ни панского, ни мужицкого.
Думал ли, нет об этом князь, только скоро он с удивлением стал замечать, что, приближаясь к какому-либо городку или селению, его отряды нередко находили хаты пустыми. Словно все вымерло. Не было больше шумных, радостных встреч, участились побеги крестьян, примкнувших к Глинскому еще в Турове. Некоторые, казалось раньше, надежные шляхтичи прямо отказывались помогать.
Это злило Глинского и толкало его на действия, не всегда разумные в деле, уже принимавшем характер большой войны.
* * *
К концу месяца конники Шлейнца, выйдя на Виленскую дорогу, столкнулись с сильным заслоном польского войска и, не приняв боя, повернули на соединение с Глинским. Но помочь Глинскому они не могли.
У Минска неожиданно выросли новые укрепления. Король Сигизмунд, спешно собрав шляхту и подняв коронное войско, успел перегородить все дороги.
Литовский гетман князь Константин Острожский с двумя полками хорошо вооруженных рейтаров шел вдоль Днепра, не давая низовым днепровским казакам соединиться с восставшими.
Дрожжин все еще топтался у Слуцка.
Видя, что поддержка, оказываемая Глинскому вначале местными православными феодалами, постепенно уменьшается, боясь рисковать своими сравнительно небольшими силами, воевода Шемячич к Минску идти отказался.
Снесшись с великим князем Василием, Шемячич увел стрельцов к Орше, где стал дожидаться отправленных ему на помощь русских воевод – князя Щеня из Новгорода и князя Григория Федоровича из Великих Лук.
Глинский вынужден был отойти от Минска и спешить к Орше под защиту московских воевод.
Глава XII
Еще до того, как войска начали отходить к Орше, Язэп получил приказ собрать два десятка лодок и спуститься вниз по Припяти до Днепра, разрушать по дороге переправы, разбивать заслоны, расставленные князем Острожским.
Плыть велено осторожно, не теряя из виду конных и пеших, шедших обочь, по суше, вдоль Припяти. Биться всем вместе.
Язэп был рад этому поручению. Хорошо знакомая река и ватага храбрых, отобранных им молодых мозырян на легких дубках, да несколько бывалых, пришедших с низу казаков сулили удачу.
Он не знал ни скрытых от него больших воеводских планов, ни сложных приемов ратного искусства, но хорошо понимал, что чем больше он уничтожит панов, тем будет лучше. Побывав в нескольких стычках с неприятелем и поступая так, как подсказывали ему чутье и врожденная сметливость, Язэп завоевал уважение не только среди молодых ратников, но и у старых полешуков-охотников.
– Нашего Язэпа и пуля боится, и сабля об него щербится! – с гордостью за своего нового друга говорил старый дядька Панас.
Сначала полушутя, а потом уже всерьез Язэпа стали называть на казацкий манер атаманом.
Новое, никогда до того не ведомое чувство наполняло доброе сердце детины. В нем росла ненависть к врагам. Ответственность за молодых, набранных им в свой отряд бойцов и мысли о предстоящих опасностях делали Язэпа как бы старшим по возрасту. Появилась в нем и вдумчивая, мужская сдержанность, и строгий взгляд. Все плывшие с Язэпом на лодках охотно подчинялись новому атаману и верили в его удачу.
Плыли ночью, не поднимая шума, не обнаруживая себя. Днем забирались в камыш или густые кусты и отсиживались до темноты. Их береговые спутники дважды натыкались на вражьи разъезды, и дважды Язэп с товарищами вовремя успевал на подмогу, неожиданно нападая на тех, кто пытался спастись вплавь через реку.
Так, без потерь, в ненастную темную ночь лодки подошли к тому месту, где Припять встречалась с Днепром. Язэп плыл впереди на долбленке с одним гребцом. За ним вел струг дядька Панас, и дальше, связав свои чайки-душегубки по двое, чтобы не сбивала волна, шли мозыряне.
Борясь с сильным ветром, прибивавшим лодки к берегу, пловцы наконец обогнули каменистый утес, нависший над бурлящей стремниной, и, круто свернув направо, вошли в воды Днепра. Теперь ветер гнал их вдоль реки, сообщая челнам большую скорость. Гребцы облегченно вздохнули, но тут Язэп подал сигнал, требуя пристать к берегу.
Между песчаной косой и высоким обрывом на воде покачивались несколько плотов, связанных свеженарубленной лозой, и две еще не оснащенные большие лодки.
Кустарник и широкие вербы закрывали берег от реки. Было ясно, что здесь готовилась переправа. Посланный лазутчик, низовой казак Иван Тихоня, входивший даже в свою хату на цыпочках, без шума, обнаружил за бугром оседланных коней и спящих вокруг потухшего костра польских жолнеров. Тихоня подошел совсем близко, успел даже отцепить саблю у крайнего спящего, но тут со стороны дороги послышался шум приближающегося обоза, и поляки проснулись. Тихоня едва успел скрыться. Странно, что отряд, идущий по берегу, не наткнулся на ждущих переправы поляков. Видно, лодки, пользуясь сильным ветром, вырвались вперед или сухопутные, сбившись с дороги, уклонились от реки. Так ли, иначе ли, а переправу надо сорвать. Мимо пройти нельзя.
Послав назад по берегу двух молодых хлопцев, велев разыскать и поторопить отставший отряд, Язэп расставил лодки по обе стороны переправы. Кусты и прошлогодний сухой камыш скрывали их.
Ветер усиливался. Тяжелые серые тучи, набегая одна на другую, укутали все небо. С верховья доносились глухие раскаты грома. Притаившиеся на лодках ждали знака атамана. Было холодно и тревожно. Скоро у места переправы оживились поляки. К плотам стаскивали какие-то мешки и ящики. В лодки садились закованные в панцири командиры. Ржали кони. Доносилась громкая польская и немецкая ругань. Поеживаясь на ветру, к воде спускались жолнеры. Уже можно было стрелять в них, не боясь промаха, но атаман чего-то медлил, не подавал сигнала.
Выглядывая из-за куста, Язэп видел, что польских жолнеров было много. Слишком много, если не успеют подойти береговые товарищи, и медлил…
Одна из больших лодок, отойдя от берега и продвигаясь к середине реки, оказалась против струга дядьки Панаса.
Вдруг на лодке испуганно закричал латник и, выхватив пистолет, выстрелил в сторону струга. В то же мгновение со струга «гакнула» пушка-гаковница. Язэп увидел, как польскую лодку подбросило и опрокинуло. Из-за кустов, теперь уже не ожидая сигнала, выдвинулись дубки мозырских охотников. Стоя во весь рост, они стреляли по отчалившим плотам. Жолнеры, еще не отвечая на стрельбу, крича и толкая друг друга, прыгали в воду, спеша к берегу.
Язэп, находящийся ниже всех по течению, помогал гребцу подняться вверх, ближе к стругу. Ветер крутил долбленку.
На песчаной косе метались поляки, ловили коней. Еще раз ударила гаковница, теперь в тех, кто был на берегу.
Струг выгребал на середину стрежи. Это была ошибка, и Язэп понял грозившую неповоротливому стругу опасность. Он кричал дядьке Панасу, но ветер и выстрелы заглушали его команду.
С берега рассыпалась частая ружейная дробь. Отбежав за вербы, поляки стреляли по хорошо видному стругу. Булькали пули и вокруг долбленки Язэпа. Брызги обдавали лицо. Напрягая все силы, Язэп старался перекричать шум боя. Он больше не помогал гребцу. Следя за боем, он стрелял в перебегавших по берегу жолнеров.
В воде барахтались сбитые с плотов и лодок рыцари. Железные панцири тянули их вниз, в бездонную тьму бурной реки.
Вертелся на стреже, упираясь ветру, бросивший якорь струг дядьки Панаса. Ахала гаковница.
Несколько мозырян, выскочив на берег, стреляли из-за укрытия. Но уже опомнились поляки…
Один за другим закружились и безвольно поплыли по течению два подбитых дубка. Взмахнул руками и упал, даже не застонав, Иван Тихоня. Ветер подхватил его тихую славу и понес над Днепром, до родных мест… на Украину.
Ударила пушка. Это била уже не гаковница струга, а большая пушка поляков. Возле струга взметнулся белый столб воды.
– Панас, где ты? – крикнул Язэп.
Кормчий не отвечал. Он ничего не мог ответить своему атаману. Упираясь одной рукой в мокрую палубу, оставляя за собой кровавый след, переползая через тела товарищей, Панас тянулся к пушкарю, застывшему между бочкой с порохом и раскатившимися ядрами. Пушкарь будто спал, уткнувшись головой в колени. Только зажатый в откинутой руке горящий фитиль змейкой извивался на ветру, разбрасывая короткие, гаснущие искры.
Панас уже был близко от него, когда увидел, как совсем рядом из черной воды поднялись худые длинные руки и вцепились в борт струга.
Старый рыбак на мгновение оцепенел. Сквозь волну показалось бледное с обвисшими усами лицо… потом голова, плечи, покрытые тускло блеснувшим панцирем. Панас оглянулся. К другому борту, хрипя и отфыркиваясь, быстро плыли двое польских жолнеров. Панас один был на струге. Один еще живой… Не отбиться ему от жолнеров. Рослые, здоровые, они уже лезли на струг. Собрав остатки своих сил, дядька Панас вырвал фитиль из мертвой руки пушкаря и, опираясь на бочку, поднялся на ноги.
– До дябла!.. Пся крев! – отчаянно закричал выбравшийся на палубу жолнер и, выхватив кинжал, прыгнул к Панасу. Панас взмахнул рукой, фитиль описал быструю, как молния, огненную дугу и упал в пороховую бочку. Рыбак успел еще навалиться на него своим телом.
Яркий громоподобный сноп огня взметнулся над стругом. Река осветилась огромным костром. Ветер рвал и разбрасывал пламя.
Язэп увидел, как появились на берегу польские всадники. Сверкнув саблями, налетели они на засевших в кустах мозырян, по трое на одного. Брызнула кровь на молодую вербу. Зацвела верба красным цветом.
Понял атаман, что не одолеть им поляков. Уцелевшие дубки Язэп отгонял на левый берег Днепра, сам продолжая держаться на открытой воде.
Сильным порывом ветра сквозь шум боя донесло к нему дружный крик русских. По берегу, еще продолжая стрелять, поляки бежали от воды.
Язэп выпрямился.
– Слава богу! Браты! – радостно крикнул он и чуть не упал за борт от тяжести навалившегося на него гребца.
Челн закружило. Язэп подхватил хлопца на руки, прижал к груди.
– Василек, наши идут! Чуешь, Василек?..
Что-то тупое и горячее сильно толкнуло его в спину. Он разжал руки. Василек, будто сломившись, лег на борт, накренил лодку и медленно стал сползать в воду головой вперед. Потом лодка качнулась в другую сторону, и Язэп, не устояв, упал на колени.
Он попробовал поднять голову и не мог. Ему так хотелось видеть, как наскочили конники на поляков… Но почему-то их крики и выстрелы уходили от него все дальше и дальше.
Слабея, Язэп лег на дно узкой долбленки во что-то липкое, мокрое. Ему было все равно. Ему было хорошо на дне лодки. Тихо, спокойно. Неужели все кончено и можно уснуть?
Вверху ревел ветер, вокруг били, набегая на челн, темные волны и гнали его вниз по реке, унося от шума, от последнего боя, от родной Припяти.
* * *
Ночь и день бушевал над Днепром ветер. И наконец пригнал с верховья грозу.
Георгий шел по берегу, всматриваясь в темную даль, изредка прорезаемую золотисто-синими вспышками. Холодные струи остро секли воспаленное лицо. Длинная монашеская сутана намокла и отяжелела. Обходя размытые водой овраги, поднимаясь на скользкие бугры, Георгий делал усилия, чтобы не упасть.
Идти становилось все трудней и трудней, но идти было необходимо. Он чувствовал, что стоит ему остановиться, и не хватит сил снова двинуться вперед. Потянет к себе мокрая, холодная земля, вернувшаяся лихорадка уведет в мрачную бездну небытия.
Полдня он ехал на случайной подводе. Сердобольный хуторянин, видя, что молодой монах то трясется в лихорадке, то жадно хватает открытым ртом холодный воздух, предложил заехать к нему попариться в баньке и гнал коней, торопясь уйти от грозы. Георгий отказался. Пути их разошлись.
Хуторянин свернул от реки влево, а Георгий пошел дальше по берегу. Непреодолимая сила вела его к тому месту, от которого год назад уплыл он на быстроходном струге.
Там, впереди, за стеной косого дождя, где кончаются нависшие тучи, свершается великий подвиг. Это не молнии освещают темное небо, а зарницы пожаров. Не гром сотрясает землю, а проносятся над рекой раскаты пушечных залпов.
Встает видение: всадники мчатся по холмистому полю. Появляются и исчезают какие-то люди. Гудит, умолкает и снова гудит большой колокол.
– Господи, скорей бы дойти до того вон бугра… Ноги будто чужие. Неведомая тяжесть пригибает к земле. Теперь до той одинокой сосны… Непременно дойти. Обхватив ее крепкий ствол, опереться… отдохнуть…
Как хорошо! Кажется, и дождь уменьшился. Нет, это широкая крона защитила его от невыносимых острых струй…
Снова видение. Невдалеке огонек, другой. Люди. А может быть, и в самом деле? Все равно. Теперь нужно дойти до них, до огней.
Шатаясь, выставив вперед руки, Георгий пошел. У самой воды освещенные смоляными факелами люди столпились вокруг вытащенного на берег челна.
– Вот и служитель божий ко времени, – сказал кто-то.
Оглянувшись на подошедшего, расступились, освободив проход к лодке.
Георгий подошел, нагнулся. Два факела, поднесенные ближе, осветили лежащего на дне долбленого челна мертвого человека.
– Язэп! – хотел вскрикнуть, но только прохрипел Георгий. Перед его глазами, как отблески далекого дня, поплыли разноцветные струи. Тело наполнилось тяжестью, совсем ослабело и начало падать, падать…
* * *
Когда Георгий открыл глаза, над ним колыхалось голубое небо. Плыли спокойные белые облака. Его мягко покачивало на неторопливо катящейся телеге.
Георгий хотел приподняться, но чьи-то руки удержали его.
– Лежи, сынок, лежи… Слава Христу, тут тебе все свои.
К Георгию наклонилось суровое, с седыми усами лицо.
– Вот как довелось повстречаться… ты уже монахом стал.
Георгий с усилием мотнул головой.
– Чужая одежда… бежал я… иначе нельзя было…
– Ну и хорошо, что бежал, – ласково успокоил его старик. – Значит, и не монах?.. Нечего тебе тут, пан бакалавр, шататься. Добро, на моих людей напоролся, а то недолго и вовсе пропасть… Лежи, лежи, увезем теперь тебя к нам в золотую Прагу…
– Пан Алеш? – тихо и удивленно спросил Георгий.
– Узнал! – обрадовался Алеш. – Наконец-то узнал. А то все Язэпом каким-то именовал.
– А Язэп где? – быстро заговорил Георгий, приподнимаясь и глядя по сторонам. – Или это чудилось мне?.. Там на берегу, в лодке… мертвый Язэп…
– Так вот оно что, – догадался Алеш, – то хлопец тот, что с челном к нашему обозу прибило… Схоронили мы воина. По-христиански… крест на нем был. Православный, а платье вроде бы польское.
– То мой крест, – прошептал Георгий, закрыв глаза.
– Твой?
– Да, брат он мне… Язэп. Побратим.
* * *
В сентябре 1508 года военные действия на Литве прекратились. Между великим князем Московским Василием и королем Сигизмундом был подписан мир.
Напуганный событиями, разыгравшимися по Припяти и Днепру, не надеясь на помощь ливонцев и татар, Сигизмунд уступил силе русских полков и подписал мир на условиях, ранее казавшихся ему тяжелыми и оскорбительными.
Князь Михайло Глинский с братьями ушел на службу к Василию. Был пожалован платьем, конями, доспехами и двумя городами – Медынью и Малым Ярославцем, да еще селами под Москвой.
Получили государево жалование и посполитые, ушедшие с Глинским в Москву. «Кто на шубу овчину, кто денег полтину, а кто худую скотину».
На несколько лет умолкли военные трубы на литовской границе.
Лишь, как отблески прошедшей грозы, вспыхивали в глубине Белой Руси пожары да бродили по лесам бывшие туровские ратники. Как тени прошедшего и предвестники будущего.
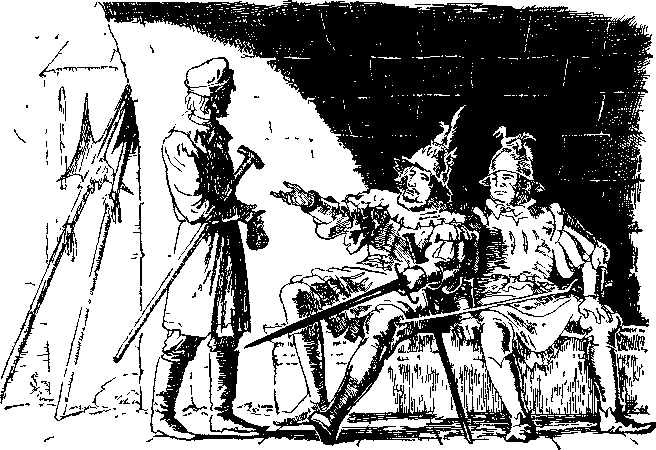
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления