Онлайн чтение книги
Люди с солнечными поводьями
Домм второго вечера. Сын однорукого
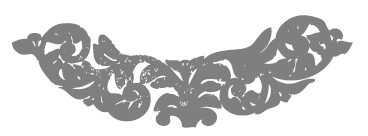
Отец Хорсуна в свое время сражался с гилэтами в легендарной битве на Поле Скорби. Тогдашний багалык велел Хозяйкам Круга одним из первых пометить его лицо знаком-молнией. Враг отрубил правую руку отца. Десница, оторванная от тела, успела на излете отхватить мечом косу молодого гилэта. Жаль, не вкупе с головой срезалась тугая, иссиня-черная косица длиною в три кулака. Теперь она висела в доме на самом высоком колышке правого западного столба над восьмикрылым боевым шлемом багалыка. Маленький золотой меч-оберег, привязанный к вплетенному в волосы ремешку, обманул неприятеля, не принес ему славы.
Лишиться волос для любого воина, здешнего или чужого, – самый большой позор. И почет для бойца, снявшего ее с затылка живого противника. Раньше ратники, говорят, вместе с косами вкруговую сдирали кожу с вражьих голов. Женщины выминали эту победную добычу и шили из нее нарядные переметные сумы. Циновки плели… Считалось, что бог Илбис[33]И́лбис – божество войны и мести. дарит спящим на гривах врагов дополнительные весны доблестной жизни.
Осрамившийся был багалыком гилэтов. О его главенстве извещали сверкающая золотыми насечками броня, шлем с золотой окаемкой и высоко задранный подбородок избранного повелевать. Будь он истинным воином, пал бы в бою, не снеся позорища. Постарался б забрать с собой в славную смерть столько недругов, сколько дадут Илбис и отвага, тогда молодого вождя с уважением поминали бы свои витязи и ратоборцы заставы Элен, не памятуя о снятой косе. Но он сбежал, этот чужой багалык, повернувшийся к битве спиной. Верно говорят: честь в долг не возьмешь, мастеру не закажешь.
После побоища на Поле Скорби сыскалась гривна бликового серебра с изображением коршуна. Кто-то вспомнил, что летящий коршун красовался и на щите хилого духом гилэтского предводителя. Ботуры сокрушались: слабак и своего птичьего покровителя поверг в бесчестье постыдным побегом. Гривну даже кузнецу на переплавку не отдали, бросили в ямину с трупами врагов.
Своей смертью настоящие воины не умирают. Они погибают в бою, принося себя в жертву богу войны.
За долгие весны осел и раздался прежде крутой курган над прахом поверженных гилэтов и опороченной гривной. Подле высится курган-двойник. Под ним спят земные души эленских героев. И правая отцовская рука. Тоже геройская, хотя всего лишь часть тела, не обладающая отдельной душой. А сам отец вместе со своим беспримерным упрямством похоронен далеко от Элен.
* * *
Когда култышка заросла, однорукий воин ушел из заставы. Сход аймачных старшин положил ему неплохое жалованье одежей и довольствием как победителю и пострадавшему. Он отказался. Не хотел, гордый, избывать оставленный Дилгой срок на дармовом содержании. Построил с помощью родичей добрую юрту в аймаке Крылатая Лощина, женился и обзавелся хозяйством.
Наверное, отец остался бы холостым, не сделайся он калекой. Жене от него перепадало не больше внимания, чем любому предмету в доме. Обращался с нею не плохо, не хорошо – никак. Она подарила ему сына – это все, что от нее требовалось. И рождения сына отец ждал не для продолжения рода. Своенравный разум этого независимого человека, поклонявшегося одному только Илбису, хранил никому не излагаемые затеи.
Со временем отец в простых домашних делах натрудил левую руку не хуже чьей-нибудь правой. Сын нередко имел случай убедиться в ее скорости и весе на собственной шкуре. Правда, взрослея и набираясь ума, Хорсун все чаще ощущал тяжесть родительской длани не с болью в затылке, а с одобрением – на плече.
Воинским премудростям отец обучил мальчишку сам. С трех весен, еще плаксивых и нежных, стал будить по утрам плетью. Порка была одно название, но сын рыдал громко и горько – от непостижимости обиды. Бежал жаловаться в левую половину юрты к матери, совсем недавно отлучившей его от груди. Мать отворачивалась, будто чужая, давая понять: так нужно.
– Не позволяй страху и возмущению владеть тобой, не то я забью тебя до смерти! – рычал отец.
Мальчик плакал, хотя двойная плеть устрашающе свистела поверху, не касаясь его спины.
– От плача душе становится тесно, и слезы выносят ее наружу. В разверстой душе гуляет ветер!
Хорсун замолкал. С вспыхнувшим наследным упрямством терпел обиду и начавшие вскользь прилетать удары плети. А скоро уже вскакивал с постели, едва заслышав скрип лежанки под могучим отцовским торсом.
Через год домашний мучитель принялся гонять сына бегом по двору. Метал в него деревянные дротики, которые называл стрелами.
– Следи за стрелой. Видишь? Хорошо! А теперь приметь вместе с нею цветок в траве и тучку в небе.
– Не могу! – в отчаянии кричал сын.
Легкая деревяшка летела дугой и кожу не пробивала, но было очень больно.
– Ты что бродишь глазами, человек-мужчина, упился хмельного кумыса?! – вопил отец, забывая, сколько сыну весен. – Вмести во взгляд свой всего одну стрелу, всего одно небо и одну землю! Разве это много?
– Не могу!
Беспощадный смеялся:
– Сможешь!
Не за одну весну приходит к бойцу мастерство. Отец не уставал твердить, что истинное воинское искусство растягивать и сжимать мгновения даруют не боги, а непрестанный труд и терпение.
Отзеленели три весны, прежде чем ученик научился скользить легче тени и отбивать палки маленьким кожаным щитом. Теперь мальчик легко и свободно перетекал из одного движения в другое, как текут-вьются в Большой Реке прихотливые волны.
Спустя еще какое-то время отец начал стрелять в Хорсуна из лука. Наконечники стрел были деревянными и круглыми, но тетиву наставник оттягивал почти в полную силу, какую вымуштровал в тех мышцах от плеча до подбородка, что заменяли ему потерянную конечность.
Потом в ход пошли деревянные бо́лоты[34]Бо́лот – якутский меч.. По требованию отца Хорсун выстругал их из разного дерева великое множество. Все сломались, не выдержав совсем не ребячьих баталий. Лишь увесистые лиственничные мечи, выдержанные для крепости в топленом жире, сослужили долгую службу.
Хорсун задыхался от бега в бесплодных усилиях избежать колючих тычков острия. Отец говорил:
– Сцепи зубы. Не вдыхай воздух рывками, иначе он сам начнет рвать лепестки твоих легких. Собери в тугой бутон легкие, печень, сердце, всего себя. Не сжимайся! Бутон – не кулак, он собран, но не напряжен.
– Я – не бутон. Я – мальчик! – протестовал Хорсун, отступая.
– На вид ты просто мальчишка, не спорю. Но твое тело, послушное мыслям, может совершать чудеса. Когда будет нужно, тело покажет тебе: ты есть то, чем вообразил себя. Ты – цветок, стог сена, колючая ель, непробиваемая стена… и даже оружие!
– Оружие? – не верил Хорсун.
– Да, и оружие! Ты волен внушить своей плоти суть любой вещи, животного, растения… Ведь научился же ты ускользать от стрел, как вода? Так сумей стать твердым, как земля, когда плашмя падаешь на нее. Если твердым стукнуть о твердое, ничего, кроме удара, не происходит. Нет никакой боли! А еще лучше – сделайся самим этим сокрушительным ударом. Способность мыслить дана тебе для перевоплощения, воин!
Съежившись, Хорсун жмурил глаза и пробовал представить себя то мечом, то землей…
– Дух твой должен быть спокоен и тело свободно. Тогда глаза увидят то, чего раньше не замечали. Уши услышат на много кёсов вокруг. Спина почует чужой взгляд за миг до того, как тебя обнаружит враг.
– Враг?..
– Встречай его хладнокровно! Спрячь душу поглубже, сам же старайся проникнуть на дно вражьего взгляда. Узри в противнике его нрав и слабое место нрава. Знай: скупой зажат, жадный – нетерпелив, любострастный – порывист. В жестах всякие людские пороки отражаются по-своему. Найди эти изъяны, и они помогут тебе сразить врага.
Сын бился двумя руками, по мечу в каждой. Отец, орудуя одним, приказывал:
– Пляши!
– Зачем?
– Разве бой с мечом не напоминает тебе пляску? Разве ты не знаешь, что она – песня тела? От того, как ты движешься, какой изберешь новый танец – стремительный, плавный, прыгучий или петляющий, – зависит твоя жизнь!
И Хорсун танцевал. Он привык к «песням тела», привык к ежедневной муштре. Скучать было некогда – жизнь наполнялась новыми знаниями.
– Сын! В чем нуждается победа?
– В опытных мастерах боя!
Отец ухмылялся:
– Не думай, что на самого искусного бойца не найдется на войне искуснее его! Опыту нет совершенства.
– Но ведь и войны нет…
– Она может начаться в любое время.
Отец сразу же раскраснелся, будто война, которую он всегда втайне ждал, бросила на него свой кровавый отсвет.
– Только во время сражения воину дано испытать настоящее счастье!
Однажды в поединке отец без предупреждения сменил свой деревянный меч на железный. Хорсун всерьез поверил: дай он маху – и учитель не пощадит. А на следующее утро увидел в изголовье подарок – новый боевой болот в затянутых кожею ножнах.
Но прежде чем применить в учении настоящие мечи, почти всю зиму посвятили занятиям с боевыми бата́сами[35]Бата́с – якутский нож. Батасы подразделяются на боевые, охотничьи, хозяйственные. Величина, ширина клинка и длина черня зависят от предназначения.. Испробовали все известные отцу ножевые приемы. Против батаса одно за другим выступали палка, охотничье копье и деревянный меч. Труднее всего было выстоять безоружным против ножа, а отобрать его у отца и вовсе невозможно. Отец играючи выхватывал орудие у Хорсуна, ни разу не поранив ни его, ни себя. Хорсуну же не удавалось обезоружить отца, как не получалось избежать и порезов на руках.
В ежедневные уроки входил хапсага́й[36]Хапсага́й – древняя военно-спортивная борьба..
– Хапсагай – борьба благородная, без крови. Придумали ее наши предки, чтобы можно было биться без мечей и копий, – объяснял отец. – Оружием были приемы. Они убивали не хуже мечей. В воинском Посвящении знание этих приемов – одно из многих испытаний. На праздниках ты видел, как люди показывают искусство правильно бороться. Разумеется, без смертоубийства… Главное здесь – быстрота. Борьба, как ничто другое, помогает человеку овладевать временем. Постигнув хапсагай, ты сумеешь неуловимо уходить от атак и нападать, с неотвратимой скоростью возникая там, где тебя не ждали. В одном движении скрывается девять. Раз – выверт, два – подсечка, три – твой противник на земле. Этот счет на «три» – то, что зримо людям. Потом ты говоришь себе «четыре». Люди удивляются, что не видят тебя, а ты уже на пути к дому.
На земле, конечно, неизменно оказывался Хорсун. Вскакивая, как ему казалось, сей же миг, он видел ухмыляющееся лицо отца. Тот спокойно, нога на ногу, сидел на пороге юрты.
Боролись и просто дрались. Бились на кулаках, лицом к лицу, на расстоянии взмаха, в прыжках наскоком. Разве что не кусались и не царапались. Ноги Хорсуна привыкали двигаться послушно и внимательно, наравне с руками.
О, сколько раз, не сумев извернуться, он получал ужасный тычок в горло! Шея не могла поднять голову, горло захлебывалось слюной. Сколько раз от увесистого шлепка по затылку перед глазами вспыхивали, мерцая, ярко-красные круги! А сколько было оплеух, когда в оглохшей голове начинался трезвон незримых колокольцев!.. При этом Хорсун знал: отец не бьет даже в четверть силы. Его натруженная левая рука за время тренировок стала крупнее и тверже десниц других воинов, словно сама по себе спешила набрать разрушительную мощь.
Между уроками отец перебирал мелкие камешки, насыпанные в кошель, висящий на поясе. Каждый палец руки без труда поднимал тяжелые камни, оплетенные ремешками. Иногда отец крепко сводил пальцы вместе и принимался с силой, будто острием ножа, тыкать в жесткую землю. Ямки, остающиеся от этих упражнений на месте занятий, темнели недолго. Стоило вновь взяться за мечи, как побелевший от соленого пота круг земли, на котором ничего не росло, приминался и выравнивался под ногами.
Украдкой Хорсун тоже пытался продырявить землю пальцами и удивлялся, как она неподатлива. Свирепую силу левши ему было не превозмочь. Отец, наверное, мог запросто вонзить пальцы в горло врагу и одним резким, страшным движением разодрать его пополам…
– Меняйся! – покрикивал отец. – Лети на меня с разбегу, ты – птица! Прыгай, ты – заяц! Рушь меня, ты – медведь! Рассыпай удары: прямой кулаком, круговой сгибом ладони, удар коленом, ногой по моему колену! Бей же, бей, пинай – спереди, сзади, сбоку, наискосок!
Он невозмутимо принимал удары каменно твердым телом, а потом незаметно вздергивал плечом, и сын как подкошенный валился с ног.
– Ты сжимаешь силу комком в одной части тела, поэтому другие места остаются без защиты, – качал головой наставник. – Распредели силу по всему телу. Сам ею стань!
Учеба крепко вбуравливалась в тело и душу и уносила время. Если бы Хорсуна спросили, когда траву во дворе сменил снег и снова успела вырасти трава, он, пожалуй, затруднился бы ответить. Костяк его постепенно обретал звериную гибкость, а остатки мягкого мяса превратились в каленую плоть, из которой до капли выжималось все детское.
Пробегая в коровник мимо сражающихся домочадцев, мать зажмуривала глаза и зажимала уши. Она боялась даже коротких воинственных воплей, не то что ударов. Женщине чудилось, что драчуны сейчас прикончат друг друга. Но возражать против страшных занятий она не отваживалась. Не смела подступиться со снадобьями и робкой лаской к вечно подраненному сыну и равнодушному мужу.
Хорсун догадывался, что отцовское предпочтение пало на мать из-за ее стеснительности и немногословия. Покалеченный ботур взял долговязую девку-перестарку, не чаявшую уже, что кто-нибудь сведет с братнего двора. Она была благодарна воину. Она его боготворила.
Когда парень пришел в юный возраст, отец сказал:
– Я сделал для тебя все, что сумел. Ты сделал для меня все, что смог. Пусть дальше нас обоих проверит Дилга.
И сын понял, что они учились вместе: он – воинскому искусству, отец – искусству однорукого воина.
* * *
Отец отправился на редко посещаемую им заставу и поверг ботуров в изумление, проведя несколько кулачных боев. Одного за другим поколотил всех насмешливых молодых добровольцев. Тогда вышел один из признанных силачей. Ухмылялся, играя бугристыми плечами, превосходящими отцовские в развороте. Не то чтоб хотел помериться силами, а решил слегка поразмяться, проучить зарвавшегося калеку.
Хорсун следил за поединком с дерева. Впервые довелось со стороны наблюдать за вкрадчивыми шагами на вид вовсе не быстрого отца. В какой-то миг почудилось, что он стал мельче и тоньше. Будто превратился в худощавого, невысокого человека, чьи движения столь же неуловимы, сколь метки. Казалось, одной руки достаточно, правая была бы лишней. Вспомнились отцовские слова: «По мере надобности руки должны становиться тяжелее булыжин и легче крыльев. Так же и ноги. У живота свое умение – твердеть мышцами, чтобы чужой кулак отлетал от него, как от упругой моховой кочки!»
Бой шел долго. Кровавой юшкой изошли оба, засинели подглазьями и после недосчитались зубов. Силач, поднапрягшись, обхватил отца руками и поднял над головой… Ох и сверзит же сейчас на землю друзьям на потеху!
«Раз», – подумал Хорсун, и сердце его захолонуло.
«Два», – однорукий совсем несильно пнул хвастуна в лоб.
«Три!» – верзила с яростным ревом покатился по земле.
«Четыре…» – глазам не верилось: отец мирно шагал по дороге, направившись, видно, домой.
Наградой победителю стало приглашение в военный поход. Отряд ботуров собирался надолго отвадить разбойников барлоров от поселений, расположенных в верхнем течении Большой Реки. Тамошние жители не имели своей рати и ждали заступников. Нечестивые крали у них табуны и резали стада. Людей старались не убивать. Но лучше бы убивали. Женщин тати брали силой, а мужчин угоняли к ма́ндрам, чьи земли находятся в преддвериях Великого леса. Мандры метили пленников таврами, как скот, и в свою очередь поставляли гилэтам. Несчастных ожидало рабство – самое страшное, что только мыслимо сотворить с людьми.
Не удалось ботурам найти главное гнездо-средоточье барлоров. Уж очень хорошо оно было упрятано. Но за весну все же настигли и уничтожили несколько мелких шаек, разбросанных в тайге по верховьям, и одну большую. На много ночлегов пути Великий лес очистился от волков в человечьем обличье. Однако пострадал и отряд молниеносных. Восемь посланцев не вернулись в родную долину.
Первым из погибших отрядный старшой, опустив глаза, назвал Смеющегося левшу. Такое прозвище, говорят, дали отцу люди окраинных аймаков. Он дрался как бешеный и все время смеялся. Его не брали мечи. Тело воина было словно заговорено. Сразила отца стрела с граненым наконечником. Спустивший ее оказался великим умельцем ходить по лесу бесшумно. Острый слух изменил ботуру. Может, из-за смеха… Не различил шороха шагов по каменистой тропе, не уловил свиста стрелы. Она вошла под левую ключицу меж костяными пластинами кольчуги легко, будто нож в игре, кинутый в землю. Знаменитая рука левши как раз выдернула копье из груди очередного врага. Успел обернуться к стрелку и весело потряс копьем.
Рассказывали, что лицо мертвого отца, осчастливленного доброй битвой, сияло. В тот день ему всласть довелось пострелять и порубиться. Все молниеносные мечтают о столь достойном завершении земного Круга. В этом и есть высокое предназначение воителя – погибнуть с оружием в руках, спасая чье-то имущество. Чье-то здоровье… жизнь… честь.
Отрядник с поклоном подал матери оберег с косы погибшего мужа – полую медную трубочку с замкнутым пером орла. Мать не заплакала. Только низко нагнула голову:
– Я знала.
Она пережила однорукого на месяц. Умерла от болезни горла, перекрывающей дыхание. Шаман Терю́т, аймачный старшина селенья Горячий Ручей, опоздал с помощью. Предупредил, что болезнь переходчива и может на кого-нибудь перенестись, если похоронить почившую от нее в земле. Велел сжечь дом вместе с телом.
Хорсун так и сделал. На третий день попрощался с матерью, с ее витающей в левой половине жилья освобожденной душой, уже не принадлежащей ей на Орто. Не взял из дома ничего, кроме даренного отцом меча, охотничьего лука с колчаном и гилэтской косы. Вплел в свои волосы орлиный оберег…
Огонь занялся быстро. К ночи юрта и все дворовые постройки сгорели дотла. Остались лишь обугленные пятна на земле в том месте, где прежде стояла усадьба. Утром Хорсун отдал живность соседям и ушел в заставу – навсегда.
Багалык подивился воинским навыкам мальчишки. Пошел на редкую уступку: позволил пройти Посвящение без положенного срока ученичества. За девять испытательных дней Хорсун показал все свои умения. Не было здесь того, чего бы он не смог одолеть в честной борьбе. В конных скачках, метании копий, хапсагае, кулачном бою, битвах с батасами и мечами оказался лучшим из лучших. Только в ответах на лукавые вопросы, требующие не столько знаний, сколько скорости и смекалки, пару раз промахнулся.
Старые ботуры с одобрением поглядывали на паренька, поразившего самые дальние цели из лука. Цокали языками, рассматривая во время очищения огнем его испещренное мелкими шрамами жилистое тело. Понятливо и уважительно кивали седыми головами, узнав, чей он сын.
Вместе с Хорсуном пробу проходили потомки старинных воинских родов – рыжий Кугас и плечистый, крепко скроенный Быгда́й. Они тоже обнаружили серьезную подготовку. Знать, не только мясовару помогали, прислуживая за столом три маетные учебные весны. Но Хорсун осилил испытания легче, хотя тогда был щуплым и возрастом младше.
Правящие главное таинство обряда Хозяйки Круга остались довольны всеми тремя. К правому бедру Хорсуна привесили воинский колчан, оснащенный девятью стрелами. Надели на большой палец левой руки ремешок с роговой пластинкой, защищающей от ударов тетивы. Судя по оперению в новеньких колчанах Кугаса и Быгдая, на долю каждого из них тоже пришлось по девять стрел.
Девять – священное число. Девять месяцев носит женщина дитя в себе. Девять ярусов небес возвышается над Орто. На девятом живет Белый Творец… Если вдруг грянет военная беда, стрел в колчане будет девять раз по девять.
Позже в дружине из уст в уста передавали слова багалыка о том, что за все время его правления не встречалось юношей, показавших себя более ловкими и выносливыми. И еще будто бы добавил багалык:
– Нравы Быгдая и Кугаса нам хорошо известны. Теперь узнаем, каков сын однорукого. Поглядим, не успел ли он отвердеть душою так же, как кожей.
* * *
В оные весны посвященных случалось до восьми человек. После завершающего смотра на учебном аласе учиняли гулянья с удалыми забавами и щедрым столом. Эленцы жертвовали на пир жирную кобылу. Новоиспеченные ботуры угощали Илбиса, вознося остриями копий куски кобыльего сердца и печени на кроны высоких деревьев. Добрым знаком считалось, если к утру подношение исчезало. Молодые пили со всеми кумыс из круговой ведерной чаши, вбирая в себя дружинное родство.
Год Хорсунова прихода в заставу не побаловал большим наплывом новобранцев. Но не потому воинскому селенью стало не до шумных молодецких потех. В завершающий день Посвящения в Элен стряслось несчастье. Неведомо куда канули трое здешних чудодеев – два шамана и удаганка. Это была огромная потеря. Терюта почитали как опытного врачевателя и справедливого старшину людей рода косуль. Старый Сарэ́л слыл лучшим благословителем в Великом лесу. Гуо́ну горше всех оплакивали дети. Молодая удаганка лечила их веселым огнем. Волшебное пламя сжигало болезни в теле, ничуть ему не вредя…
Больше в долине шаманов не было, если не считать черного колдуна Сордо́нга из аймака Сытыга́н. К кому теперь обращаться хворым, кто произнесет главные молитвы на празднике Новой весны?..
Долина гудела, множились праздные слухи. Поговаривали о тайном набеге людей хориту или разбойников барлоров, о войне шаманов со злыми духами и божьем наказании. Багалыка и дружину укоряли в ротозействе. Не бывало такого, чтобы люди в мирное время исчезали бесследно.
Малый сход впустую тряс всех, кто последним видел пропавших. Старшины вотще посылали гонцов в соседние аймаки и кочевья тонготов. Будто сквозь землю провалились шаманы. У воеводы дух от тревоги занимался. До светцев отправил молодых дружинников пешком прочесывать окрестные леса и горы – вдруг да найдется хоть какая мало-мальская зацепка.
Хорсуну выпало проверить сосновые увалы и елани в зыбучих падях, близких к Сытыгану. Парень решил побелковать на обратном пути. Взял с собой охотничий лук и старый колчан с девятью костяными стрелами. Ничего, что с меха осенней белки еще не слезла огневая, как вихры у Кугаса, рыжина. Хорсун отдаст шкурки женщинам, и кто-нибудь сошьет троим молниеносным новичкам теплые шарфы из черно-рыжих беличьих хвостов.
Чуть ли не за каждый куст заглядывал юный ботур, благо ноги скорые и глаз на любой пустяк наметан. Свежий излом на ветке, растревоженный муравейник, сорванная паутина могли показаться кому-то безделицей, но не Хорсуну. В сосняке мало мха и валежника, песчаные тропы чисты и влажноваты от росы, кто ступал – сразу видно. Человеческие следы пока что не попадались, одни звериные… И вдруг словно холодным ветром повеяло, темная тень пала на лицо! В просвете между деревьями мелькнул человек. Высокий мужчина в разлетающейся кожаной дохе быстро шагал в сторону Сытыгана. Хорсун подобрался и, не спуская глаз с незнакомца, крадучись, тронулся за ним.
Доха мужчины была пошита из шкуры диковинной зернистой выделки, продымленной до земляной черноты. Кожа мокро лоснилась, переливаясь в движениях. Подобной одежды не носили ни тонготы, ни одулла́ры, приезжающие зимой с берегов северных рек выменивать камусы и мясо домашних оленей на конский волос и железные вещи. Значит, это не тонгот и не одуллар. Да и ростом велик по сравнению с кочевниками, мелкокостными и приземистыми. Может, шаял? Нет, у тех туловище массивнее и длиннее, а ноги короче. Торги в Эрги-Эн прошли в начале лета, все чужестранные торговцы давным-давно разъехались в свои земли. Кто этот пришелец, что делает здесь? Должно, он-то и связан с пропажей шаманов!
Под ногою хрустнула ветка. Воин замер, досадуя на себя, – горе-следопыт! Мужчина обернулся и тоже замешкался…
Не так уж близко находился человек, чтобы вплотную видеть его глаза. Но Хорсун видел, будто столкнулись лбами. В этих глазах… о-ох!.. брело в ледяную даль несметное полчище замороженных весен, более студеных, чем застарелые глыбы льда на северных хребтах. В двух тускло мерцающих кровавых озерах – парень разглядел и мог поклясться – плавали обледенелые трупы людей, застигнутых в отчаянном усилии спастись. Окаменевшие в невообразимых позах, со смерзшимся воплем на лицах!
Хорсун попытался сделать взгляд пронзительным, как учил отец, но зрение затуманилось. Воин едва усмотрел, что его собственное лицо двумя дрожащими лунами отражается в страшных глазах незнакомца. Эти очи притягивали и притягивались сами. Взор их приставал к лицу липучей смолой, оставался на щеках неотдираемой грязью. Хорсуну захотелось тотчас шмыгнуть за дерево, спуститься с увала к ручью. Отмыться… развести очищающий костер… или, нет, бежать… бежать опрометью, без оглядки!
Мысли ботура скакали саранчой, а сам он стоял как вкопанный. Незнакомец наконец отлепил и отдалил обжигающие холодом очи. Присел на обрубок дерева. Сапоги у него тоже были странные, с глянцем на носках и полукруглыми выступами на пятках. В похожей обуви ходили в Эрги-Эн редкие торговцы западных племен. Не нунчи́н ли, житель запада, этот пришелец?
Хорсун пошевелился, отмирая онемевшим телом. Он изо всех сил старался не показать обуревающего его страха.
…Нет, не нунчин. Не барлор и не гилэт. Вообще не человек. И, без сомнения, враг. Самый чудовищный из всех, когда-либо ступавших на землю Элен. Жилец не Срединного мира, не связанный пуповиной с Орто и вообще не имеющий с нею общих корней.
Тонкая кожа дохи облегала чужака плотно, не выдавалась на левом бедре, где обычно топырятся привешенные к поясу ножны. Стало быть, безоружный.
Мужчина зевнул громко, со смачным челюстным хрустом. Во всю ширь распахнул глубокий зев с двойными рядами острых клыков. Зачем такому меч или нож? Не укусит, так взглядом заморозит насмерть. Ни к чему играть в благородство.
Не таясь и не медля, Хорсун кинул стрелу к тетиве. Оттянул – аж плечо от напруги свело.
– Эй! – крикнул, чтобы не в спину стрелять. А через мгновение понял, что попал мужчине в горло.
Странник мог увернуться, мог на лету словить рукой кургузую, рассчитанную на беличью зеницу стрелу. Не успел ни того ни другого. Судорожно схватившись за шею пальцами обеих рук, закатил кверху жуткие глаза. Из-под древка стрелы толчками хлынула кровь, сок жизни обыкновенного багрового цвета…
Кем бы ни был иноземец, Хорсуну сделалось дурно.
Ему говорили: что – Посвящение! Мало летать в прыжках, бежать по отвесной круче, опускаться на дно озера. Мало являть чистоту мастерства живостью тела и четкостью движений. Мало владеть оружием… Воин проходит главное испытание, убивая первого врага.
Ему говорили: иные посвященные, впервые прикончив в бою человека, после боя оставляли бранное снаряжение в Двенадцатистолбовой и не возвращались в заставу.
Ему говорили: у смерти Ёлю страдающее лицо и она горазда запустить казнящую муку в такую твою сокровенную глубину, какой ты сам не ведаешь в себе. Хорсун был уверен: он выдержит, не дрогнув. Легко! Он ждал и жаждал испытания человеческой смертью. А тут, несмотря на то что клыкастый незнакомец вряд ли мог называться человеком, не сумел совладать с собой.
Ботур согнулся, и его бы стошнило, если б не смех странника. Приподняв голову, Хорсун снова застыл. Мужчина совершил невероятное. Вонзил длинные ногти в свое горло и с треском разодрал его пополам, словно ломкую, плохо промятую шкуру. Кровь забулькала, вскипела розовой пеной. В белеющих ободьях глотки показался костяной наконечник стрелы, застрявший в хрящах рожками острия. Пришелец без затруднений выдернул стрелу, приблизился и любезно пояснил:
– Она мне мешала.
Ошалевший воин ахнул, как девчонка. Белая ладонь с окровавленной стрелой простерлась к нему.
– Нет. – Хорсун спрятал руки за спину, отодвигаясь. – Стрела мне больше не нужна.
– Почему? – Странник вроде бы даже обиделся.
– Не нужна… – повторил парень.
– Ну и ладно, – весело сказал чужеземец и сунул стрелу в щель на боковине дохи. – Будем считать, ты мне ее подарил.
Он изъяснялся на языке народа саха бегло, но речь его была какой-то неровной – свистящей, прыгучей, словно в нее намешали сторонних звуков.
– В меня часто стреляют, – признался странник, доверительно вытягивая к Хорсуну шею. Она срасталась стремительно и без шва. – Никто еще не попадал. А у тебя получилось, сын Смеющегося левши… Хорсун, меткий стрелок!
– Кто ты? Что сделал с нашими шаманами? Как разведал мое имя?..
– Все-то тебе расскажи, – засмеялся пришелец. – Ты мне нравишься, Хорсун, любопытный! Поэтому ты узнаешь ответы на вопросы, заданные столь бесцеремонно.
Хорсун прищурился, всматриваясь против света, и на миг ослеп, как от удара. Из-за спины странника – воин в который раз не поверил зрению! – показались пропавшие шаманы Терют и Сарэл… удаганка Гуона… Их лица были бледны, как у мертвых. Наверное, от стыда… Но бессовестные губы улыбались.
– Вам, кажется, есть о чем побеседовать, – молвил бродяга. – А я спешу. Дела, дела неотложные… Дого́ните меня, – бросил спутникам и резво пустился по сытыганской тропе.
Чародеи помедлили, чтобы дать Хорсуну освоиться со своим внезапным явлением. Затем удаганка, в нетерпении переминаясь с ноги на ногу, спросила:
– Может, и ты пойдешь с нами? – Тонким язычком облизнула бесцветный рот. – Ты не пожалеешь, если согласишься. Там, куда мы направляемся, великому господину служит лучшая рать. Она не то что облезлое эленское войско. Имя ей – Множество Множеств! Когда-нибудь эта рать завоюет не только Великий лес-тайгу, но и всю Вселенную!
Не в силах ответить, ботур в смятении мотнул головой.
– Зря, – усмехнулся Терют. – А мы сделали свой выбор.
– Вас ищут, – прошептал враз осипший воин. – Вас потеряли люди… ваши родичи… дети… – Он коротко глянул на Гуону, бросившую ради чужого господина мужа и маленькую дочь.
– Пусть, – пожала плечом удаганка. – Поищут и забудут. Идем! У тебя будет все что захочешь.
Голова Хорсуна замоталась еще сильнее.
– Нет, нет, нет… – бормотал он, пятясь.
Старый Сарэл злобно скривился:
– Э-э, не уговаривай, Гуона, пусть остается! Нужен ли он нам, не умеющий ценить оказанной чести! Иди, иди в свою жалкую заставу, сопливый ботур! – Хлестким взглядом, словно ребром ладони на отлете, мазнул по свежему шраму-молнии на воинской щеке: – Ступай и скажи всем – мы не вернемся!
* * *
Ошеломленно озираясь, Хорсун сел под кустом у тропы. Когда он умудрился заснуть? Потер виски, стряхивая дурман. Тяжелая голова отдавала приглушенным гудом, как пустой глиняный горшок. На пригретом солнцем песке виднелись четкие следы подошв торбазов. Его, Хорсуновы, следы. И никаких других. Что же, выходит, ему приснились шаманы и странник?
Воин внимательно прошелся по тропе. Тут он стоял – носки вровень, отпечатки глубокие. Тут вроде слегка отшатнулся. Дальше следы-шаги сбивались. Судя по ним, Хорсун то направлялся вперед, то непонятно зачем топтался на месте. А здесь за кем-то крался и гнался скачками… За кем, если никого не было?
Он пересчитал стрелы в колчане. Восемь. Одной нет! Точно помнил: он стрелял единственный раз – в пришельца. Подумав об этом, усомнился. Утреннее солнце светило так ясно и мирно… Длинные тени стройных сосен ложились на увал коричневатыми полосами, будто подкрашенные охрой… Мягкий, прохладный, почти летний ветерок лениво колыхал длинные иглы хвои… Не могло случиться страшного в прошитом лучами лесу. Почудилось, приснилось!
Но где же тогда стрела?
Сосредоточившись, Хорсун перебрал приключение в подробностях и все-таки решил, что встреча произошла вживе. Правда, он забыл лицо пришельца. В памяти остались лишь его ужасные ледяные глаза и гладкая ладонь со стрелой. В мозг крепко врубилось предчувствие: Элен в опасности.
До вечера воин обследовал сосняк, поросшие камышом поймы, пустоши с кочкарником-зыбуном и еловые перелески. Зашел к рыбакам в Сытыган, поспрашивал людей. Не нашел ничего подозрительного. Отчитываясь перед багалыком, обмолвился, что видел издалека человека в темной одежде, направлявшегося в рыбачий аймак. И все, больше ни слова. То же самое повторил перед Малым сходом.
Утаив главное, Хорсун чувствовал себя так, будто оступился в грязную лужу. Чем оправдаться? Не сумел проявить решительности, не схватил никого, не смог противостоять приневоленному сну. А расскажи он, как все случилось, люди бы не поверили. Самому небывальщиной казалось. Но паче всего терзал стыд за предавших долину шаманов, ушедших к небывалому господину с его Множеством Множеств. Воин догадывался: это тот самый «господин», о чьем черном имени страшно помыслить.
Не простодушно молчание. До этого случая слова Хорсуна еще ни разу не расходились с делом. Шли по прямой одно за другим. Легко делиться вслух бесхитростными думами, не обремененными темной тайной. А тут неподъемная тяжесть на сердце легла. Ботур содрогался от мысли, сколько возмущения принес бы его правдивый рассказ, сколько горя доставил бы он ни в чем не повинным родичам подлых изменников.
Позже сытыганский шаман Сордонг, камлая на Малом сходе, плел басни о неком кровожадном волшебнике. Злодей якобы вознамерился уничтожить всех шаманов по Большой Реке из желания стать самым могущественным в Великом лесу. Тряся бубном и звончатыми подвесками платья, Сордонг выл и крутился, словно ошпаренный пес. Вещал сквозь дурные вопли, что, обернувшись волком, бежит за чужаком и вот-вот догонит его. Мол, видит уже неимоверно раздутый живот и красное от крови лицо…
Не догнал, конечно. Куда хозяину незначительного джогура тягаться с самим демоном Джайан! Сордонг врал без запинки, хотя глаза от страха серыми мышками бегали по углам и губы дрожали. Наверное, плуту тоже было кое-что ведомо.
Хорсун еле справился с яростно чесавшимся языком. Бороло искушение крикнуть в запале: «Не верьте Сордонгу, все ложь, шаманы ушли к Черному богу!» Укрощал больную правду в себе, как строптивого жеребца. Предложи кто юному воину вместо этого испытания повторно пройти Посвящение, пошел бы во второй раз и в третий. Лучше привычно ломать и корежить тело, чем душу.
Он вдруг осознал, как непросто было сказанное отцом: «Пусть дальше нас обоих проверит Дилга». Понял, что начались взрослые уроки, которым, возможно, придется учиться до конца срока на Орто.
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления