Онлайн чтение книги
На диком бреге
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
1
Как шутил Сакко Надточиев, безымянный город, рождавшийся в тайге, не имевший еще названия, но уже нареченный народной молвой Дивноярском, грозил стать роковым увлечением Федора Григорьевича Литвинова. Строительству электростанций Литвинов отдавал свой рабочий, не ограниченный никакими рамками день. Время, отведенное на отдых, как бы его ни оставалось мало, отдавалось городу. Начальник строительства сам вел переписку с виднейшими архитекторами, планировщиками, инженерами коммунального хозяйства, скрупулезно изучал каждый архитектурный план, вникал во все мелочи оформления улиц и площадей, придирчиво рассматривал макет любой общественной постройки. Было известно: лучший способ погасить гнев Старика — это завести разговор о городе.
В управлении говорили, что Юра Пшеничный, славившийся своим умением «подбирать отмычки» к начальственным сердцам, с нового года даже выписал себе журналы «Советская архитектура» и «Коммунальное хозяйство».
Эта страсть обходилась Литвинову недешево. Нелегко было устоять перед соблазном быстро решить жилищную проблему, окружив строительство барачными поселками. Он устоял. Смело пошел на создание зеленых, то есть палаточных, городков с тем, чтобы получить возможность сразу начать строить социалистический Дивноярск. Нелегко было отстоять такое решение. И в управлении, и в профсоюзной организации, и в областном комитете партии оказалось немало возражавших.
— Онь — это не Днепр, даже не Волга, — говорил секретарь обкома, щуря свои узенькие, но очень зоркие, насмешливые глазки. — Тут, Федор Григорьевич, Сибирь. Тут дед-мороз строгий, шутить не любит, К тебе люди со всей страны съехались. У тебя южан немало, а ну как ты их поморозишь? А?
— Замерзнуть и во дворце можно. Где дураку по пояс, там умный сух пройдет, — отшучивался Литвинов. — А я считаю, что лучше зиму-другую в утепленных палатках пережить, чем потом годы бедовать в бараках.
— Зачем же годы? Кто же говорит, годы? — Узенькие глаза секретаря обкома посмеивались. — Вы вон как шагаете. Город построишь, бараки снесешь...
— Снесешь? — нетерпеливо перебивал Литвинов. — Разве тебе не известно: ничто так не долговечно, как временные сооружения?.. Москва — прекраснейший город, а с какой стороны к ней ни подъезжай, она тебя издали бараками да дощатыми балаганами встретит. Что, не так?.. Чудо же, чудо мы вам здесь строим! Так какое же мы имеем право это чудо барачным хламом окружать! — И все больше распаляясь, Литвинов кричал своим тонким голосом: — Нет, уж извините, неужели у нас с вами слов не найдется убедить рабочих потерпеть, пожить в палатках, чтобы потом сразу въехать в благоустроенные дома? А? Что, мы с вами с рабочим классом по душам разговаривать разучились? Люди у нас хорошие, умные, хозяйственные. Разве они не поймут?
Вячеслав Ананьевич Петин приводил против такого решения не менее веские доказательства.
— Партия поручила нам строить прежде всего электростанцию. За график основного объекта мы держим ответ. За город мы с вами не отвечаем. Наше дело — обеспечить рабочих временным жильем. Социалистический Дивноярск!.. Это, конечно, красиво, но зачем распылять внимание, средства? Ради чего рисковать? Тем более, что по этому вопросу не было и нет никаких специальных решений...
— Решения, указания, директивы, — перебивал Литвинов и стукал себя ладонью по лбу. — А это на что? А собственный разум? Мы с тобой пришли сюда, как ты сам любишь подчеркивать, не с киркой и грабаркой — с великой техникой, с высочайшей наукой. На нашу станцию человечество века любоваться будет, а мы возле нее всяческие там собачеевки да шанхайчики настроим. Имеем мы на это право? Ну? Мы что, бескрылые деляги? Люди первого и пятнадцатого числа? Или мы большевики? Ну?
Петин пожимал плечами.
— Решайте сами, Федор Григорьевич, вы начальник, но я считаю долгом предупредить... Наверху вас могут не понять. Будут большие неприятности...
И неприятности действительно были. Жилищные вопросы то и дело выплывали на собраниях. В печать шли письма. Одна из столичных газет опубликовала такое послание под заглавием «Оньские Маниловы». После этого вопрос в острой форме возник на областной партийной конференции. Литвинов яростно отстаивал свою идею. Он снова и снова повторял любимую фразу:
— Большевик должен на сегодняшний день смотреть из будущего, а не из прошлого. — Литвинов фанатически верил, что будущее за него, за прекрасный город, который в муках рождается в тайге, и редактору газеты, поместившей письмо, он послал телеграмму, оканчивавшуюся словами: «Время покажет, мы ли Маниловы, или вы Коробочки».
Но при всем том, опытный человек, он чувствовал, какую ответственность взвалил на свои плечи. Сразу поняв значение почина «домовых» и вообще всего дела, затеянного Ганной Поперечной и ее подругами, он ухватился за него. Когда развернулось строительство настоящего города и началось массовое переселение, движение «домовых» было уже немалой силой. Литвинов пригласил общественно-жилищных инспекторов, как теперь назывались «домовые», к себе на товарищеский чай. Толькидлявас получил приказ постараться. На столах, внесенных в кабинет начальника, было тесно от всяческих немудрых угощений. Литвинов пришел на вечер непривычно торжественный, в накрахмаленном воротничке, давившем ему шею.
— Товарищи женщины, — сказал он, — самое тяжелое миновало. Время зеленых городков кончается, и мы — управление, партком, профком — все низко кланяемся вам за то, что вы помогли без бед пережить и эту очень суровую зиму. — Он действительно отвесил гостям низкий поклон. — Теперь нам надо жить подробне́е. — Он подумал и повторил: — Да, именно подробнее. И мы всем треугольником ждем, что вы нам и в этом поможете.
После чая Петрович был послан во Дворец культуры за баянистом. Зазвучали песни, начался пляс. Тоненьким своим голосом Литвинов сам завел «Вдоль да по речке...», и когда песня разгорелась, он, будто сбросив с плеч годков эдак тридцать — тридцать пять, стал выпевать задорный, смешной припев:
Сергей поп, Сергей поп,
Сергей валяный сапог,
Пономарь Сергеевна, и звонарь Сергеевна...
Женщины помоложе удивленно смолкли. Новое поколение не знало этого припева комсомольцев первых лет. Зато те, что постарше, вспомнили свою юность и с особым задором выкрикивали:
...Вся деревня про попа,
Ламца дрица гоп-ца-ца, разговаривает,
Ай да ребята, ай да комсомольцы.
Браво, браво, браво, молодцы!
И когда выкрикивали эти последние строки, начальник строительства, сунув в рот два согнутых пальца, по-разбойничьи подсвистывал хору.
Потом начались танцы. Проявляя совершенно неожиданную для его массивной, квадратной фигуры ловкость, Литвинов кружил в вальсе Ганну Поперечную, почти отрывая ее от пола. Он весь сиял, и все видели, что начальник веселится не меньше своих гостей, что ему приятно, что у него хорошо на душе. Синие глаза довольно щурились. Отведя на место свою уставшую даму и тяжело усевшись на стул рядом с Ладо Капанадзе, он еле передохнул:
— Фу, аж взопрел!.. Ну как, есть порох в пороховницах? То-то... — И вдруг, как-то сразу отключившись от шумного веселья, заговорил задумчиво: — Молодость-то забывать нам нельзя. Нельзя! А в годы культа мы от нее открещиваться было стали. «Хозяин»... «Сам»... «Дал команду»... Тьфу!.. Слова-то какие-то дохлые. Разве на командах далеко уедешь? Вон, Ладо, она пляшет, наша сила. Скомандуй — может, и подчинится, может, что-нибудь и сделает, а тронь ее за сердце — горы свернет. Помню, студентом я к себе в Тверь приехал. Учеба давалась тяжело, перед зачетами вымотаешься, все ляжки себе исщиплешь, чтобы не уснуть... Еду к землякам и мечтаю: вот уж отосплюсь... Приехал, а они город переделывают, трамвай сами на окраины ведут. И не в порядке там каких-нибудь директив или команд «сверху»... Сами!.. Да с песнями, да с плясом... И забыл я про сон. Так и проотдыхал с киркой да с лопатой. — Литвинов помолчал и опять смачно плюнул. — «Хозяин приказал». «Дал команду». Разве это коммунистическое? Слова эти не коммунизмом — царской казармой пахли...
Секретарь парткома с удивлением смотрел на начальника строительства. Литвинов словно помолодел, на массивном лице появилось что-то задорное, юное, комсомольское. Вдруг он спросил Капанадзе:
— А мы с тобой, Ладо, служителями культа не были? Были. Верили в него? Верили... И как верили!.. Портрет со стены снять, бюстик или какие-нибудь иные культтовары в чулан выбросить — дело плевое... Надо нам этот культ из себя, как гной, выдавливать — вот что. — Литвинов помолчал, растроганно глядя в сторону веселящихся женщин. — Пляшут... А это ведь они нас с тобой, парторг, через эту трудную зиму целыми провели... Хорошо, а? Хорошо тебе сейчас? Эх, вспомним молодость, тряхнем стариной! — И крикнул баянисту: — А ну давай, начальник, «барыню»!
И с той же неожиданной для его фигуры легкостью, пританцовывая, пересек он свой кабинет и молодецки задробил перед пожилой тощей женой машиниста электровоза, вызывая ее в круг...
— Ну как, из норы вашей скоро переезжаете? — спросил Литвинов у Поперечной, провожая до порога шумных своих гостей.
— Да нет, пообождем, Федор Григорьевич, — неопределенно ответила Ганна.
— Что так?
— Да уж так вот. Семьей решили...
Заселение еще четырех домов со всеми удобствами в центральной части Дивноярска шло полным ходом. Поперечные тоже получили приглашение переселяться, но на семейном совете решено было пообождать, пока не начнет застраиваться Птюшкино болото, как по старинке еще именовали город-спутник, возникавший чуть южнее основного жилого массива Дивноярска. Его предложили застроить небольшими двух- и четырехквартирными домами. Ганна и Олесь, любившие в свободную минуту покопаться в земле, решили именно здесь пускать корни. А для этого нужно было подождать, пока новый, недавно начавший работать домостроительный комбинат начнет печь маленькие стандартные домики, компактные и удобные, чертежи которых Литвинов добыл в мастерской одного еще малоизвестного, но очень ему понравившегося архитектора.
Городок, которому предстояло стать спутником Дивноярска, пока что существовал только на планах. Его улицы были намечены колышками, торчавшими из снега. Названия этим улицам решено было дать от деревьев, которым предстояло быть посаженными аллейками вдоль тротуаров. Поперечным отвели домик по улице Березовой, 6. Супруги побывали там, полюбовались на колышки. Олесь сказал «добре» и больше туда не ходил. Выписанный из больницы на домашнее лечение, он захватил с собой некий несложный механизм, который ему теперь надлежало все время сжимать и разжимать. Тренируя руку, он утром вместе с экипажем отправлялся в забой. Забирался в кабину, садился возле брата и часами сидел рядом, слушая пение мотора, дребезг ковша, уханье земли, валившейся в кузова самосвалов. Гимнастику руки можно было делать и здесь, зато первый раз в жизни он наблюдал работу как бы со стороны. Подмечал неиспользованные возможности, давал брату советы. Рука заметно крепла, и Олесь радовался приближению дня, когда он сам снова сядет у рычагов этой машины, которая казалась ему прекрасной.
И возвращался он из забоя веселый, оживленный, полный замыслов и надежд: хлопцы ждут, хлопцы дни считают, хлопцы любят его, заботятся о нем.
Но в этот день Олесь вернулся домой задолго до конца смены. Он прикатил на мотоцикле брата и, даже не оглянувшись на забрызганную грязью машину, рванул дверь. Дома была лишь Нина. Она готовила за столом уроки.
— Где народ?
— Сашко в школе, а мама... Ой, что сегодня у мамы вышло! — Толстушка соскользнула с табуретки, подошла к отцу. — У мамы ин-цин-дент, — сказала она, раздельно произнося это слово. — Она в домах, на Буйной улице. Там такие безобразия, такие безобразия... Штукатурка валится, какие-то дутики лопаются, форточки, как это... наперекосяк... Ужас, ужас... Мама им там всем хвоста крутит.
— Крутит хвоста, а мы с тобой, Рыжик, как же?
— А что мы?.. Ах да, совсем забыла, мама мне велела вас обедом накормить, — спохватилась девочка, она развернула окутанную газетами кастрюльку. — Вот вам борщ, его со сметаной едят, но сметаны, кажется, нету. — И, достав из-под подушки покрытую тарелкой мисочку, поставила на стол. — А это вареники с сыром, только не все ешьте, маме оставьте. Она придет голодная как волк. — Сказав все это, девочка опять вскарабкалась на табурет. Посмотрела на отца:— Что же вы?
— Не лезет в меня сегодня что-то борщ, — сказал Олесь, отставляя тарелку... — Мама-то наша скоро придет?
— Вот накрутит хвоста и придет. Ешьте и не мешайте мне... Ой, да... — Девочка даже подскочила на табурете. — А я вашего Старика видела, этого, который хотел меня директором больницы сделать...
«Крутит там кому-то хвосты, а тут и поговорить не с кем», — грустно подумал Олесь, отодвигая и вареники. Он оделся, захватил машинку для тренировки руки, которую Нина называла пищалкой, и вышел на воздух. На миг остановился, ослепленный солнцем, постоял, поскрипел машинкой, не торопясь спустился с откоса, туда, где из талого снега торчала толстая колода. На ней любил он посидеть перед сном. Весь снег вокруг был забросан окурками, спичками. Сейчас его оставалось уже немного, этого крупитчатого, грязноватого, засыпанного хвоей снега. Ниже колоды с шумом, с грохотом катил свои мутные воды набухающий ручей. Глядя на него, Олесь задумался. Не теплой и ласковой, как в степях родной Полтавщины, а могучей, буйной, удалой была весна в таежных краях. Рядом с человечьим жильем клокотал ручей, тихо прятавшийся всю зиму подо льдом и снегом и превратившийся сейчас в мутную реку. Его шум напоминал грохот поезда, идущего по мосту. Он далеко разносился во влажном воздухе, напоенном ароматом нагретой солнцем хвои.
Поперечный сидел возле самой воды. Тончайшие брызги орошали лицо, руки. Хлопок дверцы автомашины, донесшийся сверху, заставил его вздрогнуть. Оглянувшись, он увидел совсем близко от этого дикого потока дверь в землянку. Нина развешивала на кустах орешника стиранное белье. Ганна легко сбегала по тропинке с откоса. Усталая, с непокрытой головой, она присела рядом с мужем, собрала концом платка бисеринки пота, выступившие на переносице.
— У, добралась-таки до дома, любый мой... Столько дел. Тебя, батько, хоть накормили тут без меня? Сонечко, — крикнула она дочке, — уж поухаживай и за мамкой-гуленой, собери там что-нибудь поесть! — Она наклонилась, поцеловала больную руку Олеся. — Все скрипишь? В забой ездил? То-то, я вижу, Борькин мотоцикл у дверей валяется. Ну, как они без тебя бедуют?
Олесю не терпелось рассказать жене о том, что произошло в забое, поделиться мыслью, которая сегодня возникла у него и теперь не давала покоя. Но Ганна, задав свои вопросы, слушать ответа не стала и принялась сама рассказывать о безобразиях, которые они выявили в новых домах, о том, как «домовые» тыкали прораба носом в «дутики», появившиеся на стенах, как «взяли они в работу» бригадира штукатуров, и что они ему сказали, и что он им ответил. От происшествия с «дутиками» она без передышки перешла на садочки, которые решено разбить возле домиков на Птюшкином болоте, и радостно сообщила, что опытная сельскохозяйственная станция Старосибирска обещает прислать для тех садков стелющиеся яблоньки.
— Они по земле пойдут, по жердочкам. Их на зиму снег покроет. Никакой мороз им не страшен.
Перешли в землянку. Уселись за стол. Машинально и с аппетитом уничтожая борщ, должно быть не замечая, что она ест, Ганна рассказывала:
— А мы так и вишни в садочке посадим. Ламара Капанадзе, правда, не советует, говорит, первый мороз убьет. А я все-таки попробую. Укрывать их на зиму будем... Як же гарно у нас на Полтавщини, колы в садках вышни цвитуть... Всэ биле та рожеве... Та ты нэ чуешь, чи що?
— Слушаю, слушаю. — Олесь старался прикрыть обиду улыбкой, и улыбка получалась кривая, напряженная: мысль, которая поначалу показалась ему самому странной, овладевала им все больше. Захватывая воображение, она, эта мысль, требовала обсуждения, а Ганна болтает там о каких-то вишнях и ничего не хочет замечать.
А волновало Олеся вот что. Впервые очутившись в забое в роли наблюдателя, он все время видел, как разно работают два одинаковых экскаватора — его и соседний, где у рычагов сидел уже известный нам Негатив. Обычно это доходило до него лишь в цифрах, и — что там греха таить! — где-то в глубине души Олесь испытывал даже приятное чувство оттого, что выработка его хлопцев так выгодно отличалась от выработки несчастных «негативов». Теперь он видел не цифры, а самих людей, видел, как они мечутся в пустых стараниях, как зло посматривают друг на друга, а все вместе — на незадачливого своего начальника и как, кончив смену, расходятся, стараясь не глядеть друг другу в глаза.
— Пособить бы им надо, — сказал Олесь брату.
— Им пособишь, — хохотнул Борис, — у них как у Шпаков! Помнишь, наискосок от нас Шпаки жили? Все дрались по праздникам. Бывало, батько Шпак кричит старшему: «Сашко, подай топор!» Старший среднему: «Грицько, батько топор требует». Средний младшему: «Юрко, стервец, батьке топор нужен...» Им одна помощь: вместе с Негативом поганой метлой из забоя гнать, чтоб дела нашего не позорили.
— Чушь говоришь! — рассердился Олесь на брата. — Люди тонут, а ты мимо идешь.
— Ну, взяли бы да и помогли.
— И помогу...
«Помогу» — это легко сказать. Сколько уж раз Олесь толковал с Негативом! Началось еще в больнице. Да и теперь вот подолгу беседовали они в перерывах. И опять Негатив слушал, кивал головой, со всем соглашался, что-то даже записывал. А все уходило, как в песок, не оставляя следа. И вот сегодня утром Олесь поднялся в кабину соседского экскаватора. Поднялся и сразу почувствовал: встретили удивлением, недоумением, даже неприязнью. Розоватое лицо Негатива стало темно-багровым. На потемневшем фоне еще отчетливее обозначились странные белые, будто прозрачные волосы.
— Попробуйте, попробуйте, Александр Трифонович! Испейте из моего стаканчика, — сказал он, неохотно уступая место.
В кабине наступило напряженное молчание. Пять пар глаз следили за каждым движением, и Олесь уже чувствовал, что покалеченная рука плохо слушается, что тут, на незнакомой машине, с незнакомыми людьми вряд ли у него что выйдет.
— Что, Александр Трифонович, невкусно? — спросил Негатив и с притворным смирением, сквозь которое угадывалось злорадство, торопливо добавил: — Вот и мне тоже...
Кровь бросилась в лицо Олеся: признать поражение, расписаться в своем бессилии? Да завтра же заговорят об этом по всем забоям. Ну нет, не бывать тому, хлопче! Сосредоточившись, Олесь постарался добиться того гармоничного слияния с людьми и с машиной, какое сообщало работе истинную красоту. И ничего не получалось. Рука слушалась все хуже. Движения стали причинять резкую боль.
— А вы не надрывайтесь, не насилуйте себя, — громко, явно с расчетом на чужие уши советовал Негатив.
И кто-то из его людей насмешливо фыркнул:
— Известно — чужую беду руками разведу.
Олесь вспыхнул. Он уже понимал: механизмы не отлажены, управление не отрегулировано. Пока все это не приведешь в порядок, ничего не добьешься, а тут еще рука. Встать и уйти? Завтра же раззвонят по всем забоям. «Ах, дьявол, что же делать?»
Насмешливый голос опять произнес сзади:
— Чужой ворох ворошить — только глаза порошить.
Олесь все-таки остановил машину, поднялся. Негатив стоял, опустив прозрачные ресницы. Остальные откровенно ухмылялись.
— Рука вот не зажила, — с трудом выдавил из себя Поперечный, стирая ладонью пот со лба. И тут же услышал:
— Это вам не пенки-сливочки снимать.
— Хватит! Поразвязали языки. Знаете же, что у Александра Трифоновича производственная травма. — Негатив с трудом скрывал свое торжество. Вместе с Поперечным он вылез из кабины и зашептал: — Убедились? С такими орлами, как ваши, всю землю перекопать можно. Вот они как без вас вкалывают. А с моими разве только за гробом ходить.
Он говорил тихо, но до кабины его слова все-таки долетели. Оттуда послышалось:
— За твоим гробом с полным удовольствием...
Лицо Негатива будто кровью омылось, уши стали свекольного цвета.
— Ну не сволочи, а?.. Паразиты, чужеспинники!
— Зачем так о людях! — начал было Олесь.
— Люди! Разве это люди? — В словах Негатива звучала ненаигранная печаль. — Я тут подсчитал финансы. Прикинул заработок — ну, и в «Индии» домишко заложил... А с такими разве заработаешь? До крыши дом поднял, а на шифер денег нет, на окна денег нет... Горю...
«Индия» — так прозвала людская молва поселок индивидуальных застройщиков, что начал расти на север от основного массива. Олесь никогда там не был, но знал, что такой существует. Появилась даже автобусная линия, которая так и называлась «Котлован — Индия».
— В долги по уши влез, — сетовал Негатив. — Вам это разве понять? А вот сели бы в мою кабину, поработали бы с моими обормотами — сразу бы все перья повылезли, как у кенара с плохой пищи...
Никогда никто не наносил Поперечному такой обиды: «пенки-сливочки», «перья повылезли»... Хотел людям помочь, а они... Не оглядываясь, дошел Олесь до своего забоя, взял у брата мотоцикл и, несясь по развалившейся дороге, сердито думал: «Если бы не рука, показал бы я этим чертям работу!» И вдруг пришла мысль: «А что? Может быть, действительно показать? Оставить своих на Борьку, пересесть на их драндулет да и показать...»
Там, внизу, возле потока, который с грохотом ворочал камни, нес бурелом, Олесь снова и снова возвращался к этой мысли. Многое было против. Легко ли бросить своих хлопцев — первый на строительстве экипаж коммунистического труда!.. Как он гордился, когда они все поднялись вслед за ним в Дивноярское начинать все сызнова! Борис с третьего курса техникума ушел, двое хлопцев расстались с девушками. Такие люди! И их бросить? Но коммунистический труд — это значит думать не только о себе. Хлопцы опытные, неплохо работают с Борькой, а те... Вон они, будто наядренный чирий — дотронуться нельзя... А что, в самом деле, если показать чертям чумазым, как это он пенки-сливочки снимает?..
Вот об этих-то беспокойных мыслях и хотелось поскорее рассказать Ганне, рассказать обстоятельно, неторопливо, заново переживая, уже вместе, все, что сначала его обидело, затем озадачило, а теперь вот увлекло. Так уж у них было заведено. И именно так — обстоятельно, представляя всех в лицах и даже изображая эти лица, рассказывала ему жена о том, что она сегодня пережила.
— Постой трошки, Гануся, — в который уж раз пытался он остановить ее и, видя, что это не получается, выпалил: — Я решил от своих хлопцев к «негативам» уйти. Понятно тебе это?
Ганну будто остановили на бегу — такое у нее на лице появилось выражение.
— Шуткуешь ты? Як це можлыво? — воскликнула ока, как всегда в минуту крайнего волнения переходя на родной язык. — Да почему?
Почему? Этого Олесь и сам в ту минуту не знал. Решение пришло само собой, в сумбуре чувств. Но, еще не отдав себе отчета, почему он на это идет, Поперечный уже знал, что сделает именно так и уже никому не удастся его от этого отговорить.
— Олесь, Олесь же, — трясла его жена за руку. — Ведь шутишь? Ну, скажи: шучу... Хлопцам-то какая обида. У них только и разговору: вот Трифоныч вернется. Ну зачем тебе это, зачем?
— А разве людям помогать не надо? — задумчиво ответил Олесь.
— Да на кой бис сдались тебе эти «негативы»? Хлопцы — своя семья. Ты их поднял, а эти? Что тебе до них? И еще: не молодые уж годы! О себе подумай. — Женщина чуть не плакала.
— Не надо, Гануся, — сказал Олесь, ища по карманам сигареты. И добавил, вздохнув: — Это уже решено.
Он вышел из землянки. Лишь с третьей спички удалось ему закурить. «Ну вот и жинка уже знает. Теперь самое тяжкое — известить хлопцев», — думал он. Во тьме, сотрясая землю, грохотал поток. То, что давеча мелькнуло лишь как некое предположение, как тема для обдумывания, для разговора с женой, уже отвердело. Хлопцы выгребли на стремнину, управляются без него. А «негативы», они весь забой назад тянут, им нипочем одним не подняться, изверились, крылья опустили. Грохот потока не заглушал и малых весенних звуков. В зарослях тихо журчал ручеек, пробивавшийся к большой воде. В кронах деревьев в темноте продолжал жить неумолчный, по-весеннему тревожный шум. Сквозь ветви просвечивало несколько бледных огней, двигавшихся в одном направлении. Это обитатели Зеленого городка ехали заселять новые дома на улице Дивный Яр. Хлопнула дверца автомашины. Послышались знакомые голоса. Среди них выделялся голос Бориса. По обыкновению своему, он на весь лес рассказывал что-то, что казалось ему интересным. Олесь торопливо притушил о ноготь сигарету: в таких делах лучше рубить одним взмахом. Он втоптал окурок в грязь и решительно двинулся на свет фонарика, опускавшегося по тропинке.
2
Разные люди по-разному отнеслись к странному известию о том, что Олесь Поперечный покинул своих знаменитых хлопцев, приехавших вместе с ним, и ушел в экипаж, который собирались распускать.
Когда сами хлопцы услышали это в тот весенний вечер от Олеся, они попросту не поверили:
— Разыгрываешь, Александр Трифонович? К «негативам»... Скажет тоже!
— Сегодня получка. Они вместе в забегаловку потопали. Ступай, Трифонович, у них шестого не хватает. Негатив-то не пьет: у него язва в кармане.
А дюжий Борис сгреб брата в охапку, поднял в воздух:
— Чем людям голову морочить, сказали бы лучше, когда на работу выйдете... Деньки считаем...
Начальник землеройных работ на этом участке, Макароныч, получил официальное заявление Олеся, вскинул на Поперечного глаза и раза два хлопнул медными ресницами:
— Не вижу логики. То, что они недодают, Александр Трифонович, вы перекрываете сторицей. Да и неудобно: в газетах то и дело — Поперечный, Поперечный. И вдруг — нате, Поперечный исчез. Если вы настаиваете, я уведомлю, конечно, товарища Надточиева, но советую подумать, крепко подумать.
Надточиев, по обыкновению разгуливая по кабинету, заложив руки за спину, с папироской, приклеившейся к нижней губе, слушал Олеся с любопытством. «Что им движет? — старался отгадать инженер. — Материальный интерес? Исключается. Честолюбие, слава? Да может ли быть слава больше, чем у него с хлопцами?.. Так что же?» Оставалось одно предположение: брата выводит на большую дорогу.
— Но Борис Поперечный и так силен. Вот смонтируем третий «Уралец» — дадим ему. Это я вам обещаю. А тот экипаж мы распустим...
— Думаете, брата тащу? — угадал Олесь мысли инженера — Зря. Я о них, о «негативах» этих, Сакко Иванович. Это ведь легче всего: идите, мол, с богом ко всем чертям. Так всегда и делают, отсталого-то ведь и собаки рвут. Нет, ты, хай его грец, разбуди. Пусть он поймет: глубже пашешь — веселей пляшешь, как у нас на Украине говорят.
Инженер на миг остановил свое движение по кабинету, зажег потухшую папиросу. Вот уже на третьей стройке работали они вместе. Надточиев знал, что в этой русой, уже седеющей голове порой рождаются такие технические идеи, что и инженер снимет перед ним шляпу. Кое-что из придуманного хлопцами Поперечного уже принято конструкторами, модернизирующими «Уралец». Но то, с чем пришел этот человек сейчас, таило что-то непонятное, выглядело, пожалуй, даже нелепым. Надточиеву хотелось предостеречь старого знакомого от ложного шага.
— Я знаю этих «негативов». В экипаже распространился какой-то скверный грибок взаимного недоверия, неприязни. В маленьком коллективе это болезнь страшная...
Поперечный сидел, сбычив лобастую голову, пощипывал пшеничные усики, играл острыми скулами.
— Грибок. Верно, грибок. А только как же, люди и в коммунизм с этим грибком поковыляют? Или там возле ворот какой-нибудь свой апостол Петр с ключом встанет: здоровые проходи, а которые с грибком — вертай назад, в вошебойку. А вот мой батька говорил: «Человек неученый — что топор неточеный». Неточеный топор не выкидывают, его точат. Разве не так?
— Но бывает, что точить бесполезно. Рентабельнее выбросить. И люди бывают, с которыми возиться — все равно как учить попугая говорить еще одно слово. Подумай, Александр Трифонович, еще раз подумай. Все взвесишь — и потолкуем.
Вечером Надточиев рассказывал о замысле экскаваторщика Вячеславу Ананьевичу Петину. Тот слушал задумчиво, оттягивая и отпуская резинки своих нарукавников. Они издавали резкие щелчки.
— Нет, это не надо разрешать, — сказал он. — Такие люди, как Поперечный, себе не принадлежат. Это золотой фонд строительства, его нельзя разменивать на медяки. Поперечный — имя. Маяк! И вдруг, ударившись в какие-то психологические эксперименты, маяк гаснет... Ведь не с него — с вас спросят: кто разрешил, почему не удержали? Наоборот, мы должны создавать ему условия для новых и новых рекордов. Он, как пишут журналисты, правофланговый, по нему все равняются.
И даже Капанадзе, всегда живо подхватывающий любое доброе начинание, встретил затею Поперечного настороженно.
— Вот что, друг, — сказал парторг, поглаживая свои седеющие усики. — Хороший и добрый ты человек, но... Не делаю секрета: буду советоваться со Стариком. Заходи завтра в четыре ноль-ноль в партком, сообщу результаты.
Но заходить в партком вторично Олесю не пришлось. Поздно вечером, когда Поперечные-младшие уже заняли оба этажа своей мудреной кровати, а старшие тоже готовились укладываться, послышались голоса и в дверь громко постучали.
— Кто тут? — спросила Ганна, накидывая халатик.
— Свои, свои, — раздался тонкий, хрипловатый голос— Мышка-норушка да лягушка-квакушка.
— Никак Старик! — вскрикнула Ганна и скрылась за занавеской, отгораживающей в заднем конце землянки родительскую кровать.
Шлепая босыми ногами, Олесь бросился открывать. И в самом деле, вместе с бражным лесным воздухом, вместе с шумом потока в землянку ввалился, именно ввалился, Литвинов. И от этого она сразу стала тесной. За ним, держа в руках кепку, стоял Капанадзе.
— Друг, ты извини, что мы так поздно, — начал было он.
— Нечего извиняться, — перебил Литвинов. — У нас на Верхней Волге говорят: кто вместе на печи посидел, тот не гость, а свой. Ну, Олесь, куда ты свою опытно-показательную жену дел? Я тут вроде ее голос слышал.
— Туточки я, Федор Григорьевич, — пропела Ганна, выходя из-за занавески и одергивая на себе джемпер...
— Ух ты, какая пышная! Гляди, Олесь, как жинка-то расцвела.
— Редко мы ее видим теперь, мамку-то нашу, — ответил Олесь. — Без нас расцветает. — Он уже сунул ноги в валенки и набросил на плечи старую шинель.
— А, взревновал. Ну, это на пользу. Любовь без ревности как щи без соли.
Олесь с нетерпением смотрел то на Литвинова, то на Капанадзе. Парторг утвердительно кивнул головой.
— Так вы уже знаете? — тихо спросил Олесь Литвинова.
— Ты, земляк, в будущее заглянул, — ответил тот и спросил задумчиво: — А назад не попятишься? Ведь в незнакомую дверь шагаешь. Не струсишь?
— Не струшу, Федор Григорьевич, — ответил Олесь, стараясь согнать с лица счастливую улыбку.
— Точно?
— Точно, Федор Григорьевич.
— Добрая курица тебя высидела... Тебе, Ладо, совет: займись этим делом вовсю. Плюнешь на искру — погаснет, а раздуешь — большой огонь будет... Раздувай. А тебе мы, Олесь, верим, не подведешь...
...Перед праздником в «Огнях тайги» появилась статья. «Росток коммунизма» называлась она. Было в ней и о семилетке, и о всеобщем подъеме наших дней, и об энтузиазме советских людей, возбужденном гигантскими планами. Но главное в этой статье было то, о чем на следующий день заговорили и в общежитиях, и в котлованах, и в карьерах, и в автобусах, везущих людей на работу, и в магазинных очередях: Олесь Поперечный покинул своих знаменитых хлопцев и ушел к неумехам. Автор статьи называл это благородным почином, ростком коммунизма, призывал следовать примеру Поперечного. Читая, люди задумывались, и — что греха таить! — начинались догадки:
— С братом не поладил. Тот его во время болезни обошел, вот и поругались.
— Ничего он не поругался, в Герои рвется.
Те же, кто знал Олеся, кто работал с ним рядом, кто привык его видеть человеком, не умеющим ходить путями неправедными, только разводили руками. И когда вскоре в сводке землеройных работ хлопцы Бориса Поперечного оказались на одном из первых на строительстве мест, а новая бригада Олеся не была в ней даже упомянута, это прозвучало как гром в ясный полдень...
— Еще не привык, не окреп после болезни, — сочувственно объясняли одни.
— Зарвался, — злорадствовали другие.
Но большинство молчало, ждало, как оно будет дальше.
3
В разгар лета на Онь пала тяжелая жара.
Где-то недалеко от Оньстроя загорелась тайга. В знойном безветрии дым не рассеивался, льнул к земле, полз по улицам строящегося города, заполнял карьеры, котлованы, медленно клубясь, вис над рекой. Солнце выкатывалось по утрам из-за утеса Бычий Лоб огромное, багровое, будто налитое кровью. Ровным тусклым шаром оно поднималось в зенит. К полудню гарь становилась душной, ела глаза, першила в горле.
От этой дымной духоты особенно доставалось тем экскаваторщикам, бульдозеристам, бетонщикам, шоферам, что начинали дамбу перекрытия и готовились к строительству моста, с которого предстояло отсыпать банкет, чтобы заставить Онь свернуть с извечного пути, взять вправо, в пролеты уже поднимающейся плотины, в турбины будущей электростанции. Именно сюда, на этот участок, находившийся у подножия утеса Дивный Яр, воздушные течения и выносили дым, такой густой, что людям порою приходилось дышать через влажную ткань.
Прорабом на этот ответственный участок, по представлению Петина, недавно был выдвинут инженер комсомолец Марк Аронович Бершадский. Свою контору он разместил в снятом с колес дощатом вагончике, в каких трактористы кочуют по полям в горячие уборочные дни. Здесь теснился весь его аппарат. Сам же инженер в альпинистских ботинках на толстой подошве, в шортах, прикрыв свою буйную рыжую шевелюру носовым платком с завязанными уголками, с полевой сумкой, в которой он держал нужные ему бумаги, весь день лазил по диабазовым и песчаным карьерам, торчал на дамбе. Здесь на ходу решал он дела и вносил в это столько страсти, что его возбужденный голос, казалось, доносился одновременно из разных мест.
Когда таежный пожар начал утихать и дым поредел настолько, что днем стало можно ездить, не включая фар, на лохматую голову молодого прораба обрушилась новая беда — начался летний паводок. Было, конечно, известно, что на сибирских реках, которые берут истоки в снегах Саян, летом вода бурно поднимается. В расчетах производства работ это, разумеется, предусматривалось. Но Бершадскому, уроженцу мест, где летом реки мелели, а то и пересыхали вовсе, было удивительно, а как механику было и страшно увидеть, что в густой зной Онь начала убыстрять и без того стремительное движение воды и уровень ее стал повышаться.
Несясь со скоростью более шести метров в секунду, река налетала на дамбу, мысом врезавшуюся в речную гладь, с урчанием разбивалась о диабазовую облицовку и неохотно поворачивала, играя, как спичками, бревнами разбитых плотов.
Стоя на острие дамбы, Марк Бершадский растерянно глядел на это речное буйство. Он лучше, чем кто-нибудь, знал, что покрытие, сложенное из огромных кусков диабаза, выдержит и не такой напор. И все-таки, когда поток гудел, бурлил, а земля дрожала под ногами, было жутко. И странно было видеть, как какой-то бородатый рыбак, фигура которого все время маячила в дымной полумгле, сидит на острие дамбы, у клокочущей воды, то и дело вырывая из нее сверкающую рыбу.
Не сама дамба беспокоила прораба. За дамбой, в проране, предстояло построить мост на стальных опорах, с которого на будущий год и будет вестись перекрытие реки. Для этого нужно соорудить и опустить под воду кессоны. И инженер думал: какая же это будет нечеловечески трудная работа, какая медленная, дорогая и какая опасная! Не учти что-нибудь, прозевай какую-нибудь мелочь — и в такое вот половодье поплатишься.
— И какая все-таки силища! — произнес он вслух, невольно любуясь буйством воды.
Рыбак, сидевший у его ног, не обернулся, он только повел удилищем и снова застыл в каменной неподвижности, в которой угадывалась, однако, охотничья настороженность.
— Ну и реки у вас тут, дядя! — продолжал инженер. — И сколько же дней эта петрушка займет?
Рыбак подсек. Рыба размером с ладонь затрепетала на конце лески. Бородач взял удочку под мышку, неторопливо поймал трепещущую рыбу, отцепил ее и, наклонившись, пустил в клубящийся поток.
— Зачем? — не вытерпел инженер.
— Пусть подрастет, — ответил рыбак. Обернулся, неторопливо осмотрел собеседника, начав с альпинистских ботинок на голых тощих ногах до красного, распаренного лица, и, явно пряча где-то в зарослях бороды улыбку, добавил: — А петрушка эта, племянничек, будет продолжаться до тех пор, пока в Саянах не прекратится таяние снегов и дебит в истоках не понизится до нормального.
Затем бородач надел на крючок козявку, поплевал на нее и забросил удилище за кромку пены. Но инженер успел заметить, что голубые глаза собеседника мутноваты, набрякшие веки красны, что большие руки его дрожат и что от него несет водкой. «Свалится еще, завертит его, и поминай как звали».
— А между прочим, гражданин, ловить здесь рыбу запрещено, — не очень уверенно произнес Бершадский.
— Кем? По какому закону? — Бородач даже не повернулся. — Любительское ужение удочкой разрешается всюду: как в проточных, так и в непроточных водоемах, за исключением заповедников, установленных решением местных Советов. Вот что говорит закон, молодой человек. — И, вытащив удилище, он как ни в чем не бывало стал неторопливо менять наживку.
Молодой человек! Это было уже слишком.
— Послушайте, гражданин! Я инженер, я прораб этого участка. Я приказываю вам немедленно уходить с дамбы. Понимаете? Здесь идут важные работы. — Рыбак даже не оглянулся. Бершадский вспылил: — Уходите немедленно, или я прикажу охране...
— Это вон той даме, что ли? — спросил бородач, поведя головой в сторону вагончика, на ступеньках которого сидела пожилая женщина с каким-то шитьем. Возле нее, в сторонке, прислоненная к стене, стояла берданка. — Это вы ей прикажете меня гнать? Ну что же, поглядим. Любопытно.
Теперь рыбак стоял рядом с инженером и глядел на него с высоты своего роста. И пока Марк Бершадский подбирал в уме фразу похлестче, чтобы осадить бородатого нахала, тот вдруг спокойно и даже с каким-то кротким снисхождением в голосе спросил:
— Вы скажите-ка лучше, как вы реку перекрывать думаете? Неужели пионерным способом? Так это же сколько времени уйдет! Да и не перекроешь Онь пионерным. Вон она какая!
Он спросил это так просто, деловито, обыденно, что Бершадскому не показалось даже странным, откуда этому бородачу известны гидротехнические термины.
— Ну зачем же пионерным? — снисходительно сказал он. — Еще метров двадцать потянем дамбу, а там банкетный мост.
— С кессонами ставить собираетесь?
— Ну а как же еще?
— Кессоны... А вы прикинули, как она пойдет, работа в кессонах, на такой глубине? Два часа спускаются, два работают, два поднимаются... Двухчасовой рабочий день. И при огромном давлении. И река видите какая? Она за час на полтора метра подскакивает... — Незнакомец говорил неторопливо, аккуратно сматывая удилище.
— Все это я и сам знаю, но другого-то выхода техника пока не знает, — ответил Бершадский, сам не понимая, почему человек, от которого несло рыбой, потом и водочным перегаром, внушает ему невольное уважение.
— Техника-то знает, а вот вы, к сожалению, не знаете, — сказал бородач, присаживаясь на большой камень и указывая место возле себя. Бершадский сел. — Листок бумаги и карандаш в вашей полевой сумке есть? — Инженер достал ученическую тетрадку, самописку и протянул собеседнику. И хотя руки у того заметно дрожали, он стал уверенно и точно набрасывать техническую схему...
— Макароныча к телефону! — закричали из вагончика.
— Марк Аронович, разве не слышите? Вас, — повторила девушка с флажком, с помощью которого она командовала шоферами, подвозившими грунт.
— Макароныч — это вы же, наверное, — сказал, не отрывая глаз от схемы, бородач. — Чего же не отвечаете?
— Моя фамилия Бершадский. Инженер Марк Аронович Бершадский, — как можно солиднее отрекомендовался прораб и, сложив ладони рупором, крикнул в сторону вагончика: — Меня нет, я поехал в управление, вернусь ориентировочно через полчаса.
— «Макароныч», изобретут же! — усмешливо продолжал бородач, и инженер, с нетерпением заглядывавший ему через плечо, пропустил это замечание. — Кессоны не лучший выход. Когда в Старосибирске строили мост, сколько времени ушло? Ну? И вы с кессонами поспеете, как говорят здешние люди, к морковкину заговению...
— Я, признаюсь, вот только сейчас об этом думал. Но выход...
— А выход... — Незнакомец вырвал из тетради лист и показал схему. — Выход вот, смотрите: ставите на мертвый якорь баржи или плоты. С них в воду опускаете бетонные трубы, можно сваривать в стыках или на болтах. Диаметр — метр. Опускаете до дна. — Бородач, показывая схему, говорил все это уверенным тоном, каким читает лекцию профессор, убежденный, что его слушают со вниманием. — Вот здесь сильные вибраторы — два или три. Они синхронны. С помощью их трубы загоняются в грунт до скалы. Потом вниз опускается сверло, высверливает диабаз. Туда льют бетон. Вот вам бетонная колонна-опора, никаких кессонов, никаких ряжей. Ну?
Все было ясно, просто. Настолько просто, что Бершадский даже поразился, как ему самому все это раньше не пришло в голову. Грандиозное предложение! Миллионы! А главное, время! Время!
— Законно! — Этим словечком, пришедшим вдруг из школьного лексикона, инженер выразил предел восхищения.
— Макароныча опять к телефону.
— Марк Аронович! Ну что же, опять не слышите? — крикнула девушка с флажком.
— Всех к чертям собачьим! — откликнулся инженер, сложив руки рупором. — Я вас слушаю, слушаю. — Стоя возле бородача, он с нетерпением переступал с ноги на ногу.
— Всё. Разберетесь по схеме, — ответил тот и, передав тетрадный листочек, стал торопливо засовывать расчлененные удочки в брезентовый чехол. Потом достал из воды тяжелый кукан рыбы, протянул Бершадскому: — Нате, это для знакомства.
Приняв сверкающую и еще трепещущую рыбу, Бершадский свободной рукой хлопал себя по тем местам, где полагалось быть карманам.
— Рыба — это чудесно! После каши-блондинки, которой нас потчуют в столовой... Но у меня, кажется... нет с собой денег.
— Ничего, потерплю... За вами пятачок.
— Марк Аронович, «к чертям собачьим» не выходит, это начальство, это товарищ Надточиев. Он сердится.
— Извините, пожалуйста. Я сейчас, одну минуточку. — И с чертежиком в одной руке и с рыбой в другой Бершадский, прыгая с камня на камень, ловко маневрируя меж самосвалами, бросился в свою контору. Он влетел в вагончик, схватил трубку и, даже не поприветствовав Надточиева, принялся сбивчиво передавать предложение незнакомца. Он объявил его гениальным.
— Слушайте, Макароныч, это уже художественный свист, — прозвучал из трубки насмешливый голос — Улавливаю лишь основную мелодию, и то нечетко. Вот что, сын мой: забирайте вашего гения, и оба ко мне. Есть и еще дела.
Зимняя история не оставила заметных следов на отношениях этих двух людей, и Надточиев, хотя выговор еще и украшал его дело, по-прежнему относился к шумному, восторженному Бершадскому с шутливой симпатией.
Прямо из вагончика, минуя лесенку, Бершадский спрыгнул на землю. От толчка веревка оборвалась, и толстые веретенообразные рыбы рассыпались в пыли. Мыс, урчащие самосвалы нечетко вырисовывались в дыму. Но рыбака не было видно. Он как-то незаметно исчез, и ни шоферы, ни караульная с рукоделием, ни девушка с флажком не могли сказать, куда он ушел. Исчез, как появился, странно, неожиданно, как люди появляются и исчезают лишь в снах. И действительно, все походило на сон, хотя рыба корчилась в пыли и эскиз был в руках.
Предложение незнакомца было настолько ясным, что, взглянув на схему, Надточиев смог сразу оценить его значение.
— Остроумно, — сказал он, выбираясь из-за стола на средину кабинета и начиная свое обычное хождение. — Сугубо остроумно, как говорит наш Старик. Нет, Макароныч, это же просто здорово!.. И смотрите, какая твердая рука, как грамотно! Конечно же гидротехник, и притом опытнейший мостовик. А главное, отдал и исчез. Даже не подписал... Странно... Просто мистика какая-то! Вы хоть бы фамилию его узнали, что ли?
— Я, видите ли, даже за рыбу с ним не расплатился. Он мне сунул рыбу...
— За пятачок?! — воскликнул Надточиев, останавливая свое движение по комнате. — Такой большой, голубоглазый, весь в бородище?
— Вы его знаете?
— С вас бутылка коньяку и пельмени. Слышите? Их тут в «Индии» какая-то чалдонка здорово сооружает... Это Дюжев, механик из «Красного пахаря»... Водкой от него несло? Ну конечно он! Вы помилованы. Считайте, что дешево отделались. — Надточиев опять зашагал по кабинету. — Грамотная рука... Эти чертежные цифры. Откуда?.. Я с ним охотился. Замечательно стреляет, но если с ружьем или удочкой — значит, находится в пике, в запое, а добычу отдает за пятачок тем, кто ему понравится... Ишь, даже векторы вывел! — Надточиев повернул бумажку и с удивлением прочел вслух: — «Мой милый, дорогой лохматый Викусик! Я так...»
Пятнистое лицо Бершадского вспыхнуло, он выхватил листок, бешено разорвал его на мелкие куски и бросил на пол.
— Не стыдно вам читать чужие письма...
— А вам, Макароныч, рвать чужие и очень важные эскизы?
На миг они оба замерли над клочками бумаги. Бершадский бросился на пол, стал собирать.
— Не трудитесь, здесь все ясно и без эскиза. Но милому лохматому Викусику придется провести вечер одному. Разделение труда такое: вы восстанавливаете чертеж, а я разыскиваю Дюжева. Устраивает? Договорились. А под выходной отправимся в «Индию». Пельмени за вами...
Но разыскать Дюжева оказалось не так-то просто. Связь с Ново-Кряжовом — так называлось молодое село, возникшее совсем недавно на крутом берегу, над рекой Ясной, — была временной. Только к ночи дозвонившись до «Красного пахаря», Надточиев попросил к телефону механика.
— Кто его спрашивает-та? — прозвучал в трубке мальчишеский голос.
— Со строительства, из Дивноярска. Надточиев спрашивает. — В трубке задышали. Потом Надточиев услышал торопливое: «Пал Василича кличут, — что говорить? Ладно».
— Эй вы, все еще на трубке сидите? Так вот, говорят, товарищ Дюжев в командировке.
— А где? — спросил Надточиев и снова услышал шепот: «Спрашивает, где? Такой настырный».
— Эй вы, слышите, он в дальней командировке, Дюжев-та, за моторами поехал...
Надточиев понял: бедняга еще не вышел из пике — и поразился, с какой заботой колхозники прячут от посторонних порок своего механика.
Впрочем, идея Дюжева была так ясна, что ее можно ставить на обсуждение и без присутствия автора. На следующее утро Бершадский и Надточиев знакомили с ней Петина. Тот взял чертеж, старательно выполненный за ночь Бершадский, тоже прочел его без объяснений и, как показалось Надточиеву, чему-то поразился.
— Любопытно, очень любопытно! — как бы про себя произнес он. — Сыровато, конечно, но в идее... — И, покосившись в сторону Надточиева, подчеркнуто произнес: — Я всегда говорил, что Марк Аронович — способнейший, растущий инженер. На этот раз, кажется, и вы, Сакко Иванович, с этим согласны?
— Автор не я, — отозвался Бершадский, краснея так, что все его крупнокалиберные веснушки стали вдруг невидимыми. — Я только перечертил чужой эскиз.
— Ах вот как! — бесцветным голосом произнес Петин, но Надточиеву, настороженно следившему за каждым его движением, за его интонацией, почудилось, что он весь внутренне насторожен и старается скрыть это. — Так кто же автор? — спросил Петин равнодушно.
— Тут один, просто-таки гениальный мужик... — начал с энтузиазмом Бершадский. — Сидит на дамбе с удочкой... Такая мысль, и даже не назвал себя...
— Не назвал себя?
— Его фамилия Дюжев, — произнес Надточиев, смотря в упор в черные глаза Петина. Неодолимая ненависть к этому спокойному, непроницаемому человеку подсказывала, что тот чем-то поражен, взволнован и что это как-то связано с проектом или с его автором. — Его зовут Дюжев, — повторил он и с торжеством увидел, как едва заметно дергается темное веко на спокойном лице собеседника.
— Дюжев? — переспросил Петин. Голос у него был обычный, бесцветный. — Ну и кто же он, этот, как вы сказали, Дюжев? Что он здесь делает?..
— Он здешний. Механик в колхозе... Вы понимаете, сидит на дамбе человек с удочками... Вы не поверите, все это за пять минут на моей полевой сумке набросал...
— А как его зовут, этого механика? — быстро спросил Петин, но, точно бы спохватившись, погасшим голосом сам снял этот вопрос. — Впрочем, какое это имеет значение, оставьте это у меня, я подумаю, посоветуюсь с товарищами.
— Да чего тут советоваться! — воскликнул было молодой инженер.
— Дорогой Марк Аронович, я человек советской инженерной школы. Я коммунист, — исполненным терпеливого доброжелательства голосом произнес Петин. — Я ничего ни отклонять, — взгляд в сторону Надточиева, — ни принимать, — взгляд в сторону Бершадского, — не обдумав, не взвесив, не посоветовавшись, не имею права. — Он решительно отложил свернувшийся в трубку чертеж и повернулся к Надточиеву: — А я, Сакко Иванович, к сожалению, оказался еще раз прав. Поперечный-старший не вырабатывает даже обычной нормы, не говоря уже об обязательствах! Срам! Тут у меня один московский корреспондент брал интервью, и, конечно, первый вопрос: как знаменитый Поперечный? Хорошо, что у нас два Поперечных, и один из них не фантазер, а умный человек. Видите, что получается, когда эмоции побеждают расчет. В век ракет кавалерист с саблей выглядит даже не смешно, а жалко... Расчет, только расчет! — Петин встал. — Оставьте эскиз, я его изучу.
4
С некоторых пор в доме № 2 по Набережной, которая, правда, еще не стала набережной, хотя все-таки уже выросла в улочку маленьких деревянных домиков, воцарился порядок.
Комнату Петровича при гараже занимала теперь немолодая чета: муж, положительный, аккуратный, осторожный человек, возил начальника Оньстроя. Жена, тоже солидная, тоже немногословная, работящая женщина, убирала комнаты, готовила, стирала белье — словом, обслуживала холостяцкое хозяйство, которое раньше кое-как, но шумно, с шутками и прибаутками вел Петрович.
Проводив начальника на работу, эта женщина принималась мести, чистить, выбивать пыль из портьер рытого бархата, вытирать золотые багеты картин, к которым она относилась с трепетным почтением. Даже старая пузатая гиря, с которой Литвинов по утрам упражнялся на балконе, была отчищена наждачной бумагой до блеска и поставлена на специальный коврик.
Супруги были добросовестные, честные люди. Приехав ненадолго на стройку, жена Литвинова, Степанида Емельяновна, сразу оценила их. Но сам он скучал по своему веселому, бесшабашному, жуликоватому Петровичу. Дом, где теперь каждая вещь знала свое место, не привлекал его. Он вызывал скуку, а работящая пара — глухое, беспричинное раздражение.
Почему? Что, собственно, случилось? Один шофер сменил другого. Серьезные люди стали заботиться о его быте. Пора, возраст такой, когда всякая бытовая мелочь приобретает значение. Сам же всегда пошучивал, что Петрович что-то вроде Западного Берлина — рудимент минувшей войны. И ушел он по истинному собственному желанию, по-хорошему, без обиды. Так в чем же дело, рабочий класс? — как любит выражаться Степанида Емельяновна. Так раздумывал однажды Литвинов, сидя погожим летним вечером на ступеньках террасы, которая когда-нибудь будет спускаться к морю, а пока что вела в заросли буйных трав. Воздух очистился, к нему вернулась прозрачность, о которой забыли здесь в дни, когда пал тайги приближался к строительству. Гребенка леса уже поредела, его начали убирать со дна будущего моря, и с балкона теперь можно было видеть вереницы домиков города-спутника. Теперь, когда домостроительный комбинат набирал мощность, они стали расти с такой быстротой, будто их складывали из кубиков. И если раньше, выбравшись на террасу, Литвинов насчитывал один-два новых, то сейчас, когда спала дымная пелена, он увидел несколько только что рожденных, четко вырисованных на зеленом фоне кварталов. Он радовался этим юным кварталам: растет, растет мой Дивноярск!
Но полной радости не было. В столовой звякали тарелки: это накрывали ужинать. Не оглядываясь, он отчетливо представлял себе, как жена шофера в белом накрахмаленном переднике расставляет столовый прибор, тарелки. И вдруг подумал: «Как-то мой Петрович на новом семейном положении?» И тут же рассердился: «Ну что он у тебя из головы не идет? Кто он тебе — сын, внук? Самостоятельный мужик, пройдоха — пробы негде ставить, кого хочешь проведет и наизнанку вывернет...»
— Федор Григорьевич, кушать пора, — тихо, но настойчиво произнес женский голос.
На столе чистая скатерть, сверкающий прибор. Вилки и ножи разных назначений лежат на своих местах. Тарелка с хлебом прикрыта салфеточкой. Графинчик с водкой даже вспотел: он только что из холодильника. Хрустальная рюмка, блестя, отдает в синеву. Даже коробочка с витамином и та под рукой. А есть и пить не хочется. Кое-как поковыряв вилкой то, другое, третье, Литвинов отбросил скомканную салфетку и встал.
— Ну что же это такое? Опять ничего не скушали. Степанида Емельяновна на меня сердиться будет, плохо вас кормлю, — с упреком произнесла женщина в переднике. — Вы бы врачу показались. Что это такое, целый день человек на такой работе и ничего не ест. Годы-то не молоденькие!
Годы! Не хватало, чтобы ему еще напоминали о годах. Они сами все чаще напоминают о себе. Эта тягучая усталость по вечерам, эта одышка. К концу дня выматываешься, будто плоты с мели снимал... Годы! При чем тут годы? Просто устал... Ну ничего, ничего! Вот Онь перекроем, схлынет горячка, дернем со Степой в Кисловодск. Воздух! Эти шипящие пузырьки щекочут тело. И пойдет все по-прежнему.
Литвинов выходит на террасу и, с досадой обойдя выставленный для него сюда шезлонг, садится на ступеньку. Знойный день угасает. Солнце освещает лишь стрельчатые верхушки самых высоких елей. Из тайги надвигается, окутывая все, плотная, влажная сумеречная синева. И почему-то вспоминается, что именно в такой вот знойный ясный вечер, когда каждая звезда в небе сверкала отчетливо, как монета, произошло это самое страшное в жизни инженера Литвинова событие. Немецкие танки мнут поспевающие хлеба. Совсем недалеко гремят короткие выстрелы противотанковых пушек. Воды Днепра, процеженные гребнем водослива, сверкают в лучах заката, как расплавленное стекло. Этот шум воды, спокойный, ровный, знакомый с юных лет шум казался здоровым дыханием Днепрогэса. И военному инженеру Литвинову, уже прошедшему со своими саперами сотни километров по скорбным дорогам отступления, страшен не близкий грохот артиллерийского боя, а этот спокойный шум, под который прошла лучшая пора его жизни. Ему, который строил эту прекрасную плотину, ему, который знал ее, как собственными руками срубленный дом, поручено участвовать в ее уничтожении, чтобы гордость страны не стала трофеем гитлеровцев.
Ощущая странное оцепенение, будто в тяжелом сне, Литвинов указывал саперам наиболее уязвимые места плотины, давал команду подрывникам. И когда острые ежи взрывов, встряхнув землю, одновременно в разных местах взметнулись в темнеющее небо и будто удивленная неожиданной свободой вода, мгновение как бы помедлив, трепещущими потоками, с диким, ликующим гамом хлынула в пробитые бреши, Литвинов, не оглядываясь, пошел вслед за своей уже отходившей частью. Теплый песок, в котором тонули ноги, тягуче скрипел. Потом под подошвами зазвенел влажный от росы асфальт. Взошла луна. Неполная, тоненький осколочек, будто бы ее тоже повредило взрывом. Днепр был уже далеко, а Литвинов все шел точно во сне, и в ушах его стоял злорадный рев вырвавшейся на свободу воды. И почему-то все вспоминалось: когда стали уходить под воду острова, где некогда собирались запорожцы, старик ученый бросился со скалы в Днепр. И думалось тогда комсомольцу Литвинову: тупой, злой национализм, старческая глупость. Ах, как теперь военный инженер Литвинов понимал этого старика! Днепрогэс в развалинах! Он сам участвовал в его уничтожении. Немцы прорвались на Левобережную Украину. Надо ли жить? Зачем? Может быть, было бы лучше, выполнив страшный приказ, как тот ученый, головой с плотины, чтоб ничего не видеть, ничего больше не знать?..
Так и шел в разношенных брезентовых сапогах по спутанным пшеничным полям, где война протоптала много дорог. Было тихо, где-то справа глухо били зенитки. Пыльные грузовики с имуществом части двигались с неровными интервалами. Тяжело шагали саперы, лопатки стучали о приклады винтовок. Пушки били и сзади: должно быть, какие-то части еще сражались в Днепровской пойме, пытаясь прикрыть отступление. А по небу вокруг, куда ни глянь, полыхали багровые зарева... Литвинов скрипнул зубами: «Проклятое время, все рушится. Как было бы хорошо, если бы один из снарядов упал рядом. Разве не лучше мгновенный конец, чем эта вот протоптанная по хлебам дорога, ведущая в глубь страны?..»
Сколько прошел Литвинов в состоянии такого душевного оцепенения, он не знал. Он даже не оглянулся, когда какая-то машина, поравнявшись с ним, приладила ход к его шагу.
— Товарищ командир, товарищ инженер-майор, — донесся чей-то голос. Потом гукнула сирена, Литвинов вздрогнул. Молодой, энергичный голос слышался из машины. — Товарищ командир, садитесь, давайте подвезу.
— Куда? — спросил Литвинов, тупо уставившись на новенькую блестящую «эмочку», катившую рядом с ним.
— Куда прикажете, — жизнерадостно прозвучало из остановившейся машины.
И это так поразило Литвинова, что он машинально сел в машину. В ней густо пахло бензином, яблоками, медом. И действительно, на заднем сиденье лежал толстый, солидно поскрипывавший на ухабах мешок с яблоками. На полу стояло эмалированное ведерко. Из него торчали рамки с толстыми сотами.
— Может, поесть хотите? Наверное, как следует и не поужинали?
Ужин! Сумасшедший он, что ли? Придет же в голову! Литвинов с удивлением смотрел на водителя. Невысокий, коренастый, с румяным чернобровым лицом, совсем мальчишка, он, однако, прочно сидел за рулем. Круглая его физиономия так и дышала здоровьем. Это было первое жизнерадостное лицо, какое Литвинову доводилось видеть в те скорбные дни.
— Откуда ты такой взялся?
— Из Львова, — ответил шофер тем тоном, каким говорят: «Да вот из соседней деревушки».
— А машина чья?
— Теперь ваша, товарищ инженер-майор.
— Как так?.. Что ты мне голову морочишь?
— Никак нет, не морочу. Была бесхозная, сейчас вы ее мобилизовали в свою часть. — Глаза у шофера были большие, выпуклые, темные. В них, казалось, однажды и навсегда поселились озорные смешинки, которые не угасли и сейчас, когда сзади и спереди гремели пушки, над полями, истоптанными гусеницами танков, водили хороводы белесые и багровые зарева, и армия, отступая, катилась, изнемогая от жары, пыли и неопределенности.
— Документы есть?
— Так точно! Сейчас ведь лучше голову потерять, чем документы, — многозначительно подмигнул шофер.
Документы были в порядке, и их владелец, которого впоследствии, несмотря на его юность, инженер-майор, а за ним и вся часть стали почему-то величать Петровичем, рассказал свою историю, в которой, впрочем, ничего особенного не оказалось. Эвакуировался из Львова вместе с начальством — директором какого-то треста. Впереди шел грузовик с директорским имуществом. На дороге не раз попадали под бомбежки. Привыкли и к ним и к вздувшимся на жаре трупам лошадей, валявшимся по обочинам, к горящим машинам и к селам, от которых остались одни печи. Когда были уже недалеко от Днепра, по потоку беженцев пронеслась весть: фронт прорван, немецкие танки где-то рядом, а может быть, даже и впереди... Началась паника. А тут как на грех огромная пробка на насыпи. Пытаясь ее обойти, Петрович сорвался, машина два раза перевернулась, но уцелела, оставшись лежать на боку. Уцелели и пассажиры.
Перепуганный начальник отказался ожидать, пока удастся поставить машину на колеса. Он бросил свою бедную «эмочку» и перелез в грузовик... Ведь это подумать, бросить немцам новенькую машину! Отличную, специальной сборки машину, глядя на которую дохли от зависти все львовские шоферы!.. Как бы не так!
Петрович пожелал начальству приятного драпа, сам залез в хлеба, чтобы не подстрелили свои, подумав, что он собирается перекинуться к врагам. И когда скорбный поток прокатился по дороге, когда провезли мохнатые от пыли пушки, спешившие куда-то на новый рубеж, и дорога опустела, Петрович соорудил из жердей какое-то приспособление, с помощью его поставил машину на колеса и, чтобы в самом деле не настигли немцы или не подстрелили в горячке свои, без дороги, полем, сторонясь больших и малых шляхов, покатил на восток. О спасенной машине он говорил с нежностью, как о живом существе, о бросившем его начальнике — со снисходительным презрением, о войне — как о чем-то скверном, противном, в чем, впрочем, не было ничего особенного.
Рассказывая, он хитро посверкивал темными глазами и закончил рассказ заявлением:
— Мобилизуйте нас с «эмочкой». Увидите, мы оба вам пригодимся. — И тихонько прибавил: — У меня в багажнике окорок кило на десять и два пол-литра. — Подумав, добавил: — Я фотографировать умею и песни пою...
И вдруг молодым голосом тихонько завел: «Ой на гори тай жнецы жнуть». Голос его прозвучал во тьме, освещенной заревами, так же неправдоподобно, как на вечерней заре голос какой-то птахи в истоптанных войной хлебах...
Та ночь, жаркая, душная, полная тучных запахов ранней осени, очень походила на эту, что спустилась сейчас на Дивноярск. И так же, как тогда, раскатив на полнеба, висит теперь зарево, и так же короткими огнями мерцает горизонт. Только зарево теперь не кровавое, а белесое, электрическое, и мерцают не отсветы выстрелов арьергарда, а голубые зарницы электросварки.
— А ведь и верно говорят: военная дружба не ржавеет, — вслух произнес Литвинов, с кряхтением поднимаясь со ступенек. Но, подумав, снова уселся. Как и все люди, которым вдоволь довелось воевать, он ненавидел войну, но любил вспоминать фронтовые скитания...
Сегодня по телефону Петрович попросил разрешения заглянуть вечерком за гитарой. И вот годы, которые они проездили вместе, — и по горькому пути отступления от Днепра до Волги, и в наступлении, по беспредельно разливающимся украинским грязям, по проселкам Польши, по прекрасным шоссе Чехословакии и широким автострадам Германии, — весь этот путь, как бы ожив, мелькал перед глазами. К концу войны в части инженер-полковника Литвинова была уже богатая техника. Командиры взводов и те обзавелись великолепными машинами. А Литвинов продолжал ездить все с тем же старшиной Петровичем, на той же «эмочке», раскрашенной косыми, светло- и темно-зелеными полосами, делавшими ее похожей на спелый арбуз. Ездил, пока однажды она на переправе не сорвалась с саперного парома в реку Одер. Но и пересев потом в роскошный трофейный «хорьх», они всё вздыхали по ней: «Хорошая была машина»...
— Федор Григорьевич, вам больше ничего не нужно? Я иду спать. — Это сказала домработница, уже снявшая свой передник.
— Да, да, пожалуйста. Приятных снов, — с веселым облегчением отозвался начальник строительства.
...Прямо с войны, уже в генеральской форме, инженер Литвинов отправился восстанавливать Днепрогэс. Потом форму он снял, работал на других строительствах — на востоке, на юге, на севере. Петрович по-прежнему возил его, жил с ним под одной крышей, заботился о нем — шофер, порученец, друг.
Среди гидростроителей Литвинов слыл знатоком душ человеческих, умеющим укрощать самые строптивые характеры. Но этот медвежеватый проворный парень оставался все тем же любителем легкого варианта жизни. «Все учатся, приобретают квалификацию, растут, времени сколько угодно, — занимался бы», — говорил Литвинов. И получал ответ: «А зачем? От лишних занятий, как от крепкого чая, цвет лица портится. Что мне, дипломом мух бить? А по шоферскому делу, ставь против меня любого инженера, левенькой положу. Что, не так?» И это было так...
— Ну, как ты? — Это были первые слова, которые Литвинов произнес, открыв дверь Петровичу.
— Лучше всех! — бойко ответил тот, тщательно вытирая о половичок ноги, чего раньше за ним не замечалось, и, с любопытством оглядываясь, в свою очередь спросил: — А у вас тут что? — И на коротеньких, проворных ногах прокатился по комнатам. Остановился. Вздохнул. — Порядок полный, чистота!
Он похудел. Старый «выходной» пиджак свободно болтался на нем. Краски на круглой физиономии померкли, да и плутовская улыбочка как-то пооблупилась, не была такой лучезарной.
— Что, механиковать в гараже не то, что у подъезда романы про шпионов читать?
— Хо, гараж тоже — двадцать машин! — презрительно изрек Петрович. — Станция Прохладная — не холодно, не жарко. Вот Мария Филипповна моя... Вам бы такую, к гирям бы небось не потянуло: по одной половичке на цыпочках хожу. — Он взял гитару, вынесенную ему из кабинета, сделал быстрый цыганский перебор и вдруг, закатив глаза, с придыханием пропел:
Эх, жена моя не ягодка —
Полынь, горькая трава.
Федор Григорьевич, у вас сто грамм не найдется? — спросил он, кладя гитару на диван. — Да не беспокойтесь. Я сам. — Подошел к буфету, открыл дверцу и отпрянул в изумлении. — Посуды-то, мать честная, мы с вами за всю жизнь столько не перебили!
— Налей уж и мне, — сказал Литвинов, наблюдая за гостем и думая, как все-таки хорошо было, когда в пузатом резном буфете стояло лишь несколько тарелок, две кружки и хозяйничал здесь вот этот проворный увалень. — Я, Петрович, думал, жена тебя кормит-холит и ты еще больше раздобрел.
— Будет вам, Федор Григорьевич, над человеком издеваться! Мурка у меня только кондер варить и умеет, да и тот ужас как пересаливает, есть нельзя. Все я, все я! Да и то — это ей пресно, это ей кисло. С полоборота заводится. Не жизнь у меня, Федор Григорьевич, а, научно говоря, кал.
Как и всегда, Петрович легко хмелел и, охмелев, переходил на «шибко интеллигентную» речь.
— Дозвольте, я вам некоторый презент сделаю. — Он укатил в переднюю и вернулся с двумя бутылками пива и связкой сушеной воблы.
Литвинов растроганно смотрел на подарок. Вобла с военных времен была их любимым лакомством.
— Эх, картошечки бы печеной, помнишь, с горелым бочком, чтобы на зубах скрипела! — сказал он, разминая сухую рыбу своими могучими пальцами.
— Яволь! Ваша мажордомиха, наверно, держит сей скромный продукт сельской флоры.
Оба прошли на кухню, и, пока Литвинов ловко лупил воблу и складывал отделенные волоконца на тарелку, Петрович вставил спички в отверстия терки, насадил на них небольшие картофелины и все это сунул в духовку:
— Ну, и все-таки, как же ты живешь?
— А вот как: если голой казенной частью на муравейник сесть, — горестно вздохнул Петрович. — С вами ездил — не соответствует ее жизненному стандарту: слуга. Механикую сейчас — вроде бы персона грата, — опять несоответствие. Ты, говорит, как та тротуарная тумба, у которой каждый пес ножку поднимает. Это в смыслах производственной рекламации. При вашем гараже квартировали — неладно: людская. Комнату мне теперь субсидировали — опять нехорошо: не отдельная, одна соседка неряха, другая — язык длинен. Давай квартиру! Вот как у нас.
— Уж не с этим ли пришел? — насторожился Литвинов.
— Ваша резолюция мне наперед известна: к «домовым» отправите. Знаю... — Петрович повел носом в сторону потрескивающей плиты, откуда уже тянулся пресноватый приятный аромат. — Вот теперь в самый раз...
И действительно, картошка на спичках поспела, даже чуть обуглилась. От нее шел дымок. Петрович снял одну со спичек, побросал с ладони на ладонь и разбил ударом кулака. Она как бы раскрылась. Приятно крахмалистая мякоть ее густо пахла дымом костра. Под картошку и воблу медленно допили пиво. Петрович снова взял гитару, лихо перебрал струны и опять пропел:
Эх, жена моя не ягодка —
Полынь, горькая трава...
— Вот вы произнесли некогда: отольются кошке мышиные слезки. Отливаются. — Явно хмелея, Петрович тянул плаксивым тоном: — Житья нет: давай отдельную квартиру. Запилила — пошел в профсоюз, так к «домовым» послали. Налетел на эту Поперечниху, она меня таким лексиконом огрела, что я вылетел, точно мной из рогатки пальнули. А моя — нет, ступай в партком. Ведь пошел, пошел в партком. Перед Ладо Ильичом, как перед отделом кадров, открылся, все мемуары выложил: она, мол, у меня как та старуха из сказки: что ни сделай — только пуще лютует...
— Так, ну и Ладо? — Литвинов с трудом сдерживал улыбку.
— А он говорит: сынишка, мол, у меня есть, Гришка, что ли, мать ему эту сказку читала, так он будто бы удивился: чудак, мол, старик, растерялся, просил бы, мол, сразу у рыбки новую старуху.
— А что? Пожалуй, и неплохой совет...
— Не могу, Федор Григорьевич. Ситуация подсказывает: ликвидируй брак и спасайся... Но не могу одолеть силу притяжения. Люблю ее, стерву крашеную, ферштеете? — Он боязливо оглянулся. — Вот и по-немецки она мне говорить запрещает: некультурно.
Опять схватил гитару, подмигнул и резким голосом, каким дивноярские девчонки пели частушки, прокричал:
Старик старуху разлюбил,
Молодую полюбил.
Это не чудачество,
А борьба за качество...
На миг проглянул прежний, бесшабашный Петрович, но, выглянув, тотчас же пугливо скрылся.
— Ну, а пришел зачем?
— За гитарой... Нет, не стану врать. Она послала. У нее теперь фиксовая идея: не хочу быть Муркой Правобережной, народ потешать; что это за квалификация — помощник диспетчера! Хочу настоящую квалификацию получить — на крановщицу учиться. Там финансовая база: по полторы косых ловкие девчонки зашибают.
— На крановщицу? — удивился Литвинов.
— Ну да. — И опять, соскользнув на плаксивую ноту, Петрович взмолился: — Федор Григорьевич, выручайте, ее из диспетчерской будки не отпускают. Народ, вишь, любит, а? В кадры сам ходил — не вышло, говорят, будто верно правый берег держит. Вот она мне и говорит: ты, говорит, столько лет возле начальства терся, скажи — не отпустят, вовсе уеду. И уедет. И до свидания от нее не услышишь!
— Ну и пусть — опять потолстеешь.
— А я? — Петрович отвернулся и хлюпнул носом.
— Этого не хватало! — брезгливо поморщился Литвинов. — Ничего в ее просьбе худого нет. В крановщики нужны толковые, волевые люди, не такие вот, как ты, ненаучно выражаясь, дерьмо... Ступай умойся.
Петрович нервно вздохнул и обтер ладонью лицо.
— Пятьдесят-то граммов, верно, лишние были, — стыдливо пояснил он. — Уж не забудьте насчет мово кадра-то. Ладно? — В голосе послышались заискивающие нотки, которых Литвинов вообще не терпел. Выйдя в прихожую, Петрович тихо, но тщательно закрыл за собой дверь, а потом, уходя, с той же тихой тщательностью закрыл вторую. И это тоже было в нем новым.
5
«Верим мы тебе, Олесь!»
Как часто вспоминал теперь Поперечный-старший эти слова начальника строительства. «Верим»! Они пришли ему на ум сразу же, когда он вслед за Надточиевым лез в кабину чужого экскаватора, на котором отныне ему предстояло работать. Вспомнил, улыбнулся: «Верим»! Он не сомневался в успехе. Настроение было приподнятое. Весеннее утро еще только занималось над Онью, зеленоватая мгла окутывала огромный песчаный карьер с отвесными стенами, на которых в неясных отсветах зари почему-то особенно выделялись продолговатые следы зубьев ковша. Все это, выхваченное из мглы еще только занимающейся зарей, напоминало какие-то таинственные работы неземных существ, прилетевших с другой планеты. И будто два таких существа стояли в разных углах этой искусственной пади, огромные машины — одна точно бы в дреме, опустив ковш на землю, другая, отбросив стрелу в сторону, будто потягиваясь во сне, заламывала костистую лапу.
Такое сравнение мелькнуло у Надточиева, а Олесь, следовавший за ним, уже заметил и что бывшие его хлопцы сноровисто готовят свою машину к работе, и то, что те, к которым он пришел, хотя и в сборе, но ничего не делают: двое курят у стенки, маленький, похожий на длиннорукую обезьянку электрик, тот самый, что в разговоре сыпал пословицами, читает журнал «Крокодил», а большой хмурый рябоватый детина, слесарь, смотрит в окошко на восход, положив подбородок на сложенные руки.
— Вот, товарищи, я вам нового начальника привел. Звать его Александр, величать Трифонович, фамилию его вся страна знает. Товарищ Поперечный решил вам помочь и добровольно перешел к вам со своей машины, — рекомендовал Надточиев, и по подчеркнуто оживленной интонации, с которой все это произносилось, Олесь понял, что и на этого бывалого строителя первая встреча с новым экипажем подействовала угнетающе.
— Здравствуйте. Как жизнь? — спросил он, чувствуя, что и сам говорит тем же неестественно бодрым тоном.
— Какое наше житье — как встанешь, так и за вытье, — ответил за всех тот, что походил на обезьянку.
— Что так? Машина хорошая, отличная машина, ребята добрые. Я за вами наблюдал. А что не ладится, бывает. Будем теперь вместе налаживать.
— Пустой мешок не поставишь, — ответил электрик. — Ну, включать, что ли?
— Давай.
Моторы тонко запели. Машина очнулась, забился ее пульс. Олесь оглянулся. Фигура Надточиева четко вырисовывалась в дверях на фоне посветлевшего неба. Лица не было видно, но по напряженному положению плеч, по тому, что на нижней выпяченной губе остался прилипший окурок, он понял: волнуется.
Нажал рычаг... Стрела пришла в движение... Прицелился, подвинул машину вперед. Зубья ковша неторопливо очесывали откос. Рука зажила. Суставы сгибались, мускулам как будто вернулась прежняя сила. И все же особым, верхним чутьем, чутьем мастера, Олесь чувствовал: нету между этой стальной махиной, заменяющей четыре тысячи землекопов, и им, человеком, который должен стать ее мозгом, нет у них того контакта, который превращает в радость самый сложный труд.
— Не отлажена она у вас, что ли? — спросил он, оглядываясь.
Четыре пары глаз следили за ним. Три усмешливо, недружелюбно, одна задумчиво.
— Ну что же, справедливо, Александр Трифонович. Денька на два, на три выведем машину на профилактику, на доводку, — ответил Надточиев, сплевывая изжеванный окурок.
Сзади донеслось:
— Мать честная!
— То-то и есть: чужая беда ха-ха, а своя ох-ох!..
Тем же чутьем мастера, обострившимся от волнения, чувствовал Олесь не только машину, но и людей и догадался: первое сказал рябой слесарь, а второе — электрик, похожий на обезьянку. Он даже почувствовал, что двое других недружелюбно молчат. «Не приняли, не верят, — догадался он. — Не верят, злы. Профилактика? Надо бы, но сейчас нельзя... Сейчас — только работа». Он ответил, что пока обойдется и без ремонта, привел машину в рабочую позицию, закрепил. Так начался первый его рабочий день на новом месте, день тяжелый, полный обидных неожиданностей.
Крепко сцепив зубы, весь напружинившись, Олесь сидел в железном своем креслице, глядя вперед с тем сосредоточенным напряжением, с каким охотник берет на мушку дичь. Вскоре его комбинезон потемнел под мышками, рубашка стала липкой, связывала движения. Пот с висков бежал по щекам, и, мотнув головой, чтобы стряхнуть назад липшие ко лбу пряди, Олесь увидел, как тяжелые капли упали на доску приборов. Циклы получались медленные, неуклюжие, смазанные. Было ощущение, будто вместо гвоздя он ударяет молотком по пальцу. Работа не радовала, раздражала, выводила из себя.
Сзади иногда разговаривали. Из-за звона моторов он не различал слов, но тон казался ему насмешливым, недружелюбным. И пухла, пухла в душе обида: черти чумазые, из-за вас оставил своих хлопцев, к вам на помощь шел с открытым сердцем, а вы?
Он так измучился, что, когда смолк мотор, несколько минут просто сидел, не в силах шевельнуть ни ногой, ни рукой. Видел, как один за другим, ничего ему не сказав, спускались вниз «негативы», как, уходя, оглядывались они на кабину, где он продолжал сидеть. Вот что-то сказал электрик. Все засмеялись. Пошли к повороту дороги, где машина должна была забрать их в столовку. «И не спросили, пойду ли я, даже не узнали, не надо ли чего купить», — подумал Олесь. Осторожно, будто с больничной койки, слез он с рабочего креслица. Потянулся так, что кости затрещали. Стараясь размяться, разогнать тягучую усталость, сделал несколько гимнастических упражнений.
— Братуха, братуха, — донеслось снизу. Это Борис. Подъехал на мотоцикле и, не выключая мотора, ждал. — Ну, как вы тут?.. У меня этот Негатив старается, спасу нет. А башка у него, верно, не с той стороны затесана. Только и разговору что о заработке, только и дум что о халупе, которую он в «Индии» строит. Узнал, что у нас больше, чем тут, может получать, аж затрясся... Ну а вы?.. Дали духу этой артели «Напрасный труд»?
Олесь медленно спускался по ступенькам. Казалось, он вот-вот упадет. Не понимая, что с ним, брат было двинулся к нему, чтобы поддержать, но тот отвел руку.
— Устал с отвычки... Пару бутербродов, бутылку пива привези, — только и сказал он.
Сам сел на железные ступеньки и задумался. И вдруг понятен стал ему смысл ядовитой пословицы, прозвучавшей у него за спиной: чужая беда ха-ха, а своя ох-ох.
— Вот ведь вы как меня поняли, — зло сказал он вслух. — Нет, голубчики, что-что, а смеяться вам надо мной не придется. Я вас, лайдаки вы этакие, растрясу. Дайте только мне в темп войти. — И, будто взбодренный этими словами, полез обратно в кабину, принялся шарить в механизмах управления, стараясь понять, почему эта машина, близнец той, на которой он до сих пор работал, так тупо реагирует на любой посыл, почему сочленения ее даже поскрипывают, как ноги ревматика при ходьбе.
Он привык ходить на работу летом в светлых брюках и вышитой украинской рубашке, и от хлопцев, кроме слесаря-подсобника, требовал того же. А здесь за несколько минут комбинезон его почернел. «Запустили, черти, машину, не следили за ней», — подумал он и почувствовал себя легче, как доктор, поставивший диагноз. Решил после смены оставить экипаж, чтобы произвести в кабине хотя бы элементарную уборку. Хлопцам об этом напоминать не приходилось. Эти и сами не ушли бы, не наведя порядок: спичка на полу валяется — подберут. «Эх, хлопцы, хлопцы! Как с вами было хорошо!»
Но и предложение остаться для уборки «негативы» не поддержали.
— Я лично не могу, у меня жена в вечерней смене, не с кем малого оставить, — ответил один.
— А на сверхурочные, товарищ начальник, разрешение имеется? — спросил коренастый носатый человек с бровями, похожими на мохнатые гусеницы. Его звали Рубен.
— Нашел дураков задарма работать! На нас, чай, орденов не вешают...
Только молчаливый рябой, сказав свое «А, мать честная», согласно кивнул головой. Да и то тот, что походил на обезьянку, запирая свой шкафчик, съехидничал по этому поводу:
— Во-во, хороший помощничек, опытный, за козла в кавалерийской конюшне служил. — И, бросив небрежное «пока», побежал к автобусу догонять остальных.
И Олесь, знаменитый Олесь Поперечный, слава которого всегда помогала ему объединить, сплотить, вдохновить людей, растерялся, растерялся, как командир, за которым солдаты не поднялись в атаку. Оставаться вдвоем смысла не было, и Олесь вместе с рябым пошли из карьера пешком. Он пытался узнать, почему так криво сложились отношения в экипаже. Рябой был плохой собеседник. Кроме «мать честная», которым он ухитрялся выражать все чувства, да отвлеченных «да» и «нет», ничего от него услышать не удалось. И когда на углу на проспекте Электрификации, где пути их расходились, он молча пожал Олесю руку, тот, оставшись один, взорвался: «Уйду, плюну на вас на всех и уйду! Копайтесь тут как жуки навозные. Разгонят — и правильно сделают. Ледацюги!..» Но тут же вдруг на память пришла одна из пословиц, услышанных сегодня от электрика: «Осерчал на блох, да и шубу в печь». Так, что ли? И Олесь улыбнулся.
Но брату, заглянувшему вечером в его землянку, он ни о чем не рассказал. На следующий день экскаватор был выведен из забоя на профилактику. К Олесю сразу вернулась уверенность. Вместе со слесарями, что-то насвистывая, лазил он по огромной машине, выверял работу всех ее сочленений, подтягивал, отпускал... «Нет, други милые, Олесь Поперечный еще себя покажет!..» Работали весь день, работали и при электрическом свете. Уже ночью Олесь добрался до землянки и за ужином под мечты жены о том, сколько грядок они вскопают на улице Березовой, возле будущего своего жилья, и что она на них посадит, незаметно уснул. Зато вскочил чуть свет, сбегал к ручью, нетерпеливо, горстями побросал на себя воду и, кое-как позавтракав, поспешил в забой, чувствуя, что уже прикипает сердце к новой машине. Возился с ней и верил: отблагодарит. И когда профилактика была закончена и экскаватор был вновь возвращен в карьер, он явился на работу праздничный, в наглаженных штанах, светлой рубахе. Даже когда электрик насмешливо произнес: «Вот щеголь Ивашка, что ни год, то новая рубашка», — он только подмигнул: мол, знай наших.
Но ожидания и на этот раз не оправдались. Слов нет, машина работала лучше, но уже в первый час стало ясно, что дневной нормы не вытянуть. И опять упало настроение, и опять к концу смены Олесь с трудом преодолевал тягостную апатию, которая, как казалось, поселилась у него в костях. Не дожидаясь, пока подсчитают выработку, побрел к автобусу: лишь бы не видеть разочарованных взглядов товарищей, не услышать в свой адрес еще какой-либо ядовитой пословицы.
И характер стал портиться. Появилась раздражительность. Легко взрывался по любому, самому малому поводу.
И вот неожиданно его вызвали в управление. Предчувствуя, что будет какой-то неприятный разговор, он шел с тяжелым сердцем. Сколько лет был он среди самых лучших! Менялись адреса, менялись марки машин, а мастерство Олеся Поперечного оставалось неизменным, и, щедро раздавая его людям, он привык идти впереди. А тут... вычеркивают из сводок, стыдятся о нем говорить... Фраза «Мы тебе верим, Олесь» звучала в ушах. «Что ж, стало быть, и верить тебе уже нельзя, наверное, о том и разговор будет...» Медленно, словно ноги были ватными, поднялся по лестнице. Боязливо отворил дверь в кабинет Петина. Виновато произнес: «Здравствуйте». Он помнил: Петин был против его затеи. Теперь, наверное, скажет, вот, мол, не послушался умного совета и опозорился.
Но ничего подобного не произошло. Петин был обычен. Указал на стул. Попросил секретаря пригласить Надточиева, а пока за ним ходили, справился о здоровье, о семье, о том, скоро ли будут Поперечные переезжать на улицу Березовую.
— Вот у нас тут созрело одно предложение, — сказал он, когда Надточиев появился в дверях. — Сакко Иванович вас сейчас информирует.
— Вы, Александр Трифонович, у нас самый опытный землерой, — как-то очень затрудненно выговорил Надточиев, смотря в сторону. — Перед развертыванием работ на полную мощность нам надо лучше организовать работу «Уральцев»... Короче говоря, вам предлагают стать старшим у экскаваторщиков — будет такая должность...
Олесь вопросительно взглянул на инженера. Надточиев явно избегал смотреть ему в лицо. Поперечный растерялся.
— Мне? Сейчас? За что? За какие такие заслуги?.. Меня ж даже в сводке теперь показывать стыдятся.
— Ну хорошо. Здесь три коммуниста. Будем говорить начистоту, — сказал Петин, смотря в глаза Олеся, — Сводки!.. Да, вы правы. Мы вашу выработку в них не показываем. Мы не можем, не имеем права допустить, чтобы Александр Поперечный, о котором упоминали даже с высокой трибуны, сейчас, в силу разных обстоятельств — вы эти обстоятельства знаете лучше меня, — оказался в хвосте.
«Ну вот, достукался». Олесю показалось, что кабинет, где, сколько он его помнил, ничто не меняло своих мест, точно бы вздрогнул, начал расплываться, и только эти пронзительные черные глаза, обращенные к нему, эта тонкая линия плотно сомкнутых бледных губ были четко видны.
— Так вы, значит, нарочно там в газете Поперечного без имени помянули, — спросил экскаваторщик, вспомнив недавнее интервью Петина.
— Обдуманно, — уточнил тот. — Обдуманно, Александр Трифонович. Вас высоко подняли, народ знает ваше имя. Я просто не имел права пятнать ваш авторитет.
— И поэтому теперь... Вот сейчас... — Олесь с трудом подбирал слова.
— Вы правильно поняли предложение Сакко Ивановича, именно так... Знаменитый экскаваторщик пошел на выдвижение. Это логично, это в духе всей нашей жизни, вы это заслужили... Кстати, и в заработке вы не потеряете, если учесть премиальные. Об этом я позабочусь.
Наступило тяжелое молчание.
— Прячете? — тихо спросил Олесь. — От людей прячете? — Губы его ломались в болезненной гримасе. Он покачал головой. — Не спрячете. Мой грех — мой ответ. Либо честно на свое место встану, либо уеду отсюда... — И повторил еще тише: — Уеду!
Надточиев ходил по кабинету, будто его мучила зубная боль.
— Никуда мы вас не отпустим, Александр Трифонович, — ровным голосом продолжал Петин. — Заботиться о таких людях, как вы, — наша обязанность. Повторяю, и заработок и обещанную вам квартиру на Березовой — всё вы получите... Вообще я не понимаю, чего вы волнуетесь. Вам немало лет. Вы уж столько отдали сил... Да и не век же быть экскаваторщиком.
Олесь тяжело дышал. Он будто подавился каким-то словом, силился его выхаркнуть и не мог. Потом, так и не произнеся это слово, он покинул кабинет. Спустился по лестнице, вышел на улицу. На крыльце осмотрелся, словно пораженный, что все выглядит как обычно: светит солнце, шумит лиственница, точно бы проросшая сквозь асфальт, весело дребезжит в ее кроне пичуга. Едет машина, битком набитая девчатами в пропыленных известью комбинезонах. Нет, ничего не изменилось, и, удивленный этим, Олесь Поперечный побрел, подволакивая ноги, скребя об асфальт подковками каблуков...
Сзади послышались торопливые шаги. Кто-то догонял. Надточиев. Некоторое время они молча шли рядом. Потом экскаваторщик почувствовал, как большая рука инженера крепко жмет его маленькую, сухую руку.
6
— ...Не веришь?.. А я это видел. Видел собственными глазами из окна моего кабинета. Догнал, остановил, начал жать руки и что-то там такое говорить, сопровождая это театральными жестами. Потом они пошли вместе. Воображаю, что он этому Поперечному на меня наболтал!.. Просто не нахожу слов от возмущения.
Супруги Петины только что поужинали. Вячеслав Ананьевич в пижаме, в мягких туфлях сидел в своем любимом кресле под торшером, Дина Васильевна — на диване напротив. Она забралась на диван с ногами, забилась в уголок и рассеянно смотрела куда-то сквозь мужа. Рука ее машинально гладила спинку прижавшейся к ней Чио.
— ...Во-первых, на политическом языке это называется двурушничеством. Во-вторых, это — грубое нарушение элементарной инженерной этики. В-третьих, это просто подло по отношению ко мне... Дорогая, ты не слушаешь... В последнее время ты, кажется, совсем перестала интересоваться моими делами.
— Нет, нет, слушаю. «В-третьих, это просто подло...» Ну, они ушли, что же дальше? — Она все так же смотрела как бы сквозь мужа, погруженная в свои, должно быть невеселые, мысли.
— Мне кажется, что с тобой творится что-то странное. Это ты и не ты. Пожив там, на острове, ты как-то совсем отошла от меня. Вот сейчас я рассказываю тебе о том, что меня возмутило до глубины души, а ты витаешь где-то в облаках.
— Нет, я слушаю. И все слышала. — Дина спустила с дивана ноги и отстранила от себя собаку.
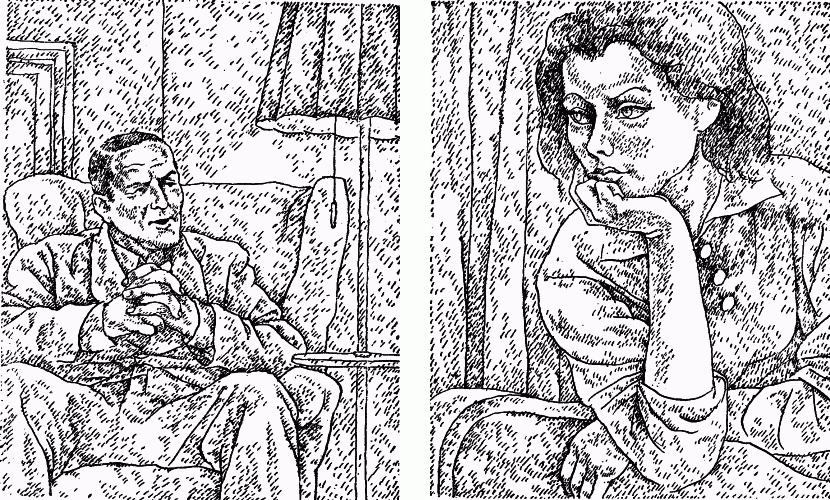
Теперь она сидела прямая, чуть подавшись вперед, в неудобной позе, и Петин подумал, что вот так сидят у него в приемной посетители, вызванные для неприятного разговора.
— Я все слышала, — продолжала Дина, подчеркнуто четко выговаривая слова. — Слышала, и если хочешь мое мнение, то мне кажется, он был прав, этот человек, когда возмутился. А Надточиев был прав, когда догнал его и пожал ему руку. Я бы, наверное, сделала то же самое. — Продолговатые серые глаза из-за решетки ресниц смотрели прямо в лицо Вячеслава Ананьевича. — Видишь, я не пропустила ни одного твоего слова.
— Но ты говоришь дикие вещи! — Тонкие пальцы Петина забарабанили по полочке торшера. — Что обидного или унизительного я предложил Поперечному? Выдвижение — разве это обидно? Он немолод, устал. Ведь даже металл устает. А тут достойный, хорошо оплачиваемый пост. Да как же иначе, пойми: Поперечного знают наверху — и вдруг исчез. Это тень на всех нас и на меня тоже. А мы должны высоко нести знамя Оньстроя. Ну подумай как следует, разве не так?
Вячеслав Ананьевич объяснял все это терпеливо, с доброй, снисходительной улыбкой, а Дина сидела все в той же напряженной позе, сдвинув брови, упрямо закусив губу.
— Нет, не так. Знамя... авторитет. Это хорошо, когда на чистом сливочном масле, как любит выражаться Старик. Ты извини, но в данном случае я Поперечного понимаю больше, чем тебя. И поступила бы, наверное, так же, как он. — Женщина так стиснула ладони рук, что они побелели. — Ты предложил ему замаскированное дезертирство. Он возмутился. И я бы возмутилась на его месте, и любой честный человек...
— Так что же, я не честен! — воскликнул Вячеслав Ананьевич, вскакивая. Плотно сомкнутые губы его стали совсем незаметны.
— Я этого не сказала. Я говорю только, что ты рекомендовал совершить нечестный поступок. Я мало знаю таких людей, как этот Олесь, но мне кажется, чувство чести у них очень развито... Вон Иннокентий Савватеич сам написал в Москву, что ошибался, защищая свой остров... Разве это не прекрасно!
— Ах, как ты еще наивна! Совсем ребенок! Просто у этого Седых хороший нос, он учуял, куда там, наверху, подул ветер. Ветер переменил направление — и он быстро сменил парус. А Поперечный — просто тупой, упрямый хохол. Ему создали имя, я сам несколько раз упоминал о нем в своих статьях и интервью... Пойми же, как руководящее лицо, я не могу разрешить, чтобы из-за его капризов на строительство легла хоть какая-нибудь тень. — Вячеслав Ананьевич уже взял себя в руки, снова сел в свое кресло и опять говорил тоном доброго наставника. Но он видел, что жена продолжает сидеть будто у него на приеме. Только глаза ее теперь с интересом следили за ним, точно видели его впервые.
— А вообще, почему ты всегда так плохо думаешь о людях? — вдруг спросила она.
— Видишь ли, дорогая, у меня большой опыт. Этот опыт говорит: лучше думать о человеке плохо, пока он не докажет, что он хороший.
— А почему не наоборот?
— Партия поставила меня на такой участок, что я не могу позволить себе роскошь быть простофилей. Человеку моего масштаба надо строить свои отношения с людьми по точному расчету, с хорошим запасом прочности. Ведь это же ужас, когда человек, которому ты доверился, с которым делишься сокровенными планами, вдруг изменяет тебе, перекидывается к твоим врагам... Вот так... И, может быть, хватит об этом. У меня и без того был сегодня скверный день... Лучше расскажи, чем сегодня занималась, моя хорошая?
— ...А ты верно заметил — все началось с той весенней поездки на остров. Со мной там что-то произошло. Нет, нет, не беспокойся, ничего особенного не было... Ты уже знаешь: опрокинувшаяся машина, люди, нуждающиеся в моей помощи, этот человек, который подавлял невероятную боль и стонал во сне... Незнакомый и очень интересный мир. — Дина говорила задумчиво, словно стараясь сама понять, что же с ней случилось. — Ты знаешь, это странно, конечно, но мне кажется, после этого я стала лучше видеть, лучше слышать. Вот и тебя я лучше вижу. Ты умный, волевой, принципиальный, но...
— Милая, я обычный советский человек, и, право же, я не заслуживаю столь пристального изучения со стороны моей доброй, ласковой женки. — Петин поднялся с кресла, обнял было жену, но она тихо отстранилась:
— Нет, докончим наш разговор. Вот ты упрекаешь: я не интересуюсь твоими делами. А знаешь, честно говоря, вот только сейчас я и начала ими интересоваться. Просто я, кажется, перестаю быть твоей тенью, твоим эхом, обретаю свой язык и, слышишь ты, свое мнение... И вот я вижу: тебе это неинтересно, мое собственное мнение, тебя оно раздражает. Ты хочешь одного — чтобы я тебе поддакивала, восхищалась тобой... Один человек назвал меня кошечкой.
— Конечно, великий остроумец Надточиев. От этого пошляка можно и не такого ожидать... Я никак не могу понять, почему ты с ним дружишь...
— Это сказала Василиса. У нее удивительная способность находить в людях сходство с животным миром. Старик — медведь. Что же, правильно...
— А я? Кому же меня уподобила эта прелестная ясновидица? — с явным облегчением произнес Вячеслав Ананьевич, радуясь, что разговор уходит от неприятной темы.
— Ты? Знаешь, она почему-то не хочет говорить. Сколько я ни просила — нет, и все.
— Странно. Я, кажется, ей ничего дурного не сделал. Я всегда...
— Вот опять... А почему ты решил, что она думает о тебе дурно? Она очень доброжелательная. Вот об этом механике, Павле Васильевиче Дюжеве, она...
— Что? Как ты его назвала? Павле Васильевиче? — Петин сразу оживился. — Этого Дюжева зовут Павел Васильевич? Ты это точно знаешь?
Дина удивленно посмотрела на мужа. Беспокойный взгляд, бледные пятна, проступившие на висках сквозь смугловатую кожу. Что его так взволновало? И тут отчетливо вспомнилось, как тогда на пароходе бородач как-то особенно пристально смотрел на Вячеслава Ананьевича.
— Да, его зовут Павел Васильевич, — не сводя глаз с мужа, сказала она.
— Он в партии?.. — спросил Петин.
— Кажется, да... Ты с ним знаком?
Лицо Вячеслава Ананьевича терялось в тени абажура, но крепкие ногти тонких пальцев, выбивавшие на столике барабанную дробь, были хорошо освещены. Дина смотрела на них и старалась понять, почему она сама так волнуется, почему учащенно забилось сердце.
— Так, значит, Павел Васильевич? Отлично. Это последняя точка над «и». Ты, дорогая, избавила меня от неприятных хлопот. — Вячеслав Ананьевич нетерпеливо снял телефонную трубку, назвал номер Литвинова, но тут же бросил трубку обратно. — Сколько лет прошло, а я сразу угадал. Вот что значит, дорогая, иметь блестящую память...
— Ты его знаешь? — спросила Дина уже требовательно.
— Не его лично. Но я многое знаю об этом человеке. Колхозный механик... борода... Но технический почерк — это даже больше, чем личная подпись: его не изменишь.
— Вячеслав Ананьевич, — сказала Дина, вставая, — я еще раз спрашиваю: кто он? Меня этот человек интересует.
— Ах вот как! Ну тогда мне придется тебя огорчить. Этот человек должен интересовать не скучающих хорошеньких дам, а соответствующие органы... Ты поняла? Больше я тебе ничего не имею права сказать. Есть дела, о которых с женами не разговаривают.
Петин торопливо скрылся в спальне. Услышав, как щелкнул рычажок телефона, Дина прислушалась. Начало разговора ей не удалось разобрать: Вячеслав Ананьевич вел его вполголоса. Потом, должно быть, увлекся, заговорил громче:
— ...Это тот самый Дюжев. Он, видимо, отпущен по амнистии, а может быть... Простите, я вас не понимаю: как — это все равно? Можно ли доверять таким людям? И какая наглость снова тянуть эту идейку, за которую государство уже расплатилось такими деньгами и за которую его осудил советский суд! А главное, не подписал, подкинул и не подписал... Вы так полагаете? Как начальник, вы, разумеется, можете принять любое решение... Хорошо, я представлю вам свое письменно зафиксированное возражение...
Дина слушала, покусывая губу. Она видела перед собой большую лохматую голову, лицо, скрытое на две трети буйной растительностью, остекленевшие глаза и всего этого будто окаменевшего человека, подавляющего невероятную боль. И этот человек с нечистой совестью? Преступник? Может это быть? И все в ней протестовало: да нет же, нет!
Погруженный в свои мысли, Вячеслав Ананьевич вышел из кабинета.
— ...Вот видишь, и еще один пример, как я прав в своем подходе к людям, — сказал он, не замечая напряженной позы жены. — Когда-нибудь, дорогая, я тебе все расскажу. Криминальный роман с катастрофами, с гибелью людей, с проницательным детективом и эффектным разоблачением... Сама того не зная, ты мне очень помогла. А Литвинов... Не понимаю его... Ну что ж, это его дело. А тебе спасибо, дай я поцелую руку.
Но жена не заметила этого движения. Она стояла, сжимая виски:
— Ой как дико болит голова!
— Ну, для устранения этого недуга человечество еще в прошлом веке изобрело чудное средство — пирамидон. Мне оно сразу помогает. — И Вячеслав Ананьевич пошел в спальню за таблетками...
7
Начинался август. Щедрая, изобильная пора. Тайга стояла в могучем зеленом летнем уборе. Отходила в чащобах малина, зато уже чернела в яркой зелени крупная смородина и брусника подставляла солнцу румяные щеки. Толстый слой хвои поднимали замшевые шляпки грибов первого урожая, которые здесь называли колосовиками. В полдень воздух в тайге был густо напоен ароматом разогретых хвойных смол, подсыхающей травы. Но по вечерам в закатный час становилось прохладно, по земле ползли слоистые туманы, и звезды над ними сверкали уже по-осеннему ярко в бархатной черноте неба.
В такой вот вечер на пасеке «Красного пахаря», в избушке деда Савватея, которую, должно быть, в память о его былых охотничьих заслугах все в колхозе именовали «станок», за столом сидели трое: сам хозяин, босой, в рубахе без пояса, в старых, заплатанных штанах, сын его Иннокентий Савватеич и Павел Васильевич Дюжев, имевший сегодня особый, непривычный для окружающих вид.
Он подстригся, округлил бороду, убавил усы. Вместо комбинезона, в котором его привыкли видеть, или дешевой пиджачной пары, какие в будни носили колхозники, на нем были офицерская габардиновая гимнастерка, плотно перехваченная поясом, армейские шаровары, заправленные в хромовые, начищенные до блеска сапоги. Над кармашком была прикреплена пестрая орденская колодка, не слишком большая, но и не маленькая, на которой солдатский глаз сразу отличил бы рядом с орденом Красного Знамени ленточки орденов, какие получали командиры частей за успешное проведение боевых операций. И если раньше трудно было определить на взгляд возраст Дюжева, который одним казался стариком, другим — молодым, сейчас, крепко затянутый ремнем, он выглядел человеком «в самой поре», как определил дед Савватей, пораженный новым обликом колхозного механика.
Избушку наполнял прохладный полумрак, и так как за окном ходили тучи и вдали погромыхивало, запахи обострялись, и в ней густо пахло медом, хлебом, сухими травами. На столе стояли яичница с ветчиной, блюдо с румяными шанежками, солдатский котелок, полный малины. На тарелке лежал круглый кус домашнего масла, сохранявшего оттиск тряпицы, в которую оно было завернуто. В глиняном блюде виднелся медовый сот с воткнутым в него ножом. Хмельного не было.
Глафира, бесшумно стоя поодаль, у печи, уже несколько раз напоминала, что с закусками надо кончать, ибо пельмени «доходят», но никто не притрагивался к еде.
— ...Так помни, Павел Васильич, дом твой тут, — в который уже раз повторял Иннокентий Седых, любовно глядя на друга. — Как там ни обернись, ты наш. Из правления мы тебя вывели, а из колхоза не отпускаем, и книжка твоя у меня в столе будет.
— Не вовремя, не вовремя ты нас, Васильич, бросаешь, — тоже уже не в первый раз вздыхал Савватей. — Оно конечно, коза-то на горушке, говорят, выше коровы в поле, а все-таки мое тебе слово — зря. Дел-то на новом месте для тебя сколько! Город, чистый город вон Кеша строит. Там для твоей башки какой разворот — крути, верти... М-да, неладно, Васильич, неладно... Приютили тебя люди в трудную твою годину, как свово, семейного, приютили, а ты?..
— Папаша, ни к чему это, — остановил сын.
— А что, не правда? Каким он к нам приехал? Я не сужу, в расплохе и медведь труслив, а все же теперь вон какой сокол. Ох-хо-хо, смотри, Васильич, не смени кукушку на ястреба!
Ничего не ответив, Дюжев встал, подошел к зеркальцу, висевшему на косяке.
— Сколько лет сбрую эту не надевал! Сейчас надел — старик, совсем старик. — И по тому, что в речи своей он упирал на «о» больше обычного, Иннокентий понимал, как волнуется его друг.
— Горе-от, Васильич, разе что рака красит, — отозвался Савватей.
— М-да, времени прошло немало... Все будто осело, устоялось, а тут снова поднялось. Нет у меня на свете людей ближе, чем вы, Седые. На партсобрании не сказал бы, а вам скажу: живет, живет во мне эта боль. Она как вот рана. — Дюжев хлопнул себя по голени. — Давно ее затянуло, а как погоде меняться, замозжит, задергает...
— Отваром редичным надо, а то капустный лист. Напарить в масле и прикладывать. Горячий, как можно только терпеть. Сразу полегчает, — послышался совет из полутемной избы.
— Эх, Глафира Потаповна! Глубока она, моя рана, не пропаришь ее... Другой раз и вовсе забудешь, а вот захотел погоду менять — и... — В словах Дюжева прорвалась тоска.
— У нас вот говаривают: «Долго горе горевать — все равно что хрен жевать»! — с деланной бесшабашностью воскликнул Савватей. — Нет на свете ни радости вечной, ни печали бесконечной... Глафира, пельмени, чую, у тебя доспели. Тащи.
— Так вы ж закуски не тронули.
— А ну их к корявому дьяволу, эти-от закуски... Тут большой разговор идет.
И пока Глафира перекладывала пельмени в блюдо, заливала их отваром, старик не переставал говорить.
— И еще у меня, Павел Васильич, за тебя сомнение. Вот рассказывал ты нам про человека того. Он-та там сила. С ним тебе хороводы-та водить придется. — На остром беркутином лице старика, за это лето очень высохшем, отразилась отеческая забота. — Не хочет он тебя, против его воли идешь. Раз он тебе жилы подрезал, и другой подрежет... А?
— Не хотел я с ним встречаться и за проект опасался. Думал, отдам чертеж, скроюсь, пусть люди пользуются... А вот нашли... Ничего, не беспокойтесь, все будет хорошо, диалектика говорит: все течет, все изменяется.
— Что она такое диалектика, мне неизвестно, — настаивал старик. — Однако у нас говорят: волк-от каждый год линяет, а нрава не меняет.
— ...А женка у него славная. Легонькая, будто косуля. Штанишки на ней эти смешные, как у клоуна какого, а руки твердые, уверенные. И крови не боится, будто сестрой медицинской по фронтам прошла, — задумчиво сказал Дюжев.
— Видели мы тут эти самые штанишки... Ле́са-та, Васильич, по опушке не узнаешь...
Молча ели пельмени. Добавляли, перчили, поливали уксусом, макали в сметану. Каждый думал свое, и когда блюдо опустело, разговор снова начался с того самого места, на котором оборвался.
— В случае что, Павел Васильич, помни: все мы твой тыл. Вся наша колхозная парторганизация. — Иннокентий отложил вилку. — Мы тебе такую характеристику напишем, хоть в ЦК тебя выбирай. А вот насчет этого самого, насчет жидкого-та, полечиться бы тебе. Говорят, теперь лечат... У нас тут каждый тебя своим одеялом прикроет, а там у всех на виду... Ох, беспокоит меня этот Петин!.. Конечно, по всему, надо б тебе на него, а не ему на тебя злиться...
— Не скажи, не скажи! — перебил Савватей сына. — В старину говаривали: «Кто кого обидит, тот того и ненавидит...»
Глафира шумно вздохнула. Она слушала весь этот разговор стоя, лицо у нее еще больше похудело, стало совсем похожим на лик раскольничьей иконы старинного письма. Черные глаза блестели из-под низко надвинутого платка, и была в них, в этих глазах, такая тоска, какой ни по одним святцам не знали небожители.
— Уж и угостила же ты меня на прощанье, Глафира Потаповна, — сказал Дюжев, решительно вставая. — Умирать буду, пельмени твои вспомню... Ну, спасибо, пора мне...
— Ты нас, Павел Васильич, совсем-та не кидай. Выставка тут нам чертежи парников и тепличек прислала, без твоей-та головы трудно будет, — сказал Иннокентий и вздохнул: — Без тебя и вообще-та мы на голову ниже станем.
— Да что вы его как на кладбище! — сердито оборвала Глафира. — На его коне до Ново-Кряжова час скоку.
— Вот-вот, именно час, — поддержал Иннокентий. — Будем тебя на консультацию вызывать, суточные, командировочные — всё чин чином... А потом мечту я имею, Павел Васильевич. — Иннокентий потупился. — Породнимся, может, а? Тут все близкие, секретов от них не держу. Вот как Ново-Кряжово дострою, запущу все на полный ход, мечтаю свадьбу сыграть. Понял? Тольша Субботин — круглый сирота. Так тебя за посаженого позовем. Вот и будем сваты-браты...
Дюжев уже стоял в дверях, искоса поглядывал на старинные ходики с камаринским мужиком, отплясывавшим трепака на циферблате.
— А я-то думаю, зачем это Иннокентий новый дом с двумя крыльцами рубит? — сказал он усмехаясь. — Обещаю: на луну ушлют, оттуда прилечу на свадьбу.
— Ну, прощай, — сказал Иннокентий, протянув руку. — Забудь, что мы тут наговорили... Правда у нас всегда верх возьмет, такая страна.
— Уж на что щука востра, а не взять ей ерша с хвоста, — с деланной веселостью поддержал Савватей. — Сибирь-матушка на всяк случай пословицы придумала.
Дюжев хотел что-то сказать, но не сказал, сглотнул слюну и, резко повернувшись, скрылся за дверью. По крылечку проскрипели сапоги, резко взревел мотоциклетный мотор. С ходу взяв скорость, машина промчалась мимо окон, но рокот мотора долго еще слышался из тайги, и какой-то уголок надтреснутого зеркала звенел, отвечая ему. Наконец все стихло.
Старый Савватей встал, пошарил рукой за печкой, извлек оттуда пол-литра, коротким ударом выбил пробку, налил по полстакана.
— Ну, доброго ему пути. Полный большевик, как твой, Глафира, муж, Александр Савватеич покойный...
Выпили не чокаясь, как пьют на похоронах. Тикали ходики, за окном, в сгустившейся тьме сверкала молния. И вот полыхнуло где-то рядом, послышался оглушительный раскат, и крупный дождь забарабанил в стекло. Из глубины избы, где стояла кровать, слышались приглушенные всхлипы. Там плакала Глафира, вцепившись зубами в подушку.
— Эх, отец, отец, дернуло тебя про Александра поминать! Мне легче с Кряжом проститься, чем ей с той могилкой, вся жизнь ее там.
— Промазал, — шепотом признался старик и еще тише добавил: — Васильич, он ведь, верно, на брата твоего старшего с лица здорово смахивает. У того ж от нас ни кровиночки не было. Весь был в мать, такой же вот ражий да русый.
Вошла Глафира, черный платок совсем закрывал лицо, и только глаза светились из узкой щели.
— Иннокентий, тебе в избе стелить или с отцом на сеновале ляжешь? — будничным голосом спросила она.
8
Ганна Поперечная и Ламара Капанадзе познакомились весной на Птюшкином болоте, когда оно было еще пустошью, лежавшей в низине, отороченной по краям березовым лесом. Городок — спутник будущего Дивноярска, весьма симпатично выглядевший на плане, как окруженный леском поселок одноэтажных двух- и четырехквартирных домиков с центральной площадью, образованной зданиями школы, универмага, кинотеатра, яслей и клуба, был тогда пустырем, по которому, как жуки, ползали, гудя и лязгая, канавокопатели, бульдозеры, скреперы. Они осушали низинные места, профилировали будущие улицы, поднимали проезжую часть, тротуары. Вся эта пустошь была уже разбита на строгие квадраты кварталов. На перекрестках виднелись дощечки, на которых можно было прочесть названия улиц: Березовая, Сосновая, Лиственничная, Черемуховая, Кедровая...
Говорили, что названия эти придумал Старик. Он с особой любовью наблюдал за этим районом малогабаритных домиков, где каждая семья должна была получить в палисаднике клочок земли.
— Тут мы будем в наше будущее глядеть, — говорил он особо близким людям, довольно потирая волосатые короткопалые руки. — Мы страна просторная, нам не для чего лезть в небо. Ближе к земле — здоровее.
Так вот однажды, весенним днем, на перекрестке таких двух улиц, о существовании которых говорили пока что дощечки, встретились две женщины: маленькая, полненькая, с глазами-вишнями и высокая, прямая, со строго очерченным лицом.
— Вы мне не скажете, как пройти на улицу Березовую? — спросила та, что была повыше, и в ее правильной русской речи обозначился легкий грузинский акцент.
— А вам какой же дом? — поинтересовалась маленькая.
— Шестой.
— Шестой? Боже ж мой, так мы ж суседи! Вы что же, Ладо Ильичева жинка?
— А вы Ганна Поперечная? Да? Вождь грозных «домовых»? Так познакомимся: Ламара Давыдовна. Зовите просто Ламара.
— А я Анна, зовите Ганна. Так мне привычней. Ладно?
Они пожали друг другу руки.
— Вот и познакомились, и дуже гарно, ходите до нас в гости, — сказала Ганна, показывая на пустырь, где среди грязных клочьев еще сохранившегося кое-где снега торчали ровные ряды колышков, и обе засмеялись, потому что и дом номер шесть, и Березовая улица, и сам город-спутник — все было в будущем, а пока перед ними в весеннем мареве лежал луг, отороченный березовым лесом. Людей не было видно, лишь машины двигались в разных направлениях.
Женщины вместе отыскали Березовую улицу, колышек с цифрой «6» и другие колышки, обозначавшие границы будущего двухквартирного домика. Возле был крохотный участочек. Но для двух женщин это был не лоскуток луговины, а клочок своей земли, и вот теперь они мысленно уже обставляли свое жилье, прикидывали, где будет палисадник, где лягут грядки, где будут посажены фруктовые деревца. Дул ветер. По небу неслись белые, куда-то очень торопившиеся облака. Промозглая сырость забиралась под одежду, на пустыре было неуютно, но женщины не торопились домой. Иногда они сходились у колышков, обозначавших то или иное крылечко, переговаривались.
— День и ночь мечтаю, когда мы в свою хату переберемся. Аж по ночам грезится.
— И я. Представьте, и я. Ладо все рассказывает, как хорошо и умно вы в землянке устроились, а мы вчетвером с сыном, с няней в одной комнате... Если бы вы знали, какая прекрасная квартира была у нас во Владивостоке: всегда горячая вода, газ, вид на бухту!
— А у нас в Усти! Боже ж мой! Пианино купили, Нинку музыке учить начали. Садок с вишней. Первый раз вишни в том садке созрели, каждому по две штучки досталось. Кислые, но свои.
На миг беседа прервалась. Глаза у женщин были влажные. Потом они взглянули друг на друга, улыбнулись.
— Что там вспоминать! Наш батько говорит: назад оглядываться будешь — споткнешься. Гляди вперед.
— А мой, есть у нас такая грузинская пословица, она и у русских есть: не место украшает человека, а человек — место...
Позже, когда подсохло и березы вдали стелили по ветру уже не розовые голые ветви, а нежную, молодую, желтоватую листву, соседки часто встречались у своих будущих крылечек. Приходили с заступами, тяпками, граблями. Из Старосибирского института прислали наконец долгожданные саженцы стелющихся яблонь и северных вишен. Сестра прислала Ламаре из Кутаиси семена цицматы, киндзи, тархуна и других ароматных трав. Соседки поделились друг с другом тем и другим. А однажды в праздничный день Ганна привела с собой хлопцев во главе с Борисом. Дружные дюжие ребята в один день вскопали весь участок Поперечных, а заодно, разойдясь, и соседний. Женщины сварили им на костре хороший обед, ребята сгоняли на мотоцикле в Дивноярск за «горючим» и хорошо угостились среди вскопанных, взбитых, как пуховики, гряд, от которых вкусно пахло землей, влагой, солнцем.
Охмелевший Борис Поперечный, косясь на пригожую грузинку, даже перешел на украинский язык.
— У нас у сэли звычай: комсомольци солдаткам зорать и обробыть помогають. Вы ж, титкы, тии ж солдатки. Чоловикив хиба в сни и бачитэ.
— Молчи, божевильный, цур тоби пэк! — смеялась Ганна.
А потом, когда хлопцы ушли, обе женщины опечалились. Солдатки! Как это к ним подходило! И общая эта тягота еще больше сблизила этих двух таких разных женщин.
— Вы знаете, Ганна, когда мой на флоте в плавание уходил, не виделись по месяцу и больше. Я все мечтала: уйдет в запас, отдохнем, поживем друг для друга. В театр, в кино, на выставки разные будем ходить. Гришей вместе займемся. И вот, это грубо, конечно, сказано, но ведь в самом деле только в кровати и встречаемся.
— А я за солдата шла. Так верите ли, Ламарочка, ясочка вы моя, на фронте в войну больше вместе были. Такая обида, такая обида... А жизнь-то ведь идет. Так всю ее и прозеваешь, сидя на узлах. Я ведь с нашим батьком теперь в иной день и словом не перекинусь. Придумал он каких-то «негативов» за уши вытаскивать, до ночи в забое, придет — тронуть страшно...
Возвращались молча, и лишь там, где пути их расходились, Ганна сказала:
— Солдаткой можно молодой быть, а в нашу пору... — И тряхнула головой, будто комара отгоняя. — А что, если вам, Ламарочка, к нам в «домовые»? — И вдруг, совсем оживившись, сказала: — У «домовых» тогда в парткоме уж не рука, а кое-что покрепче руки будет. — Ганна озорно подмигнула. — То когда-то еще мы с нашими делами к товарищу Капанадзе пробьемся, а то вы ему под одеялом пошепчете: ночная зозуля дневную-то всегда перекукует.
И Ганна бодрой походкой направилась в Зеленый городок, а Ламара, провожая ее глазами, удивилась, откуда эта уютная толстенькая женщина-уточка берет энергию...
С пуском первой очереди домостроительного комбината на пустыре, все еще носившем смешное название Птюшкино болото, дома стали расти поистине со сказочной быстротой. Едва каменщики успевали поднять столбы фундамента, как приезжали машины с готовыми огромными деталями, и монтажники за три-четыре дня собирали дом, подводили его под крышу. Так однажды Олесь Поперечный, придя после долгого отсутствия на Птюшкино болото, увидел, что Березовая, шесть — уже не колышки с дощечками, а новенький, пахнущий смолой, весело золотящийся на солнце домик, в котором девчата-маляры, напевая, охорашивают стены.
Пустырь превратился в поселок. И пока неторопливые катки ровняли асфальт проездов, по вечерам сами жители — мужчины, женщины, ребятишки — сажали вдоль тротуара деревья, привезенные из тайги. Ламара и Ганна, работавшие вместе с ними, радовались первым почкам, лопнувшим на маленьких и хилых саженцах, звали друг друга любоваться каждым новым листом, выкинутым на огурцах.
Их мужья нередко «заскакивали» теперь на Березовую. Но именно заскакивали. Им постоянно было некогда, постоянно они были заняты и на Березовой чувствовали себя не хозяевами, а гостями.
Хозяйственная Ганна, мечтавшая, что муж в добавление к газовой плите соорудит ей во дворе, по обычаю родных краев, кирпичную грубку, собрала щепу, стружки. Грубки все не было, и ветер растащил кучи и забрасывал мусор и на соседний участок. Было обидно, очень обидно...
В день, когда новым хозяевам домика по Березовой, шесть, были вручены ключи, соседи встретились на собрании партийного актива строительства. Встретились и договорились, что в ближайшее воскресенье обе семьи перевезут пожитки в новое жилье и, по обычаям, существующим и на Украине, и в Грузии, и тут, в сибирском краю России, совместно «обмоют» новые стены. Об этом торжественно было объявлено дома. Но случилось так. После известного уже нам тяжелого разговора в управлении Олесь решил провести выходной день в кабине машины, разгадывая причины своих неудач. В тот же день прибыла делегация старых коммунистов Чехословакии. Они прилетели за тысячи километров смотреть рождение сибирского колосса. Капанадзе с утра показывал почетным гостям строительство.
Жены решили перебираться сами. Особых трудностей это не представляло. Хлопцы и Сашко погрузили, перевезли мебель той и другой семьи и под руководством хозяек расставили по комнатам тяжелые вещи. Даже печи истопили. Но радость дня, которого так ждали обе женщины, постепенно меркла. Пока хлопотали с перевозкой, с выгрузкой, с расстановкой, было еще ничего. Но вот подмели пол, с удовольствием пощелкали выключателями, повертели краны, подергали водоспуски в уборной. Установили: все работает.
Пришлось самим составлять на общей террасе столы, самим водружать на них закуски, бутылки. Больше делать было нечего. Нина и Григол убежали играть во двор. Сашко уткнулся в книгу. И опять пришла большая обида: в такой день — одни. Но обе прятали обиду, держались, болтали, пока Ламара случайно не сказала:
— А я все думаю, какие вы с мужем умные, практичные люди. Не успели переехать, и все у вас на месте. А у меня, смотрите, лавка комиссионная. Все снова приобретать надо. Даже тахту бросили во Владивостоке, а какое же грузинское семейство без тахты, без мутак! — Она еще раз прошлась по комнатам Поперечных. — Какая прелесть эта ваша складная мебель!
В ответ на похвалу слезы брызнули из глаз Ганны, и удивленная, испуганная Ламара услышала сквозь рыдания:
— Будь она проклята, та складная жизнь, будь проклята, будь проклята... — И хотя к этому не было добавлено ни слова, Ламара все поняла. Обняв новую подругу, она тоже расплакалась.
Когда Олесь Поперечный и Ладо Капанадзе, уже затемно, прибыли домой по своему новому адресу, они нашли праздничный обед безнадежно остывшим, а жен спящими в обнимку на диване.
9
С некоторых пор у начальника Оньстроя появился толковый, деятельный, разбитной помощник, не числящийся в штатах управления и не прошедший сквозь сито отдела кадров. Больше того, ежедневно общаясь с ним, давая ему разные поручения, начальник строительства никогда не видел этого помощника и почти ничего не знал о нем.
Помощник этот вступал на должность постепенно, незаметно врастал в нее, а так как руководство Оньстроем — это масса разнообразных дел, Литвинов и не заметил, как это происходило.
Автоматическая телефонная станция Дивноярска еще только сооружалась. Связь велась с помощью телефонисток. И вот однажды среди знакомых уже голосов из телефонной трубки послышался новый, звонко, напористо, энергично отвечавший: «Седьмой». Началось все в праздничный вечер. Литвинову понадобилось сообщить в Москву, как чувствуют себя чехословацкие гости, но Капанадзе, который сопровождал их весь день, отыскать не удалось. После двух неудачных звонков он с досадой произнес:
— Вот незадача! — и бросил трубку.
Через некоторое время раздался вызов и напористый голосок сообщил: «Соединяю с Капанадзе». И сейчас же знакомый голос с грузинским акцентом спросил:
— Вы меня ищете, Федор Григорьевич?
— Ищу, а ты где, откуда говоришь?
— С Птюшкина болота, из милиции.
— Нет больше Птюшкина болота, есть городок-спутник, — поправил Литвинов. А потом, получив сведения о чехословацких гостях, удивился: — Как же ты, Ладо, угодил в милицию?.. С новоселья?.. Ты что меня разыгрываешь?
— Вы же сами за мной посылали участкового.
— Ах вот оно что! Это Седьмой, его работа... — догадался начальник и довольно прибавил: — Ишь ты, какой молодец! — Подумал, решил поблагодарить. Но, подняв трубку, услышал: «Пятый»...
Вся эта маленькая история так, вероятно, и забылась бы, но на следующий день Седьмой опять заявил о себе. Понадобился Надточиев — его не оказалось ни в кабинете, ни в доме приезжих, ни в вагончике у Бершадского, где Сакко Иванович проводил теперь много времени, наблюдая, как Макароныч и вновь назначенный инженер Дюжев подготавливают строительство моста. Надточиев был найден и приглашен к телефону... в молочном магазине, где он покупал себе кефир. На этот раз Литвинов поблагодарил Седьмого и даже поинтересовался, как это ему удается делать.
— Очень просто, — прозвучал напористый голосок. — Дежурная в доме приезжих сказала, что пошел за молоком. Молоко в магазине, молочная на левобережье одна, телефон известен. — Но слушать благодарности Седьмой не стал. Он исчез из трубки.
Литвинов любил все текущие вопросы решать на месте, на ходу. Кабинетная работа была у него плохо организована. Его секретарь, пожилой, растолстевший человек, переезжал с ним уже на третью стройку. В управлении он всегда был председателем месткома, слыл активистом. Это был аккуратный человек. Что-нибудь ему поручив, можно было не бояться: не забудет, рано или поздно сделает. Но делал он чаще поздно, не было в нем энергии, смекалки, инициативы. Как-то огорченный Литвинов неосторожно сказал: «Ты, брат, как чемодан без ручки — и в дело не годен и выбросить жалко». Так за ним и пошло: «Чемодан»... Вот почему такое непрошеное вторжение в его дела оказалось Литвинову весьма кстати. Теперь он часто просил:
— Слушай-ка, Семерочка, отыщи-ка ты мне, голубчик, такого-то.
Потом уже с вечера, уходя домой, стал давать проворной девушке поручения:
— Семерочка, не в службу, а в дружбу, запиши-ка там у себя: я с утра на домостроительном комбинате, потом на дамбе у Макароныча, потом на правобережье, там, где Мурка-зубоскалка свирепствует... Потом заеду в карьер на четырехкубовые. Ясно? Ты уж не подкачай. Чуешь, звонок серьезный — поищи. Идет?.. Ну спасибо. Дай бог тебе жениха хорошего...
И Седьмой, за которым по просьбе начальника закрепили его провод, неукоснительно, с большой точностью выполнял все поручения. Так понемножку таинственный Седьмой занимал в управленческих делах все большее место, и Чемодан, единолично владевший до сих пор персональным проводом начальника, ревнуя, недоумевал, откуда она взялась, эта настырная девка. А та, обладая острой памятью и, видимо, очень организованная, оказывала Литвинову все более существенную помощь. Впрочем, Седьмой был строг, комплиментов и шуток не слушал, и как только разговор сходил со строго деловой колеи, голос гас в трубке и Седьмой исчезал без предупреждения.
И вот однажды утром вместо Седьмого ответил Пятый.
— Почему Пятый, где Седьмой? — буркнул Литвинов.
— Она заболела, — был ответ.
— Что с нею?
— Ангина и грипп, — ответил девичий голос, показавшийся Литвинову скучным и противным. — Валя оставила мне список тех, кого вам надо утром вызывать. Начать?
— Ну, включай.
Но у Пятого, как он ни старался, ничего не получилось. Многих нужных людей не оказалось на месте, найти их Пятый не сумел или не счел нужным. И вся первая, самая любимая часть рабочего дня оказалась у Литвинова смятой. Вот тогда-то Литвинов снова подумал, что нужен настоящий помощник, без которого до сих пор позволяли ему обходиться собственная необыкновенно острая память, энергия и чутье. Новый небывалый даже для него объем строительства, сложные соотношения производств, разбросанных в разных местах, далеко друг от друга, — все это требовало не ветхозаветной скрупулезности и неторопливой исполнительности Чемодана, а энергии, инициативы, творчества; да, именно творчества.
Об этом вечером усталый Литвинов и рассказывал с досадой Петину. Тот слушал его сетования с понимающей улыбкой.
— ...Я вам всегда говорил об этом, Федор Григорьевич, четкий, слаженный аппарат — это все. Эти ваши утренние мотания по объектам, простите, плюскомперфект — давно прошедшее время. Вы, может быть, помните, как юнцы критиковали меня на партсобрании за то, что я редко бываю на объектах. Зачем? Не ездил и не поеду. Времени мало. К чему терять его на пустые разговоры? Четкая работа аппарата позволяет мне чувствовать пульс всего строительства, в любое мгновение знать, что где происходит. Ленин же говорил: социализм — это учет.
Литвинов любил учиться. Встретив нового человека, причастного к новым теориям, к интересным открытиям, к свежим инженерным веяниям, он зазывал его к себе, потчевал обедом, с ученическим усердием выспрашивал все, что тот знал. Внимательнейше слушал, иногда даже записывал в тетрадку. А вот сейчас, высоко ценя организаторские способности Петина, он все-таки весь внутренне встопорщился: нет же, черт возьми, никакой аппарат, никакое управление, никакие мертвые связи не заменят живого сношения с людьми, такими разными, такими сложными, такими не похожими друг на друга! Ленинская формула, произнесенная Петиным, взволновала его.
— Да, Ильич говорил: социализм — это учет, — тоненьким голосом произнес он. — Но Ильич не говорил, что учет — это социализм... Нет. И он сам, неся на своих плечах государство, все время общался с людьми, бывал на фабриках, в селах, сам принимал делегатов, ходоков...
— У меня тоже, как вы знаете, немало людей бывает на приемах, — ответил Петин. — Если меня что-то интересует, могу с ними побеседовать, но мало кто может сообщить мне что-то новое.
— Это потому, что к тебе ходят те, кому ты нужен, а не те, кто тебе нужен. Тем некогда околачиваться по предбанникам начальства. В крайней нужде позвонят или напишут. И ты об их нуждах не знаешь...
— У вас есть конкретные факты?
— Есть. Утром был на дамбе. Там сейчас этот Дюжев всем ворочает. Замечательный парень! Из-за какого-то подлеца столько зря отсидел... Так он так нас с тобой раскритиковал за то, что благословили отсыпку пионерным способом... Признаюсь, я было шумнул, а он улыбается: «Подумайте как следует и увидите: я прав...» И ведь прав, собака, прав... Ты об этом знаешь? Ну? А Дюжев такой, что к нам на прием не попросится. Пример? Ага!
Петин спокойно слушал, но Литвинов уже знал, что значит, когда его губы сжимаются так, что почти исчезают с лица, а пальцы худой руки начинают выбивать по стеклу дробь.
— Вы правы в одном: этот человек ко мне не придет. И хорошо сделает. Я уже вам представлял письменное возражение против всей затеи со сборными конструкциями опор... Мы строим не какую-нибудь там межколхозную электростанцию. Мы ведем строительство мирового значения. Это наш козырь в игре с Западом, а тут сомнительные эксперименты. Сомнительные — это вежливое выражение... Я вам уже и устно и даже письменно сигнализировал, что этот заманчивый вздор уже обошелся однажды государству в миллионы рублей плюс несколько человеческих жизней. Это зафиксировано в решении суда, советского суда. Злая воля или преступная глупость — это в чисто инженерном аспекте не так уж важно — единственная причина, заставившая меня письменно предупреждать вас о пагубности затеи этого человека...
— Вы письменно предупредили не только меня, — хрипловато сказал Литвинов, переходя на «вы». И вдруг стал изысканно вежлив. — Вы изволили так написать министру и соблаговолили информировать инстанции...
Литвинов, которому только что было тесно в широком кресле, весь подтянулся, сидел прямо. Резкие морщины на лбу углубились, синие глаза смотрели замкнуто. Петину тоже были хорошо известны эти признаки.
— Федор Григорьевич, я этого не собирался от вас скрывать... Ну что ж, признаюсь, я немного чиновник. У меня нет вашего авторитета, вашей широты, ваших... Ну, прямо скажу, и ваших связей. Я не могу брать на себя то, что можете вы, и, как коммунист, я только счел долгом...
— Коммунист? А я кто? — Литвинов давно уже знал, что в борьбу против проекта Дюжева Петин стремился вовлечь многих людей, знал о его докладных, о телефонных разговорах. Приняв меры, он не собирался мешать Петину доказывать свое. Но тут уж сорвался и удержаться не мог. — Так вот, под столом я карты не тасую. Я приказом назначил этого Дюжева ответственным за проектирование и строительство банкетного моста. Я поручил ему руководить составлением чертежей. Я командирую его в Москву в институт консультировать проект. Я прекращаю отсыпку дамбы. Я, коммунист Литвинов Фе Ге, член партии с 1920 года. Можете сообщать об этом кому угодно. Я весь к вашим услугам.
И тяжело, с хрипотцой дыша, Литвинов вышел из кабинета. Когда он проходил через приемную, Чемодан сжался, замер. Он знал эти припадки тихого бешенства, которые были куда опаснее, чем шумный гнев и грубоватая брань, доносившаяся порой из-за двери.
— Надточиева! — бросил Литвинов на ходу.
Щелкнул замок. Оказавшись один, Литвинов стал пить прямо из кувшина, потом подошел к окну, перегнулся через подоконник и остаток воды вылил себе на круглую стриженую седеющую голову. Он уже терзался досадой, что дал себе так распуститься. Седая голова Чемодана просунулась в дверь и шепотом доложила, что Надточиева нигде нет.
— Растяптяй! — снова взорвался Литвинов и сорвал с телефона трубку.
— Пятый, — ответил голос.
— Почему Пятый, где мой Седьмой?
— Я же говорила вам, она больна, у нее ангина.
Голос телефонистки дрожал.
— У, черт вас всех!.. — и трубка была брошена на рычаг.
Сидя в темноте, не зажигая огня, Литвинов успокоился. Рано или поздно это все надо было Петину сказать, обязательно сказать, но деловито, корректно. Браниться было не из-за чего. Что он такого, в сущности, сделал? Ну, написал о своих сомнениях и возражениях министру. И что? Идею всегда можно отстоять, если она хороша. Впрочем, если бы министр не получил бы когда-то под руководством Литвинова боевого инженерного крещения, если бы он теперь не позвонил и не поинтересовался, что, мол, Федор Григорьевич, у вас происходит, из-за чего загорается сыр-бор, может быть, и провалилось бы дело. «Связи...» Ишь куда метнул! А может быть, Сакко прав, нужно быть с Петиным поосторожней? Н-да!
Покидая кабинет, Литвинов попросил соединить его со старшей телефонисткой.
— Слушай, две просьбы: когда прочихается этот ваш почтенный Седьмой, попроси его на досуге зайти ко мне в управление. И еще скажи своему Пятому, что, мол, перед ней извиняюсь, я ей черта ни за что ни про что в трубку запустил. Отзываю этого черта. Слышишь? Скажи Пятому: мол, не со зла, а в расстройстве чувств.
10
Выйдя из управления, Петин попросил шофера:
— Прокатите меня куда-нибудь.
— Хотите на Птюшкино болото? Туда сейчас асфальт проложили, фонари ставят.
— Ах, все равно...
Проспект Электрификации совсем потерял свой экзотический вид. Дома, обложенные желтой керамической плиткой, асфальтированный проезд. Пестрые петуньи на газонах вдоль тротуаров, деревья, привезенные из тайги и еще поддерживаемые проволочными расчалками, уже принялись, дают тень. Зеркальные окна, неоновое и аргоновое мерцание. И люди идут по тротуару такие же, как в Москве, или в Киеве, или в Тбилиси. Редко увидишь в толпе промасленный комбинезон, брезентовую робу, резиновые сапоги. Только и разницы, что накомарники на головах. Да и те девушки ухитряются кокетливо носить набекрень, как широкополые шляпы с вуалетками.
Петин редко выезжал за пределы молодого города, и поэтому на каждом шагу его ждали сюрпризы. Ухабистая, разбитая таежная дорога превратилась в шоссе. Тонкие бетонные столбы, красиво изгибаясь, держат над ним сильные ртутные лампы, а на поворотах, как и прежде, фары выхватывают из тьмы стены вековечной тайги.
Социалистический город в тайге. Всякому другому дорого бы обошлись эти миллионные утопии в годы, когда экономят на персональных машинах, урезывают ставки министров, руководящих работников, по перышку ощипывают аппарат. А Литвинову все сходит: министра он когда-то вытащил в люди. В Совмине, в ЦК дружки. Ах, какого же дурака вы сваляли, уважаемый Вячеслав Ананьевич, недооценив это обстоятельство!
Сегодняшний разговор поразил Петина. Старик позволил себе говорить, как с каким-нибудь желторотым инженеришкой, с ним, с Петиным, которого знают большие люди, ценят как человека принципиального, как новатора, непримиримого в борьбе с рутиной. И не только ценят, но иной раз и приглашают для советов!
Первой мыслью Вячеслава Ананьевича было оборвать начальника, объясниться, потребовать изменений и, если они не будут принесены, тут же заявить об уходе. Но второй такой электростанции в мире не строят. Вспомнил мечты, с которыми он ехал сюда, на берега пустынной сибирской реки. Что ж, крах этим планам? Несколько лет будут мертвым промежутком в его такой яркой, насыщенной биографии? Конечно, Литвинов — мятый пар, отработанный, потерявший энергию. Конечно, он держится именем да связями, этот выдвиженец образца тридцатых годов. Но бросаться с ним в открытую схватку, не накопив и не расставив силы, не подготовив исходные позиции, бросаться лишь для удовольствия проучить этого хама — нет, такой роскоши умница Петин позволить себе не может...
Забраковав идею бурного объяснения, Вячеслав Ананьевич стал смотреть в опущенное стекло, стараясь успокоиться. Асфальт, фонари... Светофор... Совсем московский автобус... А пахнет лесом, и какая-то птица ухает во тьме... Город-спутник на Птюшкином болоте — это же тоже затея для «Крокодила». Кому они нужны, эти жалкие жилищные эксперименты, когда на строительстве величайшей в мире электростанции работа руководителей измеряется лишь опережением графика! Эх, если бы во главе строительства встал Вячеслав Ананьевич Петин — боевой, динамичный, современный человек!.. Он бы сразу показал, чего он стоит. Но ничего, ничего, придет время. Терпение и еще раз терпение...
Решив, что думать об этом пока бесполезно, Петин, чтобы отвлечься, перекинулся мыслями в свой маленький домик. Но на душе стало еще тревожней. Как хорошо, как согласно жилось им с Диной в Москве! Какую очаровательную жену воспитал он для себя из этой тоненькой сероглазой студентки! Жену по своему вкусу: ласковую, умную, понимающую его с полуслова, проникнутую его заботами, думающую почти синхронно с ним. Как это приятно было чувствовать, что любая твоя мысль тотчас же находит отклик в этом чутком, послушном существе!.. А тут... Воздух, что ли, здесь какой-то особый, тлетворный?.. Этот резкий тон... Беспокойные, настороженные глаза... Это упрямство... Кто настраивает ее против него? Надточиев?.. Или, может, Дюжев, с которым она познакомилась на острове?.. И откуда вдруг эта некрасивая, неженственная, так не идущая ей строптивость?.. Нет, все-таки он, должно быть, ошибся, взяв ее с собой... Не следовало. Но оставить одну в Москве... Нет, и об этом лучше сейчас не думать...
Машина медленно развертывалась на небольшой площади, которую обступали еще не достроенные, скромной архитектуры здания. Возле одного из них стояла большегрузная машина. В кузове на садовых скамейках располагался духовой оркестр. Он усердно изрыгал из своих труб какой-то пошленький мотивчик, а посреди площади яростно отплясывала молодежь. Каждый одет был на свой манер. Модницы, обмахивавшиеся накомарниками, как веерами, были даже в вечерних платьях. Это было особенно мило, потому что в паре с ними шли ребята в клетчатых рубахах, в штанах, заправленных в сапоги, а один, должно быть бросившийся в танцы прямо с работы, был в комбинезоне, пропитанном маслом. Руки у него были в мазуте. Чинно крутясь со своей дамой, он старался не касаться ее и поэтому оттопыривал ладони.
— Назад! — распорядился Петин, раздраженный этим безвкусным зрелищем. Чтобы развернуться во всю ширь своего таланта, он уехал от московских премьер, концертов, вернисажей в эту чертову глушь, где извольте любоваться вот эдакими жанровыми картинками.
— Ну что вы так медленно едете?
Машина уже бежала по проспекту Электрификации и остановилась у светофора перед поворотом на Набережную. Справа, совсем рядом, у ярко освещенного входа в библиотеку, Петин увидел жену. Она стояла с Надточиевым и каким-то другим верзилой. Маленькая, тоненькая, она оживленно разговаривала. Слов не было слышно. Вот Надточиев что-то сказал. Она улыбнулась. Третий, тот, что стоял спиной к машине, отрицательно покачал головой и тоже произнес какую-то фразу. Теперь смеялись все трое. Мужчины смеялись громко, и смех этот больно отозвался в сердце Петина. Служба, дом — одно к одному! И как это вышло, что здесь, где близкий человек, являющийся твоим вторым «я», особенно дорог и нужен, вдруг соскочила с рельсов жизнь, которая, казалось, так надежно по ним катилась. Всегда была домоседкой. Могла целыми вечерами, не уставая, слушать его рассказы, обсуждать его замыслы, радовалась его радостям, любая его тревога находила в ней отклик. Как часто в ответ на предложение пойти в театр или в кино он слышал: «Нет, милый, лучше посидим дома». Вечера почти всегда принадлежали им двоим. И вот...
Петин отпер дверь. Огни в доме погашены. Лишь в столовой маленькая лампочка освещает угол стола. Один прибор, записка, приколотая к салфетке: «Ушла в библиотеку. Первое, второе в духовке. Подогрей. Кипяток в термосе, заварка в чайнике». Как хороши были молчаливые ужины вдвоем, в тишине!.. Первое и второе в духовке... Заварка... А сама болтает с этим дубиной Надточиевым и еще с каким-то олухом.
Вячеслав Ананьевич не пошел на кухню, не разогрел первого и второго, не переоделся в пижаму и покойные на меху туфли, которые Дина сама соорудила по чукотской выкройке и преподнесла ему в день рождения. Всего год назад. Как этот год все изменил! Интересно, что он там отмочил, Надточиев, чему они смеялись... Нет, нет же, это совсем не ревность, ревность — это атавизм... Но неприятно же, черт возьми, есть подогретые котлеты и искать заварку, в то время как какой-то захолустный болтун чешет язык с твоей женой, черт побери!..
В двери заскрежетал замок. Дина, несколько смущенная, вошла в комнату. Увидела мужа в костюме и ботинках, увидела на столе нетронутый прибор.
— Куда-нибудь собираешься? — спросила она, и Петину почудилось, что ей было бы приятно, если бы он ответил: «Да, ухожу».
Она положила на стол медицинские журналы и книгу. В руках у нее остался букетик желтеньких таежных цветов. Ушла на кухню. Зашумела водой. Потом вернулась. Букет был уже в вазе. Поставила его на столик. Погладила Чио и, ничего не сказав, снова скрылась на кухне. Все стихло. «Что она там делает?» — подумал Петин, стараясь подавить поднимавшееся в нем раздражение. Жена стояла у плиты и читала. Что-то кипело перед ней в кастрюльке, наполняя комнату аппетитнейшим запахом.
— Он же у тебя весь уйдет, — с мягким упреком произнес Вячеслав Ананьевич, указывая на кастрюлю.
— Да, да, конечно... Наливай сколько хочешь, хоть все, я уже ела. Вкусный бульон... Тут статья о полиомиелите... Как я дико отстала!.. За эти годы терапия сделала такой скачок...
— А может быть, дорогая, ты покормишь сначала голодного мужа? — Вячеслав Ананьевич уже не мог сдерживать обиду. У него такое событие, его оскорбили, бросили ему перчатку. Разговор с Литвиновым может бог знает чем кончиться, а тут журнал, терапия... — Мне думается, не стоит ломать наших добрых традиций. Пусть каждый из нас по-прежнему по мере своих сил выполняет свои обязанности в отношении общества и в отношении друг друга.
Проголодавшись, Вячеслав Ананьевич все-таки с удовольствием ел отливающий янтарем бульон. Жена продолжала листать журнал.
— Я не вижу перца. Дорогая, ты прости, я сегодня так устал. Может быть, ты все-таки поищешь перец?
Она оторвалась от журнала, принесла перец. Значительно, будто последнюю точку в письме, поставила его на стол.
— Еще что-нибудь понадобится? — спросила она.
— То есть как понадобится?
— А так, чтобы я могла принести все сразу и дочитать статью.
— Какую статью? Зачем она тебе нужна? Мне кажется, что милейший доктор Айболит давно уже превратился в очаровательную маленькую Дину Васильевну Петину, самую красивую даму Дивноярска, которой завидуют все женщины.
Дина смотрела куда-то в пространство. Лицо задумчиво. Трудно даже угадать, слушает она или нет. И Вячеслав Ананьевич подумал: «И еще эта привычка смотреть куда-то внутрь себя, это тоже новое...»
— Вот ты только что сказал: «...мы должны выполнять свои обязанности...» С той самой поездки на остров, о которой ты не раз напоминал, я все думаю о своих обязанностях. В чем они? Быть пушистой домашней кошечкой? Мурлыкать, когда тебя гладят, и закрывать глазки, когда тебя чешут за ухом, любить сливочки и теплое место в уголке дивана? Кошечкой с двумя дипломами? В этом смысл? Да?
— Какие глупости! — возмутился Петин. — Какой идиот тебе все это внушает?
— Это не важно. Если, например, я назову Василису, от этого что-нибудь изменится?
— Ты зрелая женщина. Два высших образования — и слушаешь какую-то серую колхозную девчонку! И из ее болтовни выводишь целую теорию.
— ...Тут как-то я разболталась с Толькидлявасом насчет ткани на занавески. И вдруг телефонистка Седьмой номер говорит в трубку: «Прерываю. Абонент нужен для деловых разговоров...» Ой как мне вдруг стало стыдно! Вот что, — сказала она вдруг тем строптивым голосом, которого Вячеслав Ананьевич боялся, — запомни: домашней кошечки больше нет, исчезла, сбежала, сдохла — все равно. В твоем доме теперь будет жить врач, плохой, неопытный, неумелый врач, который все, что приобрел, растерял, но который все это найдет. Слышишь?..
— Как ты наивна!.. Тебе известны столичные клиники... Огромные окна, кафель, никель... А здесь на врача жалко смотреть. Их не хватает, они целый день на ногах, им в кино сходить некогда...
— Тем более... — Серые глаза, недавно внимательные, задумчивые, приобрели сталистый оттенок, смотрели прямо, твердо. — И скажи, неужели тебе это непонятно?
— Мне понятно одно. — Петин постарался выгнать на лицо снисходительную, добрую улыбку, но это плохо получилось. — Мне понятно, что тебе скучно, нет людей твоего круга, ты стосковалась по Москве, по маме, по нашей милой квартире. Мне будет тут очень тяжело и пусто без тебя, без нашей любви. Но ради твоего покоя и здоровья я готов на любые жертвы. Поезжай-ка ты в Москву, отдохни... Я тебя понимаю.
Дина резко отстранилась:
— Нет, Вячеслав Ананьевич, не понимаете. Теперь мне вовсе не скучно. Я даже не вспоминаю о московской квартире. По маме я действительно стосковалась, но я ее выписываю сюда. — Сказав все это и будто почувствовав облегчение, она устало улыбнулась. — А теперь, Вячеслав, если хочешь, посидим на нашем диване. — И, сбросив туфли, она поджала под себя ноги.
Вячеслав Ананьевич примостился рядом в костюме, в ботинках. Ему было неудобно, но он сидел тихо, боясь спугнуть это, по-видимому еще не очень прочное, умиротворение. Самое лучшее — с ней не спорить... Уедет, оторвется от этой обстановки, отвлечется от этих людей, успокоится. Все станет на место.
— Дорогая, я сегодня видел тебя там, возле библиотеки. Хотел тебя подвезти, но ты так была увлечена разговором. Кстати, кто еще был с вами? Я его что-то не узнал.
Дина насторожилась, спустила с дивана ноги. Опять стала холодной, колючей.
— Инженер Дюжев. Павел Васильевич Дюжев, тот самый, проект которого ты почему-то пытаешься провалить. Кстати, зачем тебе это нужно?
— Я уже говорил тебе, я на таком посту, что не обо всем могу рассказывать дома... А чему вы смеялись? Это не секрет?
Колючая, неприятная улыбка тронула губы Дины.
— Секрет? — Дина пожала плечами. — Говорили об этой идее — поставить на площади гидростроителей памятник Ломоносову. За то, что он первым заговорил о Сибири. Помнишь его слова: «Российское могущество приумножаться будет Сибирью...» Кажется, так? Так вот, Сакко сказал, что, если бы тебе предложили сделать проект памятника, ты бы изобразил себя читающим Ломоносова. А Дюжев сказал: «Нет, он на это бы не пошел. Он изобразил бы себя читающим свою статью о Ломоносове».
Смуглое лицо Петина пошло белыми пятнами.
— А ты? — очень тихо спросил он. — Ты что сказала, когда при тебе оскорбляли твоего мужа?
Дина вспомнила только что состоявшийся разговор. Остроты друзей точно попадали в цель, и она невольно улыбнулась. Потом ей стало не по себе, она обиделась и, запретив себя провожать, почти бежала до дому. А теперь? Теперь, с вызовом глядя в глаза мужа, она ответила:
— Ты же видел — я рассмеялась.
11
Подписав последние бумаги и оставив Чемодану распоряжения на завтра, начальник строительства обводил взглядом кабинет, припоминая, не забыл ли он что-нибудь сделать. Дверь открылась, показалась голова Чемодана. Флегматичный этот человек был чем-то взволнован.
— К вам, Федор Григорьевич, некая Валентина Егорова. Говорит, будто вы ее вызывали.
— Егорова? Кто такая? Никакой Егоровой я не вызывал.
— Нет, вызывали, — твердо выговорил за дверью напористый голос, заставивший Литвинова просиять.
— А, почтенная Семерочка, входи, входи... Дай хоть гляну на тебя, какая ты есть.
Обойдя Чемодана, застывшего в дверях, решительным шагом вошла маленькая, коренастая девушка, мальчишеское лицо которой показалось Литвинову знакомым. Ну да, где-то, и не в толпе, а при каких-то особых обстоятельствах, видел он эту складную фигурку, это курносое лицо, короткие щеточки-бровки и эти светлые глаза, которые толстые линзы очков делали огромными.
— Стой, Седьмой, так я ж тебя где-то встречал?
— Меня зовут Валентина Вадимовна, можно Валя. Действительно, однажды я обращалась к вам насчет работы. Может быть, вспомните, мы приходили к вам с Игорьком, то есть с Игорем Капустиным. Зимой.
— А! Товарищи по несчастью! — воскликнул Литвинов и звучно захохотал. — Вот в кресло садись и рассказывай. Это сугубо интересно. Так, значит, ты и есть Седьмой?
Валя молчала, мальчишеское лицо сохраняло независимое выражение.
— Ну а этот — твой друг, что ли? Его ведь, кажется, отвели тогда по здоровью...
— А вы и о нем помните?.. Игорь — замечательный человек. Вот в нем действительно вы не ошиблись. Его же тогда после суворовского из-за слабых легких в офицерскую школу не приняли. Он здесь стал закаляться, занимался гимнастикой, обтирался снегом, гирю, вроде вашей, завел. Его теперь не узна́ете...
— Ах и славные же вы, черти! — умилился Литвинов, с удовольствием рассматривая курносое, задорное лицо посетительницы. — Ну, и куда же он тогда попал?
— Ой, это целая эпопея! — Валя оживилась. — Сначала на курсы бульдозеристов. Они в суворовском танки изучали. Он эти курсы вместо полугода за месяц окончил. С отличием. Стал бульдозеристом на дамбе, его там Сакко Иванович Надточиев заметил. «Учитесь, говорит, на десятника». Игорь: «Не хочу». Надточиев: «Приказываю!»
— Десятник — ого! Здорово шагает. Стой, а где же он десятничает?
— Он закончил и эти курсы, и тоже досрочно, но подесятничать ему не удалось: не дали. Его выбрали... Да вы же его знаете. Он секретарь комсомольского комитета.
— Как? Капустин — это он?
— Я же вам с самого начала сказала: Игорь Капустин.
— Здо́рово! Знаю, конечно... Я тут слышал, как он наш учебный комбинат однажды отчитывал — министерская речь, Я еще подумал: вот этого бы сопляка да в директоры комбината.
— Ой, не надо, — всполошилась Валя, — пожалуйста, не сажайте его на комбинат! Да он и сам не пойдет.
— То есть как не пойдет? Это же должность.
— А его мы, комсомольцы, не отпустим. Знаете, как мы его любим? — Но, заметив, что Литвинов ухмыляется, девушка строго сдвинула брови-щеточки. — Ну зачем же вы?.. Я же говорю в общественном смысле «любим».
— Ах в общественном... Да, да, помню. Вы товарищи по несчастью.
Позади у Литвинова был трудный рабочий день, полчаса назад он мечтал поскорее добраться до дома, поесть, посидеть на крылечке, провожая солнце. Он любил эти богатые сибирские закаты, и хотя гнус, именовавшийся здесь мошкой, в этот час особенно зол, Литвинов, если было время, не упускал возможности посмотреть, как большое красное солнце окунается в тайгу. А сейчас вот, позабыв о машине, ожидавшей у подъезда, он сидел, развалившись в кресле, и с удовольствием болтал с этим смешным очкариком.
— Так, стало быть, ты и есть Седьмой?
— Меня зовут Валя.
— Вот что, Валентина Вадимовна, я тут уже закруглился. Поедем ко мне пить чай с малиновым вареньем. Там и потолкуем о всех важных делах.
— Говорите здесь, я не поеду, — сказала Валя, сняла очки, стала протирать стекла. Лишенные привычной защиты, глаза ее, как бы сразу уменьшившись, стали беспомощными, и сама она выглядела почти девочкой.
— Это почему же? Сугубо интересно узнать, — спросил уязвленный Литвинов.
— Видите ли, как-то раз вечером к вам приезжала одна девушка. Вы знаете, о ком я говорю. На следующий день разговоров было...
— Что? — воскликнул Литвинов, даже привскакивая в кресле, потом, поняв, о ком речь, еще раз сказал: — Что-о-о?
Собеседница водрузила очки на место и смотрела опять невозмутимо спокойно.
— Вот видите, вы даже и не знаете. А ведь сколько болтали! Мне-то известно, что она была невестой вашего шофера и он привозил ее к вам на смотрины.
— Ты и это знаешь? — Литвинов смотрел на Валю с изумлением.
— Знаю.
— Да откуда?
— Здесь все новости быстро распространяются. А с Мурой мы живем в одной палатке.
— С этой рыжей?
— Она не рыжая. Она яркая блондинка.
— Это что же еще за масть?
— Вы же видели — палевая. Но сейчас она уже не яркая блондинка. Она постриглась под мальчика. Она говорит: буду крановщицей, а крановщице нужна голова не апельсиновая, а настоящая...
— Так ты знаешь эту Мурку?
— Да, конечно. Я же сказала... Наши койки в палатке стоят рядом.
— Стой! Ведь она же замуж вышла.
— Вышла, а живет у нас. Лучше, говорит, я приходящей женой буду, чем в какую-то паршивую комнатушку полезу... Она очень своеобразная, добрая. Вашему Петровичу с ней сейчас нелегко, но она из него человека сделает.
— Человека? А кто же он сейчас?
Девушка улыбнулась, пожала плечами:
— Вы его лучше знаете.
Помолчали. Литвинов все с бо́льшим любопытством разглядывал собеседницу; та сидела совершенно невозмутимо, и это сочетание мальчишеской внешности с какой-то безулыбчивой серьезностью подчеркивалось очками в темной оправе.
— Так вот, Семерочка...
— Валя, — поправила девушка.
— Ну, Валя, Валя, экая ты строгая! Ты знаешь, как ты мне помогала? Вот слегла — у меня будто руки короче стали. Честное комсомольское.
— Нет, вы это серьезно? — На мальчишеском лице в первый раз за всю беседу появилась улыбка, сразу же обозначившая круглую ямочку на подбородке и две на щеках. — Нет, вы не шутите?
— Какой тут шучу! Сугубо серьезно, с тем и позвал.
— Товарищ Литвинов, я так рада! Знаете — почему? Когда я окончила школу, дома была дискуссия. Мой папа скрипач, — может быть, вы слышали? Вадим Егоров — это он. И оба мои брата, как особо одаренные, учились в школе Гнесиных. А я не особо одаренная, но тоже училась играть на скрипке. А мама у нас скрипичный фанатик — скрипка, скрипка, хоть в ресторанный оркестр, да скрипка. А мне захотелось сюда, в тайгу, на дикий берег. Ведь у Джека Лондона все маленькие и слабые люди в борьбе становились сильными. Я признаюсь: страшно люблю Джека Лондона, а тут не золотые какие-то жилы, а самая большая электростанция, и не жажда разбогатеть, а коммунизм... И я думала: вот я маленькая, подслеповатая маменькина дочка, неужели я не стану человеком, если очень захочу?.. Ну, в доме дискуссия, мама плачет, братья глядят как на больную, папа говорит: «Намерения твои благородны, но куда ты, совенок, со своими окулярами? Будешь только у всех в ногах путаться...» Словом, уехала.
— Ну а скрипка?
— Скрипка со мной, но с ней случилась беда. Раздавили ее во время пожара на «Ермаке». Наши комсомольцы послали ее в Старосибирск, тамошние комсомольцы склеили, но голос сел. Я все-таки играю — девушки каждый вечер заставляют, и из других палаток приходят. Вы не были на молодежном балу?.. Жалко, хороший был бал! Я там выступала.
— Вот что, Валентина Вадимовна, — сказал Литвинов. — Тут у нас в правлении человек такой есть. Товарищ Толькидлявас. Не слыхала такую фамилию? Плохо. Великих людей не знаешь. Отнеси ему завтра свой инструмент, он в Москву лучшему мастеру пошлет — все голоса к ней вернутся. Это раз. Будешь маме писать — напиши, что тебя здесь благодарят за отличную работу, это два, и еще напиши ей, что начальник строительства (есть, мол, тут такой хрыч, которого все мы Стариком зовем) предложил тебе стать своим секретарем. Это три. Понятно?
— Что вы сказали? — переспросила Валя, испуганно направляя свои окуляры на собеседника.
Литвинов был удивлен. Он любил делать приятное людям, которые ему нравились, и огорчился скудостью реакции. Девушка только переспросила:
— Вы предлагаете мне работать секретарем тут, в управлении? Так я вас поняла?
— Именно, — сердито буркнул Литвинов.
— Хорошо, я подумаю, — деловито ответила Валя. — Ко мне на телефонной так все хорошо относятся, премировали, девочки выбрали комсоргом. Они могут не отпустить.
— Ну, мы их попросим — может быть, уважат просьбу, — еле скрывая улыбку, сказал Литвинов.
Валя эту улыбку не заметила.
— Ну если так, я подумаю. Завтра сообщу свое решение. — Поднялась, поправила очки. — Можно идти?
— А может, все-таки попрощаешься?
— До свидания. — Валя вложила свою маленькую пухлую ручку в волосатую руку Литвинова.
Походка, как и речь, была у нее стремительная, напористая. Закрылась дверь, каблуки простучали по лестнице, а начальник строительства некоторое время сидел улыбаясь, будто вспоминая рассказанную ему веселую историю, а потом, запирая сейф, пропел себе под нос любимую музыкальную фразу из «Князя Игоря».
12
Однажды, встретив на улице похудевшего, озабоченного, спешившего куда-то Петровича, уже совсем не похожего на круглый, поджаристый, весело катящийся по дорогам колобок, Надточиев остановил его, спросил:
— Ну, как жизнь?
— Как в сказке, — торопливо ответил Петрович и, перехватив недоуменный взгляд инженера, пояснил: — С чертями вожусь, и жена — ведьма.
О чертях Надточиев кое-что слышал. Начальник автотранспортного отдела докладывал однажды в управлении, что бывший шофер Литвинова, отлично справляющийся с обязанностями механика управленческого гаража, пришел к нему и сам предложил выдвинуть его начальником пятой, самой отсталой, самой расхлябанной автобазы, которую на строительстве называли родимым пятном капитализма. По чьему-то недогляду большинство водителей этой базы оказались из бывших уголовников, что, отбыв наказание или освобожденные из тюрьмы по амнистии, приехали в Дивноярск начинать новую жизнь. Среди съехавшихся на это таежное строительство такие бывали. Работая в огромном коллективе, они как бы растворялись в нем, постепенно становились обычными тружениками, и, хотя случались срывы и рецидивы, хотя порой вспыхивала поножовщина, обнаруживались кражи, время делало свое дело. Кое-кто из них уже встал на ноги прочно, обзавелся семьей, числился среди передовиков.
На пятой автобазе эти люди оказались в большинстве. Слов нет, многие из них были мастера вождения машин. По показателям база была не из отсталых, но за ней волочился длинный хвост различных происшествий: и бешеная езда, и аварии на магистралях, и злостные нарушения правил движения. Ходили слухи о спекуляции бензином, о «левых» перевозках и других еще более серьезных делах, но за это нельзя было даже и покарать, ибо все происходило шито-крыто: улик не оставалось.
Несколько раз пытались укрепить базу. Посылали хороших людей. Ничего не выходило. Последний начальник базы — коренной строитель, коммунист — явился недавно в управление и заявил:
— Убирайте куда хотите, сил моих нет: с этими дьяволами либо партбилет положишь, либо нож тебе под лопатку загонят.
В транспортном отделе уже был подготовлен проект реорганизации базы, но начальник все не мог набраться храбрости доложить его Литвинову. А тут неожиданно является Петрович, человек в управлении известный, находящийся при хорошем деле, и сам просится на это заклятое место.
— Собственноручно сажусь без трусов на муравейник, но при условии: вместо моей паршивой комнатенки — квартира.
Обо всем этом не без смущения начальник транспортного отдела доложил Литвинову. И на всякий случай добавил: «Квартиру — какая наглость!» Реакция была неожиданной.
— «Собственноручно сажусь на муравейник»! — Литвинов хохотал. — Собственноручно! Узнаю... Ну, и каковы же ваши предложения?
— Да, по-моему, надо попробовать, — несколько увереннее произнес начальник транспортного отдела. — Парень знающий: с вами столько лет ездил. Жалко, конечно, брать такого механика из управленческого гаража, но... квартиренка при базе действительно есть. Тот, что сбежал, уже освободил: только бы ноги поскорее унести... А ведь, по совести говоря, если он этих охламонов охомутает, ему не только две комнаты — дворец дать стоит.
— Ну, добро! Пусть собственноручно садится, готовьте приказ.
Появился соответствующий приказ, и по пятой базе пробежал слух, что начальником назначен личный шофер Старика, что прикатил он на машине начальника, привез грузовик барахла и что жена у него — «шалавочка хоть куда», фартовая баба, та самая Мурка Правобережная, которую в клубе в «живой газете» изображают.
Действительно, возвращаясь вечером из рейса, шоферы увидели, что в окнах квартиры бывшего их начальника, которого они объединенными силами «съели» несколько дней назад, горит свет. Какой-то круглый румяный дядя, опоясанный женским фартуком, приподнявшись на цыпочки на подоконнике, прибивает шторный багет. У него за спиной, подбоченясь, стоит маленькая фигуристая женщина с озорным лицом, с полными, будто надутыми губками. Стоит и дает какие-то насмешливые указания. Пятая база сразу вынесла новому начальнику приговор: тряпка, подкаблучник, повязать его ничего не стоит, а за шалавочкой можно и приударить...
Последующие дни, казалось, подтвердили эти радужные предположения. Начальник оказался веселым увальнем. Технику он знал «как бог», а в человеческие отношения на базе как-то не вмешивался. Не замечал или делал вид, что не замечает, что вокруг происходит. Механиком на базе состоял грузный, угрюмый усач, которого все звали дядько Тихон. Он был из северных шоферов, что гоняют зимой караваны машин по льду Вилюя и Лены. Однажды машина его, шедшая головной, угодила в запорошенную снегом полынью. Он ехал, как всегда ездят в тех краях по участкам с сомнительным льдом, с открытой дверью кабины. Пока машина погружалась под лед, успел выпрыгнуть. Но при этом все-таки вымок, а мороз был такой, что ртуть застыла в градусниках. Ребята с других машин запалили на льду огромный бензиновый костер, оттерли ему ноги спиртом, дали спирту вовнутрь. Кто-то отдал ему сухие валенки. Закутали в брезент. И все-таки он слег с воспалением легких. А пока лежал в больнице, молодая его жена, хорошенькая бабенка из сахоляров, сошлась с другим. Не стерпев обиды, Тихон жестоко поколотил ее и всех этим возмутил. Получив от коммунистов строгий выговор, обиделся еще больше. Вернулся с партсобрания, уложил в рюкзак смену белья и, бросив все, что было нажито, уехал, не снимаясь с партийного учета, на Онь. Это был мрачный, опустившийся человек, с сиплым голосом, недобрым взглядом темных глаз. Он носил усы. Усы эти закрывали ему рот, и казалось поэтому: он молчалив, трудно добиться от него слова. Когда Петрович заговорил с ним о делах базы, Тихон только покривил губы под усами:
— С меня за технику спрашивай. Я, брат, тут, как Индия, — вне блоков. До людей мне дела нет, мне за это не платят.
— Но ты же коммунист.
— По вашему недогляду. Какой я коммунист! Меня из партии поганой метлой гнать надо.
— Ну, ладно, держи свой нейтралитет. А мне что посоветуешь? — допытывался Петрович.
— Собери общее собраньице, толкни речугу, цитатками посори. Ну, они сразу всё поймут, перевоспитаются, — недобро усмехнулся механик. — Один я тебе дам совет, парень: гайки подкручивать поопасись. Тут кое-кто с ножиком ходит. Или угодишь в «Огни тайги» в отдел происшествий как жертва бешеной езды...
Петрович поблагодарил и за этот совет. Мастерство, умение, знание техники в рабочей среде — самый сильный магнит. Все поняли: новый начальник знает автомобильное дело, а на все, что творится вокруг, смотрит сквозь пальцы. Он был признан человеком подходящим, и прозвище ему было дано — Лопух. А гаражные ухари завели привычку появляться в живописных позах перед окнами квартиры начальника. Замечено было также, что Мурка Правобережная, которую теперь уважительно именовали Мария Филипповна, отнюдь не тяготится этими знаками внимания. Нет-нет да и подойдет к окошку, улыбнется, насмешливо скажет:
— Ну чего скучаете? Газетки бы почитали, занялись бы поднятием своего культурного уровня. — А карие глаза ее при этом откровенно смеялись. Волосы свои она коротко подстригла, укладывала так, что голова выглядела нечесаной. И были эти волосы двух цветов: сверху — апельсинового и снизу — естественного. Можно было даже удивляться: почему и это ее не портит?
Когда любителей позубоскалить собиралось у окошка слишком много, жена начальника встряхивала пестрой шевелюрой: «Ослепните» — и задергивала занавеску. Такие сценки случались порой и в присутствии мужа и потому возбуждали немало надежд.
На новую квартиру Мурка пришла с маленьким чемоданчиком. Но уже на следующий день в двух комнатах стало тесно. У Петровича была давняя заветная мечта — приобрести машину. Все свободные деньги, все, что удавалось ему приработать фотографией, получить за «левые» ремонты личных машин, — все это клалось на сберегательную книжку. Собралась изрядная сумма. В Москве Петрович уже несколько лет стоял в гигантской очереди за «Волгой». Каждый месяц он посылал в комитет этой очереди, существовавший под командой какого-то отставного генерала, открытку, напоминая о себе. Сознавать, что вожделенный час обладания «Волгой» приближается, было до некоторых пор самой большой его радостью. И, как мать, ждущая младенца, шьет ему заранее распашонки и чепчики, он припасал для этой будущей машины запасные части.
Вместе с сердцем Петрович отдал жене и сберегательную книжку, вручил в ее руки свою самую заветную мечту. На деньги был сейчас наложен секвестр. По поводу мечты был не без огонька спет изящный куплетец, завезенный в Дивноярск каким-то артистом Старосибирской филармонии.
Мой любимый старый хрыч
Приобрел себе «Москвич»,
Налетел на тягача —
Ни хрыча, ни «Москвича».
— Сделаться вдовой? Фу, неоригинально, не хочу, — говорила Мурка. — И для чего я буду сидеть на полу, а платья вешать на гвоздики? Стоило замуж выходить!
И часть денег, собранных с таким старанием, немедленно была снята с книжки и затрачена на покупку мебели. Лишь когда в новой квартире стало достаточно тесно, хозяйка успокоилась. Придя со своих курсов, она снимала комбинезон, вешала его в «модерный» платяной шкаф, долго и тщательно умывалась, укладывала волосы в лихую прическу, подкрашивала сердечком губы и, облачившись в одно из своих платьев, которые все отличались тем, что точно бы облепляли ее стройную фигурку, с ногами забиралась на подоконник. Опиралась спиной о косяк и раскрывала учебник или тетрадь. В этой позе она ухитрялась читать, писать, заниматься всерьез.
Шоферы, слесари, возившиеся во дворе у разобранных моторов, то и дело поглядывали в ее сторону. В зрителях недостатка не было. Сыпались шуточки. Даже мрачный механик подергивал свои обвисшие усы, косился на окно и хрипел:
— Г... да... гм...
— Да закрой ты эту выставку достижений народного хозяйства, мне этот кобеляж во дворе вот где сидит! — сердился Петрович, стуча себя по шее.
— Не мешай заниматься. У меня трудное место — тормозные фрикционы, — отвечала жена, не отрывая глаз от тетрадки.
— Знаю я эти фрикционы... Я со стыда как бензиновый факел пылаю, а ей хоть бы что.
Мурка опускала тетрадку, морщила задорное личико:
— Вот если бы жена у тебя была метелка какая и на нее смотреть противно было, тогда, верно, хоть вовсе сгорай. А то... Дай со стола яблоко... Не то — пожелтей выбери... Спасибо! Итак... «Тормозные фрикционы на мощных мостовых кранах последних систем...» И вот что, ты тут мне Отелло не изображай. У тебя внешность неподходящая, на Фальстафа еще, пожалуй, вытянешь... Я тебе рога не наставляю? Нет. Вот и благодари бога, что пока безрогий.
— А что о тебе люди говорить будут?
— Хуже, чем о тебе говорили, не скажут. Знаешь, как тебя у нас в палатке девчонки звали? Перпетуум-кобеле.
— Выгоню, ох выгоню я тебя когда-нибудь! Клянусь, выгоню!
— Сам уйдешь, — спокойно перевернув страничку, произносила жена. — Скатертью дорога, хоть сейчас... Счастливого пути!
Но во время одной из таких перепалок жена вдруг отбросила учебник, соскочила с окна и, озабоченная, встала перед Петровичем:
— Вот ты говоришь: обо мне худая слава... А знаешь, как о тебе сейчас заговорили?.. Ты лучше скажи, когда ты всех этих, — она кивнула в сторону окна, — когда ты этих сявок, это пшено переберешь? Их гладить долго по шерсти нельзя: на шею вскочат. Погонят тебя из начальников, а нас из квартиры. Вот о чем думай.
Когда лицо с тупым носиком, с пухлыми, «растрепанными» губами становилось серьезным, заботливым, Петрович сразу забывал все свои обиды, любовался своей женкой, готов был прощать все ее выходки.
— Подождите, детки, дайте только срок, будет вам и белка, будет и свисток, — многозначительно ответил он.
— Не прозевай срок-то. Вон, видишь, та сявка опять из кабины в полужидком состоянии лезет. — И, снова изменившись, кричала в окно: — Эй, шизофреник! Обойди паяльную лампу, вспыхнешь, сгоришь — так проспиртовался...
И опять становилась серьезной, озабоченной.
— А этот механик ваш, дядя Тихон, жалко его: сломанный человек... Но разве это дело: с молодых ребят, с курсантов калым ломит? Один тут не захотел его угощать, так он ему: «Ты про Дарвина слыхал?» — «Ну слыхал». — «Так вот, сильный побеждает слабого. Понятно?» И побежал парень за поллитровкой. Дело это? Ведь у него партбилет в кармане. И за все с тебя спросят, ты ведь тоже кандидат партии.
— Не торопись, не торопись. Дай срок.
И вот срок пришел. Неожиданно персонал пятой базы был созван в цех на производственное совещание. Объявили, что доклад сделает начальник базы. И так как он ни разу еще публично не выступал, собрались все. Собрались, ворча: «Только покороче: жрать хочется», «Толкни речугу — и полно. Не к чему бодягу разводить...», «Скажите сразу, за что голосовать надо, — проголосуем и аплодисменты выдадим...»
— Так начнем, что ли? — хрипло произнес дядя Тихон, которого назвали председателем. Он беспокойно посматривал на аудиторию, нетерпеливо топтавшуюся в полутьме цеха, рассевшуюся на полу. — У нас один вопрос — о работе пятой базы. Слово по этому вопросу имеет наш начальник. Давай, товарищ начальник...
— Время! — рявкнул какой-то коротко остриженный, круглоголовый детина.
— Ты очень торопишься? — ласково спросил его Петрович, шагая от стола прямо к нему. — Может быть, у тебя заседание в ООН? Может быть, ты приглашен на обед к аргентинскому послу и опоздать боишься? Может быть, товарищи, отпустим его? — И вдруг рявкнул на оторопевшего парня голосом, какой в нем нельзя было и предполагать: — Пшел вон отсюда! Нечего вертеться под ногами у серьезных людей!
Председательствующий даже оторопел. Он хотел было предупредить оратора: так, мол, тут опасно, — но потом довольно разгладил усы. Он знал: все эти ребята, заново начинавшие здесь свою биографию, обидчивы, капризны, готовы «распсиховаться» по любому поводу, — и был удивлен: никто не двигался с места. Все насмешливо следили за парнем, который, спотыкаясь о чьи-то ноги, выбирался из толпы. Вот, гулко бухнув тяжелым блоком, закрылась за ним дверь.
— ...А сейчас, когда остались серьезные люди, начнем серьезный разговор, — продолжал Петрович домашним голосом. — Вот что, филоны, мы собрались тут толковать не о работе нашей базы, а выбирать, что лучше: закрыть базу или распустить здешнее филоническое общество. Закрыть базу — это всех вас в три шеи без выходного пособия, и никакому профсоюзу не взбредет в голову за таких филонов заступаться.
— За что, что мы сделали? — послышался чей-то нарочито плаксивый голос.
— За что? Я не легаш и не хочу вмешивать милицию и угрозыск в вашу сугубо семейную жизнь. Но если уж ты, милый, такой любопытный... — Петрович достал из кармана пухлую записную книжку и послюнил пальцы. — Ну как, читать?
Собрание ошеломленно молчало. Человек, над которым посмеивались, которого прозвали Лопухом, вдруг повернулся какой-то иной стороной, какую в нем весь этот стреляный народ даже и предполагать не мог. Все замерли в ожидании.
— Ну, запросы от господ парламентариев имеются?
— Чего зря людей обижаете? За такие намеки к ответу можно, — совсем уже неуверенно заявил обладатель плаксивого голоса, на которого докладчик смотрел в упор.
— Достопочтенный сэр, на ваш запрос мы сейчас ответим. — Петрович листал странички. — Вот, пожалуйста. Шестого июня сего года кто заменил передний скат на старый, а новый загнал в сельпо села Дивноярского? Поскольку вы, молодой человек, любите откровенный разговор, этот скат вы вернете, а если не вернете, вы и ваш сельповский коммерческий партнер прогуляетесь в суд... Больше запросов не поступает? Садитесь. — И обратился к аудитории: — Просите еще факты?
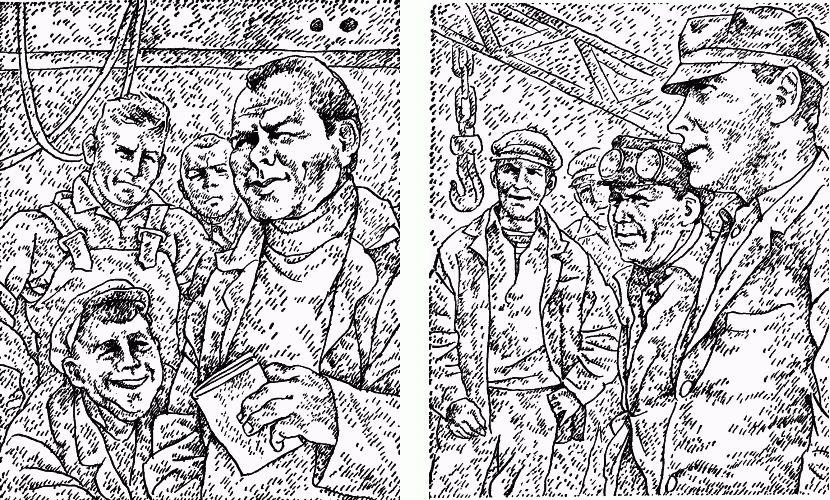
— Нет, не надо... Все ясно, — загомонило собрание.
— Так вот, если я вас правильно понял, филоническое общество с завтрашнего дня закрывается. Это раз. У всех у вас за долгие годы выработался «левый рефлекс». Излечиться! Это два. Появился обычай, что на дальних ездках вам идут не только командировочные и суточные, но и шейные. — Петрович многозначительно щелкнул себя по шее. — Шейные отменяются! Это три. Кто себе лишний километраж с помощью электросверла накрутит, того мы тут все вместе раскручивать будем. Это четыре. А кто при этом бензин сольет или налево загонит, как вы это делаете, — купит его за собственные любезные. Это пять.
Петрович поднял свою пухлую руку с пятью загнутыми пальцами.
— Вот вам пять условий товарища Петровича. Изучайте и следуйте... Всё запомнили? Униженные и оскорбленные есть? Примерчики, фактики никому не требуются? — Он опять угрожающе потряс своей записной книжкой. — Таковых не имеется?
Сбитый с толку председатель собрания дергал усы, басовито откашливался, удивленно глядел на Петровича. А тот, в свою очередь, весело посматривал на притихшую аудиторию и видел на лицах уважение, даже страх. Несколько человек из тех, кого на базе не без иронии звали работягами, кто трудился честно, в махинациях не участвовал, и в особенности ребята — практиканты с курсов, не смевшие до сих пор и голоса подать, бесстрашно пересмеивались. Они еще не решались выступать. Да Петрович и не вызывал на это, но он видел их лица и понимал: это опора — и старался заприметить каждого. И еще заметил он в дальнем конце огромного цеха, возле железной фермы, поддерживавшей шатровую крышу, яркую куртку. Лицо жены трудно было разглядеть, но ему казалось, она улыбается... Пришла, слушает... И не подавая виду, что он ее видит, продолжал:
— В этой вот книжице много чего есть, но литературного чтения сегодня не будет. Сегодня. Понятно? Как говорят юристы, закон обратного хода не дает. Но запечатлейте на горизонте своей психики: если кто-нибудь на прежнее повернет — вылетит отсюда с космической скоростью и, преодолев земное притяжение, уйдет за пределы земной атмосферы. И тогда эти мои мемуары пригодятся. Ясно?
Снова помахал книжечкой и, обращаясь к дяде Тихону, задумчиво терзавшему пальцами моржовые усы, сказал:
— О соревновании, о коммунизме, о семилетке разговора не будет: не созрела аудитория. Пусть доходит...
После собрания он взял механика под руку, с самым дружеским видом повел его по пустеющему цеху.
— Вот что, дарвинист, — сказал он, лучезарно улыбаясь. — Чтоб калым больше с ребятишек не выламывать. Понятно? Ишь ты, вспомнил: сильный побеждает слабого! А еще коммунист!
— Ну, ставь на парткоме, семь бед — один ответ. — Механик пытался произнести это с лихой беззаботностью, но руки разошлись в смущенном жесте.
— Никуда я писать не буду и биологическую дискуссию с тобой не открою. Бесполезны эти биологические дискуссии. Сильный побеждает слабого! Лады. — Петрович потряс перед носом механика увесистым кулаком величиной с дыньку. — Вот это нюхал? То-то! Еще раз повторится — как раз по Дарвину и поговорим.
Дома же, суетясь возле плиты, поджаривая к ужину картошку по особому, семейному способу, со сметаной, он сказал жене, которая задумчиво стояла, прислонившись к дверной притолоке:
— Или мы в этой квартире корни пустим, или вынесут меня отсюда ногами вперед, как несвоевременно погибшего на боевом посту... Гад буду, если я этим филонам не растолкую, что такое коммунизм и как его полагается строить.
13
— Эх, Бурун, Бурун! Странный народ эти женщины! Что они думают, что хотят, нам, дорогой ты мой собакевич, это непонятно. И никогда понятно не станет, потому что мы с тобою старые холостяки.
Такой монолог был начат Надточиевым однажды в воскресный вечер в его комнате в старом доме приезжих. Приезжие здесь уже не останавливались. На площади Гидростроителей к их услугам была гостиница с ванной, душем, с санблоками и всем тем, что может предложить своим гостям добропорядочный молодой город. Но бревенчатый двухэтажный дом, привечавший под своей крышей первых гостей Дивноярска, по-прежнему стоял на проспекте Электрификации и по-прежнему перед ним в кроне долговязой лиственницы с утра до вечера орал и пел сильный динамик. Жили же в этом доме теперь такие вот одинокие люди, как Надточиев, вечно занятые, приходившие домой лишь ночевать, мало заботившиеся о своем быте.
На любом строительстве имеется категория работников, не предъявляющих к жилищному управлению и хозяйственной части больших претензий. В бревенчатом холле этого дома Толькидлявас обставил для них мебелью средней громоздкости гостиную, повесил на стены копии с картин в золоченых багетах, установил приемник, один телефон на всех, купил пару шахматных досок, домино и завел двух сменных уборщиц, которые не очень усердно следили за чистотой, но зато круглые сутки кипятили титан для удовлетворения общей потребы в горячей воде. Толькидлявас причислял Надточиева к особо дорогой ему категории «вечно приезжих». Из уважения к этому в дополнение к койке, тумбочке и платяному шкафу в номер затащили письменный стол и «вольтеровское» кресло с инвентаризационными номерами, прибитыми на самых видных местах...
Вот в этом-то кресле и сидел Сакко Иванович. Было душно. Вечерний жар, пахнущий уже не тайгой, а разогретым асфальтом и пылью, волнами вкатывался в окно. Надточиев был в трусах. Зажав коленями плюшевого игрушечного кота, он возился над очередным усовершенствованием своей машины. Кот этот, по его замыслу, должен был лежать за спинкой заднего сиденья, смотреть в окно на дорогу. На поворотах у него должен был зажигаться и гаснуть правый глаз, а при остановке — загораться оба...
Друзья знали: раз инженер принялся возиться с машиной — стало быть, неспокойно, тягостно у него на душе. Открытый, общительный, он во всем, что касалось лично его, был необыкновенно застенчив. И так как даже самого замкнутого человека мучит порою желание с кем-то потолковать, облегчить душу, Надточиев обычно беседовал вслух с молчаливым своим другом — шелковистым сеттером.
— Почему, Бурун, мне так не везет? А? Почему из множества женщин, которые встречались, я смог полюбить только одну, и именно ту, которую любить нет смысла? Сколько из них охотно перенесли бы свою мыльницу, зубную щетку и маникюрные принадлежности вон на ту полочку. И ты, собакевич, знаешь, были среди них славные. Даже красавица была... А вот полюбилась одна, которая иногда болтает с нами от скуки, но которой мы с тобой как таковые вовсе не нужны... Ну что обидного я ей сказал? Что она, как люминесцентная лампа, ярко светит, а тепла не дает... Ты помнишь, Бурун, как все это было тогда в лесу?.. Все остались где-то позади. Она побежала. Я догнал ее. Она рассмеялась и поцеловала. Я стоял потрясенный, а она, как медвежонок, сцеживала прямо с куста в горсть малину, с ладошки собирала ее в рот и посмеивалась. Руки и губы у нее были в ягодах. Потом подошли остальные, она болтала с ними, будто бы ничего не произошло. Я видел только ее, слышал только ее голос... А она?.. Да, брат, плохо, когда человек на сороковом году вдруг возьмет да и влюбится первый раз. Ведь так?
Бурун смотрел на хозяина задумчивыми глазами, и тот, как всегда, видел в них именно тот ответ, который хотел услышать. Возясь с проводничками, с крохотными электрическими лампочками, весь уйдя в это занятие, инженер продолжал беседу с собакой:
— ...Итак, Бурун, проанализируем наши с нею отношения... Когда-то, помнишь, она сказала: «Давайте дружить». Я ответил, что не верю в дружбу мужчины и женщины. Кто же из нас был прав? Вот мы друзья. Она доверяет нам, наверное, то, о чем не скажет этой своей электронной машине, именуемой супругом. О Бурун, это ультрамодерная, самая модная машина, в память которой кто-то время от времени вкладывает самые современные фразы из самых свежих газет. Она, разумеется, не думает над этими фразами, но умеет все взвесить и, подсчитав, быстро выбросить нужную формулировку. Она может мгновенно вычислить, куда следует повернуть — вправо, влево, взять вниз или вверх, чтобы при любом маневре обеспечить наиболее выгодную позицию. Но она машина, Бурун, механизм. У нее нет сердца. Она может пугать, давить людей, но не может вдохновить и увлечь. Ей можно удивляться, но ее трудно любить. И тут у нас с тобой, тугодумных, плохо защищенных, часто ошибающихся и говорящих невпопад, кажется, есть маленькое преимущество. Потому с нами более откровенны, доверяют, поэтому с нами встречаются, гуляют, советуются. Нас вот, видишь, даже поцеловали. Но не подпускают близко... Итак, подытожим. Кто же был прав? Может ли быть дружба между женщиной и мужчиной? Ну? Молчишь?..
Если бы пес понимал все, что ему столько уже раз за эти последние месяцы говорилось, он наверное бы взвыл, как выл когда-то в юности на молодой месяц. Но слов он не знал и лишь ощущал по тону, что хозяин расстроен, что ему плохо, преданно смотрел на Надточиева, терся шелковистой мордой о его голое колено.
— ...Да, брат Бурун, в тот вечер, когда возвращались домой на катере, она сказала, что хочет переменить жизнь... Переменить... Не знаю, что у нее это значит, но ясно: мы с тобой тут ни при чем... Может быть, собирается уехать? Ну что ж, солнце будет всходить и заходить над Дивноярском, плотина расти, город строиться, а мы работать. И будем верить, что однажды мы все-таки увидим, как в ночь на Ивана Купала на обыкновенной лесной поляне на папоротнике вспыхнет чудесный цветок. Вспыхнет и для нас с тобой, собакевич. Как ты думаешь, вспыхнет? А?
За окном совсем стемнело. Тонких проводничков, над которыми трудился Надточиев, не стало видно. Слышно стало, как шумит одинокая лиственница, как бы забытая среди улицы отступившей тайгой. Из динамика, спрятанного в ее кроне, сладчайший тенор ревел во всю мощь своих легких:
Спи, моя радость, усни,
В доме погасли огни...
— ...Вот подожди, Бурун, достану когда-нибудь монтерские когти, залезу на это дерево и заткну проклятую глотку, — в который уже раз пригрозил Надточиев, но, как всегда, идя по линии наименьшего сопротивления, лишь закрыл окно. Из-за тонкой рассохшейся двери стал доноситься яростный стук. Это обитатели дома приезжих «забивали козла». Под этот стук не хотелось беседовать даже с собакой, и инженер, отложив плюшевого кота, отвертки и проволочки, раскрыл металлический чемоданчик портативной газовой плитки, зажег синий огонек и не торопясь принялся стряпать на ужин любимое блюдо — яичницу с хлебом и салом. Яичница уже сердито разбрызгивала горячие прозрачные капли, когда удары костей за дверью разом оборвались. Мужской голос отчетливо ответил на чей-то вопрос:
— ...К Надточиеву — вторая направо, стучите крепче: наверное, спит. — И сейчас же послышался частый нервный стук.
— Не заперто, — ответил инженер, убавив газ под яичницей.
Дверь распахнулась. На фоне освещенного коридора стояла Дина Васильевна Петина. Какой-то несвойственной ей, решительной походкой она вошла в комнату. Бросила у двери чемоданчик и, расстегнув верхнюю пуговку плаща, остановилась в напряженной позе.
— Дина Васильевна! — тихо произнес Надточиев, вскакивая со своего кресла. Он был так поражен, что забыл о своем костюме — вернее, об отсутствии костюма.
Гостья не обратила на это внимания. Тяжело дыша, она стояла, покусывая губу и напряженно озираясь. Бурун, настороженно ворча, как бы отгораживал своим телом хозяина от гостьи.
— Сакко, я к вам, — странным голосом произнесла Дина.
— Да, да, я очень рад... Так неожиданно. Садитесь. — Он поднял огромное неуклюжее кресло и, бухнув им об пол, подставил его Дине. Только тут, заметив на кресле свои брюки, он вспомнил, в каком он виде, ахнул, схватил одежду, туфли и, стуча босыми пятками, скрылся в коридоре.
Когда он вернулся одетым, с завязанным галстуком, гостья стояла все в той же позе, не замечая, что со сковороды валит чад.
— Ради бога простите, Дина Васильевна. Я не знал...
— ...А какое это имеет значение, — ответила она, посмотрев на Надточиева сухими, лихорадочно сверкающими глазами. — Вы сказали, что я какая-то там холодная лампа... Нет, это не так... Мне очень плохо, и вот я пришла к вам.
— Это хорошо, это здорово, это просто чудесно, — бормотал Надточиев, еще не сумевший оправиться от перенесенного конфуза. — Я так рад, потому что наша последняя ссора... Да вы садитесь, садитесь, пожалуйста.
— Хорошо, я сяду. — Дина опустилась в кресло и, испытующе смотря на Надточиева, четко произнесла: — Я к вам пришла, потому что мне некуда больше идти... Не понимаете?.. Я ушла от Вячеслава Ананьевича. Ну да, ушла. — Она говорила четко, как диктор в микрофон. — Я вас еще не люблю, нет... Любовь — это другое... Но вы мой друг, с вами мне легко, вы меня понимаете и... вы столько раз говорили, что любите меня... Что, испугались?.. Или женщине так говорить нельзя?.. Подождите, а может быть, вы тогда лгали?
— Дина! — Надточиев рванулся к ней, принялся целовать ее руки.
Бурун, смотревший на гостью свирепыми глазами, начал грозно ворчать.
— Он сердится? — слабо улыбнулась Дина. — Не надо, голубчик, потом... Дайте мне прийти в себя. Я никуда не уйду. — И вдруг, уткнув лицо в его плечо, она зарыдала: — Ах, я не знала, что все это так тяжко!..
Надточиев застыл, боясь шевельнуться. Только гладил волнистые ее волосы. Потрясенный, он не знал, что делать, что говорить. Он усадил гостью в кресло. Схватил стакан. В термосе оказался горячий чай, приготовленный на ночь. Он бросился из комнаты. Пробежал мимо соседей, снова принявшихся за домино. Не заметив их вопрошающих, многозначительных взглядов, спустился вниз, где рядом с кубом стоял бак кипяченой воды. Когда он вернулся с полным стаканом, Гостья сидела все в той же позе. Глаза красные, нос имел насморочный вид, но растрепавшиеся волосы были уже убраны. Она даже улыбнулась ломкой, болезненной улыбкой:
— Теперь, Сакко, вы будете знать, что такое снег на голову.
— Дина, милая, ты...
— Нет, вы... — сказала она. — ...Пока, может быть, ненадолго. Мне надо к этому привыкнуть. — Продолговатые, с восточной раскосинкой, серые глаза просили: — Ведь да? Вы сделаете это для меня?
— Для вас я все, все сделаю.
— Ну вот и умница. Но ничего больше не требуется, только это. Не могу же я вешаться вам на шею так сразу.
Надточиев чувствовал, как, успокаиваясь, она опять ускользает, отодвигается. В тоне появились защитные шутливые нотки, против которых был совершенно беспомощен этот большой, сильный человек.
— И напрасно вы бегали за водой. Мне нужно только поесть... Это началось еще днем. Я прямо спросила его... Нет, это совсем не важно, что я спросила... Не будем об этом говорить. У меня и без того такое ощущение, будто целый день меня пилили деревянной пилой... О еде даже мысли не приходило, а вот теперь... — она опустила длинные ресницы, — я страшно голодна... И еще мне нужно будет у вас переночевать. Ну что, испугались?
— Дина, милая...
— О да, вы храбрый, я знаю... Только одну ночь. Я не знаю, куда деться. Завтра я выхожу на работу в больницу, мне дадут, наверное, место в каком-нибудь общежитии, и я предоставлю вам возможность хорошенько подумать. Впрочем, вы можете выгнать меня и сейчас... Ну, шучу, шучу... Почему он на меня так свирепо смотрит? — вдруг спросила она, указав на Буруна. — Неужели слепая ревность калечит даже собак? — Гостья зябко передернула плечами. — Как хорошо, что это все в прошлом. Он мучился, мучил меня. Он плакал. Ужасно! Я никогда не думала, что Вячеслав Ананьевич может плакать... Сакко, ну что вы на меня так смотрите? Дайте же мне поесть... На яичницу не глядите, она совершенно обуглилась.
У Надточиева ничего не оказалось, кроме хлеба и куска пожелтевшего сала. Время было позднее, даже ресторан, наверное, закрыт. Одновременно радуясь и огорчаясь тем, что гостья взяла себя в руки, Сакко вдруг хлопнул себя по лбу:
— Эврика! Мы спасены!.. Дюжев! Он мужик хозяйственный, у него, наверное, что-нибудь есть.
— Павел Васильевич? — Гостья вздрогнула и тихо спросила: — Как, он здесь?
— Ну да, тут, за стеной. Мы соседи...
— Так зовите его сюда скорее.
Надточиев был так взволнован, что не заметил, как при имени Дюжева гостья опустила глаза, стала краснеть. Да и могло ли ему прийти в голову, что именно их недавний друг, с которым Дина едва знакома, был причиной того, что произошло в семье Петиных. Соседство Дюжева показалось ей просто символичным. Глядя на стену, за которой, как оказывается, он жил, она вспомнила, как началось то тягостное, мучительное, страшное, из чего она только что вырвалась...
На днях, возвращаясь из библиотеки, она увидела впереди Дюжева и Василису. С несвойственной ей обычно речистостью девушка оживленно беседовала с бородачом. На каком-то перекрестке они разошлись. Василиса заметила Дину, бросилась к ней. Фигура Дюжева еще маячила, удаляясь, и, смотря ему вслед, Дина вдруг спросила: не знает ли Василиса, что произошло когда-то у этого человека с ее мужем. Это интересовало Дину еще со дня, когда впервые она увидела Дюжева на палубе «Ермака». На ответ она не надеялась, зная, как все в «Красном пахаре» начинали темнить, стоило только что-либо спросить об их механике, и была поражена, когда девушка вдруг сказала:
— Знаю. — И, подняв на Дину большие глаза, которым густой загар лица придавал теперь прямо-таки фарфоровую голубизну, повторила: — Знаю. Ваш муж оговорил Павла Васильевича, и тот из-за него зазря просидел в тюрьме.
— Оговорил? — Разом вспомнились Дине и недобрые взгляды бородача, и разговор под окошком, подслушанный утром во дворе Седых, и загадочные слова про антифриз, и тот нервный, ревнивый интерес, который Вячеслав Ананьевич проявляет к Дюжеву теперь, когда тот появился на Оньстрое... Оговорил?.. Это казалось чудовищным. И будто обороняясь от чего-то страшного, стараясь это страшное отодвинуть, оттолкнуть, Дина почти закричала: — Неправда! Этого не могло быть!..
Василиса сочувственно смотрела на нее.
— А вы спросите его самого. — Слова девушки прозвучали твердо.
Спросить? Но в самом этом вопросе, в самом сомнении уже содержалось тягчайшее оскорбление. «Можно ли его задать?» — мучилась Дина. Она уже чувствовала, догадывалась, даже знала, что заботливый, чуткий Вячеслав Ананьевич вне дома бывает другим. В последние месяцы она научилась улавливать эту двойственность, и многое в муже, даже то, что она раньше любила: его уверенное, неуязвимое спокойствие, его положительность, любовь к чистоте и порядку, — теперь начинало угнетать, раздражать. Она со страхом замечала, что ее уже не тянет в домик на Набережной, что ей лучше, спокойней работается в шумной, неуютной читальне, что где-то в глубине души она радуется, если Вячеслав Ананьевич до ночи задерживается в управлении. Прикидываясь увлеченной, она иногда засиживалась за неинтересной книжкой, ожидая, пока из-за двери спальни не послышится деликатный храп. Но это все иное. При всем том муж оставался для нее большим человеком. И вот... Спросить или не спросить?.. Если это окажется правдой, что тогда?..
И, промучившись так несколько дней, сегодня за обедом она задала этот вопрос. Она ждала, что муж усмехнется: «Ты с ума сошла», или возмутится: «Какой негодяй пускает такие слухи?», или, обидевшись, замкнется в себе, перестанет разговаривать. А он... он вздрогнул, наклонился к тарелке и тихо спросил: «Тебе это сказал сам Дюжев?..» — «Так значит, это правда, — воскликнула Дина, — ты его оболгал! Да?»
И тут произошло то, что она и сейчас вспоминала со страхом. Вячеслав Ананьевич, с которым она прожила столько лет, вдруг преобразился. Вскочил из-за стола так, что опрокинулся стул, тонкие губы его кривились, маскировочная косица, обычно тщательно прикрывавшая темя, сбилась, обнаружив сияющую, гладкую плешь с жиденьким, походившим на петушиный гребешок хохолком посредине. Каким-то бабьим, ущемленным голосом он закричал: «Я смотрел сквозь пальцы, как ты путалась с этим олухом Надточиевым! Противно было ревновать к этому жалкому мерину. Но сейчас, когда ты тащишь в мой дом грязную болтовню твоих хахалей...»
...Дина со страхом покосилась на стену, из-за которой смутно доносился разговор двух мужчин, как будто они могли услышать эти ее мысли. Потом, точно бы отгоняя наваждение, встряхнула волосами, вскочила с кресла... Когда Надточиев вернулся, подталкивая сзади бородача, несшего в руках какие-то свертки, а под мышкой — бутылку вина, она уже хлопотала у стола, застилая его газетой. Окно на улицу было распахнуто, штора завязана узлом. Вечерний воздух врывался в комнату, как бы вымывая из нее затхлый дух гостиничного, холостяцкого жилья.
— Здравствуйте, товарищ Петина, — произнес Дюжев, выделив «о» в слове «товарищ».
— Не Петина, Павел Васильевич, уже не Петина. Неужели Сакко вам ничего не сказал?.. Я ушла от Вячеслава Ананьевича, а по паспорту ведь я Захарова, — ответила Дина, удивляясь, что с бородачом ей говорить легче, чем с Сакко.
— Это вы правильно придумали. Это хорошо, — произнес Дюжев и, как-то сразу отгородив широкой своей спиной от стола и Дину и Надточиева, стал расставлять припасы — консервы, колбасу, сыр. Он открыл бутылку цинандали, поставил две стопки. Даже бумажные салфетки положил перед каждым.
Невольно любуясь неторопливыми, точными движениями больших рук, Дина поражалась, как изменился этот человек со дня, когда впервые она увидела его на пароходе. Волосы, усы, борода — все осталось, но сейчас ей и в голову не пришло бы сравнить его с Ермаком. Глаза из-под русых бровей смотрели спокойно.
— И хорошо сделали. Умница, доктор Захарова. — Светлые глаза улыбались. — Кто-то когда-то сказал: «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань...»
С появлением Дюжева Дина начала успокаиваться. Она чувствовала ту же слабость и то же ощущение возвращающейся жизни, какие пережила однажды после операции, освобождаясь от наркоза: страшное позади, хочется поскорее забыть его и жить, просто жить.
За ужином говорили о разных безразличных вещах, всячески стараясь обходить и Петина и все, что связано с тем, что произошло. Вино Дюжев налил в два бокала. Третьего не было. Дина достала с полки стаканчик для бритья, вытерла носовым платком и, наполнив, поставила перед Дюжевым.
— Ну, выпейте за мое будущее. За здоровье доктора Захаровой, — сказала она, подчеркнуто окая, поздно заметив знаки, которые подавал ей Надточиев.
Но Дюжев и сам отвел стакан.
— Я ведь из поволжских кержаков, — все так же усиленно окая, произнес он. — Нам по уставу это сатанинское зелье запрещено, а доктор Захарова и без того здорова...
И как-то сразу, без переходов разговор перешел на предстоящую поездку Дюжева в Москву. Он вылетит туда, чтобы в столичном институте построить и испытать модель своих конструкций, но, говоря и об этом, он ухитрялся не упоминать Петина, хотя тот и был главным противником проекта, Петина не существовало. Его вычеркивали из жизни. И все-таки, несмотря на чуткость собеседников, перед Диной то и дело возникала картина: Вячеслав Ананьевич умоляет простить его. Ну, пусть она не будет его женой, пусть другом, просто квартиранткой, пусть время рассудит их... Это воспоминание да настороженные, недружелюбные глаза собаки, ревниво следившей за каждым ее движением, не давали ей успокоиться. И, поглядывая на Дюжева, она удивлялась: ни слова не сказал ей о Вячеславе Ананьевиче, ни взглядом, ни жестом не показал, в какую беду попал он по милости ее мужа... Бывшего мужа... Бывшего!
— Счастливый! Повидаете Москву, — сказала она Дюжеву, мечтательно улыбаясь. — Я особенно ее люблю как раз в сентябре. У нас в институте на Пироговке в это время первокурсники — мы их почему-то называли «козероги» — сейчас стайками бегают в своих новеньких, топорщащихся халатиках, шапочках и, говоря между собой, все время произносят «коллега»... Прекрасный город! Вы в этом убедитесь, Павел Васильевич.
— Я в этом уже убежден, — ответил Дюжев, в речи которого волжское «о» начало звучать приглушенней. — Я ведь сын московского дворника.
— Как? А вы говорили: с Волги, нижегородский кержак.
— Верно, родился там. Но еще перед революцией батька мой перебрался в первопрестольную и нас с собой привез. А золотые осенние липы на Пироговке мне очень знакомы. У меня там жена училась.
— Вы женаты?
— Был женат.
Надточиев подавал отчаянные знаки, но Дина, смотря на Дюжева, не замечала их.
— И дети есть?
— Был сын.
— И квартиру московскую имеете?
— Была и квартира.
— Они что же, все... умерли?
— Нет, живы. — Голос Дюжева стал глухим, но, все еще поглощенная своим горем, Дина не замечала и этого.
— А почему же тогда это «была», «был»?
— А потому, что потому оканчивается на «у», — сказал Дюжев, вставая. — Ну, спать, что ли? Мы с Сакко вносим такое предложение. Вы поднимайте свой флаг здесь, а мы отступаем на заранее подготовленные позиции — в мою комнату... Лады, как говорят у нас на Волге?
— Лады, как говорят и у нас на Москве-реке, — почти весело ответила Дина.
Но Дюжев шутки не принял, ушел в себя. Широкие плечи его как-то оплыли, взгляд стал беспокойным, руки, убиравшие со стола остатки ужина, потеряли уверенность. Дина попыталась заглянуть ему в лицо, но он отвернулся.
— Простите меня за дурацкое любопытство.
— Попытаюсь. — И Дюжев улыбнулся так, что под русыми усами сверкнул ряд ровных, крепких зубов. Но светлые глаза при этом были полны тоски.
14
На следующее утро Вячеслав Ананьевич Петин приехал в управление, как всегда, точно в девять. Он был чисто выбрит, длинные, умело зачесанные косицы почти прикрывали макушку. Свеженакрахмаленный воротничок подпирал шею.
Проходя по коридору, он с обычной сдержанной улыбкой здоровался с сотрудниками, пожал руку секретарю. Войдя в кабинет, как всегда, сбросил пиджак, повесил его на спинку вертящегося кресла, достал из стола и надел сатиновые нарукавники. Папка с надписью «Первоочередное» уже лежала перед ним. Вячеслав Ананьевич придвинул ее, выбрал в стакане один из остро заточенных карандашей, наклонился над бумагой...
Прошло полчаса. Секретарь недоуменно смотрел на дверь. Вызова не было. Он потрогал никелированную шапочку звонка, осмотрел проводку — все в порядке, а звонок молчал. Вячеслав Ананьевич не без основания гордился своим точно, на минуты рассчитанным рабочим днем. На «первоочередное» отводилось четверть часа. Сегодня в папке лежало всего два письма, требовавших только подписи. «Что-то случилось», — решил секретарь и тихо, как он умел это делать, отворил дверь. Вячеслав Ананьевич сидел в обычной позе, склонившись над бумагами. Когда половица скрипнула, он вздрогнул и сказал насморочным голосом:
— Занят... Прошу ко мне никого не пускать.
Он не поднял головы, и секретарь бесшумно растворился в дверях с ощущением еще большей тревоги. «Что же произошло?» Впрочем, через полчаса раздался звонок. Рабочий день Петина потек по размеренному на минуты руслу. Но завтракать он домой не поехал, попросил принести что-нибудь из буфета. Завтрак так и остался стоять, прикрытый салфеткой.
— Может быть, вам нездоровится? — участливо спросил секретарь. — Позвать врача?
Вячеслав Ананьевич холодно посмотрел на него:
— Когда мне что-нибудь нужно, вы же знаете, я сам вам об этом говорю.
Но когда секретарь вышел, он все-таки выпил остывший чай. Взял бутерброд, надкусил его, но с отвращением бросил в полоскательницу. В этот момент сквозь обитую дерматином дверь до него донесся знакомый высокий голос, заставивший его быстро сесть в кресло, склониться над бумагами...
— Никого не пускай. Важный разговор, — сказал Литвинов секретарю и толчком отворил дверь.
Петин, оторвав глаза от бумаг, вопросительно смотрел на начальника строительства. И ему показалось, что Литвинов, в свою очередь, вопросительно, даже сочувственно смотрит на него. Но, может быть, только показалось, ибо, опустившись на стул, начальник, даже не поздоровавшись, произнес:
— Знаешь, кто у меня только что был? Сакко и Макароныч со всей своей гвардией... И Поперечный, конечно. Ты понимаешь, что этот чертов сын придумал? И когда придумал! Сам находясь в цейтноте... Только-только свою кривую вверх отгибать начал, а уже мыслит в масштабе строительства: требует создать этакие комплексы механизаторов, чтобы машины к экскаваторам шли конвейером. Конвейером! Ты понимаешь? И знаешь, с кем это они выдумали? С моим Петровичем... Сугубо интересная вещь... А главное, перспективная, масштабная...
Петин слушал с учтивым вниманием. Он плохо понимал, о чем говорит Литвинов, но автоматически в нужных местах кивал головой. А тот говорил с увлечением, но Петина не оставляло ощущение, что собеседник как-то особенно внимательно смотрит на него: «Неужели уже знает? Неужели все расползлось по городу?.. Или, может быть, она сама успела побывать в управлении?»
— ...Слушай, ты что-то неважно выглядишь, — сказал вдруг Литвинов, смотря в глаза собеседнику.
— Я? — удивился Петин. — Нет, благодарю. Ничего... Разговор продолжался. Теперь Литвинов говорил что-то о молодежи, о необходимости смелее ее выдвигать, о каком-то списке, который подготовил ему комсомольский секретарь Игорь Капустин.
— ...Сугубо важное дело. Ильич в двадцать два года теоретический труд написал, Лазо фронтом командовал, Щорс... — И вдруг, прервав эту цепь доказательств, тихо спросил: — Слушай, может быть, что-то для нее надо сделать, а? Я не хочу лезть в калошах тебе в душу, но...
Петин как-то сразу внутренне преобразился. За столом продолжал сидеть все тот же спокойный, подтянутый человек, но это уже было как бы неодушевленное его подобие.
— ...Признаюсь, я в полной растерянности, — тихо произнес он. — Ушла. Ничего с собой не захватила: ни копейки денег, ни вещей... Я сидел всю ночь, думал — остынет, вернется. Даже и не позвонила. Федор Григорьевич! Я почти не знал женщин, я однолюб. Какая это была жена! Умная, тактичная. Как она вникала во все мои дела, какой заботой меня окружала! Это было второе мое «я»... — Голос Петина дрожал, в глазах стояли слезы.
— Вы об этом вчера и говорили?
— Об этом и о другом... Я не помню. Я совсем сбился с толку... Вот и сейчас, зачем я это все вам рассказываю?
— Ну, допустим, затем, зачем спускают пар, когда стрелка на манометре переваливает красную отметку.;
— Ведь она совсем не приспособлена к самостоятельной жизни. Непрактична, беспомощна... Это ужасно. Я даже не знаю, куда она пошла. — Слеза скатилась по щеке Петина и упала на папку «Первоочередное». — Раз уж вы сами заговорили — может быть, можно будет устроить ей в новом доме хоть какое-нибудь жилье?
— Мне кажется, она совсем не так беспомощна... Просто... — Литвинов, не окончив фразы, встал. — Не горюй, бывает... Мой отец говорил: муж с женой бранятся, да под одну шубу спать ложатся...
— Вы так думаете?.. Если бы... — Из черных глаз смотрела неспрятанная тоска.
— Прости, Вячеслав Ананьевич, если неприятно — не отвечай: сыр-бор загорелся из-за того, что она рвалась врачевать?
— Врачевать? — недоуменно переспросил Петин, но тут же утвердительно наклонил голову.
— А ты не пускал?
— Как хорошо жили, — сказал Петин, снова беря себя в руки, — и вот стоило ей сойти с парохода на этот берег, как сразу все...
— Что сможем — сделаем, — сказал Литвинов. И после паузы уточнил: — С жильем... Если что понадобится — заходи на огонек... Буду рад...
И задумчиво вышел из кабинета. В приемной его ожидал начальник секретного отдела, державший в руках какой-то толстый засургученный пакет.
— А-а, лорд — хранитель печати. Ну, заходи. Что у тебя там?
— Тут вот по вашему запросу прислали... Видите? «Выписки из дела по обвинению гражданина Дюжева П. В.».
— Ага, давай, давай сюда, — оживился Литвинов, как бы освобождаясь от мороки только что состоявшегося разговора. Он выхватил пакет. Торопливо разрушил печати. Раскрыв папку, забормотал: — Так, так... особая коллегия... Пятого января 1946 года. Так... Дело по обвинению Дюжева Павла Васильевича во вредительских действиях, наказуемых статьями... Ух ты, сколько статей! Коллегия в составе... Ну, это к чертям... Обвинитель — тоже к чертям. О! Вот! Так я и думал. — Литвинов хлопнул ладонью по папке и, тщательно произнося слова, прочел: — «Эксперт обвинения инженер-подполковник, кандидат технических наук, лауреат Сталинской премии и т. д. и т. п. Петин В. А.». — Литвинов победно посмотрел на начальника секретного отдела. — Что? Я тебе говорил? То-то.
— Я проверял. Все, что товарищ Дюжев написал в заявлении о себе, правильно. Освобожден досрочно, дело прекращено за отсутствием состава преступления, партийный стаж восстановлен. Из Дивноярского райкома отличная характеристика. Вот, пожалуйста.
Литвинов оттолкнул рукой бумаги:
— Ясно. Сугубо ясно. Оставь все это у меня.
15
В тот, уже давний вечер, когда Олесь Поперечный весь в смятении вышел из здания управления, сказав свое «нет», он пережил нечто похожее на то, что однажды было уже с ним на фронте. Ему пришлось с группой саперов обезвреживать минный тайник, подведенный эсэсовцами под алтарь старинного польского монастыря. Безопаснее было бы тайник подорвать, но монастырь был местом католических паломничеств. Приказывалось — сохранить его во что бы то ни стало. И Олесь начал действовать. Взрыватель, заложенный между авиабомбами большой мощности, он отыскал сравнительно легко. Это была обычная адская машинка с часовым механизмом, с недельным, по-видимому, заводом. Но все остальное было неизвестной конструкции и, несомненно, снабжено ликвидаторами на тот случай, если кто-нибудь тайник обнаружит.
Попросив саперов уйти из подвала и отойти подальше, Олесь долго сидел один меж холодных, заплесневелых надгробий каких-то каноников и кардиналов, рядом со смертью, слыша ее тикающие шаги. Он разгадал секрет. Легкими летящими движениями нащупал замаскированные проводки, безопасной бритвой перерезал их. Отделенный от страшной мощи мин, взрыватель сработал у него в руках. Воздушной волной Олеся бросило о полированный мрамор, покалечило ему ногу. Он видел, слышал, обонял, но тело стало будто чужое. Мысли текли обрывками, мучительно путались, а земля все норовила выскользнуть из-под ног.
В тот вечер в кабинете Петина Олесь почувствовал нечто напомнившее ему былую контузию. Глаза видят, уши слышат, ноги держат, а в голове сумятица, клочки мыслей, которые никак не удается собрать. Догнал Надточиев, потряс руку. Почему? Обнял, повел по тротуару. Куда? Зачем?.. Успокаивает. К чему? Заднего хода уже не дашь. Поиски, судорожные попытки наладить дело ни к чему не привели. Только еще больше расхолодили, отодвинули от него людей, которым он хотел помочь, стали подтачивать в нем самом веру в себя.
И вот он так грубо, не думая о будущем, отказался от выдвижения. Отказываясь, обидел того, кто, наверное, хотел ему помочь. Теперь уже и не предложат, а предложат — брать нельзя, иначе и на своем добром прошлом крест поставишь. И эта жестокая, беспощадная мысль: да неужели ты уже спитой чай, Олесь Поперечный?
Ясно было одно: не обдумав все это и чего-то твердо не решив, домой идти нельзя. Ганна — ей не скажешь, по лицу отгадает, в глазах высмотрит. А скажешь — пойдут разговоры, и Усть помянет, и пианино, и вишенки. Эх, в самом деле, не стоило тебе, Олесь, уезжать из Усти!.. Так и шел он по своему молодому городу, не радуясь ни новым этажам подросших домов, ни светофорам, недавно установленным на перекрестках.
У пивного павильона, построенного, согласно последней моде, из цветных пластмассовых плит и похожего на пряничный домик, он повстречал рябого слесаря из своего экипажа, того, что ухитрялся выражать все оттенки человеческой мысли двумя словами — «мать честная!». Дожевывая бутерброд, рябой был в самом благодушном расположении духа, и Олесь обрадовался ему. Он взял рябого под руку и на ходу стал рассказывать этому, в сущности, чужому еще человеку о предложении, которое только что сделали ему в управлении, о своих беспокойных по этому поводу мыслях. Рябой слушал и, когда Олесь кончил, в самой сочувственной интонации произнес:
— Мать честная!
Поощренный этим многозначительным замечанием, Олесь стал обосновывать резкость своего ответа. Обосновав, убедился: поступил все-таки правильно. И сразу как-то успокоился, будто занозу вырвал. Потом стал убеждать молчаливого человека, что именно вот теперь он и должен добиться толку от всех этих, в сущности, хороших ребят, заставить их поверить в свои силы, поверить в то, что они не лыком шиты, что, если дружно возьмутся, дело пойдет.
— Ведь так? Ведь правильно? — спрашивал он и в ответ слышал то же «мать честная», только в утвердительном тоне.
— ...Вот если бы нам всем хоть один разок, хоть смену по-настоящему работнуть. На войне, брат, бывал? Не успел? А я навоевался досыта. Так вот, в первый год, когда мы драпали, закинут немцы нам в тыл десант, так, вшивенький десантишко с сотню автоматчиков. Те растрещатся в тылах — полки по лесам разбегались. А соберет какой-нибудь командир или комиссар горстку обстрелянных ребят: «Стой насмерть!» Дивизии останавливали... Вера в себя, хлопец, вера в командира — великая сила. Вот бис тебя, разговорчивого такого, забери, и надо, чтоб ты хоть раз полную силу свою почуял, уважать себя стал. Вон Негатив, вы же его, как вши, ели, а брат мой Борька не нахвалится. И никуда уж бежать отсюда не собирается, в «Индии» вон домишко себе рубит, корни пускает...
— Да уж, мать честная... он уж так... — вздохнул собеседник.
За разговором они миновали кварталы, которые еще только строились. Остановились на дорожной насыпи, тянувшейся к карьерам. Вдали над горами вздыбленного ярко-желтого песка то в одном, то в другом, то в третьем месте поднимались ковши экскаваторов и, мелькнув в воздухе, выбрасывали рыжий песок. Машин не было видно, только эти то появляющиеся, то исчезающие железные лапы. И опять показалось Олесю, что там, за валами вздыбленной земли, пришельцы с какой-то другой, неведомой планеты, строя что-то понятное и нужное только им, безжалостно ворошат земную утробу. Наблюдая за ними, Олесь, задумавшись, рассеянно выковыривал ногой камень, вмятый шинами в обочину шоссе. Камень наконец вылез из своей лунки и, прыгая, покатился вниз по не покрытому еще травою откосу, оставляя за собой пунктирный след.
— Вот видишь, хлопец, камень. Лежал бы да лежал, травою бы зарос, в землю бы ушел... Эх, браток! Всем нам такого пинка не хватает. — И, задумчиво глядя на работавшие вдали машины, вдруг вскрикнул: — Стой, хлопец! Стой, молчи!.. А что, как сядем мы разок всей артелью к Борьке на экскаватор? Хоть на одну смену сядем. Я эту машину, как Ганну свою, знаю. Даже лучше... Вот и поглядим, кто чего стоит, хай ему грец! Как? А?
— Мать честная!..
В город возвращались быстро. Простая эта идея казалась теперь Олесю спасительной. В самом деле, разве не самое важное — вера в себя, в свои силы, в своих товарищей. Он даже удивлялся, как это раньше не пришло ему в голову. У новомодной забегаловки подошли к прилавку, выпили по кружке пива, и, пожимая на прощание руку рябому, Олесь влюбленно смотрел в его худое, угловатое лицо.
— А и добрый же ты хлопец!.. Здорово умеешь молчать на всякие интересные темы...
Тяжелый разговор в управлении не то чтобы позабылся. Нет, он не выходил из ума. Но теперь он уже не казался трагическим. Наоборот, Олесь уже обдумывал со всех сторон новую затею и, обдумывая, утверждался в мысли, что польза несомненно будет...
— Никак выпил? — удивилась Ганна. — Это с какой же радости? Зачем в управление звали?
— В главные над землероями сватали...
Ганна радостно всплеснула ручками:
— Да что ты!
— Отказался, — поспешно ответил Олесь, отворачиваясь, и обратился к дочке: — А ну, Рыжик, сбегай за дядькой Борей. Отец, мол, кличет. Чтоб сейчас же, по важному, мол, делу. Ну, швыдче, швыдче.
— Так как же отказался? — спросила озадаченная Ганна, все-таки радуясь изменению настроения мужа.
— Эх, Гануся, ты же знаешь, я и на фронте от пуль возле начальства не прятался... Мы, Поперечные, как сказывал диду поп, от запорожцев род ведем, не тараканы, чтоб от бед в щели залезать...
На следующий день, в перерыв, братья, никому ничего не сказав, остались в забое. С волнением, с каким спешат на встречу с любимой после долгой разлуки, поднялся Олесь в кабину знакомой машины. С тех пор как ушел на другую, он ни разу здесь не был. Приятно поразило, что хлопцы ничего не изменили: прежняя чистота, каждая тряпка знает свое место. Даже открыточка с белым голубем, которую Олесь сунул когда-то за козырек, была на месте. «Не забывают, черти», — решил он, усаживаясь на сиденье.
Загудели моторы. Дрожащей рукой Олесь коснулся рычагов. А вдруг в самом деле разучился? Вдруг все-таки перелом сделал что-то непоправимое с рукой? Когда махина с мягким гудением дрогнула, ожила, он с нежностью подумал: «Не забыла, слушается...» Ком подкатил к горлу. Все, что он видел за стеклами кабины, вдруг потеряло четкость очертаний. Он не видел, он почувствовал, как взметнулась стрела, как опускается ковш, как зубы его, точно в масло, врезаются в слежавшийся грунт. Послышался скрежет, но из-за того, что все кругом было закрыто как бы туманом, цикл вышел смазанным. Промах будто ударил Олеся, он втянул голову в плечи: неужели выдохся? Но моторы пели, в кабине все было знакомо. Борис, стоя сзади, горячо дышал в затылок. Отерев глаза кулаком, Олесь сосредоточился... И пошло, и пошло...
— Нет, есть еще порох в пороховницах, не иссякла казачья сила, хай ему грец! — сказал он не без самодовольства, оглянувшись на Бориса.
Тот один управлялся за весь экипаж. Большой, огромной физической силы парень, он смотрел на Олеся с тем ревнивым и немножко подобострастным выражением, с каким скрипачи-оркестранты слушают соло заезжего виртуоза: такую бы стать, такую бы технику! А Олесь уже ничего не замечал. Он снова переживал это ни с чем не сравнимое и такое дорогое мастеру любой профессии чувство слияния со своей машиной, которое позволяет ощущать эту послушную, отзывчивую машину как бы продолжением самого себя.
Не сразу заметил он на остром гребне забоя человеческие фигуры, а увидев их, самодовольно ухмыльнулся. Это люди обеих бригад и шоферы, вернувшись из столовой, наблюдали за ним. Остановив машину с поднятой стрелой, Олесь удовлетворенно откинулся на спинку металлического сиденья. С минуту просидел улыбаясь, потом обратился к брату:
— Не машина — оркестр! — И, покосившись на тех, кто еще стоял на гребне откоса, сказал: — Я им покажу, этим «негативам», лягай их блоха, работу!
— Покажете, покажете, — торопливо ответил Борис, радуясь за брата и в то же время испытывая к нему ревность. — А у меня Негатив уже не Негатив, а Позитив, право... Так вкалывает! И чудак: когда ему в эту получку косая на его долю отломилась, слезу пустил. Честное комсомольское, пустил. Так деньгу любит, черт линялый!..
— Строится он... Давняя его мечта, своя хата... Личная. Собственная. Персональная...
Невыясненным осталось: ухитрился ли рябой с помощью своих двух многозначительных слов рассказать экипажу о замысле Олеся или он все-таки пустил в ход и другие, но только бригада уже знала о том, что задумали братья.
— Я вам скажу, друзья, он себя над нами поднять хочет, — сказал Сурен, прихмурив брови-гусеницы. — Вот гляди, душа моя: вот это ты, а вот это я.
Но электрик, любитель пословиц, задумался: «Оно конечно, чужая вина завсегда виноватей. Однако поглядим». А парень-подсобник, которого за склонность все воспринимать «с перебором» в бригаде звали Двадцать Два, восторженно взмахнул руками.
— А что, а что? Вот увидите, так работнем, что долговязому Борьке космические ракеты будут сниться...
И все-таки, понимая, что каждого ждет серьезный экзамен, все готовились к нему. На следующий день, хотя об этом и не договаривались, явились на работу свежевыбритыми, а Двадцать Два успел даже подстричь свои прямые, соломенные вихры и теперь благоухал ядовитым парикмахерским одеколоном. Минут за пятнадцать обе бригады были в забое и стояли, как футбольные команды перед матчем, двумя отдельными группками, ревниво поглядывая друг на друга.
После вчерашней пробы Олесь чувствовал себя увереннее. Но спокойствия не было. Хотелось скорее в кабину, все заново пересмотреть, перещупать, хотелось подойти к каждому из своих ребят, поговорить о сегодняшнем дне. «Речонку бы не худо толкнуть», — подумал. Но агитировал он всю жизнь лишь примером, до слов был не охотник и потому молча курил, зажигая сигарету от сигареты. И все-таки, когда шли к машине, он не без труда выдавил из себя:
— Вот что, хлопцы, время такое — ушами хлопать нельзя. — И с молодой легкостью, держась за поручни, вскочил в кабину.
Когда все заняли места, он посмотрел на часы — черные наручные часы со светящимися цифрами и стрелками, полученные им когда-то как личный подарок маршала Конева за спасение польской святыни. Оставалась минута.
— И стоять на месте ныне нельзя. Остановишься — пятишься. А ну, хлопцы, все козыри, у кого какие есть, ложи на стол. — Но и эти слова показались Олесю слишком уж поучающими, и он, поведя носом, пошутил: — Ох и навонял же ты, Двадцать Два, своим одеколоном! Аж голова кругом идет!..
Если бы экскаваторщиков, как боксеров, взвешивали до и после работы, вероятно, было бы установлено, что в этот день Олесь Поперечный и его ребята потеряли по доброму килограмму. Но как Олесь работал! Даже скептический электрик любовался им. Впрочем, наблюдать друг за другом им не приходилось. Каждому было впору управиться со своим делом. К перерыву все, кроме Олеся, взмокли. Но из кабины вылезали, шумно галдя, и хотя шофер летучки, отвозивший бригаду на обед, давно уже давал нетерпеливые гудки, никто не тронулся с места, пока счетчица не сообщила выработку.
Она была еще не очень весома, эта выработка. Экипаж Поперечного-старшего еще не дотянул до обычных показателей Поперечного-младшего. Но норму выполнил. Зато хлопцы Бориса на чужом экскаваторе не выработали даже того, что выбирали «негативы».
— Тупая она у вас какая-то, — сердито говорил Борис, яростно скребя низко остриженный затылок. — Сонная. Выкладываешься весь, и все как в мякину.
— Эх, братан, если бы все в машине было!.. — ответил Олесь. — Это я не тебе, это я себе говорю. Мы обвыклись, а ты свежим глазом подмечай, что в ней худо. Уж мы ее за жабры возьмем. Так, ребята? — Он был возбужден. Глаза запали, лицо заострилось, на лбу углубились морщинки, но морщинки лучистые, веселые, насмешливые.
Вторая половина дня оказалась еще более удачной. Люди, как говорится, «жали на всю железку». Олесь понимал: нет еще коллектива, чувствовал: каждый тянет свое, не помогает товарищу. Но старались все — это он тоже чувствовал. Из машины вылезали возбужденные, шумные. Даже усталость была не тягостная, и многоопытный Олесь понимал: вспыхнула, загорелась искра. Теперь не дать ей угаснуть. Раздувать, раздувать...
— ...Вот что, орлы, отсюда в павильон, угощаю, — сказал он. — Обе бригады угощаю.
— Зачем обе? — отозвался Борис, вообще-то слывший в семье парнем прижимистым, копивший деньги на «Москвича». — Пиво — ваше, закус — мой...
На следующий день Ладо Капанадзе получил в парткоме письмо некоего анонима, в котором сообщалось, что вчера вечером в новом пивном павильоне на углу проспекта Электрификации и площади Гидростроителей небезызвестный экскаваторщик Олесь Поперечный и его брат Борис пьянствовали вместе со своими экипажами. Выпили, как сообщал аноним, несчетное количество пар пива, съели четыре кило воблы-тарани, что, вместе взятое, заслуживает внимания партийных органов крупнейшего строительства семилетки и соответствующих выводов по линии партийной, а также комсомольской организаций в отношении обоих братьев Поперечных, дабы им в дальнейшем не повадно было втягивать в пьянство служебно подчиненные им беспартийные массы и публично пить пиво и закусывать воблой на улице нового, социалистического города...
И одновременно с этим секретарь парторганизации землеройного участка сообщил Капанадзе, что братья Поперечные, идя навстречу Пленуму ЦК, подписали между собой социалистический договор. Дальше шли показатели, и весьма солидные. Об обстоятельствах и месте подписания этого договора парторг ничего не сообщал.
Капанадзе сравнил эти две бумаги, покачал головой, рассмеялся и положил обе в папку дел, за которыми нужно наблюдать.
Вернувшись на свой экскаватор, люди Поперечного сразу же поняли разницу. Выработка у них мало отличалась от прежней, и, как раньше, каждый, делая свое дело, мало помогал другому. Но духом никто уже не падал. День, который так порадовал их, не забывался, и никто уже не отказывался прихватить сверх смены часок-другой, чтобы понянчиться с машиной. И была уже вера, что она скоро «раскроется», а главное — с того дня все поверили в своего невысокого, немногословного начальника, поверили в себя. А с верой, как говорят в здешних таежных краях, и зверя задушить голыми руками можно.
Вскоре фамилии обоих Поперечных снова появились в сводках. Опережал то один, то другой. И Дивноярск следил за соревнованием братьев с тем же вниманием, с каким в Москве болельщики знаменитой восточной трибуны следят за матчами «Спартака» и «Динамо». Юмористы и сатирики Дивноярска сочиняли на эту тему куплеты. Клубный художник изобразил портреты обоих братьев, на которых они, такие разные, одинаково походили на популярного киноартиста Бориса Андреева...
Олесь преобразился. Он ходил рассеянный и даже немножко шалый, часто улыбаясь, заговаривая сам с собой, невпопад отвечая на вопросы. Вот в один из таких дней он и позабыл о собственном новоселье.
Впрочем, он опоздал вместе с Капанадзе, у которого тоже было немало хлопот. И так как оба они вернулись в свои новые квартиры в отличном настроении, жены простили им эту оплошку, и стены нового домика по Березовой, шесть были «обмыты» так, что и по грузинскому и по украинскому поверью жилью этому стоять сто лет.
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления