Онлайн чтение книги
Необыкновенные москвичи
15
С того момента как прекратилась служебная деятельность Андрея Христофоровича Ногтева и он ушел на пенсию, на отдых, он за недолгое время сильно изменился. Телесно он оставался еще вполне здоровым, если не считать бессонницы, часто мучившей его теперь, но душевно занемог. И то темное, голодное чувство, что до этой поры только угадывалось Ногтевым в себе, полностью завладело им. Как раз покоя Андрей Христофорович не обрел, уйдя на покой: наоборот, он переживал свой отдых, как опалу, тем более незаслуженную, что никогда ничего не искал, казалось ему, лично для себя. И хотя с годами его мысли о будущем, во имя которого он, казалось ему, трудился, становились все более расплывчатыми, да и посещали его все реже, его служба принимала, как бы в обратной пропорциональности, все более требовательный, строгий характер, находя оправдание в себе самой. Андрей Христофорович и в начале карьеры, и позднее, на довольно крупных постах, был не просто исполнительным и точным администратором, но страстным в своей исполнительности. И его неутомимость сразу же, еще в молодости, выдвинула его — то была лучшая, полная надежд пора его жизни.
В течение долгого ряда лет его дни, а случалось, и ночи напролет проходили за служебным столом в просторном, обставленном тяжелой мебелью кабинете, отделенном от остального мира массивной, обшитой клеенкой дверью с тамбуром. И ныне эти тихие ночные часы, проведенные над бумагами, сводками, отчетами, папками «личных дел», прерывавшиеся лишь время от времени телефонным звонком — блеском сигнальной лампочки, — представлялись ему полными высокого смысла и особой, волновавшей его красоты. Его подопечные, именовавшиеся на официальном языке кадрами, — едва ли догадывались, когда именно на его столе определялась их участь: новое назначение, повышение, понижение. И были периоды в его службе, когда его слово и подпись на документе означали для одних катастрофу, для других — головокружительный успех.
На рассвете, вставая из-за письменного стола, он испытывал ту истому удовлетворения, ту сладостную опустошенность, что известна каждому много и хорошо поработавшему человеку: аккуратные стопки бумаг на его столе — постановления, приказы, направления, характеристики и все те же папки «личных дел» — источали еще, казалось, тепло его рук.
Андрей Христофорович раздергивал шторы на посветлевших окнах и долго смотрел на просыпавшуюся улицу: на первые бегущие под уклон трамваи, на дворников с метлами, выходивших из ворот, на черный лимузин, ожидавший его у подъезда, на ранних пешеходов: молочницу с бидонами, однорукого инвалида-письмоносца, ребятишек с портфеликами и ранцами, торопившихся в школу. И он оттаивал сердцем, добрел, глядя на эту невинную, мирную жизнь... Улыбаясь про себя, он звонил секретарю, и, когда секретарь появлялся, осунувшийся, серолицый, с красными полосами на щеках (спал, должно быть, уронив на стол голову), он передавал ему «для исполнения» то, что было решено за ночь.
— Ну, мы с тобой заработали сегодня на хлеб с маслом, — шутил он.
А затем все это прекратилось — как-то слишком круто и неожиданно. Андрею Христофоровичу было сказано, и не намеком, а с полной определенностью, — что его служба больше не нужна. И мало того: оказалось, что в прошлом он часто ошибался, делал не то, что надо было делать, и не так, как надо. Возвращались издалека люди, в судьбе которых Андрей Христофорович принимал участие, он ощущал не радость, но беспокойство при встречах с некоторыми из них.
Ныне несогласие с участью, постигшей его, он распространил на все, что его окружало: в своем собственном поражении он видел признак общего неблагополучия. И все чаще теперь спорил — чего раньше с ним никогда не случалось — ожесточенно, хотя и не вслух, спорил с речами делегатов на партийных съездах, с передовой статьей газеты, с новым законом, даже с новой архитектурой и — уж конечно! — с новыми модами, — их он поносил во всеуслышание. Когда он узнавал ныне о каких-либо затруднениях в стране, о неустройствах в хозяйстве, в быту, в духовной жизни, ему прежде всего приходило в голову: «Это и предвидел», «Этого следовало ожидать», «До пятьдесят третьего года этого не могло случиться». Но было бы несправедливо сказать, что Андрей Христофорович только злорадствовал, — он с большей, с горестной остротой переживал свое нынешнее положение стороннего наблюдателя.
А покамест Андрей Христофорович брался за все, что хотя бы в малых, полупризрачных количествах способно было утолить его жажду деятельности. Вскоре после своего вселения в новую квартиру (старую в четыре комнаты он добровольно сдал после отъезда сыновей) он сделался председателем общественной комиссии содействия ЖЭКу. И надо сказать, что за недолгое время ему удалось добиться многого: помог он и в устройстве спортивных площадок во дворах, и в их озеленении, сам ходил по квартирам злостных неплательщиков и лично выговаривал дворникам за нерадивость; стал работать при нем и товарищеский суд. Начальник ЖЭКа уже побаивался Андрея Христофоровича, а иные жильцы, завидев его, сворачивали в сторону; впрочем, большинство искренне его благодарили. И опять-таки неверно было бы думать, что лишь тоска одинокого покойного существования двигала им. Незначительность масштабов его нынешнего дела, их скромность, даже убогость по сравнению с прошлым доставляли ему порой странную, тщеславную сладость смирения.
С удвоенной энергией вмешался Ногтев в «Дело Голованова и К°», как он его именовал. И освобождение Голованова из милиции явилось для Андрея Христофоровича еще одним симптомом некоей болезни, получившей в последние годы опасное распространение. С самим Головановым он разговаривал всего один раз и очень недолго, когда вызвал его для беседы в контору ЖЭКа. И он тогда же убедился, что представший перед ним молодой человек — нестриженый, хмурый, неуступчивый, непочтительный — не заслуживает никакого снисхождения. Он таким и воображал себе этого самозваного поэта, пьянчужку и бездельника; собственно, он мог бы даже и не вызывать Голованова, — так хорошо он уже все знал о нем; он и прежде отлично умел распознавать людей по одним лишь документам. А к жалобам квартирных соседей Голованова он охотно присоединил бы и свою жалобу, причем не на одного Голованова, а вообще на молодежь — на немалую ее часть. Она — и это выглядело чрезвычайно серьезно — не оправдала его, Андрея Христофоровича, надежд, она выросла чужой, не похожей на те безликие образы исполнительных наследников, точь-в-точь повторявших его самого, что рисовались ему когда-то. И со всей горячностью словно бы обманутой души, со всей своей алчущей энергией Андрей Христофорович схватился за «Дело Голованова и К°», как вступил бы в схватку со своим личным врагом.
На следующий же день после возвращения Голованова из милиции Ногтев пришел в дом, где жил этот юнец, производивший такое отталкивающее впечатление. Он побывал у его соседей, побеседовал с Клавдией Августовной — та, робея, лишь поддакивала; посидел у Кручинина второго, который рассказал много всяких подробностей из быта и нравов современной богемы; можно было только удивляться, как хорошо осведомлен этот больной, старый человек. Выйдя от него, Андрей Христофорович задержался перед соседней приоткрытой дверью и прислушался — то была дверь в комнату Голованова. «Дома?» — спрашивал его взгляд.
Кручинин отрицательно помотал своей крупной головой, покрытой прекрасными белоснежными кудрями; он вообще выглядел импозантно — большой, осанистый, медлительный, в пижаме со шнурами...
— И вы обратите внимание, — прогудел его густой, жужжащий голос. — Самого дома нет, с утра убрался неведомо по каким делам, а комната отперта — заходи кто хочешь, располагайся! И это не в первый раз — вот уж точно: живет, как в чистом поле.
Кручинин и тут обличал Голованова, если не в недозволенном, то в необъяснимом. И Андрей Христофорович поддался внезапному искушению: хотя и не полагалось в отсутствие хозяина входить в чужое жилище, соблазн был слишком велик — представилась вдруг возможность заглянуть как бы в глубокий тыл врага. Ногтев оглянулся — в длинном полутемном коридоре они стояли одни, даже из кухни не доносилось ни звука. Кручинин, догадавшись о желании гостя, кивнул, успокаивая и поощряя; даже что-то игривое выступило на его неподвижном, тяжелом лице. И Ногтев быстро и по-молодому бойко переступил через порожек...
Он увидел не совсем то, что ожидал: не логово и не притон, как они ему воображались, — скорее, вот такой полупустой, разоренной могла быть комната в момент переезда ее обитателя на другую квартиру: голые стены, выцветшие обои с темными квадратами на тех местах, где висели раньше картины, большой, обтерханный, с ремнями кожаный чемодан в углу и книги у стен, кучи книг, вынутых из шкафов, что были, как видно, увезены отсюда. Продавленный, в буграх диван и карточный на выгнутых ножках столик, заваленный бумагами, точно ожидали, когда и их заберут. Лишь присмотревшись, Андрей Христофорович обнаружил в комнате Голованова признаки некоей оседлости: скомканное одеяло на диване, чайник на подоконнике и пустые бутылки в дальнем углу: две от водки, одна — от шампанского. А над диваном была приколота кнопкой цветная репродукция: портрет мужчины в меховой шапке с трубкой в сжатых губах и с повязанным белой тряпкой ухом.
— Кто ж это такой? — пробормотал Андрей Христофорович, подходя ближе.
Подпись под картинкой отсутствовала; Кручинин тоже не смог сказать, кто здесь изображен. И Андрей Христофорович забеспокоился: ярко-голубые глаза человека на картинке смотрели с пристальной тоской — недобрые, несчастные глаза, от которых становилось не по себе. Было бы важно дознаться: почему, собственно, Голованов повесил над своей постелью портрет этого больного, диковатого мужика? Да и вся комната Голованова — запущенная, обобранная — вызывала беспокойное недоумение: она была не совсем понятной.
Нагнувшись над книгами, Андрей Христофорович торопливо раскрыл один за другим несколько тощих сборничков стихов — авторы были все неизвестны ему; потом попались два томика Стендаля и под ними толстый том стихотворений Некрасова. Это опять же удивило Ногтева — Некрасова он хотя помнил неважно, но почитал; дальше вновь пошли незнакомые имена. Кручинин тем временем без особенной спешки перебирал на столике Голованова его бумаги... Чьи-то шаги раздались в коридоре, и Андрей Христофорович замер, выпрямившись. Но, к счастью, шаги удалялись, и вскоре стукнула дверь на лестницу.
— Надя свой бизнес пошла делать, — сказал Кручинин. — Что-то поздно сегодня. Вот тоже, знаете, элемент...
— Пойдемте... Идемте отсюда, — шепотом с присвистом сказал Ногтев — он начал нервничать.
— Как изволите... А только можно не опасаться. Наш великий поэт ушел с портфеликом, книжечки загонять, — не скоро вернется... Вот — не угодно ли поглядеть? — вирши. — Кручинин неспешно листал школьную тетрадку. — А на полях... Смотрите, недурно рисует! Так ведь это же она — Люська! — И на его маскоподобном, отечном лице опять мелькнула словно бы игривая усмешка. — Она и есть — наша Люська, первая на весь район... Проживает этажом ниже.
— Да? Стихи, вы говорите?.. — Ногтев помедлил: познакомиться со стихами Голованова было бы, разумеется, тоже важно.
— Эротика, — сказал Кручинин.
Он отставил от глаз на вытянутую руку тетрадку и щурясь, стал читать густым, медленным басом:
...к твоим ногам упасть, как птица
к ногам охотника, — ничком
и на камнях кружить и биться
с горячей раной под крылом.
— Это Люське-то! — Кручинин шумно задышал, набрал в легкие воздух, чтобы расхохотаться. — Как птица — перед Люськой-то!..
Андрей Христофорович заглянул в тетрадку: на разлинованной в клетку страничке сбоку от стихотворения было набросано пером — несколькими штрихами — хорошенькое личико под высокой прической.
— А сходство есть, как живая Люська!.. — тяжело дыша, хрипел Кручинин, ему все не удавалось похохотать.
— Пойдемте! — повторил Андрей Христофорович: осторожность взяла в нем верх. — Нам тут с вами делать нечего.
— С вашего разрешения, — сказал Кручинин и сунул тетрадку в карман пижамы. — Жене хочу показать, а после сюда же положу.
Андрей Христофорович, не ответив, точно это его не касалось, быстро пошел, и за ним, трудно передвигая свои слоновые ноги, двинулся Кручинин.
— Мне бы не хотелось, чтобы об этой нашей экскурсии... — начал было тихо Ногтев в коридоре и не докончил, глядя на Кручинина; тот склонил свою красивую в белых кудрях, голову.
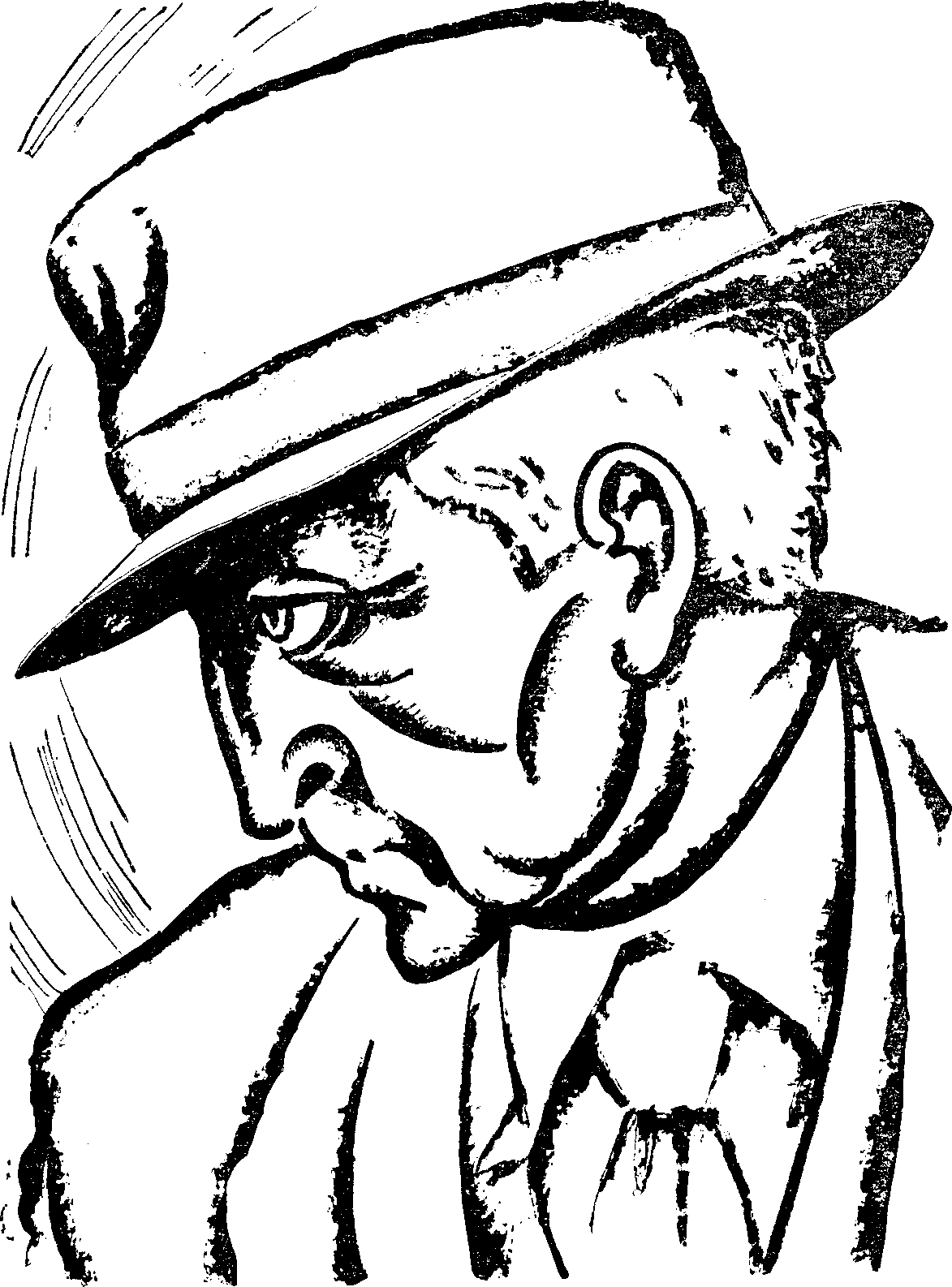
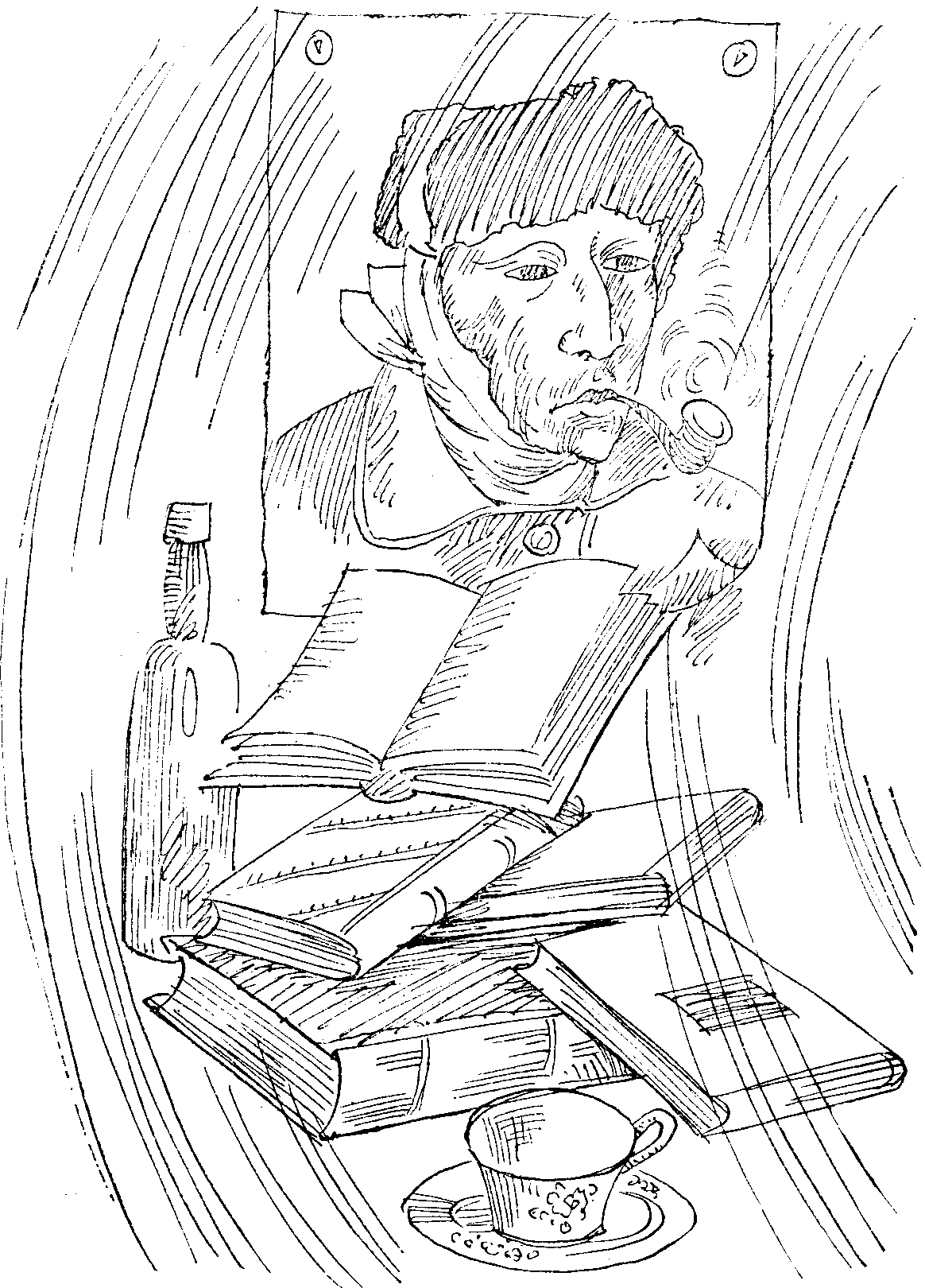
— Антр ну, понимаю, — прогудел он на весь коридор.
В общем, Андрей Христофорович был не удовлетворен. Поиск в тылу врага не дал ему ничего особо существенного. И, как всегда, когда человек бывает очень убежден, отсутствие доказательств лишь раздражает его, а не обескураживает. В конце концов, самый воздух этого не устроенного головановского кочевья — эта голизна, нищета, этот портрет какого-то сумасшедшего на стене, это признание в любви к потаскушке — будило неотчетливые подозрения. И если у Голованова не нашлось ничего, что послужило бы явному его обличению, то не означало ли это умение искусно прятать то, что могло обличить?
Вскоре участковый уполномоченный, державший наблюдение над Головановым, смог к старым жалобам на него присоединить свежие. Даже Клавдия Августовна, не раз по доброте выручавшая Глеба, вынуждена была заявить, что живущий рядом молодой человек «без определенных занятий» внушает ей постоянный страх, вымогая у нее деньги. Переписав набело тонким почерком старой гимназистки свое заявление, она отдала его Кручинину для передачи участковому. А затем Клавдия Августовна затворилась у себя в комнате и даже готовила там на электроплитке, чтобы не встречаться в коридоре с Глебом, — она совестилась и страдала, и ей уже хотелось, чтобы все поскорее кончилось и Голованова услали куда-нибудь, если это так необходимо.
И еще одна обитательница квартиры — Надежда Петровна Голядкина, разнорабочая на хлебозаводе, одинокая, за тридцать лет, женщина, горько запившая, судившаяся за продажу краденого и уличенная Кручининым в спекуляции мукой, — выступила против Голованова. Письменно, под диктовку Кручинина,она заявила,что этот нигде не работающий жилец впускает к себе на ночь подозрительных девиц с мужчинами... И после того с нею произошло нечто удивительное: отдав заявление, Надежда Петровна почувствовала себя даже лучше, чище, словно бы вступившей на путь исправления. Теперь и сам Кручинин — артист, о котором писали в газетах, — обращался к ней вежливо, на «вы», и участковый первым здоровался с нею. Подоспела получка, и Надежда Петровна, отказав себе на этот раз в водке, купила занавеску на окно, протерла стекла, вымыла и выскребла пол, и ее комната приняла совсем другой вид.
А Ногтев занялся тем временем подыскиванием новых свидетелей. Суд над Головановым должен был — так ему воображалось — превратиться в большое народное судилище — показательное, с резонансом на всю Москву, а может быть, и на всю страну, если заручиться содействием печати. И, разумеется, следовало позаботиться, чтобы на таком процессе громко прозвучал голос рабочего человека, труженика, простого человека! Совсем хорошо было бы, если б человек этот оказался к тому же участником войны, ветераном... И тут Андрей Христофорович вспомнил об Орлове: муж Тани подходил со всех сторон — работяга и солдат, бывалый человек и кавалер боевых орденов, сияние которых, что там ни говори, придавало особый вес людям, чью грудь они украшали. А самый возраст Орлова заранее делал его, как можно было предполагать, единомышленником Андрея Христофоровича — они принадлежали одному времени, одному поколению...
Ногтев позвонил Тане и в ближайший же свободный вечер Федора Григорьевича отправился к Орловым; кстати, у него имелись и хорошие новости для них. Не забыв о своем совершенно бескорыстном поначалу намерении посодействовать мужу Тани в приискании другой работы, он переговорил уже кое с кем из своих старых коллег по министерству. И случай — тот самый случай, что всегда оказывается на стороне ищущих и добивающихся, — улыбнулся Андрею Христофоровичу, а вернее, Орлову: для него обозначилась близкая перспектива перехода на более солидное и во всех отношениях более выгодное место.
С этой приятной перспективы Ногтев и начал разговор, сидя за чаем в столовой Орловых. Таня слушала с веселым любопытством, Федор Григорьевич отмалчивался, словно бы в неловкости, но затем все же выдавил из себя несколько слов благодарности.
— Не благодарите... Делаю то, что считаю полезным, нужным, — ответил Андрей Христофорович.
И Орлов совсем замолк, когда речь зашла о его участии в суде над каким-то неизвестным ему парнем. Парень, видимо, и вправду был нестоящий, бездельник и пьяница, если верить Андрею Христофоровичу, и приохотить лодыря к честному труду следовало бы. Но Федор Григорьевич давно уже научился верить главным образом себе, своим глазам и ушам. После того, что пришлось перетерпеть ему самому в не столь уж давнюю пору, он с сомнением относился ко всякому обвинению, и его сочувствие неизменно клонилось в сторону обвиняемого, пока, конечно, не было твердых оснований для обратного. С чего же, собственно, по одному лишь слову малознакомого человека он стал бы теперь преследовать другого — незнакомого, о котором ничего, в сущности не знал?! И Ногтев почувствовал это глухое сопротивление...
— Кому, кому, а уж вам-то должно быть известно: не работаешь — не ешь, закон законов, — резко проговорил он, — дармоедам на нашей земле места нет.
Орлов кивнул: тут он был согласен с Ногтевым — вся его жизнь подтверждала справедливость великого закона.
А раздражение Андрея Христофоровича росло:
— Каждый должен создавать ценности: станки, хлеб, все прочее. А не желаешь принимать участие в общем труде — заставим.
Таня вдруг опечалилась, глядя на него.
— Но ты же говоришь... — мягко начала она. — ты же сам говоришь, что этот мальчик пишет стихи. Конечно, стихи бывают разные.
— Вот-вот! — словно бы обрадовался Андрей Христофорович. — Именно — разные, хорошие и плохие. Кто не сочинял в молодости стишков?! Я сам в шестнадцать лет такую лирику загибал: любовь, новь, кровь и прочее. Кто же этому паршивцу мешает писать? Пиши себе на здоровье, но притом создавай ценности, учись... А если ты настоящий поэт, почему ты не в Союзе писателей? То-то! И еще надо посмотреть, что ты там такое пишешь. Одно ведь похабство...
Таня покачала головой, искренне огорчившись. Когда-то первый муж изумлял ее своей душевной выносливостью, крепостью нервов, своей жесткой силой. И как же он постарел, как износился, если его растревожил не такой уж важный, в конце концов, вопрос можно ли считать трудом писание стихов? Годы безжалостно сокрушали людей.
— Вопрос слишком серьезен! — прокричал Ногтев, точно проникнув в ее мысли. — Ты погляди на этих волосатых молодчиков, что вьются около «Метрополя», глазеют на заграничные машины. Такой за авторучку родину продаст.
— Ну что ты, — сказала Таня. — Наверно, многих просто интересует техника. И вообще — всякое новое непривычное. Налить тебе чаю?
— Сладкая жизнь их интересует. Эту молодежь надо лечить, лечить, пока не поздно. И хирургия — лучшее лечение, проверенное... Чаю не хочу, спасибо! Ты думаешь, Голованов просто недоучка? Нет, это фигура типическая. И он не один, его слушают, ему подражают...
Помолчав, чтобы успокоиться, Ногтев проговорил:
— У тебя сын, Таня, — учти! Я ничего плохого о твоем сыне... Но береженого бог бережет.
Таня больше не спорила — она пожалела Андрея Христофоровича. А за своего Виктора она могла не беспокоиться: соблазна сладкой жизни не существовало для ее сына, скорее можно было опасаться, что он изведет себя занятиями. Недавно его взяли лаборантом в научный институт — помог прямо-таки невероятный случай, — и теперь он целыми днями пропадал там, даже забросил свою мастерскую; поздно вечером приходил домой, а ужиная, клал перед собой английскую книжку — он стал к тому же учить английский. И осторожные напоминания Тани о том, что в мире имеются еще такие вещи, как кино или вечернее гулянье, не оказывали на него никакого действия. Про себя Таня удивлялась: откуда у нее, легкомысленной, малоученой, едва одолевшей семилетку, такой не по летам серьезный, весь ушедший в науку сын?
Федор Григорьевич, терпеливо выслушав Ногтева, отделался неопределенной фразой:
— Да, шалят молодые люди, шалят, я тоже замечал.
Казалось, только деликатность и положение хозяина дома не позволили ему прямо отклонить предложение Андрея Христофоровича. И Ногтев покинул Орловых с чувством горечи: люди в каком-то душевном ослеплении отворачивались от опасностей, грозивших и им. А муж Тани, этот герой войны, попросту, должно быть, превратился в отупевшего от мелких забот обывателя... Впрочем, ничего определенного между ними сказано не было — вопрос о выступлении Орлова в суде в качестве свидетеля обвинения остался пока открытым: Федор Григорьевич отмолчался...
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления