Онлайн чтение книги
Тигроловы
1 ТИГРОЛОВЫ. Часть первая

В. П. Астафьеву посвящается.
Осенью госпромхоз намеревался забросить охотников в отдаленные угодья вертолетом. В прошлом году это новшество удалось на славу — в конце октября все охотники были уже на местах промысла. А нынче нелетная погода, поэтому все кувырком, все не по плану. Течет меж пальцев дорогое промысловое время, да и вертолет обходится госпромхозу в золотую копеечку, оттого и число претендующих на полет охотников невелико, всего шесть фамилий. Павел Калугин в списке первый.
Пять лет тому назад, когда жив был отец, добирался он с Павлом до зимовья пешком, волоча за собой длинную широкополозную нарту. Но прошлой весной, по приказу охотоведа, недалеко от охотничьей избушки, на песчаной речной косе Павел вырубил тальник и подготовил площадку. Вертолет легко сел на нее. Пилот показал Павлу большой палец и тут же отметил просторную площадку у себя на карте.
Скоро, говорят, мимо его участка лесовозную дорогу пробьют. Тогда и без вертолета можно будет обойтись. Вроде бы хорошо — сел на машину и к самому зимовью подкатил! Но ведь по этой же дороге хлынут в тайгу лесорубы, да и браконьеры дремать не станут. Дорога — беда для охотника. Уж лучше трое суток тащить за собой тяжелую нарту, чем видеть на своем угодье голые пни да вывороченные бульдозером корневища опрокинутых и усохших деревьев.
В конторе Павел показался всего один раз. Предупредил, что готов к заброске на участок, и сразу же ушел домой. не любил он крутиться возле начальства. Будет ли вертолет завтра или через десять дней, это ведь не от него зависит и даже не от расторопности старшего охотоведа.
Павел любил посидеть в одиночестве с хорошей книгой...
За чтением и застал Павла в тот день его товарищ Николай Кузьмин, розовощекий, улыбчивый, двухметровый детина.
— Все сидишь, чернокнижник? — возбужденно забасил он. — А Лошкарев получил лицензии на двух тигров! не веришь? Честное пионерское, не вру! Он только что к нам приходил, просил у бати кобеля, хотел его на тиграх испытать. Да ты чего сидишь-то? Беги к Лошкареву, может, в этот раз возьмет тебя с собой.
Павел, словно очнувшись, вскочил, метнулся к вешалке.
— Маманя! Угости Николая яблоками, а я к Лошкаревым сбегаю!
Дом Савелия Макаровича Лошкарева стоял недалеко от конторы госпромхоза, в центре села, и виден был отовсюду не только потому, что стоял на бугре, но еще и потому, что выделялся среди всех других крутой темной, замшелой тесовой крышей, тогда как вокруг белели крыши шиферные. Еще этот дом, в отличие от других, обшитых тесом и весело раскрашенных, был рублен по-старинному — в охряпку, из крепкой, как кость, лиственницы, приплавленной сюда с верховьев реки еще дедом Савелия Макаровича, Митрофаном Лошкаревым. С той поры и стоит домище — черный, кряжистый, как былинный богатырь, закованный в латы. Туда, к этому дому, и шел Павел Калугин с отчаянной решимостью. Но, чем ближе он к нему подходил, тем быстрей истаивала решимость. Поравнявшись с конторой, он и вовсе замедлил шаги и, поразмыслив, решил зайти сначала к директору госпромхоза.

Со дня основания этого хозяйства контора размещалась в небольшом доме, и всем хватало места в нем, на тесноту никто не жаловался, и дело тоже не страдало. Так было до той поры, пока соседний промхоз не отгрохал себе контору из силикатного кирпича. Тотчас после этого события закипела работа и здесь. Правда, силикатный кирпич достать не удалось, да и невыгодно было его везти машинами за сотни километров от железной дороги, но ведь можно построить и из бруса деревянного. А чтобы не казалась контора бедней, чем у соседей, сделали ее гораздо больших размеров, чем нужно, обнесли забором и воздвигли перед входом в калитку огромные из листового железа художественные плакаты, на которых заезжие художники-шабашники за очень круглую сумму намалевали пушных и копытных зверушек, щедро вывели проценты трехзначными цифрами. В знойные летние дни в тени этих плакатов, помахивая хвостами, любят стоять молодые необъезженные кони.
Обращаться к директору Павлу не хотелось, но иного выхода не было. Спросив у секретарши, ярко крашенной приезжей девицы, у себя ли директор, и получив утвердительный небрежный ответ, он уверенно открыл тяжелую, обитую черным дерматином дверь.
Директор госпромхоза Михаил Григорьевич Попич, толстый, большеголовый, с красными отвисшими щеками, при виде вошедшего недовольно поморщился, кивнул на приветствие и, указав на стул, молча продолжал что-то писать.
«Ишь ты, занятой какой! Облапил стол, как паук муху — не оторвешь», — сердито подумал Павел, усаживаясь на краешек стула тут же около двери.
Последний раз в кабинете Павел был ровно год назад, когда, вернувшись из армии, оформлялся на должность охотника-промысловика. Уже тогда его поразила шикарная отделка кабинета: сейф под черное дерево, сервант с секретерами, магнитола; в углу, в огромной, под черное же дерево, кадушке — экзотическое растение, напоминающее пальму; нежно-голубые панели из поблескивающих листов, на полу — цветной линолеум. Но теперь по линолеуму через весь длинный кабинет тянулась широченная ковровая дорожка с красными полосами по зеленому полю. И еще — вместо прошлогоднего пластмассового плафона Павел увидел под потолком изящную люстру с хрустальными подвесками.
Директор между тем, делая вид, что пишет, исподлобья посматривал на Павла: «Опять требовать что-нибудь будет — не иначе». Но по тому, как мял посетитель шапку в руках, напряженно откидывал русый чуб, то и дело ниспадавший на лоб, по сосредоточенному взгляду его голубых, широко поставленных глаз, директор сделал вывод, что не требователь сейчас сидит перед ним, а проситель. «Впрочем, от этого парня всего можно ждать, он и просит всегда так, словно требует должное. Ершистый! На каждом собрании с критикой выступает. Молоко на губах не обсохло, а туда же: отец его покойный тоже все выступал на собраниях, да нескладно — вреда от него не было, шум один. А этот ядовитый! Палец в рот не клади, не в бровь, а в глаз метит. Такому волю дай — он тут все разворошит, ишь — глазищами по сторонам сверкает, такого не приручишь».
Павел сердито нахмурился, сказал хрипловатым от волнения голосом:
— Я к вам, Михаил Григорьевич, вот по какому делу... — И, видя, что директор неохотно поднимает голову, словно его некстати отвлекают от очень важной работы. Павел, внутренне рассердясь, но сдерживая себя, продолжал: — Мне только что сказали, что в промхоз для Лошкарева две лицензии пришли. Верно это?
— Ну да, пришли. — Директор слегка оживился, откинулся на спинку жалобно скрипнувшего стула; толстые короткие пальцы его вяло закрутили черную авторучку. — Пришли, пришли лицензии, на двух тигров. А почему тебя это интересует? — В голосе директора угадывалась насмешка.
— Ну вы же знаете, что я пытаюсь в бригаду Лошкарева попасть, — смущенно сказал Павел.
— Знаю, знаю: династию Лошкаревых пробить хочешь, вклиниться, так сказать. — Директор смотрел на Павла, не скрывая усмешки.
— Никуда я не вклиниваюсь, просто хочу быть тигроловом, — возразил Павел.
— Ну так становись им, кто тебе не дает? Договаривайся с Лошкаревым — он ведь бригадир тигроловов, а не я!
— Лошкарев обещает, но не берет меня. Но вы, как директор, могли бы посодействовать. Это же и для промхоза выгодно, чтобы тигроловство не угасло.
— А кто тебе сказал, что оно угаснуть собирается? По-моему, Лошкарев еще крепок, да и сын у него — наследник.
— Да не так уж он и крепок, — через год шестьдесят ему исполнится. А сын его, Николай, вы же знаете, не таежник вовсе — в Хабаровске живет. Перестанет отец ловить — забросит и сын это дело, вот и угаснет династия. У Лошкарева должны быть ученики, а их нету.
— Назначить тебя учеником к Лошкареву я не имею права. Дело это опасное, исключительное. Лошкарев получает лицензии не от меня, а от зоокомбината. Поэтому берет в бригаду, кого хочет, вот с ним и разговаривай, а я не собираюсь с ним на эту тему говорить! — Директор навалился грудью на стол, широко расставив мощные локти, быстрей завертел в пальцах авторучку. — И ты, пожалуйста, не отвлекай меня подобной просьбой. Иди к Лошкареву и толкуй с ним.
— Все ясно, — обиженно сказал Павел, поднимаясь со стула. — Спасибо за совет. К Лошкареву я и шел, но вот к вам завернул, думал, поможете. А вообще-то, у меня к вам другой вопрос. Ситуация такая. Вот приду я сейчас к Лошкареву, а он возьмет да и примет меня в бригаду. Вы-то в этом случае не станете мне чинить препятствий?
В голосе Павла директор уловил подвох. Ручка в его пальцах замерла:
— То есть, какие препятствия имеешь в виду?
— Ну, какие... Мне ведь на промысел надо — пушнину добывать, а тут отлов тигров...
— А-а, вон что... — Пальцы директора выпустили авторучку, неуверенно потеребили клочок бумажки, постучали по черной полировке. — А знаешь, Калугин, ты совершенно прав. Даже если ты сейчас договоришься с Лошкаревым, что, впрочем, маловероятно, все равно отпустить я тебя не смогу. Ты ведь охотник и обязан добывать пушнину.
— Но ведь и Лошкарев охотник, и брат его... Оба они охотники!
— Ну, Лошкаревы везде успевают: и тигров ловят, и план по пушнине выполняют.
— Так и я смогу план по пушнине выполнить. После Нового года отправлюсь на участок и выполню. — Павел с надеждой смотрел на директора, медленно вытирающего платком глянцевую лысину. — Отпустите, Михаил Григорьевич! Честное слово даю — выполню!
— Нет-нет, Калугин! Занимайся своим ремеслом и не мудрствуй, не гоняйся за славой...
— Я вовсе не за славой гоняюсь! Это вы о ней печетесь... — напрягаясь и сдерживая себя, чтобы не высказать директору все, что о нем знает и думает, Павел пошел к двери, тихо, но твердо произнес: — Все равно я своего добьюсь — не нынче, так на следующую зиму уйду на отлов тигров без вашего благословения...
— Ого! Вон ты как заговорил! — Директор даже голову набок склонил, ухо к Павлу направил — не ослышался ли. — Значит, говоришь, самовольно уйдешь? Ну-ну, давай. Попробуй, голубчик... Ишь ты... Напугал, на-пу-га-ал... — Попич притворно всплеснул руками и вдруг с неожиданной злостью, прищурив глаза, жестко отчеканил:
— Уйдешь самовольно — скатертью дорожка! Уволю как злостного прогульщика. Понял?
— Еще бы, как не понять, — усмехнулся Павел. — А только я, товарищ директор, тоже непужливый — увольняйте! Плакать по вашему болоту не стану! — И с этими словами, не взглянув даже на Попича, вышел из кабинета.
Не ожидал Павел, что так скандально завершится его визит к директору: все, что произошло сейчас, было явно во вред тому, к чему он стремился. Проклиная себя за вспыльчивость, с упавшим настроением, без прежней уже решимости, из одного лишь упрямого желания до конца бороться за свою мечту, он, выйдя из конторы, направился к дому Лошкарева.
Директор напряженно следил за Павлом через окно. Его интересовало, куда повернет Калугин — в проулок, к Лошкареву, или к себе домой. Убедившись, что Калугин идет к Лошкареву, директор удовлетворенно кивнул и пожелал Калугину удачи — более подходящего случая избавиться от чересчур строптивого охотника, может, потом и не подвернется. Но Лошкарев наверняка не примет Калугина. «Как же быть? Не поговорить ли мне и в самом деле с Лошкаревым? Примут Калугина, а потом... Потом уволить его за самовольный уход? Нет, пожалуй, надо это дело обдумать».
Лошкаревский двор был наглухо скрыт от проулка мощными, потемневшими от времени воротами, в которые свободно мог бы въехать трактор, но которые этот же трактор не смог бы, пожалуй, вывернуть. Это были староверские ворота, сделанные по сибирскому образцу: давно уже никто не делал таких в селе, предпочитая жить на виду, отгораживаясь от мира лишь невысоким легким штакетником. Вот перед этими-то глухими воротами Павел нерешительно остановился, пытаясь унять волнение и тщетно стараясь напустить на лицо степенное выражение. Наконец, махнув рукой на все свои старания, он толкнул тяжко скрипнувшую калитку и, не обращая внимания на яростно залаявших собак, рвущихся на цепи в углу двора, поднялся на высокое, недавно пристроенное крыльцо, прошел через темные сени к дверям и, глубоко вздохнув, точно собираясь в прорубь нырнуть, постучал.
Савелий Макарович Лошкарев, распушив черную бороду на своей могучей груди, сидя на низком табурете перед печью, точил пилу. Сын его, Николай, гладко выбритый, розовощекий, как юноша, но с морщинистым тяжелым лбом и с высокой залысиной, стоял на полу на коленях с большими портняжными ножницами и собирался, вероятно, что-то кроить из разостланного перед ним куска брезента. По всей прихожей на полу разбросаны были охотничье снаряжение, камусные лыжи, рюкзаки, топор, закопченный чайник, какие-то мешочки, свертки, обрывки веревок.
«Уже собираются», — с тревогой подумал Павел, громко и почтительно здороваясь.
Недоуменно глядя на Павла, Николай торопливо встал с колен, сдержанно ответив на приветствие, подсел к окну.
— А-а, Павлик, в нашу обитель пожаловал? Доброго здоровья, доброго здоровья! — приветливо заулыбался в бороду Лошкарев. — Садись-ко вон на лавку. Да спихни оттель тряпье, усаживайся, не робей. — Лошкарев был в хорошем настроении; из-под кустистых черных бровей его смотрели на гостя внимательные, с мудрой усмешкой глаза. — Ну вот, сел, теперь, Павел, сын Иванов, может, чайку попьешь?
— Да нет, спасибо, Савелий Макарович, я ненадолго... Я к вам по делу...
— У-у, молодо-зелено! Пошто говоришь таки слова? За чаем-то само дела темны да всяки и решить бы. А то ишшо лучше медовушки ведерко... Фу-ты, окаянной попутал! Да и не пьешь ты зелья — стало быть, на роду тебе писано всяко дело, как Измайлову крепость штурмом решать, либо взадпятки от ее отскакивать.
Говоря все это, Лошкарев продолжал на ощупь подтачивать напильником зубья пилы, и она тихонько пела у него на коленях, словно чудный музыкальный инструмент в руках у былинного сказителя — он и похож-то на былинного героя, Савелий Лошкарев: черная с проседью борода, волосы острижены под горшок, серая сатиновая рубаха навыпуск, подпоясанная тонким ремешком, под цвет рубахи — брюки, заправленные в войлочные чулки, обшитые снизу сукном; ровный голос, уверенные движения, кряжистая, могутная фигура.
— Значица, не хошь чаи распивать? Ну, как знашь, дело хозяйское. Вертолет поди-ка ожидашь? Жди, жди с моря погоды. Батька твой вертолетов этих никогда не ждал, на ноги свои надеялся, и — верней, надежней это было. Избаловался народ — вертолет имя подавай! Ишшо на ракетах скоро к избушкам своим подлетывать станете, вот уж тогда, истинно, светопреставление наступит. Когда вертолет-вертопрах обешшают?
— Да со дня на день обещают, но ясно уже — после ноябрьских праздников, раньше не дадут. — Павел все ждал, когда Лошкарев спросит у него, по какому делу он пришел, но старик не спрашивал и, как показалось Павлу, даже умышленно вел речь о постороннем.
— Зима ноне снежная будет: больно дружно лист опал, как ветром сдуло. Опять же охотнику то на руку — соболек, глядишь, на приманку охотней пойдет. Тебе сколь в план записал соболюшек?
— Двадцать.
— У-у, ну, энто ишшо не слишком, — спроворишь поди? Прошлой сезон, шшитай, половину охотников план не добрали, а ты перебрал. Вот и ноне спроворишь... Соболевка, она выгодней любого промыслу... На другом-то промысле бегашь, бегашь, всю холку котомкой собьешь, а как деньги шшитать зачнешь, так и нету их! Кот наплакал! Ишшо и попрекнут: пошто радел плохо?! Не-ет, соболевка, Павел, скажу я тебе — куды с добром!
Павел уже понял, что Лошкарев догадался о причине его прихода и теперь старается оттянуть предстоящий разговор или вовсе обойти его.
— На соболевке сам себе хозяин: хочешь — седни вышел на путик, хочешь — завтра, никто не указ... Ты, Павлуха, само главно, до Нового году старайся большую половину плана спроворить, а потом легше пойдет...
— Савелий Макарович! Я слышал: вы лицензии на двух тигров получили!
Замер напильник в руках старика, смолкла и пила. Вопрошающе глянул Лошкарев на сына, но тот, нахмурившись, опустил глаза, поднял с полу кусок брезента и принялся что-то сосредоточенно кроить из него. Мгновенно перехватив этот безмолвный разговор отца с сыном, Павел внутренне напрягся, ожидая отказа, но все еще поддерживая в себе едва-едва мерцающую искорку надежды. «Вжик! Вжик! Вжик!» — вновь заскрежетал напильник. «Тиу! Тиу! Тиу!» — звонко откликнулась пила.
— Получили, Павлуха, две лицензии, это верно, будь они неладны! Не ко времени... Тут бы на соболевку ладиться, а тут лицензии эти, канителься теперь с имя... Соболюшек ловить куды спокойней да выгодней... Ты ноне не слыхал, как будут соболя принимать — по новым ценам аль по старым ишшо?
— Савелий Макарович! Вы меня нынче обещали взять с собой на отлов...
— Вот уж какие напильники теперь делают... — Лошкарев сокрушенно покачал головой, разглядывая напильник. — Ишшо и полпилы не выправил, а напильник уже истерся весь. Раньше, бывало, на пальцах мозоли кровяны, а напильник как новой...
— Ну так как же, Савелий Макарович? Возьмите меня на отлов. Я вам в тягость не буду, вот увидите, и денежного пая мне не нужно, я просто так ходить буду с вами. Мне только посмотреть. Возьмите, Савелий Макарович, а? Ей-богу — не пожелеете. Вы же обещали...
— Экой ты, Павлуха, неугомонный, — то ли одобрительно, то ли с досадой сказал Лошкарев. — Оно-то верно — обешшал, ну дак вишь — осечка, стало быть, произошла... Евтей грозился не пойти за тигрой, а нынче вот опять надумал, стало быть, бригада в полном собрании.
— Но я же, Савелий Макарович, ни на деньги, ни на что другое не претендую. Буду делать для вас все, что скажете! Я же не помешаю вам.
— Ну, так-то оно так, конешно... — Лошкарев рассеянно погладил бороду, о чем-то размышляя. — Так-то оно так, но тут ишшо разны други закавыки. — Лошкарев вновь посмотрел на сына, и во взгляде его, и в тоне его голоса была растерянность и колеблющиеся нотки. — Слышь-ка, Николай, может, того... Больно парень-то надежен — куды с добром... Опять же, ишшо всяко разны препятствия. Пошто молчишь-то, как думашь?
— А чего тут говорить? — Николай осуждающе посмотрел на отца. — Ты, отец, как ребенок! Ну куда мы денем его? — Он пренебрежительно кивнул на Павла. — Надежный, хороший парень, ну так что из этого? Мало ли к тебе надежных да хороших напрашивалось, и что из этого получалось? Вспомни-ка! — Он проговорил это сердито, почти зло и, спохватившись, резко осадил голос, примиряюще обратился к покрасневшему от смущения Павлу: — А ты, Павел, не обижайся. Ты одно пойми: не можем мы тебя взять, даже если бы захотели — тут много всяких «но». Вот представь себе, что одно ведро воды понесут три человека — это же, согласись, неудобно! Так же и тут. У нас все отлажено, у каждого свои обязанности. Нас три человека, четвертый тот, кто найдет след тигрицы с тигрятами. По традиции мы обязаны этому человеку либо полсотни рублей за след заплатить, либо, если он пожелает, взять его на равных паях на отлов.
— Мне не нужно никакого пая...
— Ну вот, опять ты заладил свое, — поморщился Николай. — Ты подумай: ночевать впятером — и то чрезвычайно плохо. Нодья четыре метра длиной, с каждой стороны огня по два человека спят, а пятому спать уже негде. Значит, надо не четырехметровую кедрину пилить, а уже шестиметровую. И так далее.
— Но я могу отдельно от вас, у своего костра ночевать, я ничем не стесню вашу бригаду.
— Ты, Павел, тоже, как ребенок, рассуждаешь! — вновь загорячился Николай, и румяное холеное лицо его сделалось строгим, как у судьи. — Не можем мы тебя взять! Не мо-жем! Понимаешь? Найдешь след тигрят — пожалуйста, участвуй в отлове, нет следа — и разговора нет!
— Так, значит, не берете, Савелий Макарович? — униженно, тихо обратился Павел к Лошкареву, поднимаясь со скамьи.
— Так уж, стало быть, выходит, Павлуха, — неуверенно закивал Лошкарев. — Да ты не жалкуй этот отлов, едрена-корень, канитель одна... У тебя ишшо все в будушшем. Кто знат, как дело повернет... — Он хотел еще что-то сказать утешительное, но осекся под сердитым взглядом сына.
— Ну хорошо, нельзя — значит, нельзя, — упавшим голосом сказал Павел, подвигаясь к двери и собираясь выйти вон, но у порога, сам не ожидая этого, он вдруг спокойным убежденным тоном заявил: — Вы меня не берете на отлов — это, конечно, ваше законное право. Но у вас нет права запретить мне ходить по вашим следам. Вы пойдете на отлов, а я пойду по вашему следу. Вы будете ночевать у нодьи, а я в двадцати метрax сделаю свою нодью. Все равно я увижу по следам, как вы тигров ловите. Так что, Николай Савельевич, останемся с вами каждый при своих интересах. — Павел насмешливо посмотрел на Николая.
— Ну, знаешь ли... Это хуже мальчишества, — растерялся Николай и даже глухой ворот свитера оттянул двумя пальцами от горла. — Это совершенно бессмысленно и глупо. Да и не хватит у тебя на это духу, не так просто все это, как ты представляешь. Слышь, отец, посмотри-ка на него, таких просителей, по-моему, у тебя еще не было. Молодой, да ранний, и к тому же настырен не в меру. Пропадешь в тайге, замерзнешь у своего костра-то. Скажи ты ему, отец...
— Ты погоди, Николай, — хмуро остановил сына Лошкарев. — Не распаляй парня, я его с пеленков знаю. Ты-то по городам все учился да жил, а он-то, не как ты, от батьки не откалывался, везде с батькой, а батько его таежник был — не чета многим, да и мне за им не тягаться было. А Павлик-то ишшо сам меньше ружья был, а уж пушнину в дом волок. Под кедрой да выворотом спать ему не впервой поди.
— Ну так ты, что, оправдываешь его затею, что ли?
— Не про затею я сказ веду, а про то, что зря распаляешь ты его. Охолонуть бы надо парня, а ты распаляешь.
— Да чем же я его распаляю? Сам ты его распаляешь, всякие авансы ему выписываешь, кисель-патоку разводишь!
«Кажется, уходить мне пора», — подумал Павел и, с искренней почтительностью попрощавшись со старым Лошкаревым, а Николаю только слегка кивнув, вышел из избы.
* * *
Если верить слухам, тигрица с двумя тигрятами должна была обитать в верховьях реки Большой Уссурки, около села Мельничного. Туда и выехал Савелий Лошкарев с бригадой. Никто из жителей Мельничного следа тигрицы не видел, но многие божились, что тигрица живет именно у ключа Благодатного. Жители Мельничного — народ таежный: лесники да охотники, зря говорить не станут если говорят — значит, есть к тому повод. Во всяком случае, проверить слухи надо было. До Благодатного два дня пути. Закупив в магазине продукты, ранним морозным утром трое тигроловов, перейдя через Уссурку по подвесному мосту, канули в лесные дебри. Спустя два часа по этому же мосту с котомкой и ружьем за плечами прошел еще один человек. Шел он, низко опустив голову, внимательно рассматривая следы, то и дело приостанавливаясь, прислушиваясь.
* * *
Двадцать километров — расстояние пустячное, если идешь по ровному чистому месту да налегке, но с тяжелой котомкой, да с увесистым, как железный лом, карабином на шее, да с собакой на поводке, которая то и дело цепляется за кусты и сучки, да если еще путь лежит сквозь густой уремный лес, через валежины в пояс высотой, сквозь заросли колючей аралии, а по-местному «держидерева», через хаотические нагромождения спиленных и полусгнивших деревьев на старых леспромхозовских делянах, которые теперь в уссурийской тайге повсюду, — двадцать километров покажутся расстоянием трудным и долгим, а для человека, непривычного к ходьбе, — и вовсе изнурительной пыткой.
Середина ноября в отрогах Сихотэ-Алиня — пора, самая благодатная для охотника: и морозцы небольшие по ночам, а днем и вовсе ростепель, и снег неглубок. На снегу каждый след отпечатан, словно строчка в книге. Если азбуку лесную знаешь — любую звериную роспись прочтешь. Но прочесть нетрудно — тяжко вышагать от верхней строки до нижней с утра и до вечера. Еще трудней осилить ночь — перевернуть страницу на другую сторону, на другой день. В хорошем зимовье ночь проспать — одно удовольствие, в палатке — неуютно, но терпимо, а у костра в зимней тайге — маета! Штабель дров сожжешь, всю ночь проканителишься, сквозь дремоту то зябко придвигаясь к костру, когда он угаснет, то, опасаясь сгореть, отодвигаешься от него, когда он разгорится от новой охапки дров, и все крутишься, крутишься с боку на бок, подставляя огню то спину, то грудь, сонно удивляясь тому, как бесконечно долго тянется ночь.
Что и говорить, у костра не разоспишься. «А коль не поспишь ладом, то и не поработаешь добром», — так говорят охотники в здешних местах. Только сибирская нодья, или, как ее ласково еще называют, — «Надюша», может в зимнюю стужу по-настоящему согреть охотника и дать ему возможность сравнительно спокойно выспаться и отдохнуть.
Сделать и зажечь нодью непросто, для этого нужен ровный сухой кедр с плотной, без гнили, сердцевиной и без сучков в нижней части ствола, а толщина ствола должна быть определенной — не больше полного обхвата. Трудно найти такой кедр. Время табор делать, но на пути попадаются то кривые кедры, то гнилые, то с иным каким изъяном. У такой нодьи не только не выспишься, но и замерзнешь. Наконец подходящий для нодьи кедр найден и спилен, разделен на два четырехметровых балана — это если вас четверо, а если один или двое вас, то хватит и двухметровых отрезков, которые вы потом, вытащив на ровную площадку, накатываете один на другой стенкой. Затем подпираете стенку с торцов длинными кольями; чтобы верхнее бревно не свалилось, втыкаете в паз между бревнами с той и другой стороны множество смолистых лучин и щепочек; поджигаете все их разом, и, пока они разгораются, пока обхватывают широким ровным пламенем всю оболонь верхнего бревна, вы тем временем расчищаете с той и с другой стороны нодьи снег, устанавливаете в трех шагах от огня стенку-экран из ветвей или куска брезента, огораживаете нодью со всех четырех сторон всяким подручным материалом: валежником, снежной нагребью; затем толсто устилаете еловыми ветками то место, где будете спать — вдоль нодьи, между огнем и экраном, и лишь после этого можете приступать к приготовлению ужина и вновь заняться нодьей, которая за те час-полтора, которые вы потратили на устройство табора, только-только стала выбрасывать из-под верхнего бревна ровные и устойчивые языки огня, способные освещать, но не греть. Да вам пока это и не нужно — вы еще не остыли от работы, а когда остынете, к тому времени и нодья разгорится в треть силы своей, достаточной, чтобы согреть озябшего человека. Ужинать вы уже сможете снявши обувь, в одних войлочных чулках и даже, быть может, снимете с себя и охотничью куртку, сшитую из грубого шинельного сукна, а коль это произойдет — значит, кедр для нодьи выбран удачно, и есть полная уверенность в том, что к полуночи, когда обгорит вся оболонь и бревна плотно прилягут одно к другому, вы, развесив вдоль экрана обувь, портянки и рукавицы, будете спать в тепле и спокойствии. Нодья горит ровным жарким пламенем часов десять. Правда, снизу, от мерзлой земли, сквозь мерзлые ветки в бок тянет холодом и время от времени на вас наползает едкий дым или падает отскочивший от нодьи уголек, не исключается, что может упасть и все полыхающее раскаленное жаром верхнее бревно, но ведь существует инстинкт самосохранения, и, подчиняясь ему, вы невольно, даже во сне, придвигаетесь на всякий случай ближе к экрану. На остальные же мелочи ваше уставшее тело просто не обращает никакого внимания. Спать! Спать! Спать! И, подчиняясь этой необходимости, вы спите, как зверь — вполуха и вполглаза. Иначе в тайге и не спят.
* * *
Проснулся Савелий Лошкарев задолго до рассвета: не спалось ему что-то, хотя нодья горела ровно и жарко, а в черном небе сквозь ветви елок, освещенных снизу трепетным огнем, проглядывали чистые яркие звезды, обещающие погожий день.
Неспокойно было у Савелия на душе, будто бы не по-людски этот нынешний, тридцатый по счету, сезон начался. Тридцать восемь тигров поймано за эти годы. Хорошо помнил Савелий, как ловил он своего первого тигра вместе с отцом и дедом, — что и говорить, волновался — зуб на зуб не попадал, и потом было много всяких волнений-приключений, иные эпизоды нет-нет да и явятся во сне, заставляя вздрагивать и сжиматься. Да, разное было, но вот такого смятенного состояния в душе, как нынче, Савелий, пожалуй, не упомнит. Отчего бы это? Неужто предчувствие? Неужто оттого, что идет Савелий ловить сорокового — рокового — тигра? Да нет же, не верит он в сороковое число. Ведь был же и сороковой медведь, и сороковой секач-кабан — пустое все это!
Савелий тихо встал, надел заиндевелую с одного бока шинель, с трудом натянул на ноги поверх войлочных чулок пересохшие, из сохатиной кожи улы, набрал в кастрюлю и чайник снегу и, поставив их на верхнее, уже наполовину сгоревшее бревно, стал ждать, когда снег растает и можно будет заняться приготовлением завтрака. Собаки Амур и Барсик, лежавшие метрах в четырех от полыхающей нодьи, вдруг подняли головы, навострили уши и, принюхиваясь, стали смотреть в ту сторону, откуда вчера пришли сюда. Савелий прислушался и сидел так в напряженной позе до тех пор, пока собаки не успокоились.
«Наверно, изюбр ходит, или чушки — табун, видать, рядом где-то стоит, вся пойма перетоптана. Табун большой, надо бы проверить, не пасет ли его тигрица. — Савелий попытался думать, где и как искать тигрицу, но мысли разбегались, как мураши от дымной головни. — Головня и есть я, — подумал Савелий. — Тридцать лет бегал за тиграми, ну еще два-три года побегаю, а дальше что? Кому передам свое ремесло? — Савелий посмотрел через пламя на спящего по ту сторону младшего брата своего Евтея. — Евтейка, хоть и младше, да уже и сейчас, вишь, каку сивую бороду отрастил — седой как лунь. — Савелий повернул лицо свое на сына, спящего на одной с ним стороне. — Николаю тоже, как я уйду, не продолжать мое ремесло. Здоровый мужик, умишком не обижен, но таежник плохой, бегает за отцом, как щенок на поводке. Тут бы надо человека наскрозь таежного, наскрозь зараженного тигроловством, да ведь нету такого человека — нету!»
Савелий с упреком посмотрел на спящего спиной к огню сына, заботливо накинул ему на ноги пустой рогожный мешок.
Из пятерых своих сыновей Савелий Лошкарев особенно отличал старшего, Николая, и не столько за то, что Николай вот уже десятый сезон помогает ему отлавливать тигров, сколько за то, что детство у мальчишки было самое трудное, но, несмотря на это, он все-таки выбился в люди, закончил институт и стал главным инженером хотя и небольшого, но очень важного предприятия — рембыттехники!.. Правда, и остальные сыновья, кроме младшего, служившего еще в армии, тоже все закончили институты: один стал учителем, другой геологом, третий прорабом, но эти их должности Савелий воспринимал как должное, гордился, конечно, радовался по-отечески, а вот истинной, большой гордости — не было. А Николаем гордился истинно, с трепетом и даже чуть-чуть побаивался его. Вероятно, эта боязнь и трепет появились с той поры, когда Савелий побывал в гостях у сына в его роскошной квартире, проехался с ним на его служебной машине по городу, а затем по территории предприятия.
— Ну как, отец, видал мое хозяйство? — спросил тогда Николай не без гордости.
— Ишшо бы не видать! И неужто все тут тебе подчинено?
— Все, все, отец, только директор выше меня. Ну да плох тот инженер, который не мечтает быть директором...
«Вот он каков, старший сын Лошкарева Савелия! И как тут не гордиться... Но, с другой стороны, и досадно иногда бывает — ведь ни один из сынов не пошел по отцовской дорожке. Брезгуют охотничьим ремеслом? Зазорным его считают? Наверно, так и есть — зазорным считают, как дворницкую профессию. Но побаловаться охотой не прочь, и охотничьими трофеями не гнушаются. Как же могут тогда они с презрением смотреть на мою дорожку? Почему Павел Калугин охотно пошел по отцовской дорожке? А мои сыновья побрезговали? Разве Павел дурней моего Николая? Да нет же! Ни в чем Павел не уступит Николаю...»
Закипела вода в кастрюле. Лошкарев встрепенулся, высыпал в кастрюлю три пачки концентрированного супа, затем изрезал соломкой кусок колбасы и бросил туда же. «Пора, однако, будить ребят».
— Эй, барсуки! Ну-ко вставайте! Ишшо не выспались, нежутся, понимашь, как девицы красны. Тигра поди всю тропу истоптала нашу — маракует, как бы собак половчей уташшить, — тигроловы!
Едва обтерев снегом закопченные смолистым кедровым дымом лица и утершись, кто полой шинели, кто рукавом, а кто и тыльной стороной рукавицы, мужики принялись торопливо завтракать. Собаки, которым было брошено по четвертушке хлеба, проглотив каждая свою порцию, смотрели не на своих жующих хозяев, а в низовья поймы. Рыжий Амур даже цепочку натянул: уж очень там внизу что-то интересное происходит!
— А может, тигрицу почуяли? — сказал Николай, вопросительно поглядывая на отца.
— Кто его знает, племяш, — вместо Савелия ответил Евтей, споласкивая миску чаем и пряча ее в мешок. — Может, и в самом деле она шастает, чо зря гадать. Ежлив она, дак куда ей деться, все одно след ее пересекем да выясним, а ежлив не она, так, значит, не она...
— Очень вразумительно вы мне, дядюшка, все объяснили, — усмехнулся Николай, подставляя Евтею свою кружку, и передразнил: — «Ежлив она — значит, она, ежлив не она — значит, не она».
Молча наполнив племянникову кружку чаем и не ответив на его усмешку, Евтей повернул к брату грубое лицо, заросшее почти до самых глаз седой бородой.
— А что, Савелко, как думашь, ежлив мы пойдем к Благодатному не поймой, а через Ишимовскую седловину, не лучше ли обернется дело? Может, там, на кедровых-то носках, свиноты поболе, глядишь, и следок ее подсекем между делом. Кедровые носки перережем, и сразу картина ясная: ежлив тут она — значит, тут... — Евтей на полуслове осекся; его глубоко посаженные, маленькие карие глаза сердито покосились на племянника.
— Дельно сказал, Евтеюшко, дельно, — охотно согласился Савелий. — Оно, правда, дольше идти, днем позже придем, так зато все носки и ключики перережем, авось и встренем, где след ее.
Собаки опять забеспокоились, смотрели по-прежнему все в одну и ту же сторону. Высказав по этому поводу несколько предположений, тигроловы, напившись чаю, торопливо засобирались в путь. Уже рассвело, но солнце еще пряталось где-то далеко за сопками, и снег казался чисто-голубым, без теней, а тайга стояла вокруг темная, неуютная и молчаливая, точно в тяжком каком-то раздумье, и не хотелось людям уходить от жарко и приветливо полыхающей нодьи, от угретого приютного места, ставшего за одну ночь словно бы частичкой родного дома.
* * *
Павел ушел от своей нодьи на восходе солнца. Шел он неторопливо, ведь спешить ему было некуда: главное для него сейчас — соблюдать дистанцию, не приближаться к тигроловам на такое расстояние, чтобы они услышали его, но слишком и не отставать от них. Он понимал, что соблюсти необходимую дистанцию ему при всем старании не удастся, рано или поздно тигроловы услышат и увидят его, но хотелось, чтобы это случилось как можно позже. Нет, он вовсе не опасался того, что тигроловы, обнаружив преследователя, попытаются прогнать его: они уже не смогут ни прогнать его, ни помешать ему. Другое смущало Павла: он боялся увидеть на лицах тигроловов презрение и насмешку. «Да и в самом деле — не смешон ли ты, Павел Калугин? Не похож ли ты сейчас на упрямого мальчишку, и прилично ли выглядит то, что ты совершаешь?» Так, терзаясь сомнениями, то стыдясь, то оправдывая себя, Павел между тем шагал и шагал по следам тигроловов, а следы их то вонзались в густые заросли молодого пихтарника, то петляли среди могучих кедров, то ложились светлой извилистой строчкой на белые прямые ленты старых тракторных волоков, уже успевших зарасти двухметровой березовой и осиновой порослью. На старых вырубках лес был либо совсем молодой, либо перестойный, и почти нигде не виднелась тут пышная светло-зеленая шевелюра кедра, и, быть может, потому этот редкий, насквозь просматривающийся лес казался Павлу жалким и сиротливым; иные деревья напоминали ему покосившиеся телеграфные столбы, опутанные клубками ржавой колючей проволоки. Правда, было здесь просторно и светло, но это не прельщало ни зверя, ни птицу: неуютно они себя чувствовали на этом участке земли, с которого как будто бы гигантский динозавр объел сочные и живительные ростки, а остальное, что похуже, безжалостно повытоптал. Неуютным, промозглым сквознячком тянуло здесь отовсюду; только один изюбр охотно посещает старые поруба, лакомясь молодыми стеблями колючей аралии, прикосновение к шипам которой вызывает у человека жгучую боль. Из птиц же чаще всех прилетали на вырубки дятлы, деловитый перестук их слышался тут почти непрерывно, от восхода солнца и до заката. Не зря, не зря прилетают сюда дятлы-доктора и стучат, стучат, стучат...
Иное дело, когда следы тигроловов выводили Павла в чистый парковый кедрач, уж тут не заскучаешь! Весь снег под кедрами изрыт кабаньими рылами. Здесь и лежки изюбров, и изящный росчерк косульего следа, и след белогрудого медведя, и поверх всего от кедра к кедру — беличьи тропки, там и сям перестроченные поперек парными следами колонка. Всюду на снегу золотыми чешуйками рассыпана ореховая шелуха. Щедро уродил нынче кедр, и столь же щедро разбрасывает он урожай — бери, хватай, кто может, никому не запрещено! Могучими, в два обхвата, серыми колоннами уходят кедры ввысь и смыкаются там, в поднебесной лазури, светло-зеленым шумящим шатром. И там, вверху, тоже веселье, великий пир и птичий гвалт: радостно и возбужденно скрипят кедровки; нежными, едва слышными трелями перекликаются кукши; тут же перепархивают рыжие сойки и разноцветные парочки клестов; вездесущие черноголовые синицы мельтешат в нижних ветвях кедра, что-то там выискивая; тут же около них вниз и вверх по стволу деловито бегает, шурша коготками о кору, юркий проныра поползень. Там и сям на освещенных солнцем красновато-серых стволах, как янтарные бусины, ярко горят капли застывшей смолы, и тонкий, подмороженный запах ее, смешиваясь с запахом хвои, при вдохе проникает не только в легкие, но, кажется, растекается по всему телу, наполняя каждую клеточку его, каждую жилку мягкой бодрящей силой, и хочется ненасытно дышать и дышать этим чистым воздухом и вечно жить.
Приятно было идти и по смешанному лесу среди стройных ясеней, приземистых корявых дубов, кряжистых корявых лип, среди которых, как пастухи над стадом в зеленых бурках, возвышались вековые ели. Зверья и птиц здесь было меньше, чем в кедраче.
Вот и старый горельник, на нем теперь веселый хоровод стройных березок. Вошел в него — точно в белую карусель попал!
Легко и весело идти по чистому, освещенному солнцем березняку! Этот березнячок чем-то напоминал Павлу улыбку русоволосой голубоглазой девчонки.
Но вот за березняком стеной вздыбился перестойный темный пихтач. В глубину тихого пихтового леса лишь редкими узкими серебряными клинками пробиваются солнечные лучи. Вроде бы все здесь безжизненно, но это только кажется. В тишине леса ощущается величайшее напряжение каких-то таинственных струн. Они натянуты и настроены великим музыкантом и играют в общем таежном оркестре свою тихую, но внятную мелодию. Павел чувствовал и эту мелодию, и этот оркестр каждой клеточкой своего тела.
Трудно идти по перестойному пихтовому лесу. Снега здесь почти нет, весь он остался вверху — на ветвях. Ноги с хрустом погружаются в подмерзший мох. Путь преграждают упавшие стволы деревьев и огромные, похожие на вздыбленных сплющенных пауков, вывороченные корневища, обнажившие из-под тонкого слоя земли серую россыпь чистых, точно промытых, камней. Диву даешься, как могла громадная сорокаметровая пихта, распластав корневища, едва укрытые тончайшим слоем земли, простоять даже не десяток лет, а два-три столетия! Молчаливый гигантский пихтовый лес многие века стоит почти на голых камнях. И даже в этом зеленом мире, где вечно непримиримое жестокое соперничество каждого ростка за место под солнцем, деревья-великаны поддерживают друг друга. И в этой братской взаимопомощи их сила.
Растянулся пихтач, казалось, и края ему не будет.
Но трудно и непривычно ходить человеку в сумраке, гнетет его полумрак, гнетет тишина. Может быть, отвык он слушать тишину? В тишине слышней звуки собственных шагов, стук сердца, ход мыслей; тишина заставляет чаще озираться по сторонам и думать о прошлом, настоящем, будущем.
Павел терпеть не мог городского шума, любил посидеть в лесной тишине, послушать птиц, шум ветра в ветвях, журчание ручья, но вот такая тишина — тяжкая, напряженная — угнетала его. И потому, увидев впереди сквозь частокол пихтарника белые пятна и полосы солнечного света, Павел облегченно вздохнул и пошел бодрее.
Вырвавшись из пихтового леса, след тигроловов резко повернул к подножию сопки и круто потянулся вверх. Тут уж Павлу стало не до размышлений. Склон был крутой, и ноги то и дело соскальзывали. Котомка, не очень тяжелая, теперь с каждым шагом становилась все тяжелей, лямки врезались в плечи, сердце стучало гулкими толчками, отдаваясь в висках. На лбу выступил пот, стало жарко и душно, Павел расстегнул верхние пуговицы куртки, хотел и рукавицы снять, но, увидев впереди заросли колючего элеутерококка, натянул их на ладони поплотней. На середине сопки след тигроловов потянулся вдоль склона, перерезая мелкие распадки и ключики. В одном из распадков, на солнечной стороне его, Павел сел отдыхать, привалившись спиной к кедру. Следы тигроловов были совсем свежие, и Павел просидел около часа, пока не продрог. До вечера ему пришлось сделать еще две вынужденные остановки — слишком медленно шли тигроловы, обремененные собаками, грузом и, вероятно, какими-то своими заботами. Павел то и дело приближался к ним слишком близко. «Интересно, как это все выглядит со стороны? Люди заняты делом — работают, — терзался он. — А я крадусь за ними, как вор... Но разве я кому-то мешаю?»
* * *
Вторую нодью тигроловы выбрали неудачно, она разгоралась неохотно и долго, а разгоревшись, верхнее бревно никак не прилегало к нижнему плотно и равномерно. То с одного конца, то с другого получался большой зазор из-за сучков, на которых бревно зависало, как на железных штырях, и приходилось то и дело подваживать плохо горящее бревно и, чертыхаясь от дыма и жара, срубать топором крепкие сучки. Место оказалось неровное, с одной стороны нодьи бугор, с другой — яма и склон. Там, где бугор, будет жарко, а там, где яма, — холодно, зато и дым на бугор потянет — накашляешься вдоволь. Но лучшего сухого кедра не было поблизости, а идти дальше тигроловы не рискнули, впереди начиналось сплошное чернолесье, над которым не было ни одного кедра.
Наконец нодья разгорелась, и все было готово для ночлега. На подстилке из пихтовых веток стоит кастрюля с супом из сухих концентратов, булка хлеба, миски, две кружки. Стоя перед кастрюлей на коленях, Евтей третьей кружкой, как поварешкой, разливал по мискам суп. Николай, расстегнув куртку, нетерпеливо смотрел на медленные движения узловатых и заскорузлых Евтеевых рук. Савелий все еще благоустраивал табор — то подгребет снег ногой повыше к стенке экрана, то откинет в сторону торчащий из-под снега острый еловый сук, то воткнет наклонно к нодье длинный ореховый прут, на который удобно будет повесить на просушку портянки или рукавицы, то проверит — на месте ли стоят карабины, не набился ли в стволы снег и мусор.
— Хватит тебе, Савелко, топотить, — окликает брата Евтей. — Дай спокой ногам! Суп налил уже — остынет!
— Покой нам с тобой, Евтеюшка, на том свете представится, а тут мне что-то неохота, я ишшо побегать хочу. Однако поисть-то и правда бы не мешало — едой силу не вымоташь. — Савелий двинулся было к нодье, но в этот момент собаки вскочили и, сильно натянув цепочки, заскулили, принюхиваясь и направляя уши все в ту же сторону — на тропу. Они и днем нет-нет да и оглядывались назад. Вот уж сутки собаки ведут себя беспокойно. Может, и правда по пятам идет тигр? Но уж больно долго он любопытничает, да и непременно тигр показал бы свой след — вперед забежал, а этот только сзади идет, как медведь. Нет, видно, это не тигр, да и не медведь. Шатунам еще не время, снег мелкий, шишка вся наверху, сытная кормежка у медведя. А если не медведь и не тигр — тогда кто же? Савелий подошел к толстому ясеню, завернув шапку, подставил к дереву ухо, приоткрыл рот, чтобы лучше слышать, замер и тотчас услышал слабый стук топора. Лицо Савелия просияло.
— Ишь ты, шельмец! А я ишшо вчера, грешным делом, сомнение имел... Ну, ну, поглядим. — Савелий отстранился от дерева, с напускной строгостью прикрикнув на собак, вернулся к нодье.
— Ну, что там, Савелко, услышал?
— Да ниче не услышал. Тишина кругом да порядок. Собаки просто трусят, на домашние пирожки оглядываются. Да и свиноты кругом полно, всю сопку перевернули!
— Значится, говоришь, порядок? Ну и ладно, ешь давай, суп-то остыл, поди.
— Ты, отец, что-то заговариваться стал, — подозрительно поглядывая на отца, сказал Николай. — Где ты свиноту увидел? И какую это они сопку перевернули? Кабан да две чушки прошли по склону, а у него уж всю сопку перевернули. Не копытных собаки чуют, похоже, что зверь по нашей тропе идет. Может, медведь какой голодный привязался за нами да ждет подходящего случая?
— Кто его знает, может, и медведь, может, и ишшо кто... — пожал плечами Савелий, пряча усмешку в бороду, и с излишней торопливостью принялся крошить в миску с супом хлеб.
Евтей, покосившись на брата, тоже чему-то усмехнулся, но его усмешку невозможно было увидеть из-за густой бороды и усов. Только его большой и рыхлый нос покраснел и сморщился на мгновение да маленькие глазки под густыми бровями лукаво блеснули и тут же с серьезной озабоченностью глянули на Николая.
— Ты, племяш, нынче спать-то ложись поближе к огню, да карабин под бок положи... Так-то оно вернейше будет. Тигра, она сам знаешь какая прыткая, выберет чье мясо по-нежней — цап-царап! И — ходу. Нас-то она, стариков, не тронет — на што мы ей такие кудлатые да костлявые?
— А я, дядя Евтей, так и сделаю, — серьезно ответил Николай. — Если она придет и собаки залают, бабахну пару раз для собственного спокойствия, а вы уж не пугайтесь спросонья, предупреждаю заранее.
— Ты, Колька, не дури — сердито перебил Савелий. — Чтобы я таких речей не слышал. Забудь про карабин. Ты бабахнешь, а может, в соседнем распадке тигрица с тигрятами, нашумишь, и сорвутся они — гоняйся тогда за имя... Забыл уж, как гонялись возле Сибичей?
— Да я же пошутил, отец, — ты чего взъелся-то? — искренне удивился Николай и вновь подозрительно посмотрел на отца — таким сердитым он видел его редко. Николай отвык уже от подобного обращения и хорошо знал, что, если отец сердится, значит, случилось что-то важное. Он еще с детства усвоил, что в такие минуты, когда отец сердит, лучше ему не докучать. Поэтому Николай, еще раз с удивлением взглянув на отца, демонстративно замолчал. После чая он тотчас же улегся спать, выбрав высокую сторону, где и теплей, и... дыму больше.
Ночь прошла спокойно. И утром собаки уж не смотрели в сторону тропы.
«Видно, отстал зверь», — с облегчением подумал Николай.
«Знать, привыкли уже собачки к провожатому нашему», — удовлетворенно подумал Савелий, поглаживая бороду.
* * *
К вечеру второго дня тигроловы спустились в ключ Благодатный, нашли около устья брошенное, но еще годное для жилья зимовье и расположились в нем. Отсюда им предстояло искать тигрицу с тигрятами, следы которых в летнюю пору в одном из распадков видел кто-то из жителей Мельничного. Кроме того, и сами Лошкаревы отловили в этих местах два года тому назад одного, последнего у тигрицы детеныша — трехлетка весом сто десять килограммов. Тигрица, по расчетам Лошкаревых, если эти места не покинула, то еще в прошлом году должна была окотиться вновь и иметь теперь годовалых тигрят. Таких тигрят она старается водить как можно меньше и живет с ними на предельно малой территории — значит, найти их будет несложно. Да вот знать бы точно, что тигрица именно в этих местах, тут бы и камень с души долой, и никаких сомнений. Ищи и найдешь, рано или поздно — чего уж проще?

После ужина, когда Николай вышел из зимовья, Евтей тихим голосом спросил вдруг у брата:
— Савелко, а Савелко, что делать-то будем с Павлухой-то? У нодейки опять он мается — надо бы его сюда позвать, а?
— Да ты откуда узнал, что именно Павлуха идет?
— Откуда, откуда... В Мельничном видал его. А как собаки стали потом назад поглядывать, сразу и смекнул... Думал, отстанет вчера... Теперь уж до конца свою линию гнуть будет... Упрямый... Что делать-то, Савелко? Слыхал я краем уха, что с директором он из-за этого крепко столкнулся. Директор сказал: ежлив уйдешь на отлов — уволю и трудовую книжку замараю... Чего молчишь-то?
— А чо говорить? Я-то бы ничо, пушшай бы шел с нами. Да чо-то Николай не примат его никак. Надо бы ишшо с ним поговорить. — Савелий с опаской посмотрел на дверь и, понизив голос, добавил: — Теперь уж поздно, завтра утром спрошу, может, примет.
— Николай, Николай, — недовольно и громко проворчал Евтей. — Куга зеленая — вот кто твой Николай!
«Сам ты куга, — оскорбленно подумал Савелий. — Девок нарожал со своей Палагой, вот и завидуешь теперь». — Он и хотел так сказать Евтею, но вошел Николай, и братья, оба недовольные друг другом, принялись застилать нары пихтовыми ветками, «хозяйским» одеялом, изъеденным мышами и пахнущим прелью, разным тряпьем, в таежных условиях имеющим значение настоящей роскоши. Экономя свечку, спать легли рано. Избушка была, хотя и тесная, низенькая, но теплая. В печке монотонно шипели, потрескивая, толстые сырые поленья ясеня — «долгоиграющие пластины», как их называл Евтей. Сырые ясеневые поленья, действительно, очень долго горят в наглухо закрытой, без поддувала, печке — с торцов полена вода течет, шипит, пузырится, а снизу жар ровный, неподступный — хоть чугун расплавляй. Часов до двух горят такие «долгоиграющие пластины», а там еще одну топку подбросил в печь — вот и ночь прошла.
Проснулись тигроловы задолго до рассвета. Во время завтрака Савелий неуверенным голосом сказал, обращаясь к Николаю:
— Маракую, что не тигра и не медведь за нами ходит...
Николай резко отставил кружку с чаем, подозрительно уставился на отца.
— Павлуха Калугин идет за нами. Нодья его в ближнем распадочке, там, где кедрины сухие кучкой стояли...
— Ты что, отец, шутишь?
— Пошто шучу? Верно слово! Да ты выходил-то сейчас, неужто дым нодейный не чуял? Ветерок как раз оттуда тянет, вот и напахиват дымком...
— Так, значит, он все-таки нахальством решил добиться своего... Вот что, отец, — глаза Николая недобро сузились, круглое лицо его, теперь уже не розовощекое, а серое от выросшей щетины и копоти, сделалось начальственно строгим, — ты, я вижу, по-прежнему либеральничать хочешь с этим хамствующим молодым человеком?
— Какое либеральство? Ты что? — Савелий даже испуганно оглянулся на дверь. — Что ты такое несешь на отца родного, а? Говори, да не тово... Ишшо чего удумал! И Павлуху хамом тоже зря обзывашь — он охотник-промысловик и к делу своему тянется, к своей сошке, испытать себя хочет парень. Может, толк с человека выйдет! Правду, нет, я говорю, Евтей?
Евтей, пощипывая бороду, хмуро молчал, спрятав глазки под нависшими бровями, и нельзя было понять, на кого он смотрит. Он точно ушел в себя и слухом, и зрением — так бывает с ним, когда Евтей очень на что-то негодует, но изо всех сил старается этого не выказать.
«Как бы скандал не затеялся, — забеспокоился Савелий и в следующее мгновение уже пожалел о том, что начал разговор. Подумал с неприязнью о Калугине: — И в самом деле, ишшо из-за него раздору не хватало», — а вслух сказал примиряюще:
— Ты, Николай, не кипятись, ишшо молодой... а надо все тихо-мирно да полюбовно порешить.
— Ты бригадир — ты и решай! — раздраженно перебил Николай. — Развел кисель — теперь расхлебывай. А мое слово такое — всякому хамству надо давать отпор! Он думает, что хамством можно достичь всего. Он думает, что приятно и нужно ему — то непременно доставит пользу и удовольствие обществу, для меня, например. А я терпеть не могу таких хамоватых людей! И имей в виду, отец, если вы с Евтеем примете его в бригаду, тогда я уйду из бригады! И все, все на этом!
— Ну нет, так нет, пошто осерчал-то? Я ж к тому и вел разговор, чтобы все обсудить... — Савелий заискивающе посмотрел на Николая и Евтея.
— Ну вот, и давно бы так, — удовлетворенно кивнул Николай, вновь принимаясь за прерванное так некстати чаепитие.
Евтей, насупившись, молчал, опустив глаза на свои тяжелые ладони, беспокойно ерзающие по застеленному газетой столу. Это его движение не предвещало ничего хорошего. Савелий поморщился: «Быть раздору!»
Но Евтей не стал ни спорить с Николаем, ни убеждать его, только сказал глуховато:
— Высоконько ты взлетел, племяш, а голова-то слаба на высоту, оттого и сердечко уменьшилось, из души к горлу подошло...
— Это, уважаемый дядюшка, сплошная ваша демагогия, — невозмутимо возразил Николай. — Куда я взлетел — это мое личное дело. Как говорится: «Всяк сверчок знай свой шесток».
— Ну, конечно, тебе, сверчку, со своего шестка сподручней смотреть на нас, серых, неотесанных мужиков, да только не забывайся, кто поднял тебя на шесток-то. Сверчок — не орел, да и орлы от земли далеко не отрываются.
— Ну вот и ладно, ладно, ребятки, — засуетился Савелий, довольный тем, что скандала не произошло. — Вот уж скоро рассветет, давайте-ка побыстрей собираться. Собак-то с собой брать незачем, оставим их тут. Я думаю, начнем искать с ближних ключей: я с Николаем пойду в левый ключ, вывершим его до водораздела и спустимся в Батехин распадок, а ты, Евтеюшко, правый ключ обследуй, сколько духу хватит, подымись по ём. Потом исподволь и до верхних ключей доберемся. Все одно, если она тут — никуда не денется от нас, найдем ее след, лишь бы погода постояла. — И, опасаясь, что разговор опять повернется на нежелательную тему, стал торопливо одеваться.
Вышли тигроловы из зимовья на рассвете. Евтей не торопился. Он долго без нужды строгал ножом палку-посох, затем, вынув из карабина затвор, протер его полой куртки, и, лишь когда скрылись из виду Савелий и Николай, он вдруг, словно бы спохватившись, закинул за спину рюкзачок с топориком и снедью, торопливо зашагал к сопкам, но не к устью ключа, в котором должен был идти, а гораздо левей, к тому распадку, откуда тянуло нодейным дымом.
* * *
Четыре сухих ровных кедра Павел Калугин увидел сразу. Рядом с кедрами стоял молодой пихтач, и тут же лежал выворот. Лучшего места для нодьи и не придумаешь. Но по времени было еще слишком рано делать нодью, и Павел не без сожаления прошел мимо этого идеального для ночевки места. Однако, пройдя с полкилометра, он заметил несколько старых пней ровно такой толщины, какая обычно требуется для строительства избушек. Он пошел медленней, и тут на него пахнуло дымком, и сразу сквозь ельник он разглядел избушку. От неожиданности Павел даже вздрогнул, затем, пригнувшись, попятился, развернулся и быстро, беспокойно оглядываясь, зашагал назад к четырем кедрам, радуясь тому, что ушел от избушки незамеченным и что недалеко от нее, словно по заказу, есть такое отличное место, на котором можно простоять, как минимум, четыре дня. А в том, что придется здесь стоять не меньше четырех дней, Павел не сомневался. Наверняка тигроловы сделали избушку своей базой, откуда и начнут поиски тигриных следов, значит, табор надо устраивать основательный.
Срубив сухой кедр и распилив его на два бревна, Павел подтянул их к вывороту, сделал нодью и зажег ее. Затем он нарубил хворосту и тонких сушин и развел между нодьей и выворотом огромный костер. Когда земля прогрелась под костром и перестала парить, он разбросал горящие головешки, а мелкий жар разгреб и тщательно затоптал, на это черное пепелище настелил затем пихтовые ветки, соорудил над постелью каркас из жердей и рогатин, который сверху и с боков обтянул целлофановой пленкой, и получилась как бы ниша, основанием и третьей стеной для которой служил выворотень. Табор получился уютный.
После ужина, укладываясь спать, Павел решил, что завтра прежде всего пойдет к избушке и узнает точно о намерениях тигроловов: если собаки останутся у избушки, а мужики уйдут без них — значит, ушли они не на отлов, а пока всего лишь на поиски следов или на разведку. Если же собак возле избушки не окажется — значит, тигроловы либо отправились по маршруту дальше, либо собираются уже отлавливать тигрят, и в этом случае надо бросать нодью и следовать за ними. Но, если тигроловы ушли на поиски, что же делать в этом случае ему? «Сидеть целый день около нодьи и ждать? А не пойти ли на поиски следов? Возьму хотя бы вон тот ближний ключ, который виднеется меж сопок, вывершу его, пройду по водоразделу и спущусь по распадку прямо к нодье. А вдруг и повезет, найду след тигрицы и тогда уже на законных основаниях буду участвовать в отлове...»
Эта мысль показалась Павлу просто прекрасной, и он тут же с нею заснул чутким сном. Нодья горела хорошо и ровно, но все равно раза три или четыре он просыпался и поправлял ее палкой-шуровкой. Лишь под самое утро, как всегда, одолел его настоящий сон. Он спал, как дитя, безмятежно и крепко, но длилось это, как ему показалось, не дольше мгновения. Опять слышит Павел за своей спиной гудение и потрескивание пламени, чует парной запах хвойной подстилки, смешанный с запахом золы и оттаявшей земли, ощущает всем существом тепло огня и дальше за ним непостижимую и пугающую беспредельность холодного звездного мира. И вдруг в этом мире словно что-то сдвинулось и нависло какой-то неясной угрозой. Павел вздрогнул, как от толчка, и, все еще находясь на грани сна и яви, охваченный безотчетной тревогой, вскочил на колени, открыл глаза и, увидев в двух шагах от нодьи что-то высокое и темное, выбросил руку к лежащему на подстилке ружью, но уже в следующее мгновение отдернул ее: перед ним, навалившись грудью на палку, стоял и улыбался Евтей Лошкарев.
— Чо, Павелко, испужал я тебя? Хотел ружье у тебя выкрасть да уйти с ним, а ты всполошился; уж я тихонечко старался. Как услышал-то меня? Чо молчишь? Не ждал гостей?.. А я вот пришел, угощай старика леденцами да пряниками. — Евтей снял карабин и приставил его к валежине, протянув изумленному и напряженно молчавшему Павлу руку. — Ну, здравствуй, чо ли!
— Здравствуйте, Евтей Макарович. — Павел отодвинулся, освобождая гостю место и продолжая смотреть на него все с тем же беспокойством.
— Да ты, Павелко, не боись, я тебя не прогонять пришел. Куды ж тебя прогонять теперь? Ишь, как обстроился. — Евтей, задрав бороду, одобрительно осмотрел навес и углы. — Да, обосновался... В таком гайне и рожать можно. Ну дак чо, чаем-то поить будешь аль нет?
Ровный шутливый тон его голоса, улыбчиво поблескивающие глаза, спокойные уверенные движения убедили Павла в том, что пришел к нему Евтей действительно с добрыми намерениями. И Павел, внутренне расслабившись, принялся торопливо выкладывать из рюкзака на хвойную подстилку печеную домашнюю колбасу, сливочное масло, сахар, хлеб, сушеное мясо.
— Ого, сытно живешь! А много ли провианту запас?
— Дней на двадцать хватить должно.
— Смотри-ка ты! А у нас дней на десять всего. Ну, ладно, свои приедим — за твои примемся. Чай, поделишься с нами, коль придем занимать к тебе?
— Да уж придется, если хорошо попросите, — вяло пошутил Павел, наливая в Евтееву кружку чай. Он все еще посматривал на гостя с недоверием. «Что-то темнит Евтей Макарович, — думал он с тревогой. — Тянет резину, не знает, с какого конца начать, рубил бы уж сразу».
— Хорош у тебя чаек, Павелко! Лимонником отдает приятственно, люблю с лимонником. Сёдни рано проснулись, а чаю и попить как след не пришлось... Племянничек весь аппетит перебил... дышло ему в ноздрю!
«Ну вот, начинается, ближе к делу подходит. — Павел вновь напрягся. — Сейчас объявит...»
— Ну так вот, стало быть, тако дело... Плесни-ка еще полкружечки чайку... Савелко-то нынче утром пытался за тебя слово замолвить: дескать, принять бы надо Калугина. Да куды там! — Евтей презрительно сморщился. — Племяш и слышать не хочет, рыло на сторону завернул, как ровно ему дохлую ондатру к ноздре подсунули... Вот человек! А почему он тебя пустить к тигроловству боится, об этом я догадываюсь... Ну да бог с ним, однако, по-евонному — все одно не выйдет! Савелий-то и не прочь тебя принять, да он у Николая под каблуком давно. Как съездил к нему в город, а там у него в квартире-то паркет скрипучий, да хрустали с коврами, да машина, и чего-чего только нет! А тут еще и на работе у него побывал — ну и возгордился сынком, против его слова не может вымолвить. Вот и седня утром заегозил... — Евтей допил чай, спрятал кружку в карман рюкзачка, степенно обтер широкой ладонью усы, расправил седую бороду и, подумав немного, твердым голосом проговорил: — Да, не выйдет по-евонному! А ты, Павелко, от своего не отступай... Сдается мне, что у нас с племянником будет еще один разговор — покруче сёдняшнего. А пока эти дни поночуй еще у нодейки... — Евтей подмигнул взбодрившемуся Павлу. — Ишь, как пригрела она тебя — так разомлел, что и ружье чуть было не проспал. Гляди, другой раз украду — не услышишь. Ну дак чо, сидеть будем аль пойдем тигру искать?
— Зачем сидеть — надо искать, — заулыбался Павел, вскакивая и торопливо убирая с подстилки еду.
— Ишь ты, и здесь не сробел! Ну а куды искать-то собирался идти, ежели не секрет?
— Да куды? Ясное дело — начинать надо с ближних ключей. Вон в тот, правый, ключ собирался. — И Павел указал рукой в ту сторону, куда должен был идти Евтей.
Евтей удивленно хмыкнул, погладил бороду и вновь спросил тоном экзаменатора:
— А пошто именно в тот ключ? А пошто не в тот или не в этот? Они оба тоже ближние.
Павел, сообразив, что Евтей его экзаменует, улыбнулся:
— А в те ключи, Евтей Макарович, по-моему, смысла нет соваться. Они ведь вершинами своими подпирают к леспромхозовским делянам. Леспромхозовцы бы обязательно след увидели, и уже всему Мельничному про это известно было бы. В общем, те ключи только в крайнем случае проверить можно.
— Ну-ну, ладно, немножко варит котелок, — удовлетворенно кивнул Евтей, поднимаясь на ноги. — Пойдем тогда в твой ключ. Вдвоем-то нам легче будет его вывершить, то ты по целику пойдешь, то я — вот и весельше будет.
«Это уж точно, Евтей Макарович», — радостно подумал Павел и первый вышел на целик.
Устье ключа оказалось унылым, с широкой болотистой поймой, густо заросшей черемухой и ольхой. Но вскоре пойма сузилась, начался смешанный широколиственный лес, здесь в одном месте пойму пересекала кабанья тропа. Лошкарев прошел по тропе метров двести, внимательно разглядывая ее.
— Такие тропы, Павелко, не минуй, — поучал он. — Тигра, она любит по чушечьим тропам ходить. Пройдет по тропе, а за ней опять чушки все перетолкут — вот и нет помина от ее следа! А ты непременно, коль торную тропу встренешь, пройди-ка по ей до первой встречной валежины или пока тропа не разойдется. Чушки-то непременно валежину либо обойдут, либо перепрыгнут, либо под нее пролезут, а тигра, она, матушка, завсегда на эту валежину передние лапы поставит. Кошка — она и есть кошка, и все повадки у нее кошачьи.
До полудня следопыты обследовали еще одну чушечью тропу, пересекли три изюбриных следа и уже в самой вершине ключа увидели волчий след.
— Ну тут мы с тобой, Павелко, не найдем тигру, однако, — устало отирая рукавом потный лоб, проговорил с досадой Евтей и кивнул на волчий след. — Там, где тигрица живет, волк туда не сунется. Тигрица эту пакость непременно изничтожит, будет тропить волка, пока не задавит или пока не угонит его в другой район. У нас в поселке собака кошку гоняет, а здесь все наоборот: кошка собачью породу изничтожает. Но, однако, ключ-то мы все одно вывершим — всякое бывает. Чтобы потом не сомневаться, надо всегда до конца все проверять. Оставленные, недосмотренные закоулки потом спать тебе давать не будут, совесть твою будут грызть-подтачивать: «Ох, зря не проверил, а вдруг она, тигра, там-отка и осталась?» В нашем деле, Павелко, аккуратность требуется.
В вершине ключа тигриных следов не оказалось. С водораздельного хребта, сквозь кедровый лес просматривалась затянутая голубой дымкой долина Имана, а левей ее виднелась излучина ключа Благодатного, и над ней белый купол Арминской горы.
— Высоконько забрались мы с тобой, — удовлетворенно заметил Евтей. — Однако и время уже поджимает — придется трусцой поспешать.
Возвращались по левому отрогу — Евтей объяснил, что тигрица может и на отроге жить, если зверь есть, и в ключ не спустится: не захочет лишний раз выдавать себя.
К нодье спустились по крутому распадку уже в сумерках. Евтей попытался помочь Павлу разжечь нодью, но Павел категорически отказался.
— Ну сам, так сам, — добродушно согласился Евтей и пожаловался: — Чо-то сёдни притомился я по твоим следам ходить — больно бегашь ты по-молодому. Завтра я тебе отдам этот лом. — Он похлопал рукой по прикладу карабина. — И рюкзачишко тоже уступлю, а ружье свое оставишь, ни к чему оно — лишний груз.
— Я согласен, Евтей Макарович, не только карабин, но и вас самих на спине таскать.
— Ишь ты, искуситель какой! — довольно усмехнулся в бороду Евтей и шутливо пригрозил: — Да, смотри, не проспи завтра, а то украду ружье-то, ей-богу, украду! Ну, ладно, пойду-ка я. — И пошел, слегка сутулясь и косолапя, точно медведь.
Павел, прежде всегда недолюбливавший Евтея за его угрюмый характер и вид, теперь смотрел на его широкую сутулую спину с благоговением и надеждой.
* * *
— Ну как тамо-тко преследователь наш поживат? — встретил брата Савелий. — В отпуск идти не думат ишшо?
В зимовье было жарко натоплено, пахло свежезаваренным чаем и подгоревшим хлебом.
— А ты, я смотрю, давно возвернулся, — отщипывая с усов сосульки, заметил Евтей. — Али тигру нашел?
— Какое там, тигру! Притомился чтой-то сёдни, — смущенно пробормотал Савелий, поспешно снимая со стены над печкой свою уже просохшую от пота шинель. — Чтой-то спину ломит — к погоде, должно...
— Зря, Савелко, на погоду ропчешь, — с усмешкой перебил Евтей. — Стареем, брательник, стареем, отсюда и хворобы всякие.
Евтей неторопливо повесил над печкой рукавицы, шинель, затем, покряхтывая, принялся сосредоточенно развязывать тесемки на улах.
— Ну, дак чо, Евтеюшко, видал ли нет Павла?
— Вот я и говорю, брательник, стареем мы, — словно не слыша вопроса, продолжал свою мысль Евтей. — Два-три сезона еще поскрипим, побегаем за тиграми, а дальше что? Дальше песок из нас посыпется.
— Ты, Евтеюшко, к чему речь-то клонишь? — осторожно спросил Савелий. — Чо-то лицо у тебя, смотрю, смурное, ай недоволен чем?
Сняв улы и оставшись в одних войлочных чулках, Евтей прошел к столу, взял кружку, в которую Савелий тут же услужливо налил чаю.
— А речь я, брательник, вот к чему клоню, — шумно отхлебывая горячий чай, раздумчиво продолжал Евтей. — Ловим мы с тобой этих самых тигров всю свою жизнь, почитай, сколько народу всякого у нас в бригаде перебывало — сёдни один, завтра другой, а кто из этих людей дело-то наше перенял? Никто! Потому как этого дела мы с тобой никому и не передавали, вроде как боялись передать, а теперь вот к черте последней подходим, а наследника нет, сами помрем — и дело наше некому продолжить...
— Так вить, Евтеюшко, рази Николай-то не наследник?
— Да какой он наследник? — Евтей даже кружку от себя отодвинул, нервно запустил в бороду пальцы. — Отрезанный ломоть твой Николай!
— Это ишшо почему отрезанный? — обиделся Савелий.
— А ты не обижайся, брательник, — помягчал голосом Евтей. — Я и сам бы рад видеть племяша продолжателем нашего дела, династии нашей, да рази ты сам не видишь: нет огня в нем к нашему делу — корысть одна; ты горишь, а он как бы сбоку припеку у тебя или как собачонка на поводу. — Евтей помолчал, разглядывая на столе свои мощные, узловатые руки. — Ты, Савелко, не серчай, но Николай и в самом деле, как норовистый молодой кобелек, у тебя на привязи; ты его в одну сторону ведешь, а он тянет тебя в другую, характер проявляет: дескать, коль я в собачьей стае верховод, то и над хозяином своим тоже верховод...
— Выдумываешь напраслину, — неуверенно возразил Савелий. — Какой он мне верховод? Ишшо не хватало...
— А рази не верховод? Сколь уж было так: ты в одну сторону, он в другую — и перетягивал тебя. А что получалось из того? — Евтей с укоризной посмотрел на брата, строго заключил: — Под каблук ты попал сынку своему, на его инженерско звание смотришь вверх, как на икону, а свое звание уронил и себя принизил. Сын перед тобой благоговеть должен, а не ты перед сыном! Вот за то, что достоинство свое родительское не блюдешь — сам же через то и пострадаешь.
— Ишшо чего — где я достоинство не блюду? — слабо защищался Савелий. — Выдумывашь ты. — И, сняв с печки котелок с похлебкой, поставив его перед братом на стол, попробовал направить разговор в другое русло: — На-ка вот лучше, Евтеюшко, супешнику похлебай, ишшо не хватало нам с тобой раздору... Притомился, чай, целик топтать?
— А вот уж чего не было, того и не было, — с усмешкой проговорил Евтей, многозначительно посматривая на удивленного Савелия.
— Опять ты, Евтеюшко, как заяц на лежку, петлями скачешь. Говори толком — не ходил сегодня никуда, с Калугиным сидел, чо ли?
— Пошто не ходил, ходил, брательник, ходил... Да только не по целику, а по следу готовому едва-едва поспевал за Пашкой. Здоров, черт, как сохатый прет. В самую вершину ключа добрались. Поглядел я нонче на Павла, и вот чо скажу тебе, брательник: из этого парня выйдет настоящий тигролов, попомни мое слово!
— Это ишшо на воде вилами писано — сам ведь припомнил, сколь народу у нас в бригаде перебывало, да никто не удержался...
— Да ведь мы и не удерживали никого! Даже отпихивали особо ретивых-то, вспомни-ка... — Евтей осуждающе покачал головой. — Ай забыл, брательник? Вишь, какая память у тебя...
— Да ведь и ты, Евтеюшко, грешен по этой линии.
— А я не отмалчиваюсь, — да и грех ли то был? Тогда еще не время было династию разрушать, а теперь оно приспело, и надобно тигроловство наше в хорошие руки передать. — Евтей значительно помолчал, теребя бороду, и вдруг сказал с решительностью непреклонной, точно вколачивая гвозди в сырую древесину: — Хочет этого племянник или нет, но Павлу тигроловом быть!
— Да разве я супротив? Пушшай идет в бригаду! Пушшай, — искренне закивал Савелий. — Я-то ничо, да вот ишшо бы уговорить Николая мово... Токо так, Евтеюшко... — Савелий прислушался — за избушкой радостно повизгивали собаки. — Вот и он, легок на помине. — Лицо Савелия сделалось тревожным и растерянным. — Токо ты, Евтеюшко, сразу-то погоди, не бу́хай, поласковей с ним, без скандалу, — понизив голос, торопливо попросил Савелий. — Слышь-ко, а может, ишшо денечка два повременишь? Может, Павлик-то спытанье не выдержит да уйдет с миром, вот бы и дело решилось...
— Эк тебя выкручивает, брательник! — сердито перебил брата Евтей. — Не стыдно лебезить?
— Ну, делай, делай как знашь! — тоже вспылив, замахал рукой Савелий. — Чо хотите, то и делайте — пушшай горит все ясным огнем!
— А ты не мечись меж двух огней, вот и нечему гореть станет!
За порогом послышались шаги, старики тотчас смолкли, напряженно поглядывая на дверь. Николай вошел усталый, вялым движением стряхнул с шапки снег, мельком глянув на нахохлившихся отца и дядю, спросил равнодушно:
— Чо сидите надутые как индюки, — наверно, опять мировые проблемы решали?
— Нам и земных забот хватает, — сердито проворчал Евтей, отворачиваясь к окну. Он решил крутой разговор с племянником отложить до утра. Устал плямяш — пусть отдохнет, отоспится. Утро вечера мудреней.
Но и утром разговор не состоялся. То ли было тому причиной, что Николай слишком долго заспался и, когда разбудили его, он, торопливо позавтракав, ушел молча по своему маршруту, не дав повода для серьезного разговора, то ли сам Евтей не был готов к этому разговору, но, к радости Савелия, раздора не случилось...
— Придется тебе, Павелко, еще одну ночку у нодейки понежиться, — виновато сообщил Евтей. — Обстановка пока не позволяет. Савелий не против тебя, а Николай и слышать не хочет о твоем присутствии. Стало быть, сурьезного разговору не миновать.
— Да вы, Евтей Макарович, если из-за меня на конфликт идти собираетесь, то зря. Ей-богу, зря, — возразил Павел. — Я около нодьи до конца отлова могу...
— А я и не сомневаюсь, что выдюжишь — не в этом дело, Павелко. А дело-то в том, что надобно поставить на место племянника мово. А второе, пора нам с Савелием тигроловство в надежные руки передавать, а где энти руки? Вот то-то и оно, рук этих нету, и надобно их отыскивать. Отсюда и сыр-бор весь разгорается. На нашей стороне праведное дело, вот и надобно нам с тобой отстоять его. Всяко зло на земле, Павелко, большо и маленько, — одного корня, и, ежели не обходишь зло, а воюешь с ним, непременно и бить тебя будут и пачкать. А когда ты зло обходишь, то уж, конечно, не запачкаешься, не убьешься — везде чист, для всех удобен, ни вреда, ни пользы от такого человека. — Евтей хитро посмотрел на Павла из-под лохматых сердитых бровей. — Не знаю, как такого человека по науке называют, а по-нашему, — это как дерьмо в проруби. Я, Павелко, люблю людей беспокойных, которые за праведное дело стоят, не жалея живота! Я твово родителя, Ивана, хорошо знал. Справедливый мужик был, царство ему небесное, везде вставал за правду, оттого и сгорел раньше времени... Ну и ты, я смотрю, тоже пошел по стезе отцовской. Вот и держись этой линии. У большого корня и ствол прочней, и жизнь полней: то ветры его секут, то ливни, а оно знай стоит и поскрипывает наперекор стихиям, зато и солнца ему много дается. Правда, и буря тако дерево в первую очередь валит, и молния жжет его, но уж тут, Павелко, одно из двух выбирай, что по характеру...
В этот день Евтей Лошкарев удивил Павла тем, что был непривычно разговорчив. Так за разговором незаметно и вроде бы легко вывершили безымянный ключ и, не найдя в нем тигриных следов, по отрогу спустились к нодье. Только тут, у чадящей догорающей нодьи, оба почувствовали усталость.
— Устал я сёдни — инда косточки стонут! — признался Евтей и предложил: — Давай-ка вон ту кедрину суху побыстрей уроним да распилим, и пойду я.
— Идите отдыхайте, Евтей Макарович, сам я тут все сделаю, — попытался воспротивиться Павел, но Евтей молча взял пилу и направился к сухостоине.
Минут сорок ушло на то, чтобы свалить сухой кедр, отпилить от него два двухметровых балана, приволочь их к кострищу, соорудить из них стенку и поджечь ее.
— Ну вот, теперь и верно сам все остальное спроворишь, — удовлетворенно сказал Евтей и, озорно подмигнув, признался: — А я ведь схитрил... Николай с Савелием тоже дрова в зимовейке пилили да кололи, ну и ужин заодно готовили, а я время протянул с тобой, вот и приду сейчас на все готовое. Вишь, как выгадал...
— Да, Евтей Макарович, выгадали вы здорово! — заулыбался Павел. — Шило на мыло променяли. — И добавил серьезно: — Спасибо, Евтей Макарович, я с этим кедром провозился бы часа полтора.
— Стало быть, коммуной-то жить легше? То-то и оно. Павелко, дружно — негрузно, а врозь — хоть брось. Ну ладно, не переживай, заживешь и ты коммуной. Сегодня я с племянником разговаривать буду... Уж я с ним поговорю...
* * *
Савелий кормил собак и нетерпеливо поглядывал в ту сторону, откуда должен был появиться брат, наконец увидел его, облегченно вздохнул, но тут же и поморщился досадливо: «Значит, опять с Калугиным ходил. Вот ведь какой настырный... Не было печали — черти накачали! Морока с этим Павлом ишшо...»
Евтей, пытаясь скрыть усталость, шел к избушке бодрым, как ему казалось, шагом. Но, видно, плохо удалось ему это. Встретил его участливый голос Савелия:
— Что, Евтеюшко, притомился сёдни?
— Сёдни было то же самое, что и вчера, — многозначительно ответил Евтей, ставя карабин к стенке избушки.
— Ну, значит, завтра будет то же самое, что было сёдни?
— Нет, брательник, завтра будет все по-другому, — не принимая шутливого тона, хмуро ответил Евтей.
— Слышь-ко, Евтеюшко, Николай сказал, что в сторону Матюхина ключа много свиных троп. Может, в Матюхином ключе тигра живет?
— Ну, проверьте с Николаем завтра этот ключ, а мы с Павлом до конца уж эту сторону проверим.
Имя Павла Евтей произнес умышленно громко, так, чтобы услышал находящийся в избушке Николай.
Ужинали тигроловы в напряженном молчании. Неверный свет чадящей коптилки освещал большой темный квадрат окна, грубо отесанный, из ясеневых плах стол, алюминиевые миски на столе, эмалированные кружки, горку черных сухарей, кусок сливочного масла, завернутый в целлофан, пачку сахара-рафинада. Смолисто-черная борода Савелия в этом неверном свете искрилась, точно мех баргузинского соболя, а седая борода Евтея казалась зеленоватой, как древесный мох. Уже успевший побриться Николай, низко склонившись над миской, аккуратно и беззвучно хлебая горячий бульон, украдкой посматривал на дядю. Он слышал последний разговор Евтея с отцом и, зная дядину прямую натуру, готовился к предстоящему крутому разговору, собираясь не защищаться, а нападать. Евтей перехватил взгляд племянника, нахмурился и принялся макать сухарь в чай, решив затеять ссору после ужина.
— Дядюшка, ты с таким видом сухарь полоскаешь, как будто сложную задачу не можешь решить, — открыто усмехаясь, заметил Николай.
— А вот допью чаек-то, племяш, вместе и решим задачу мою, — сдержанно ответил Евтей. — Заодно и Савелия к нашей задаче подстегнем.
— Что-то ты, дядюшка, аллегориями заговорил...
— Слышь-ко, Николай, ты, я гляжу, ишшо и сёдни улы свои не заштопашь, — попытался отвлечь сына Савелий. — Снег поди в обувь забивается, оттого и носки-то мокрые...
— Я, дядюшка, думал, что ты человек прямой, — продолжал с усмешкой говорить Николай, не обращая внимания на отца, — а ты, оказывается, интриган. Уж не о Павле Калугине ты нам с отцом задачу собираешься предложить? Слышал я, ты говорил про него...
Евтей резко отодвинул кружку с недопитым чаем, смахнул широкой ладонью крошки со стола и, дрогнув бровями, сурово посмотрел на племянника:
— Ты вот что, племянничек, ты, во-первых, не форси передо мной заумными словечками, всякие там аллегории, интриги — себе оставь, а со мной говори по-русски и с уважением. Слова-то заграничные выучил, а разговаривать со старшими разучился.
— Это, дядюшка, к делу не относится...
— Нет, относится, дорогой племянничек! — Евтей нервно поправил спичкой притонувший в воске фитиль коптилки. Огонек вспыхнул и зачадил сильнее. — Это, может быть, у тебя на заводе к делу бы не относилось, а здесь, у нас в тайге, изволь вести себя по-человечески...
— Что значит вести себя по-человечески? Разве я хамлю? — сдерживая голос, спросил Николай. Он тоже отодвинул свою кружку с недопитым чаем, круглое лицо его напряглось, покраснело, глаза сузились и сделались жесткими. Слегка наклонившись грудью на стол, широко расставив локти, он словно пытался пробуравить взглядом крепкий дядюшкин лоб, избегая, однако, смотреть ему прямо в глаза, спокойные и суровые.
— Еще бы недоставало, чтобы ты хамил! Довольно и того, что минуту назад ты открыто усмехался надо мной...
— Я над тобой не усмехался...
— Довольно и того, — продолжал Евтей непреклонным тоном, — что ты держишь себя в бригаде директором, выпячиваешь свое «я», о себе больше думаешь, чем об деле.
— Это, дядюшка, опять пустая риторика, говори по существу дела...
— Вот-вот, — усмехнулся Евтей. — Риторика, по существу дела...
— Слушай, Евтей Макарович! — Николай нервно забарабанил пальцами по столу. — Ты меня, пожалуйста, моей ученостью не попрекай, а если не понимаешь значения элементарных слов, так вини в этом себя самого — надо было учиться, а не в бабки играть...
— Николай, ишшо чего скажи! — сердито одернул Савелий. — Мы с Евтеем в десять лет трудодни в колхозе зарабатывали.
— Погодь, Савелко, погодь, — остановил брата Евтей, несколько мгновений помолчал, запустив пальцы в бороду, наконец примиряющим тоном сказал: — Ты, племяш, одно пойми: тайга — не город, не завод, там одни законы, а здесь другие. Там встретил человека: «здравствуй» и «до свиданья!», можно и вовсе не здороваться, а здесь тайга-матушка. Тут мы должны друг друга оборонять, не щадя живота своего. А ежели промеж нас не будет согласия и мира, то нельзя и надеяться друг на друга. С таким волчьим законом человеку в тайге не прожить. Это я не к тебе адресую, — успокоил Евтей, заметив на лице Николая гримасу недовольства. — Это я к тому клоню, что надобно в тайге все важные дела решать полюбовно, без скандалу.
— Ну-ну! Давай, дядюшка, теперь про Павла Калугина расскажи нам, — язвительно заметил Николай. — Очень давно мы про него не слышали. Вот с него-то и надо было тебе сразу начинать.
— Я с тобой сурьезно и по-доброму хочу говорить, — досадливо поморщился Евтей. — А ты опять злость свою унять не можешь. Ну, дак вот слушай, что скажу тебе. Пашку Калугина надобно привлечь в бригаду. Я с ним вот уже два дня хожу, и мнение мое такое: из парня выйдет настоящий тигролов! Пущай этот сезон побудет в бригаде без денежного пая, пущай испытает себя, да и мы его испытаем, а там видно будет. Мы-то с отцом твоим скоро отбегаем. А кто наше дело продолжит? Ты один, чо ли, с рогатиной на тигра пойдешь? Стало быть, надо нам брать ученика толкового. А Пашка Калугин — прирожденный охотник, выйдет толк из него, по моему разумению. — Евтей вопрошающе посмотрел на Савелия: — Как, Савелко, согласен ты или нет?
— Да не против он! Не против! — вспылил Николай. — Да только я, я против! Близко чтобы этого Калугина здесь не было!
— А мне, племянничек, интересно прежде мнение не твое, а твоего отца — бригадира нашего: он бригадир, его и слово решающее, а ты уж большинству подчиниться должон, — спокойно сказал Евтей.
— Ну, если ты, дядюшка, так принципиально вопрос поставил, тогда вот мое последнее слово. — Николай отодвинулся от стола, взъерошил волосы, на скулах его заиграли желваки. — Отец! Вот тебе, как бригадиру, я заявляю: если вы примете этого наглеца в бригаду, тогда я соберу свои вещи и уйду в Мельничное. Выбирайте: или я, или Калугин. Это мое последнее слово!
— Ишшо чиво удумал! — Савелий торопливо замахнул рукой. — Охолонись, охолонись! — Он собирался что-то еще сказать в поддержку сына, но Евтей перебил его:
— Значит, так, Савелий, коль уж пошла коса на камень, тут уж изволь и мою прихоть выслушать. Тридцать лет мы с тобой тигров ловим, так? Так! И никогда я тебе своего мнения не навязывал, хотя иной раз и бывал такой соблазн. Но ты бригадир, а дисциплина в нашем тигроловском деле — закон. Ну а сегодня решается, как я мыслю, очень важное дело! Смысл, если не нашей с тобой жизни, так моей, по крайней мере, и потому скажу я так. Если завтра же Павел не будет принят в бригаду, то завтра же мы с ним уйдем из тайги. — Евтей перевел взгляд на племянника. — Это мое последнее слово! А тебе, Савелко, до утра даю время обмозговать мою просьбу, и утром на свежую голову ответ дашь. А сейчас пойду спать, чо-то сёдни намаялся я. — И, поднявшись из-за стола, он пошел к нарам.
— Вот и поговорили, — растерянно сказал Савелий и выжидающе посмотрел на сына.
Но Николай молчал, вид у него был надутый и тоже растерянный.
— Да, поговорили, — повторил опять Савелий и, тяжело вздохнув, принялся убирать со стола подальше от вездесущих мышей еду и посуду.
Спать укладывались в гнетущем молчании. Едва лишь Савелий задул коптилку, как тотчас же в темноте повсюду зашуршали мыши, одна из них пробежала по ноге Савелия, он хотел было выругаться, но осекся, брезгливо поморщившись, вздохнул сокрушенно.
Монотонно шумела подо льдом речка, шипела печь, набитая сырыми ясеневыми поленьями, пощелкивали от мороза сучки в тайге. Каждый звук четко был слышен, и долго не могли в этот вечер уснуть тигроловы, расстроенные крутым, нелицеприятным разговором, каждый из них считал себя правым и готов был эту свою правду отстаивать.
Ночью выпал небольшой снежок. Первым проснулся Евтей. Далеко за полночь он подкладывал в прогоревшую печь дрова, но теперь в ней не осталось ни одного уголька. Вода в ведре подернулась ледком. Евтей наломал и натолкал в печь лучин, придавил их крест-накрест тонкими кедровыми полешками. Через минуту жестяная печка загудела, пыхая жаром. Скорчившиеся от холода Николай и Савелий заворочались под своими шинелишками, вытягивая ноги встречь благостному теплу. Привязанные около избушки собаки, почуяв дым, нетерпеливо заскулили. Евтей, поставив на раскаленную печь чайник и кастрюлю с похлебкой для собак, вышел из избушки. Рассвет еще только вступал в силу. Темная тайга, присыпанная легким как пух снежком, казалась оцепеневшей. Рослая черно-белая лайка, увидев хозяина, натянув поводок струной, перебирала передними лапами, виляя свернутым в кольцо хвостом, радостно, но негромко залаяла.
— Барсик! Не балуй! Я тебе... — притворно строго окликнул собаку Евтей и, подойдя к ней, скупо погладил. — Что, Барсик, побегать хочется? Нельзя, брат, нельзя, ненадежный ты по этой части — увяжешься за зверьем, сутки бегать будешь, знаю я тебя. Еще, чего доброго, тигрице в зубы попадешь, не-ет, брат, уж лучше посиди на привязи, так-то спокойней будет и тебе, и мне.
Едва лишь за Евтеем закрылась дверь, как Савелий, приподнявшись на локте, толкнул Николая в бок.
— Николай, а Николай! Вставай-ко, пока Евтея нету, посоветоваться надо. Спишь, што ли? Проснись, тебе говорят!
Николай повернулся на спину, сонно и недовольно ответил:
— Да проснулся, проснулся уже...
— Ну дак слышь, чиво говорю? Совет, говорю, давай держать. Что делать-то будем?! Евтей-то по-своему прав, надо уступить ему. Пушшай Калугин идет в бригаду, а? Как ты, сынок, думашь? А то вить бригада распадется. Перед людьми стыдно будет, скажут — два брата разодрались. Мы-то у людей на виду, вот и надобно нам блюсти себя... Как ты думашь, сынок? Уступить бы надо Евтею... — Савелий смотрел на сына заискивающе и просительно.
— Делай, как знаешь, батя, — смущенно проговорил Николай. — Ты бригадир, как скажешь, так и будет. — И заключил обиженно: — А я стерплю этого наглеца, черт с ним! Из-за тебя стерплю. В самом деле, сплетни потом пойдут...
— Ну вот, сынок, и слава богу, — обрадованно закивал Савелий и торопливо, словно опасаясь, что Николай передумает, принялся обувать улы.
Вошел Евтей.
— Ну как, Евтеюшко, погодка? Слыхал я ночью сквозь сон, будто снег шуршал.
— Так и есть, — испытующе глянув на повеселевшего брата и чувствуя в этом добрую примету, ответил Евтей. — Малость снег притрусил старые следки да мусор всякий.
— Ну, дак это на руку нам, Евтеюшко! На свежем снегу и следы свежие, глазу легше отличать их.
— Так-то оно так, Савелко, да вот самой малости не хватает — следов-то нету.
— Ничо, ишшо и не искали, как следоват. Где ни то все одно объявятся следки.
— Да уж, будем искать, куды им деться от нас, отыщем... — Евтей бросил взгляд на лежащего на нарах племянника. — Вставай, племяш, хватит дрыхнуть — завтрак уже готов.
Николай вяло сбросил с себя шинель, так же вяло, словно по принуждению, принялся одеваться. За завтраком Николай не проронил ни слова, демонстративно молчал, а если приходилось отвечать на вопросы Евтея или Савелия, то отвечал очень кратко и сдержанно, точно делал одолжение.
«Ну, погордись, погордись, племянничек, да лишь бы делу не помешал», — думал Евтей, радуясь тому, что удалось уладить дело мирным путем. И то сказать, разумно ли братьям, прожившим жизнь в согласии друг с другом, под старость лет вдруг перечеркнуть все и поссориться людям на смех. А из-за чего? Из-за Пашки разве? Из-за Николая! Корысть у него — боится Павла, как бы Павел через год-два тигроловство не возглавил, тогда ему, Николаю, не ровен час, и на дверь укажут. Под крылом-то у папаши и тепло и надежно, да к тому же и покомандовать можно. «Ах ты, племяш, племяш...» — Евтей с сожалением покосился на племянника, невольно вздохнул и, спохватившись, что этим может оскорбить Николая, пожаловался на боль в пояснице:
— Чтой-то спина побаливает. — И, еще раз вздохнув, теперь уже притворно, дунул на огонек коптилки.
— И то верно, — согласно кивнул Савелий брату, — давно уж светло, а она все коптит, проклятая, индо в носу от копоти першит. — О вчерашнем споре Савелий не напоминал.
Евтей видел и без слов, что брат и племянник, вероятно успев посоветоваться, решили допустить Павла в бригаду, но может статься, что они оба все-таки против Павла, а молчание Евтеево воспринимают как знак согласия. Чтобы рассеять свои сомнения, Евтей, покашляв в кулак, осторожно спросил Савелия:
— Как планируешь, Савелко, ходить? Мы-то с Павлом до конца уж эту сторону проверим, дальний ключ вывершим, а ты с Николаем куды планируешь?
— Да куды ж итти нам, кроме Евсейкиного ключа? Вот туда и пойдем. Ишшо, может, на ту сторону заглянем.
— Ну и добро, добро, — удовлетворенно кивнул Евтей.
Выйдя из избушки, перед тем, как разойтись, Евтей задержал брата и негромко, чтобы не слышал топтавшийся около собак Николай, попросил:
— Слыш-ко, Савелко, ты ежели рано возвернешься в зимовье, приди к Пашкиной нодье, тут она, рядом. Дождись нас у нодьи-то, чайку попьешь. Я чего опасаюсь-то. Пашка парень хоть и настырный, да скромный, опять же — гордости в нем не меньше, чем у твоего Николая... Он вить коли узнает, что ты против него, то ни в жисть в бригаду не пойдет.
— Ну дак чо, письменное приглашение писать мне ему ишшо надо? — раздраженно спросил Савелий.
— Ты не злись, Савелко, не на что злиться-то. А коль уж решился взять Павла, значит, сделать надо все по-человечески.
— Ну, дак чо надо? Рази я возражаю?!
— А надо, Савелко, вот чего, — миролюбиво продолжал Евтей. — Вечером приди к нодье да просто пригласи Павла словесно, дескать, айда, Павел, к нам в зимовье, хватит таиться, так-то и нам, и тебе спокойней будет. Вот только и всего, братушка... Сделаешь, нет, тако дело?
— Ну дак чо, придется сделать, раз уж твой Павел такой скромница, — ворчливо пообещал Савелий. — Хорош скромник, нечего сказать — всех переполошил, перессорил, и ишшо его уговаривай...
* * *
Еще издали по походке Евтея, по выражению его заросшего лица Павел угадал хорошее настроение старика. «Неужели договорился с бригадой?» — подумал Павел.
А Евтей, между тем приближаясь к нодье, решил вначале помучить Павла, не открываться ему сразу, изо всех сил пытался напустить на свое лицо строгость и недовольство. Но губы все-таки предательски морщились, раздвигая улыбкой усы и бороду, придавая лицу выражение крайнего довольства. И сообразив наконец, что Павла обмануть не удастся, Евтей махнул рукой и, широко, открыто улыбаясь, издали возвестил:
— А ну-ка пляши, пляши давай, кандидат в тигроловы!
— Неужели приняли, Евтей Макарович? — радостно воскликнул Павел.
— Приняли, приняли! Да как же не принять такого молодца?
— И Николай тоже принял, не возражал?
— И Николай тоже принял, — а куда ему деваться? — продолжал возбужденно говорить Евтей, но, заметив недоверчивый взгляд Павла, добавил: — Ну, покуражился малость для порядка, а потом согласился.
— А Савелий Макарович, как он отреагировал?
— Ну, Савелко-то всей душой! Он с самого начала твою сторону держал, а вчера так и заявил Николаю: «Этого парня нельзя отталкивать, а надобно испытать на прочность, должен из него выйти настоящий тигролов!» — Евтей, себе на удивление, лгал до того вдохновенно, что не только Павла убедил, но и самого себя в искренности слов своих. — Теперь они, Николай и Савелий, будут испытывать тебя на прочность. По-всякому будут испытывать: где делом, а где и словом, может, и упреком. Выдержишь все, стерпишь — останешься в бригаде, не выдержишь — убежишь, скатертью дорога тебе. Так Савелий сказал: «Раньше учеников линейкой по голове били и уши им драли учителя, а приходилось терпеть». — Евтей перестал улыбаться, испытующе посмотрел на насторожившегося парня. — Стало быть, Павелко, ежели истинно хочешь быть тигроловом, мой тебе совет: гордыню свою усмири, что бы тебе ни говорили, — молча терпи. Веди себя с достоинством, не принижайся, просто молчи, и все. Молчание — золото! Истинно говорят: время собирать каменья и время разбрасывать их; сейчас твое время молчать и собирать каменья. Понял ли?
— Все понял, Евтей Макарович, — подавленно кивнул Павел и подумал с горечью: «Значит, пришлось Евтею крепко поспорить из-за меня с Лошкаревыми. Неужели и Савелий возражал?»
— Ты чиво, Павелко, как вроде приуныл? Взялся за гуж, не говори, что не дюж.
— Да я не приуныл, просто подумал сейчас: не слишком ли я нахально цели своей достигаю?
— А вот это похвально, что мысли такие имеешь! — обрадовался Евтей. — Стало быть, сомневаешься? Ох ты, язви тебя в душу! Ну, младенец, Павелко, истинный младенец... Вначале с разгону сиганул в воду, а когда вынырнул, тогда спохватился, что штаны замочил... Плыви уж теперь. Во-он в тот ключ плыви, — добро усмехаясь в бороду, указал Евтей рукой на дальний ключ, куда им обоим предстояло идти.
Вскоре над темными сопками засияло солнце, и дремлющая тайга завздыхала и словно бы распахнулась настежь, подставляя солнцу иззябшее свое нутро, в котором уже все громче и громче восторженным птичьим гомоном пульсировала жизнь. День был ослепительно яркий, теплый, даже снег не скрипел под ногой, а мягко, по-весеннему шуршал.
* * *
Савелий Лошкарев вернулся с сыном в избушку и долго раздумывал, идти ли к нодье. Вначале была причина задержаться: пилил дрова, кормил собак, принес воды из речки. Но Евтей не приходил, а работа была уже вся переделана, и Савелий нехотя направился к нодье. От нее остались рассыпавшиеся чадящие головешки. Савелий собрал их в кучу, и они тотчас же жарко заполыхали. Савелий оглядел место, на котором Павел устроился, и невольно похвалил его: «Хорошее место выбрал, сукин сын!»
Начинало темнеть. Савелий поставил на угли чайник, развязал рюкзак Калугина, достал оттуда сахар, горсть сухарей, не удержавшись, полюбопытствовал содержимым сидора. В мешке лежало все, что должно быть у опытного таежника. «Дней на двадцать провианту, не меньше», — удовлетворенно отметил Савелий и, еще раз оглядев место, вынужден был признать, что устроился Калугин основательно.
Калугин с Евтеем появились в сумерках, когда Савелий, напившись вдоволь чаю и насидевшись, начал уже беспокоиться.
Евтей при виде Савелия заулыбался и тихо, удовлетворенно сказал то ли Павлу, то ли себе:
— Ну вот, нашего полку прибыло.
— Здравствуйте, Савелий Макарович! — нерешительно поздоровался Павел, подойдя к Лошкареву вплотную.
Савелий уловил неуверенность Павла, и ему это польстило.
— Здравствуй, здравствуй! Вот и встретились... А я заждался вас, чаю напился. — Савелий посматривал из-под густых бровей на Павла.
Павел держал себя скромно, но вместе с тем и с достоинством.
— Ну, давайте-ко, ребятки, пейте чай, а то жалко выливать, да пойдем в хату. — Савелий минутку помедлил. — Ладно устроился тигролов Калугин, да не тесно ли жилище?
Евтей устало подсел к костру, налил в кружку и в крышку из-под чайника чаю. Передав кружку Павлу, он стал мелкими глотками пить чай, одобряюще посматривая на настороженного Павла.
— Евтей тебе, должно, уже сказал — мы вчера решили принять тебя в бригаду. Присмотримся, выйдет из тебя тигролов аль не выйдет. Ежели подойдешь ты нам по всем статьям, то на следующий сезон возьмем тебя в бригаду на полных паях, не подойдешь, — пеняй на себя. А пока ты вроде как наблюдатель. — Савелий испытующе поглядел на Павла. — Согласен?
— Конечно, согласен! — искренне воскликнул Павел.
— Ну как, Евтеюшко, — повернулся Савелий к брату, — тигру опять не обнаружили?
— Нету и признаков!
— Придется завтра перебираться в Антонов ключ. Ишшо там посмотрим. Как думаешь, за день успеем до Артемова зимовья?
Дойдем, ежели утром с выходом не задержимся, — уверенно сказал Евтей, выплескивая чайную гущу из кружки и вставая на ноги.
Савелий тоже встал, кивнул Павлу:
— Собирай свою котомку, да пойдем, однако.
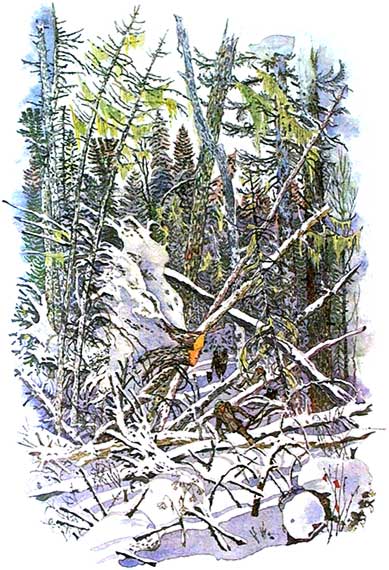
К избушке подошли уже в темноте. Собаки подняли было лай, но Савелий прикрикнул на них, и они смолкли. Около двери Савелий умышленно громко и невпопад сказал:
— Ты, Павел, собак не бойся, оне у нас смирные! А рюкзак на гвоздь подвесь, мышва не достанет.
Савелий широко распахнул щелястую, из липовых плах дверь, низко пригнувшись, шагнул в желтый проем.
— А мы привели ишшо одного тигролова! — деланно бодрым голосом проговорил Савелий.
Николай сидел за столом и крошил в котелок лук. На слова отца он не откликнулся, даже головы не поднял.
«Ну вот, начинается», — с тоской подумал Павел и громко поздоровался.
Не поднимая головы и не прерывая своего занятия, Николай неохотно ответил, и в коротком, вроде бы равнодушном ответе Павел почти физически почувствовал затаенную недоброжелательность.
— Вот и славно, вот и хорошо, — довольный внешне спокойной встречей, воскликнул Савелий. — Стало быть, раздевайся, Павлушка, садись к столу, сейчас будем ужинать...
* * *
Проснулись тигроловы задолго до рассвета, намереваясь пораньше выйти из избушки, но пока завтракали, кормили собак, увязывали котомки, проканителились — и вышли только с восходом солнца. Небольшой морозец слегка обжигал лицо, бодрил еще не проснувшееся тело. Шли гуськом. Павел замыкал звено, ведя Барсика. Павел утром предложил Евтею свои услуги, и Евтей охотно отдал собаку. Водить ее на поводке в лесной чащобе хлопотно, то веткой хлестнет ее по морде, и она отпрянет под ноги, то поводок зацепится. А Барсик еще имел привычку тщательно обнюхивать каждый след, встречающийся на пути.
— Ты, Павлуха, не церемонься с этим паразитом! — не поворачивая головы, посоветовал Евтей. — Дерни его как следует пару раз. А то за целый день он тебе так опостылеет, что и тигров ловить не захочешь. Хитрющий пес! Главное, не отпусти его, а то потом не изловишь.
В полдень тигроловы пересекли темный пойменный лес реки и вошли в кедрово-широколиственную зону. Вскоре увидели свежий человеческий след и старые, заплывшие смолой затески на кедровых стволах.
— Артемовский путик, — сдирая с потной головы шапку, уверенно сказал Евтей. — Передохнем малость и пойдем в зимовье...
— До него, Евтеюшко, не близко... — осторожно заметил Савелий, с наслаждением сбрасывая котомку и расправляя плечи.
— Километров пять-шесть. Но дотемна успеем.
— Должны успеть, — рассеянно сказал Савелий, испытующе поглядывая на Павла.
Павел уже не раз ловил на себе его оценивающий взгляд, и это слегка раздражало его.
По застывшему человеческому следу идти было легче. А вскоре он влился в тропу. Справа и слева от нее видны были настороженные на колонка кулемки, попадались и капканные будочки, сложенные из трухлявых пеньков и корья. Тропа вилась рядом с ключом у сопок, густо поросших ельником и пихтой, но вдоль ключа неширокой полосой тянулся чистый кедровый лес, густо испещренный беличьими и колонковыми следами, изрытый и перекопанный дикими кабанами. В каждой настороженной кулемке приманкой лежала ободранная беличья тушка. «Хорошо побелковал, — подумал Павел, — если кладет на приманку не половинку, а целую тушку». В одном из капканов тигроловы заметили живого колонка. Увидев приближающихся людей, колонок рыжей молнией метнулся было под валежину, но привязанный к колышку тросик резко отбросил его назад. Тогда он стал неистово дергаться, пытаясь высвободить заднюю ногу из капкана, но железные дуги держали его накрепко. Прикрикнув на возбужденного, взвизгивающего Барсика, Евтей подошел к колонку. Тот неожиданно громко и пронзительно заверещал и стал кидаться на человека. Евтей левой рукой сунул рукавицу, колонок мгновенно вцепился в нее. Это и надо было Евтею. Он схватил зверька правой рукой за шею, затем, бросив рукавицу, подхватил его, царапающегося, вырывающегося, за грудную клетку, нащупал пальцами маленькое, отчаянно трепещущее сердечко и сильно сжал его на несколько секунд, пока оно не остановилось. Подвесив безвольно сникшего зверька на нижние ветки дерева, под которым стоял капкан, Евтей поправил разрушенный колонком шалашик из корья, насторожил в нем капкан, замаскировал его сухой листвой, которую нагреб из-под валежин, и, удовлетворенно погладив бороду, сказал:
— Теперь колонка мыши не попортят, а в капкан, глядишь, и второй попадет, вот и ладно будет.
Все это Евтей проделал быстро и аккуратно. Павел добивал попавших в капкан соболей и колонков таким же способом. Чувствовал он при этом легкое омерзение к тому, что делал, но иного, более гуманного способа умерщвлять попавших в капканы зверьков просто не было.
Как-то знакомый охотник-любитель, увидев, как Павел быстро остановил сердце пойманного в капкан соболя, обозвал его варваром. Напрасно Павел доказывал ему, что такой уж это промысел. А способ этот старый и надежный, дающий чистую шкурку. Не стрелять же в пойманного зверька из ружья. Через неделю Павел шел с этим охотником по участку. Заметив попавшего в капкан соболя, тот начал яростно топтать его ногами, норовя наступить на горло. Соболь, вдавленный в снег, изворачиваясь, царапался и кусался. Тогда охотник схватил его за горло и, багровея от натуги, начал душить. Соболь, ощерившись, хрипел и таращил глаза, царапая когтистыми лапами рукав телогрейки, пытаясь достать до сжимающей горло руки, и достал-таки. Охотник вскрикнул, выпустил зверька, и тот с неожиданным проворством поволок капкан к бурелому. Охотник, выругавшись матом, догнал соболя, наступил на него и принялся с отвращением толочь его голову прикладом ружья. Вечером, брезгливо морщась, он часа два обдирал этого соболя, соскребая ножом с мездры кровяную слизь. Тушка была в кровоподтеках, мех перепачкан кровью. Натягивая шкуру на правилку, охотник, осуждающе поглядывая на Павла, рассуждал:
— Все-таки не понимаю я вас, промысловиков. Как это можно убивать зверей каждый день? Изо дня в день, изо дня в день! Опротиветь ведь должно. Ты не обижайся, но все вы мне мясников напоминаете. Вот любительская охота — это понятно, это чистый, здоровый азарт! Там все оправдано. А вот чтобы без всякого азарта зверя убивать, просто из-за денег, это, извини меня, живодерство!
Павел не стал возражать охотнику, постеснялся обидеть гостя. Между прочим, этот охотник вместо пяти соболей, как было записано в договоре, сдал промхозу только двух, а четырех, самых темных и пушистых, увез в подарок жене. Не побрезговал, сукин сын, мясницкой добычей, даже в восторге от нее был.
* * *
Артемовское зимовье стояло у подошвы крутого склона, на невысокой, заросшей мелким ельником террасе; под террасой, стиснутый ледяным желобом, шумно бурлил незамерзающий в этом месте Антонов ключ. Над заснеженной крышей избушки тонко струился голубой дымок. Уставшие тигроловы взбодрились, зашагали быстрее. Павел все ждал услышать лай артемовской собаки, ее следы были повсюду: и вокруг избушки, и на Тропе. Но собака не лаяла.
«Неужели не чует? Вот и надейся на такого сторожа. Спит, наверное, под дверью...»
Но и под дверью собаки не оказалось, и лишь когда тигроловы подошли вплотную, стали снимать котомки и привязывать своих собак из избушки раздался приглушенный лай. Тотчас скрипнула обитая изюбриной шкурой дверь и высунулись из нее одновременно белая собачья морда с добродушными глазами и заросшее седой щетиной с глубокими морщинами и маленькими сердитыми глазками лицо Артемова. Черные волосы на его голове вились кольцами и топорщились во все стороны.
— Чиво шумите? Истинные хунхузы... Проходите давайте в избу, — ворчливо проговорил Артемов и исчез за дверью.
Собака несколько мгновений морщила влажный черный нос, принюхиваясь, затем тихонько гавкнула и, вероятно, удовлетворившись этим, тоже исчезла.
Павел, видевший Артемова только на слетах охотников, на которые они съезжались со всех участков раз в год, но много наслышанный о его неуживчивом характере, теперь, заинтересованный, хотел узнать старика поближе и потому с нетерпением смотрел на стоящего перед дверью Савелия.
Бревна избушки потемнели и слегка подгнили в углах от времени и от сырости, но крытая кедровой дранкой крыша янтарно светилась новизной, вероятно, крышу переделывали нынешней осенью.
Слева от двери на деревянных клиньях, забитых в щели бревен, висели связка капканов, целлофановый мешок с приманкой, ружье «Белка» двадцать восьмого калибра, моток медной проволоки и новое стекло от керосиновой лампы. Шагах в десяти от избушки поленница дров, массивные козла с недопиленной ясеневой сушиной, а чуть подалее возвышался на четырех высоких пнях небольшой, с тесовой крышей лабаз для продуктов; под основание лабаза, для того чтобы не поднялись на него мыши, вокруг каждого ствола были прибиты жестяные зонтики. «Хозяйственный мужик», — бегло окинув все это взглядом, одобрительно подумал Павел.
В зимовье было жарко и тесно оттого, что большую половину занимали сплошные — от стены до стены — нары; слева от двери стол и маленькое оконце, справа — железная печь. Над печью под потолком подвешены две двухметровые жердочки для сушки одежды; всюду на закопченных стенах, с вылезающим из пазов мхом, набиты большие гвозди, на гвоздях, как в лавке старьевщика, — чего только не было! Тряпье, чайник, поварешка, котелки, моточки проволоки, цепочки для капканов и многое другое. В изголовьях нар, на деревянных клиньях, видны полки. На полках пачки с порохом, картонные коробки, мешочки, латунные гильзы. Из-под нар боязливо высовывается хозяйская собачонка.
— Здравствуй, Ничипор! — поздоровался с хозяином Савелий, бесцеремонно снимая с нар эмалированный бачок с водой и переставляя его к порогу.
— Здравия желаю, лошкаревское племя! Распологайтесь кому где нравится, кроме этого места, — хозяин избушки указал рукой за свою спину; там был расстелен спальный мешок, прикрытый красным байковым одеялом. Поздоровавшись со всеми, Ничипор (успел заметить Павел) особо кивнул Евтею, и Евтей ему тоже ответил кивком. Заметив нерешительно топтавшегося у порога Павла, Ничипор вышел из-за стола и, пристально вглядываясь в него, спросил Евтея:
— Слышь-ка, а это кто еще к вам затесался, не Калугин ли, покойного моего товарища, сынок?
— Он и есть, Павелко Калугин, — расстегивая шинелку, подтвердил Евтей. — Да где у тебя лампа? Свет бы надо зажечь, а то сесть куда — ни черта не видно!
— Вот оно, вот оно ка-ак, — продолжал бесцеремонно вглядываться в Павла Ничипор, и глазки его, холодные, колючие, быстро-быстро теплели, излучая доброту. — Вот оно как, ишь ты, сынок, значит? — Он удивленно покачал лохматой головой, несмело протянул руку: — Здравствуй, Павлик.
Павел, слегка растерянный, недоуменно, от души крепко пожал руку охотника, чувствуя, что сейчас должно приоткрыться нечто такое, что хотя бы тонкой ниточкой свяжет добрую память отца с этим сердитым человеком...
Но Ничипор, просияв всем своим аскетическим лицом, дрогнув губами, вероятно собираясь что-то сказать Павлу об отце, вдруг оглянулся, как-то сник весь и с сожалением тяжело вздохнул.
— Распологайся, Павлик, будь как дома... — И вернулся к столу, сел на прежнее свое место.
«Странный мужик, — подумал Павел, — но есть в нем второе дно какое-то...»
— Да ты лампу-то засветишь, или так будем сумерничать? — вновь напомнил Ничипору Евтей.
— Пришли тут, понимаешь, нашумели, да еще и командуют, — то ли в шутку, то ли всерьез проворчал Ничипор, но лампу тотчас зажег и, спросив, будут ли тигроловы есть беличье мясо, поставил на стол большую закопченную кастрюлю, выставил миски, кружки, выложил две румяные лепешки, сухари, масло, сахар, двухлитровую банку с брусникой. — Все тигру ищете, шастаете по чужим путикам, зверей пугаете, беспокойство от вас одно. Кружки вот только три у меня, еще свои две доставайте, и миски одной тоже не хватает, и ложку одну еще надо. Народ неугомонный! Собак своих не забудьте накормить, там у меня под крышей связка беличьих тушек. Четыре тушки сварить разрешаю...
При свете лампы Ничипор, в полурасстегнутой серой рубахе, обнажавшей смуглую волосатую грудь и перехваченной на поясе ремешком, на котором в кожаном чехле висел небольшой нож, с копной черных, как у цыгана, волос, с лицом, иссеченным глубокими морщинами, заросшим седой и жесткой щетиной, был похож на актера, который мог бы играть в фильме роль преступника или пирата без всякого грима. Невысокого роста, худощавый и жилистый, слегка сутулясь, он и разговаривал, и двигался порывисто, но как-то не до конца доводя свое резкое движение или сказанное слово. Так, вероятно, замедляют ограничителями движение тугой пружины. Именно о такой пружине и подумал Павел, наблюдая украдкой за Ничипором. «Тяжелый человек», — говорили о нем промысловики. Никто с Ничипором не желал охотиться дольше одного сезона, впрочем, все признавали, что человеком он был и справедливым, и в высшей степени порядочным.
Тигроловы выложили на стол и свои продукты.
— Ну, это вы зря! — сказал Ничипор. — Вам в походе еда пригодится. Сколько еще шастать будете по тайге — неизвестно, а у меня с продуктами излишек, да дома и солома едома. Так что убери-ка все это, Николай, свет Савельевич, обратно в котомку.
Он сказал это спокойно, но так твердо и непреклонно, что Николай тотчас торопливо сложил все в мешок. Павел обратил внимание на то, что, разговаривая, Ничипор старается смотреть больше на Евтея, иногда и на него, на Павла, а Савелия и Николая как бы вроде во внимание не берет. «Не зря все это», — подумал Павел. Еще успел приметить он, что Николай, обычно разговаривавший со всеми чуть-чуть свысока, с Ничипором держался подчеркнуто учтиво, больше отмалчивался. Хозяин избушки нравился Павлу все больше и больше.
Во время ужина, разговаривая о том о сем, Евтей осторожно заговорил о тиграх:
— А слышь-ко, Ничипор! Правду, нет, говорят, в прошлое лето на твоем участке милиционер с прииска в тигренка из пистолета стрелял? Будто бы тигрица с имя через плес переплывала, он-то, милиционер, тут как раз хайрюзов на удочку ловил, ну и зачал палить, когда они около него на берег выбрались. Одного будто бы ранил... Так ли?
— Наболтали! Совсем не так было дело. От народ! — Ничипор покачал головой. — Случится на грош, а наврут на полтинник. Милиционер-то этот в кумпании был, при свидетелях, выпивали они, ну и тигр-то самец, не самка вовсе — правда, с той стороны в речку вошел, плыть собирался к им, на энту сторону. Милиционер из ружья и пальнул вверх — это чтобы зверь-то не посмел переплывать на эту сторону. Ну, он, конечно, назад, в тальники — и был таков. Вот и вся история... Наплетут же!
— Значит, не тигрица это была? — с сожалением спросил Евтей.
— Нет, не тигрица.
— Та-ак... Ну а это самое, Ничипор, того, ты это самое... Тигрицу не примечал в этом году?
— Тигрицу? — Ничипор хитро посмотрел на Евтея, достал из кармана кисет, не торопясь скрутил из клочка газеты папиросу толщиной в палец, закурил, блаженно щурясь.
— Может, не сейчас, так хоть летом иль хоть осенью видал след ее, а? — после долгой паузы осторожно переспросил Евтей. — Должна она где-то в этом районе быть.
— А почему думаешь, что должна? — Ничипор, словно озоруя, выпустил в сторону Евтея такую струю дыма, что тот поспешно замахал рукой и хотел было рассердиться, но, спохватившись, лишь брезгливо поморщился.
— Почему должна, спрашиваешь? Да потому, что леспромхозовцы видели ее следы перед снегом. Сказывали, будто чушку задавленную видели. И мясо в разные стороны растаскано. Взрослый тигр мясо не растаскивает, только молодые так делают — значит, с тигрятами была. Тут спокойно, и чушка в кедрах держится, значит, и тигра должна быть, ежели не подшумели ее, конечно.
— Хм, ишь как у вас все расписано... — Ничипор обвел тигроловов насмешливым взглядом. — Должна — и все дела, вынь да положь! А что, если должна, да не обязана? Вы что, ее привязали? Нету ее в этих местах, ушла, должно... — Он произнес это таким тоном, как будто рад был тому, что она ушла.
— Мы ведь, Ничипор, не даром, пятьдесят рублей заплатили бы, — осторожно напомнил Савелий.
— Бо-ольша-ая сумма! — притворно удивился Ничипор, даже не глянув на Савелия, а по-прежнему обращаясь к Евтею: — Ты, Евтей, знаешь меня. Врать я не умею. Тигрица, действительно, не пересекала мой путик. С осени по чернотропу, должно, подшумел — и сдвинул ее в верховья ключей, за то не ручаюсь. Это, во-первых, а во-вторых, ты опять же знаешь, что с тиграми я живу мирно и, ежели бы и знал, к примеру, где она живет, все одно не сказал бы вам при всем моем к тебе, Евтей, уважении. В позапрошлом году была оплошка: сболтнул я, дурак старый, Машкину про тигрицу с молодыми, а Машкин вам поведал. Ну и что вышло из этого? Поймали вы тигрят на моем участке да и укатили восвояси, а тигрица потом полмесяца за мной по пятам шастала и вокруг зимовья тропы ледяные набила. Как-то ночью вышел из зимовья по малой надобности, стою, на луну любуюсь, а эдак вот со стороны, шагах в пятнадцати от меня, как рявкнет! Так прям инеем спина покрылась. В зимовье и заскочил с остатками струи, да и по большому захотелось сразу от ентого рыку проклятого.
Он сказал это так откровенно, что Павел невольно прыснул, тигроловы тоже заулыбались.
— Во-во! Вам улыбочки с ухмылочками! — сердито закивал Ничипор. — А нам, охотникам, после вашего отлова приходится играть с тигрицей в кошки-мышки. Положим, я-то умом понимаю, что она меня не тронет, не бывало такого случая, но, с другой стороны, — гарантии тоже нет: сегодня не тронет, а завтра прыгнет из-за валежины — и поминай раба божьего... Так что не надо мне ваших ни пятьдесят, ни пятьсот рублей. Ищите сами следы, и чем дальше вы их найдете от моих угодий, тем спокойнее для меня. — Ничипор с неприязнью покосился на Савелия и Николая. — Так что, уважаемые тигроловы, не обессудьте, но в вашем деле я вам не помощник и даже не советчик. Тайга-матушка, хоть и выщипана, но еще покуда большая, ноги у вас еще крепкие, вот и бегайте, ищите...
— Да уж и так бегам, ишшем, ни на чьей спине не катаемся, — обиженно проворчал Савелий.
— А я вам разве укор в том делаю? — Брови Ничипора сурово сдвинулись, он даже горящую самокрутку резко потушил о подоконник.
— Ну и я не укоряю никого, ишшо чего! — вылезая из-за стола и садясь на нары, задиристо проговорил Савелий.
— Вы, Ничипор Матвеевич, ей-богу, напрасно сердитесь на нас, — пришел на помощь отцу Николай. — Разве мы виноваты в том, что приходится ходить по чужим охотничьим путикам и отлавливать зверя на чьих-то угодьях? Мы бы рады не тревожить охотников, да ведь не заставишь тигрицу ходить на нейтральных угодьях, да и нет в тайге таких: каждый ключ — чей-нибудь охотничий участок. Так что приходится в силу необходимости нам докучать, а вам терпеть...
— Совсем не в ту степь ты поехал, Николай Савельевич, — досадливо поморщился Ничипор. — Не об терпении у нас с твоим батькой речь была... У нас с ним разговор вовсе даже на другую тему. — Губы Ничипора дрогнули в едва заметной презрительной усмешке, но он тут же, проведя шершавой ладонью по заросшей щеке и подбородку, точно стер ее. — Где надо, там и ходите — тайга, слава богу, не частное подворье, у вас своя работа, у меня своя, и тигру, действительно, хворостиной не перегонишь на нейтральную полосу; шум-гам от ваших шастаний, конечно, зверье пугаете. Да ведь от леспромхоза в мильёны раз больше шуму. А ведь даже их приходится терпеть! Вот это вот, истинно, приходится! — Ничипор помрачнел, с минуту сидел насупившись, затем взял с подоконника недокуренную самокрутку, зажег ее и медленно, словно бы неохотно, раскурил, затянувшись и выпуская дым, покачал головой.
— Что, Ничипор, и тебя уже леспромхоз беспокоить начинает? — участливо спросил Евтей.
— Хм, беспокоит... — горько усмехнулся Ничипор. — Если б только беспокоил... — Сделав несколько торопливых затяжек, Ничипор бросил окурок к печке и, повернувшись к Евтею, с жаром спросил: — На твоем участке, с которого ты ушел, тебя побеспокоили?
— Ну-у, сравнил тоже! — заерзал Евтей, умащиваясь на чурке поудобнее и укладывая на стол свои могучие руки. — Нашел, что сравнивать. Там меня, дорогой ты мой, так обкосили, что зимовье мое торчит среди пней, как шалаш среди покоса, — всю кедру увезли!
— Во-от, во-от, кедр у тебя увезли! — загорячился Ничипор, тоже укладывая свои, заголенные по локоть, небольшие, но жилистые руки. — У тебя всю кедру увезли? А у меня с верховьев сплошная рубка идет! Все подряд пилят! С верховьев наш леспромхоз косит, а сбоку — Тюшенский подбирается. Вот только низовой путик, по которому вы сейчас прошли, и остался пока живым. А срубят его — придется наниматься сторожем в магазин или кочевать вон к нему. — Ничипор кивнул на Павла. — У него там, в верховьях реки, лес мелковат, без кедра, туда еще леспромхоз руки свои не протянул.
— Уже и туда тянется, Ничипор Матвеевич, — сказал Павел. — Зимник пробили, а участок весь прошлым летом лесоустроительная экспедиция разбила на квадраты.
— Да, кстати же, эти лесоустроители и пожар там устроили, — напомнил Евтей. — Целый месяц тушили. Хорошо, что ливень хлестанул да и помог потушить. Безалаберный народ!
— Это точно. Всякого люду понагнали в тайгу — спасу нет! — с жаром поддержал брата Савелий, вновь подсаживаясь к столу. — Кто в экспедициях-то? Большей частью кочевники перекатные. Со всего свету в тайгу прут, а вести себя в ней не умеют.
— Да что там — не умеют, — с досадой перебил Савелия Ничипор. — Не хотят, не хотят уметь! Ты смотри, что делается. Раньше мы, охотники, где избушку рубили? На видном, на красивом месте, и чтобы вода была рядом. А теперь? Все зимовья, которые стоят на реке да на проходных путях, — загажены. Уходишь из зимовья, посуду помыл, перевернул, чисто пол подмел, растопку около печки оставил, дрова сухие, да и поленницы приготовил на следующий сезон. Приходишь — грязь кругом, дрова сожжены, в посуде — как варили, как жрали в ней — так и оставили. Уже идешь к своей избушке, думаешь: ну ладно, пусть утащат что-нибудь, пусть дрова сожгут, нары сломают, но хоть бы избушку-то не сожгли! У Платонова в прошлом году сожгли — на берегу реки стояла, рыбаки в ней всегда останавливались, и на тебе! Нары на дрова сжигали, и крышу на дрова раздирали. Приплывут ночью, в чащобу-то идти в потемках неохота, а тут под рукой сухие плахи... — Ничипор с сожалением развел руками. — И ведь скажи ты, редко удается поймать такую падаль на месте преступления. Он ведь знает, что пакость делает, потому и оглядывается.
— Правду говоришь, Ничипор, правду, — с нетерпением дождавшись своей очереди, закивал Савелий. — Я в позапрошлом году тоже зимовьюшку хотел построить на берегу реки, да посмотрел на власовское зимовье — проходной двор! Даже бревна на углах топором на растопку пообтесали, консервными банками да бутылками закидали всю местность — ступить некуда! Ну я свое зимовье подальше от реки поставил, в густом пихтаче — место хмурное, неудобное, но зато спокой там и порядок.
— А у меня, ребятушки, теперь пока тихо по этой части, — добродушно улыбаясь, сказал Евтей. — На новом месте, в верховьях слава богу, — ни дорог, ни водного пути нет. Экспедиционная тропа старая, по ней туристы иногда проходят, в избушке останавливаются, но — народ культурный и дровами своими пользуются, и чистота после них, и все оставляют, как было у меня прежде. Молодцы, ничего не скажешь! А нынче даже лестницу соорудили к реке. Избушка у меня на крутом пригорке, а речка внизу: по воду ходить скользко. Так они ступени выдолбили, колья вбили и перила к кольям соорудили, чтобы, значит, держаться. А нынче осенью прихожу в зимовье — чистота! Все помыто, а на гвозде над нарами висит красный в горошину лифчик. Хорошо, что баба моя со мной не увязалась, а то бы увидела энто дело — пропал бы я от ее нападок! — Евтей широко заулыбался.
— Да уж она бы тебя запилила до смерти, — вставил Савелий.
— Это то-очно, — согласился Евтей. — Баба у меня огневая, что и говорить.
— Н-да, странно все это, странно... — после некоторой паузы, удивленно качая головой, промолвил Ничипор и смолк, окинув всех быстрым, испытывающим взглядом, словно проверяя, удалось ли ему заинтересовать слушателей, и, удовлетворившись, что удалось, повторил еще: — Странно это все, странно...
— Ты об чем? — не понял Евтей.
— Да все о том же. Удивляюсь вот. Начали-то мы за упокой, а кончили за здравие. — Ничипор, поморщившись, пересел на низкий чурбан поближе к печке. — Я и говорю: странно все это. Вредительство какое-то! Недавно вот читал статейку одного писателя, фамилию запамятовал. «В защиту кедра» — статейка называется. Хорошо пишет, толково, да толку никакого — как уничтожали кедр, так и продолжают уничтожать. А ведь арифметика тут куда проще. — Ничипор удобнее умостился на чурбане. — Перво-наперво — что такое кедр? Хорошая дойная корова — вот что такое кедр! А вспомните-ка, когда кедровые леса у нас были, сколько было кабанов — табуны! Все сопки перерыты. В урожайные годы по сто белок в день добывали. Сколько пушнины было, сколько зверя копытного — и всех кедр кормил. А ореха поскольку заготавливали? По две-три тонны чистых семян человек сдавал за одну осень в заготпункт! Кедр уничтожили — и не стало пушнины. И орех исчез в магазинах. На рынке — полтинник за стакан, хочешь — бери, хочешь — любуйся. В хороший год одна кедра пять мешков шишек дает. Подсчитали, что за один год кедра орехом всю стоимость своей древесины окупает. За один год! А кедр триста лет шишку родит! А если и пушнину, и мясо копытных подсчитать, кого кормит кедр, сколько это будет? Мы, говорят, садим кедр взамен спиленного. Как же, сажают! — Ничипор раскурил потухшую самокрутку, сплюнул к печке. — Десять кедрин спилят, еще десять гусеницами переломают, из десяти два на верхнем складе потеряют, два на нижнем сгноят и с землей в отвалы бульдозером сгребут, еще два или три во время сплава в глухом затоне останется. Некоторые, может, и доплывут до завода, а и там неизвестно, сколько в отходы уйдет. А они, конечно, посадят взамен двадцати погубленных пяток саженцев, пяток еще припишут, что посадили, а сколько из этого количества потом засохнет? Да и долго ждать урожая. Вот и выходит, что кедр — это дойная корова, а мы — семья большая, пили молоко, масло, сметану ели, и вот кто-то со стороны решил нас мясом накормить, стукнул корову по темечку, мяса едим до отрыжки, да скоро съедим его, и придется нам по миру с сумой ходить.

— Да, истинно так! — с горечью воскликнул Евтей.
— Ну как же это понимать? — Ничипор оглядел всех вопрошающим недоуменным взглядом. — Почему же так получается? Знаем, что рубим сук под собой, знаем, что сук упадет, а все-таки рубим! Ну почему мы рубим-то его? По чьему такому указу? Разве это не вредительство? — Ничипор теперь уже требовательно и сердито смотрел на Евтея.
— Ты, Ничипор, пошто у меня спрашиваешь? — невесело усмехнулся Евтей. — Кроме меня есть, чай, начальство повыше...
* * *
Первым проснулся Савелий. Он так раскочегарил печь смолистыми кедровыми дровами, что спящие сразу посбрасывали с себя все, чем были укрыты, и даже Ничипор сонно выбрался из своего спального мешка и, заголив спину и почесывая ее, уткнулся в угол нар, откуда тянуло прохладой. Павел, к тому времени уже совсем проснувшись, бросил взгляд на спину лежащего рядом Ничипора и увидел на ней с правой стороны большой, как подкова, шрам, а чуть повыше, в том месте, где пальцы чесали кожу, еще два беленьких пятнышка. Он неотрывно смотрел на шрамы, пока Ничипор не перевернулся на спину и не открыл глаза.
Во время завтрака Ничипор угнетенно молчал.
— Что-то, Ничипор, хмурый ты сёдни с утра, — заметил Евтей. — Сон плохой привиделся, али соскучился уже по Матрене своей?
— Да какая там Матрена, — отмахнулся Ничипор. — Спина что-то опять разнылась, а идти сёдни на дальний путик, километров двадцать туда и обратно. Надо бы на ближний путик пойти, да был я там позавчера, а на дальнем пять дней уже не был — колонок попадется, мыши его обскубают. Вот и думаю: куда идти?
— Здоровье-то, однако, дороже. Иди на ближний путик, и дело с концом, — решительно посоветовал Евтей.
— Да, пожалуй, так и сделаю, — оживился Ничипор. — Да вот, кстати, и приду пораньше, топорище соображу, а то все в бегах да в бегах, некогда и топорище сделать.
Взявшись рукой за поясницу, болезненно морщась, он поднялся из-за стола, начал одеваться. Тигроловы тоже засобирались. В оконце уже голубел рассвет.
...День был хотя и пасмурный, но жгуче морозный. Евтей, расспрашивая Ничипора, понял, что у того три путика — один по центральному ключу и два по самым большим ключам, впадающим в центральный только с одной, левой, стороны. В верховьях Антонова ключа лесоразработки; с левой стороны на водоразделе, Ничипор говорил, тоже леспромхоз поджимает, значит, остается тихое место только на правой стороне, откуда в центральный ключ четыре небольших ключа впадают, вот и надо их проверить. И первым делом надо всю эту местность как бы в клещи взять. Поэтому Евтей предложил Савелию зайти с самого нижнего ключа и проверить его, а сам пошел с Павлом в самый дальний ключ. Если тигрица окажется в этом треугольнике, то завтра охотники непременно пересекут ее следы. Если же следов не окажется, — значит, надо перейти через лесосеки и искать тигрицу на склонах реки Орочонки.
...Пойма ключа оказалась густо заросшей высокими кустами и кочками, меж которых, замаскированная снегом, стояла болотная вода. Павел свернул поближе к склону сопки, но вдоль него тянулся густой перестоявший пихтовый лес, заваленный буреломом, через который идти было еще труднее. Но зато здесь не было риска провалиться в воду и промочить олочи. Правда, был другой риск — поскользнуться на валежине и напороться на крепкий, как костяной штырь, сук. В тайге надо быть постоянно собранным, готовым ко всему. Видишь — валежина мокрая, клыкастая — обойди ее, если можешь, а не можешь — подстрахуй себя.
Павел шел по валежине медленно, напряженно. Помнил: осторожностью не только себя бережешь, но и близких тебе людей; поскользнись сейчас, напорись вон на тот острый сук — и все, и вышел из строя, всей бригаде сорвешь работу.
Павел оглянулся на Евтея. Старый таежник, вероятно, не раз смотревший смерти в глаза, пробирался по нависшей валежине с таким напряжением, как будто боялся наступить на мину.
Наконец-то выбрались из темного пихтового леса в светлый, чистый дубняк, перерытый кабанами, — идти стало легче.
— Евтей Макарович! Я вот вас о чем спросить хотел. Я видел у Артемова на спине большие шрамы. Вы не знаете, он был на войне?
— Как не знать. — Евтей снял шапку, пригладил мокрые от пота волосы. — Мы с ним одно время батчиками в экспедиции работали, шишковали несколько раз, плотничали в одной бригаде, и избушки доводилось строить для промхоза. На войне он был, действительно. До самого Берлина дошел, разведчиком. Да вить он с твоим батькой одно время вместе воевал, неужто Иван тебе не сказывал?
— Может быть, и сказывал, — пожал плечами Павел. — Только все имена и фамилии перепутались в голове. Да и трезвый-то отец войну никогда не вспоминал, ни одного слова, даже кинокартины о войне смотреть не мог, а пьяный только о войне и говорил. Но пьяного разве послушаешь так, как хочется, по-человечески? Тем более что пьяных я вообще терпеть не могу.
— Да-да, это верно, пьяный и тверезый — не кумпания, — с усмешкой кивнул Евтей. — Ну так вот, заметил ли ты вчера, как обрадовался тебе Ничипор?
— Вроде бы да...
— «Вроде»! Я-то знаю Ничипора. Он стесняется. А почему он тебе отличку такую сделал вчера? Слыхал я от твоего батьки, выпивали с ним тогда, как он Ничипора раненого на спине из разведки к своим волок. На засаду они напоролись, что ли, толком я не понял — оба мы тогда веселые были. Так что ты сёдни попроси Ничипора рассказать об этом деле. Только не говори, что я надоумил, скажи, что батька об этой истории упоминал. О себе-то он вряд ли что расскажет, для такого разговора надо особый ключик или случай иметь, а вот сыну об отце рассказать, пожалуй, должон в любом случае, только ты понастойчивей проси — не отступайся... Эй, Павелко! — вдруг воскликнул Евтей. — Ты пошто чушечьи тропы так бойко перешагиваешь?
Павел вздрогнул, оглянулся — сзади действительно осталась торная чушечья тропа.
— Я ведь говорил тебе, что по всякой торной тропе надо пройти до того места, пока тропа не разобьется. Вдруг тигра прошла здесь? А на разбое след ее и виден будет.
— Я не заметил ее, Евтей Макарович, — виновато признался Павел. — Замечтался.
— А я и вижу, что ты замечтался. Надеешься, что я сзади тебя подстрахую? А вдруг и я прогляжу, тоже размечтаюсь? Нет, дорогой ты мой тигролов, тако дело не пойдет! — Евтей говорил серьезно, с легким раздражением, и Павел вполне понимал, что заслужил более суровый выговор. — Ты одно запомни накрепко: успех всего нашего дела зависит сейчас от каждого из нас. Ни одного следа — даже мало-мальски сомнительного нельзя оставлять без внимания. А тут ведь дело к тому же еще ответственное. Тигров-то заказала в Москву заграница, а Москва — Приморскому краю, а Приморский край — нашему промхозу, а промхоз уже нам. Вот и получается, что мы у всех на виду. Не поймаем тигров — нас, конечно, ругать не станут. На нет и суда нет! Но стыдно будет перед промхозом, промхозу — перед краем, краю — перед Москвой, а Москве — перед заграницей. Чуешь, нет, к чему клоню? — уже миролюбиво спросил Евтей.
— Понимаю, Евтей Макарович, дело серьезное, и все зависит только от нас.
— Именно, именно, Павелко!
Торная кабанья тропа, по которой пошли охотники, метров через сто разбилась, тигриного следа здесь не оказалось.
— Ну вот, проверили, — удовлетворенно сказал Евтей. — Теперь душа спокойна, пойдем дальше своим маршрутом.
Но вскоре они наткнулись еще на одну тропу, затем вышли на склон, сплошь перекопанный кабанами, тут пришлось сделать круг километра в полтора. Потом еще две тропы проверили. Но ключ все-таки был короткий, и в полдень тигроловы уже поднялись на водораздел. Обратно к избушке шли по вершинам отрога.
На скале было холодно и ветрено. Разгоряченные подъемом тигроловы, недолго полюбовавшись уходящей вдаль панорамой, боясь остынуть, торопливо спустились к подошве скалы. От скалы к пойме спуск был отлогий и длинный; среди чистого дубняка там и сям виднелись кабаньи и изюбринные следы, кое-где встречались следки колонка и белки. Так и тянуло спуститься в ключ по чистому парковому дубняку, и Павел уж было бодро зашагал вниз, напрямик к зимовью, но Евтей указал на заросший леспедецей хребет.
— По хребту, по хребту, Павелко, пойдем — тут следов звериных поменьше, ежели тигриный встретится — легче отличить его будет. Вот по краешку кустов и держись.
Хребет увел тигроловов далеко в сторону от избушки, но солнце еще стояло над сопками высоко. Намеченный маршрут закончен, идти же по новому маршруту не было смысла, поэтому пришлось повернуть к зимовью. Возвращаясь так рано, Павел чувствовал себя словно бы виноватым. Так было с ним всегда и на охотничьем промысле. Осталось это, вероятно, от отца — он сам всегда на промысел уходил из зимовья в тайгу с рассветом, а возвращался в сумерках.
Впереди завиднелась избушка. Павел посмотрел на часы. Было три часа.
— Кажись, не одни мы лодыри сёдни, — сказал сзади идущий Евтей. — Дымком попахивает. Поди и Ничипор тоже пришел.
Ничипор встретил их с усмешкой:
— Э-э, ребятки, вы что-то поздно пришли, опоздали на обед. Теперь только к ужину кормить вас буду. А вообще-то, вы с такой работой, как сегодня, и на ужин себе не заработали. Почто рано-то пришли? Неужто след отыскали?
— Сам-то раньше нас приволокся, а и обед уже успел слопать. Тебе бы экономистом в конторе работать, — пошутил Евтей.
— Самая подходящая должность для меня, — согласился Ничипор, выставляя на стол котелок с рисовой кашей, щедро заправленной сливочным маслом. — Давайте-ка обедать, то бишь полдничать, да и я с вами побалуюсь заодно, а то кишки к животу прилипли: с утра не жрамши. — Тон его голоса был и ворчлив, и мягок; глаза, спрятанные под мохнатыми седыми бровями, излучали добрый свет. Ничипор, вероятно, пришел давно, потому что успел сварить кашу, наколоть дров и вытесать заготовку на топорище — она теперь висела под потолком над печкой. — Ну так почему все-таки рано возвернулись? — вновь спросил он, слегка заинтригованный тем, что Евтей увильнул от вопроса. — Нашли, что ли, тигру?
— Ничего не нашли, Ничипор Матвеич, — поспешил успокоить охотника Павел. — Просто ключ весь вывершили, спустились по отрогу, в избушку возвращаться вроде рано еще, а в другой ключ заглянуть, — тоже не успеем, вот и пришлось к полднику поспевать.
— Ну и слава богу, что не нашли, — искренне обрадовался Ничипор. — А я вот тоже пришел сегодня с пустыми руками. Попал один колонок, да лапу оставил в капкане и ушел на трех.
— Нашел жалеть об чем, — подсаживаясь к столу, сказал Евтей. — Хорек вонючий открутился! Сёдни он у тебя открутился, а завтра в другой капкан тремя лапами встрянет — все одно поймаешь. А вот когда соболь открутится да уйдет, вот тут жалко! Он же, паразит, если в капкане побывает, другой раз обходить его будет, только на тропке и можно его изловить.
— «Хорек вонючий»! — передразнил Ничипор. — Давно ли соболятником стал? Всю жизнь колонков ловил по сто и по двести штук, а теперь второй год как на соболиный участок перешел, двадцать соболей поймал — и загордился, колонками забрезговал.
При дневном свете Павел увидел, что волосы Ничипора не так сплошь черны, как ему показалось вчера. Сейчас, при дневном свете, голова его густо серебрилась сединой.
Хорошо пить с мороза горячий сладкий чай, сидя в уютном теплом зимовье, облокотившись на дощатый стол, грея кружкой ладони и поглядывая в запотевшее оконце, за которым расплывчато видна склонившаяся над обрывом речки мохнатая ель. Тихонько потрескивают в печке смолистые кедровые поленья, неторопливо течет беседа.
Напившись чаю, Ничипор, отдуваясь, откинулся спиной на край нар, достал кисет, скрутил «козью ножку» и блаженно закурил.
«Самый подходящий момент для вопроса, — подумал Павел, с беспокойством оглянувшись на дверь. — Пока Савелия и Николая нет, он может рассказать, а придут они — постесняется». Павел уже, было собрался с духом, но Ничипор опередил его:
— Слышь-ко, Павлик! А скажи-ка ты мне, как ты смог династию Лошкаревых пробить? Как тебя Савелий с сынком своим в эту тигроловскую колесницу допустили? Непохоже это на них, особенно на сынка.
Павел кратко поведал Ничипору о том, как все случилось, Евтей кое в чем дополнил его рассказ.
— Вот оно что. Ну, молодец, Павлик! Молодец! — с искренним восхищением похвалил Ничипор и, обернувшись к пересевшему на нары Евтею, спросил весело: — Евтей, а, Евтей! Не боязно тебе Павла-то было в бригаду втаскивать? Он ведь, Павел-то, выходит, весь в отца своего пошел, упрямый до ужасти! Ей-богу, он теперь вашу династию — как железный клин чурку — развалит! Не жалко?
— Пускай разваливает. Лишь бы дело не пострадало.
— Это верно, это верно, — удовлетворенно закивал Ничипор и, внимательно посмотев на Павла, заключил со вздохом: — Да, настырный ты хлопец, ничего не скажешь, весь в отца. Большой души человек он был и сына вырастил ладного. — Ничипор сделал несколько торопливых затяжек, пальцы его, державшие самокрутку, мелко подрагивали.
— Ничипор Матвеич! Отец как-то говорил однажды, что воевал вместе с вами в одной части, и даже будто бы в разведку вы вместе ходили, — осторожно сказал Павел. — Вы не могли бы мне рассказать, как это было?
— А он тебе подробностей разве на рассказывал?
— Нет, только упомянул об этом, и все.
— Было это, Павлик, было... Воевали мы с твоим отцом. Недолго, правда, месяца три всего, до моего ранения, а там судьба развела нас. Ну, на передовой три месяца — это ого-го! Это срок большой да тяжкий. Иной раз там и неделя — как целая жизнь. — Ничипор говорил неохотно, пересиливая себя. — Воевали мы, дорогой ты мой Павлик, с твоим отцом не в части одной, а в одном даже взводе, в одном отделении, и отец твой был тогда командиром отделения...
— Подождите, Ничипор Матвеевич, — остановил Павел рассказчика, — ради такого случая надо выпить. У меня в рюкзаке фляжка со спиртом, сейчас я, — Павел принес фляжку, торопливо, на глазах у изумленных Евтея и Ничипора налил им в кружки граммов по сто, себе плеснул символично.
— Может, дождемся Лошкаревых? — неуверенно предложил Ничипор, между тем охотно принимая кружку.
— Хватит и им, — успокоил Павел. — Спирта полная фляжка, захватил на всякий случай, вдруг простынет кто...
— Это по-хозяйски, — похвалил Ничипор, подмигивая Евтею, — сейчас мы твоим лекарством подлечимся от старых хворей.
Закусив размоченным сухарем, Ничипор, удовлетворенно улыбаясь, шутливо погрозил Павлу пальцем:
— Ишь, искуситель, мать-перемать! Нам с Евтеем по полкружки набухал, а себе глоток плеснул.
— Так я же не пью, Ничипор Матвеевич!
— Ну добро, Павел! — Ничипор вновь достал кисет, насыпал в клочок газеты щедрую порцию самосада. Минуты три он курил молча, сдвинув брови к переносью, сосредоточенно разглядывая свои прокуренные до желтизны пальцы.
Евтей вяло посасывал сухарь, одобрительно посматривая то на Павла, то на задумавшегося Ничипора.
— Говоришь, отец подробностей не сказывал?
— Он воину не любил вспоминать.
— Это истинно, — закивал Ничипор. — Разве об этой проклятой войне приятно вспоминать? Нет, браток, тяжелые это воспоминания. Отец твой нахлебался этой войны так, что никому не пожелаю. Снится она мне часто, проклятая... а вот рассказывать о ней тяжело. Ты вот даве попросил рассказать, а у меня будто ком сухой к горлу подступил. — Ничипор невесело усмехнулся, снял с себя меховую безрукавку и бросил ее на нары. Оставшись в одной рубашке, продолжал: — Хорошо догадался горло смочить, теперь и язык развязался.
Отец твой Иван скромный был, не бахвалился своим геройством, ничем себя не выделял, работал до самого последнего своего дня. — Ничипор взволнованно сцепил на коленях руки, чуть подавшись вперед. — Вы думаете, истинный герой только тот, у кого звезда на груди? Не-е-ет, не только. Если бы взяться награждать всех тех, кто в войну заслужил это высокое звание, то было бы героев в десять крат больше. Много таких героев живет себе тихо-мирно. Грудь вроде в орденах, но даже малейшую необходимую льготу себе попросить стесняются. А иной и войны почти не видал, в первый день в госпиталь попал и комиссовался, а теперь, смотришь, в грудь себя стучит и внимания особого требует.
— Отец твой жизнь мне спас на фронте. — Ничипор откачнулся, облокотившись на край нар, продолжал с тихим возбуждением: — Стояли мы в обороне. Посылают наше отделение языка взять. Дело привычное. У нас к немцам даже своя лазейка была — через топкое болотце. Надежное место было. Днем через это болото переползем, на той стороне, уже в тылу у фрицев, пересидим до темноты в дубовой релке, все что нужно высмотрим, а потом уже к окопам подбираться начинаем. Болото топкое, немцы на него только вполглаза смотрели. Ну вот, к болоту подползли, лежим в кустах, слушаем, вроде тихо, спокойно. Как раз за день до этого снег первый упал, пухло так лежит — четверти на три. Ну вроде все спокойно. Выползли из кустов на болото, ползем по нему гуськом, за торфяной бугорок прячемся. К бугорку подползли — дальше чистое, как белая скатерть, болото. Топкое оно и правда было: зыбуны, трясина, а по центру была в нем грива из плотного, как одеяло, моховища. Бывало, ползешь по нему, мох под тобой прогибается, а не рвется, вот тут и ползали мы. Конешно же, в грязи, в тине болотной вывозишься, как свинья, да лишь бы живу быть! Ну, дак вот, выглядываем — все как было вроде на той стороне. Ползти надо, а Иван, отец, стало быть, твой, руку поднял: «Стойте, ребя! Что-то нехорошо у меня на душе, что-то не нравится мне та сторона, вроде как тигра там затаилась и смотрит на меня». Ребята ему упрек: «Паникуешь, командир! Никого там нет. Давай быстрей поползем на ту сторону — мокро лежать тут...» Ну, Иван говорит: «Нишкните! Я переползу на ту сторону один сперва, сигнал подам, и вы ползите». Ну, хотел ползти, а мне очень хотелось тут геройство свое показать, — Ничипор покачал головой, усмехнулся. — Оно ведь хорошо геройство показывать, когда знаешь, что там, на той стороне, ничего нет и ничто твоей жизни не угрожает... Ну, я Ивану настойчиво так свою кандидатуру навязал, дескать, командир должен оставаться при своем отделении и тому подобное. Ну, пополз, короче говоря. Половину болота уже прополз. Довольный такой ползу! Назад оглядываюсь — хлопцы наблюдают за мной, а мне это лестно, а мне того и надо — знай наших! Ну вот, ползу, улыбаюсь себе, даже голову не прячу, неохота мордой снег пахать, болотную жижу нюхать, на дубовую релку пялюсь — близко она, вдруг — как сыпанет оттуда пулемёт! Снежные фонтаны от пуль перед самым носом поднялись. Засада — мать-перемать! Умакнул щеку в болотную жижу, лежу, не шевелюсь, глазом не моргну. Окаменел весь от страха, богу молюсь. И скажи-ка ты, и раньше в бога не верил, и сейчас не верю, а тогда твержу про себя: «Господи, спаси!» — Ничипор презрительно сплюнул, навалившись грудью на край стола, понизив голос, продолжал: — А вокруг, слышу, пули шлепают, смачно эдак, густо, будто ребятишки по воде прутьями стегают. Ужалила, ожгла меня пулька в правую ногу чуть повыше колена. Лежу не двигаюсь, боюсь показать, что живой. Еще одна в левое плечо ужалила. Ну, думаю, каюк мне, сейчас пулеметчик пристреляется и сделает из меня решето. Боженьку поминать перестал, один черт не помогает. Лежу смирненько, смертушку жду. Слышу, пулемет смолк. Лежу я у них на виду, как муравей на белой скатерти, решили, видно, что убит я.
Вот так и открыли мы новую огневую точку у немцев. А приказ был в бой с противником не вступать, себя не демаскировать. Наши тоже подумали, что мне конец. Пора им уходить, а то, чего доброго, начнут немцы все болото минометами обстреливать. Да и доложить нужно об огневой точке, этой дырой пользовались и другие разведчики. Иван хлопцев отправил, а сам остался — за немцами понаблюдать, меня в темноте попытаться вытащить и похоронить по-человечески, на сухом бугорке. — Ничипор вдруг закашлял. Откашлявшись, потер лицо, подошел к печке, натолкал в топку поленьев, поставил на плиту чайник. — Савелий с сынком подойти уже должны, пускай с морозу чайком горячим побалуются. — Вновь сел на прежнее место и продолжал устало: — Лежу я посередь болота под прицелом пулемета. Ногу огнем палит, плечо одеревенело, кровь течет, запах болотной тины с кровью раздражает. Забываться стал, одно держу в голове — что я не должен шевелиться. Так до ночи и пролежал в болотной жиже, вижу одним глазом — звездочки на небе зажглись. Тут слышу, кто-то меня за здоровую ногу тянет, да сильно так, жестко. Перехватил меня за раненую, мать-перемать! Застонал я. Иван и хрипит мне: «Живой, Ничипор?» А у меня, чувствую, по щекам слезы текут безудержно. Но до того вдруг мне хорошо и радостно стало. Хочу что-то хорошее Ивану сказать, а голоса нет. Но жить захотелось, ну прямо по-звериному. Доволок он меня до края болота, тут нас и засекли. Ракеты пустили. Иван к лесу ползет, а вокруг пулеметные очереди кусты срезают.
Очнулся я в землянке. Гляжу, ребята Ивану руку бинтуют, марля вся кровью пропиталась. Тащил он меня, оказывается, сам уже раненный, но не оставил... Вот таким был твой отец, Павел. Я к чему все это рассказал? Чтобы ты знал о своем отце побольше, чтобы гордился им.
За дверью раздался шорох и покашливание Савелия.
Ничипор осекся, сказал, будто бы обрадовавшись:
— Ну вот и Лошкаревы пришли!
Савелий с Николаем на своем маршруте тоже не обнаружили тигриных следов. На завтра оставался совсем малый круг. Посоветовавшись, охотники пришли к выводу, что на таком малом кругу тигрица сидеть не будет, рано или поздно она вышла бы за пределы круга на разведку, тем более, что в этом круге, по словам Ничипора, мало зверя и, кроме того, всю осень там стояла экспедиция.
— Надо искать ее на склонах Уссурки, — неуверенно доказывал Савелий. — Там ишшо тайга не шибко тронута, поспокойней, чем тут, и слышал я, будто у однорукого Вощанова двух собак нынче тигра утащила.
— У-у, брат ты мой, хватился, — усмехнулся Ничипор. — Это было еще в августе, да и неизвестно еще, кто утащил его собак: то ли тигрица, то ли тигр, а может, и медведь...
— Ну все одно — дыма без огня не быват, — с неприязнью возразил Савелий. — Придем — расспросим однорукого, он нам без утайки все и расскажет, человек он не скрытный, не бирюк. — Савелий с усмешкой глянул на Ничипора.
— В этом ты прав, Лошкарев. Иван Иванович, действительно, человек открытый и безвредный, потому и удобный для всех: его по одной щеке бьют, а он и другую подставляет.
— Ох и въедливый ты мужик, Ничипор! — искренне возмутился Савелий. — Я твоему Вощанову за всю жизнь и худого слова не сказывал, а ты мне приписываешь черт-те чо!
— Худого не говорил, и доброго тоже, — жестко продолжал Ничипор. — Хоть бы раз кто-нибудь из вас, стариков, на собрании выступил. Угодничаете, слово против сказать боитесь...
— А что, от твоих выступлений много проку-то? — с обидой спросил Савелий. — Много ли делов-то переделано? И твово Вощанова, неизвестно ишшо, надо, нет, оправдывать. Сам он свое достоинство уронил.
— Вот-вот, он уронил, а вы, вместо того чтобы помочь ему поднять его достоинство, зубоскалите над ним. Однорукий! Уж лучше иметь пустой рукав, чем пустую душу! — сердито заключил Ничипор и больше в этот вечер не проронил ни слова.
Утром, перед прощанием, Евтей осторожно попросил:
— Слышь-ка, Ничипор! Ты, это, ежели тигрица с тигрятами появится в твоих угодьях, сообщи нам через Мельничное, ладно?
— И не подумаю, Евтей! Не одобряю я ваш промысел, даже и не рассчитывайте на мое участие. Сами ищите!
Простился он за руку только с Евтеем да Павлом, а Савелию с Николаем лишь головой кивнул: «Бывайте здоровы!»
— Бирюк! Истинно, бирюк! Ишшо и людей критикует! — негодующе сказал Савелий, отойдя от зимовья.
Часа через три артемовский путик вывел тигроловов из девственной тайги на огромную вырубку, посреди которой между пней и вывороченных бульдозером коряжин голо и сиротливо стояло зимовье. Шедший впереди Савелий свернул с путика и, обойдя избушку, повел бригаду по старому волоку к синеющему впереди перевалу, тоже испещренному вдоль и поперек белыми полосами и квадратами вырубок.
— Да-а, обкосили Артемова! — приостановившись и удивленно озираясь, покачал головой Савелий. — В позапрошлом году здесь кедрач стоял отменный...
Ему никто не ответил, и он, подкинув на спине котомку, молча зашагал дальше.
Идти по чистому волоку, укрытому неглубоким снегом, гораздо легче, чем по девственному лесу. Но легкость эта обманчива. Хватает ее на полчаса или час. А если идешь ты по волоку долго, слышишь под ногами однообразный шорох снега, видишь и справа, и слева угнетающую для всякого истинного таежника панораму: обширные пустоши, утыканные тысячами и тысячами пней, вывороченные корневища, гривы и пучки уцелевшего, большей частью еще молодого или уже перестойного и потому негодного для заготовок леса, отвалы земли и дерна вперемешку с корягами и сучками, столканными бульдозерами на обочины лесовозной дороги, — все это непременно станет тебя угнетать, и покажется эта гладкая, засыпанная снегом дорога нескончаемо длинной и кощунственно широкой, неуместной здесь, словно гнойная рана на чистом, здоровом теле.
Только к вечеру поднялись тигроловы на перевал и наткнулись на рабочую лесовозную дорогу. Они вышли по ней еще через час ходьбы на тепляк, около которого безмолвно застыли два оранжевых трелевочных трактора и один челюстной погрузчик. Неподалеку от них стояла на полозьях продолговатая избушка и голубой автомобильный фургон, поставленный на четыре толстые чурки. За фургоном виднелась черная цистерна, за ней на фоне темной и плотной, как стена, тайги смутно угадывались штабеля леса. Терпко пахло хвоей и соляркой. Тепляк представлял собой огромную, вырытую в склоне сопки землянку, вход которой, точно занавес сцены, закрывал брезент. Тепляк был еще новый. Торцы засыпанных землей хлыстов, из которых были сложены стены и потолок, желтели в сумерках янтарными кружочками. В такой тепляк, заменяющий в зимнее время теплый гараж, свободно вмещается десяток трелевочных тракторов. Из печной трубы его клубился дым. Струился дымок и над железной трубой избушки, обещая уставшим людям, если не уют и комфорт, то, по крайней мере, ночлег в тепле.
Небольшая коротконогая дворняжка, лежавшая около дверей избушки, издали заметив приближающихся людей, залаяла, заметалась и вдруг панически, с испуганным визгом, точно ее стеганули плетью, метнулась под избушку. Никто не вышел на лай.
«Видно, сторож в тепляке, не слышит нас», — подумал Павел, но ошибся.
Хозяин избушки сидел за дощатым столом перед лампой и читал книгу. Когда же в зимовье вошли тигроловы и, поздоровавшись с ним, принялись бесцеремонно раздеваться, развешивая шинелки на гвозди поближе к пышущей жаром чугунной печке, он, безмолвно наблюдавший за всем этим, наконец отложил книгу и спросил без удивления:
— Вы откуда свалились? А я слышу, Бобик мой под вагончиком лает, думал, Евстигнеев подъехал, а это вы, оказывается.
— Ты бы хоть спросил, кто мы такие, — сказал Савелий, проходя к столу и усаживаясь на лавку. — Может, разбойники мы, грабить пришли — вишь при оружии все...
— А чо спрашивать? — Хозяин избушки оживился, сложил на столе руки, как школьник за партой, широко заулыбался щербатым ртом. На вид ему лет пятьдесят. Сухое, узкое лицо его хотя и чисто выбрито, но было нездорового серого цвета и казалось измятым и припухшим, под мутно-серыми глазами набрякли мешки. — Чо спрашивать? Если разбойники — значит, жалко мне вас, потому что грабить у меня нечего, ошиблись вы, разбойнички, — все мое при мне! — Он скосил глаза на грязный свой свитер, провел смуглой, похожей на птичью лапу, рукой по лысой, обрамленной седым пушком голове и, беспечно рассмеявшись, без рисовки, но с гордостью повторил: — Все мое при мне! Грабьте!
Он сказал это так, что никто и не усомнился в том, что все его при нем. Павел оглядел убранство избушки, если это можно было назвать убранством: слева от двери — чугунная печь, справа, в углу — умывальник, под ним — замызганный таз, поставленный на еловую с необструганной корой чурку. В глубине избушки — четыре железные койки, заправленные красными, испачканными мазутом и прожженными во многих местах одеялами. На одеялах серые подушки и лоснящиеся от мазута телогрейки. Между кроватями, у стены, поставлены в один ряд тумбочки, на них стопка истрепанных книг, газеты, журналы, радиоприемник, граненые стаканы, эмалированные кружки, засохшие куски хлеба.
— Ну так чего, братья-разбойнички! Будете грабить или чаи со мной погоняете? — терпеливо дождавшись, когда гости осмотрятся, спросил хозяин с прежней гордостью и довольством на лице.
— Да уж ладно, парень, не тронем твое имущество, помилуем тебя, — насмешливо оглядывая закопченное жилище, сказал Савелий. — Чайку попьем, переспим да и с богом уйдем. А ты тепляк сторожишь? Звать-то тебя как? Что-то мне твое обличье будто знакомо.
— Ох и память у тебя девичья, батя! — осуждающе покачал головой хозяин избушки. — В позапрошлом году ты у меня на Моховом в тепляке останавливался. На «уазике» с нашим начальником участка приезжал... Ты еще о следах тигриных расспрашивал. Деньги предлагал за след.
— Скудно живешь, парень, — оглядывая закопченные стены с торчащей в пазах паклей, удивленно сказал Савелий.
— Не-ет, батя, — улыбнулся хозяин, — добра у меня побольше, чем ты думаешь. — Он весело кивнул в сторону окна. — Все мое добро, батя, на улице. Глянь-ка, ежели на слово не веришь. Тепляк мой, трактора мои, а тайги не мерено и звезд не считано. Это чо — не добро?
— Ну, если так-то рассуждать, значит, верно, — усмехнулся Савелий.
— А это, батя, от самого тебя зависит, кем назначишь себя, тем и будешь.
Савелий покачал головой, насмешливо спросил:
— Чего же ты тогда в сапогах кирзовых гарцуешь по морозу? Валенки-то небось пропил, а?
— Сапоги у меня отменные. А на что мне валенки? Я тепляк топлю, а в нем трактора грязищу размесили, как же я туда в валенках сунусь? Понятно или нет?
— Ну, понятно... — неохотно согласился Савелий.
— И потом, чем меньше человек имеет, тем свободней он. А чем больше купил, собрал, накопил, тем ему еще больше иметь хочется. Болезнь такая появилась, вещизм называется. Слыхал? Неотвязная болезнь! Человек вещи покупает, денежки копит и наивно думает, что царствует над вещами. И не видит, что это вещи его уже поработили. Они им распоряжаются: пойди туда, сделай это. Купит такой человек машину и начинает маяться. Ходит вокруг нее, чтобы не украли; опасается, чтобы не помяли, не царапнули. Иной и шабашничает на ней после работы, рублевки да трешки сшибает, надо ведь семь тысяч рубликов, истраченных на машину, вернуть обратно. У меня приятель есть, долго копил на машину — недопивал, недоедал. Купил ее, а ездить на ней боится. Носовым платком кузов обтирает, только еще не крестится на нее, как на икону.
— Наговорил ты, паря, целый ворох, — уклонился от спора Савелий. — Сам, небось, запутался и других путаешь.
— Кое в чем он прав, Савелко, — подтаскивая к столу мешок и развязывая его, заметил Евтей и, повернувшись к насупившемуся вдруг хозяину, спросил: — Как звать-то тебя?
— Зовут меня Цезарем.
— Ну, брат, — поморщился Евтей, — не нашлось у твоих родителей русского имени?
Да это не имя... — Цезарь слегка смутился, опустил глаза, но тут же встрепенулся, поднял лысую голову и с вызовом повторил: — Да, Цезарем кличут, а что тут такого?
— Да я не возражаю, — с усмешкой покачал головой Евтей. — Раз так кличут, значит, есть причина. Настоящее имя-то у тебя есть?
— А как же! Юлий Васильевич.
— Я вот к чему клоню, Юлий-Юрий, — продолжал Евтей, — в чем-то ты прав. Но вот ты сказал, что хочешь свободным быть, как птица, вольным, значит. А ведь птицы-то парами живут, гнезда вьют, детей выкармливают, а ты, поди, и гнезда никогда не имел?
— Ошибаешься, батя! Было и у меня гнездышко в свое времечко. Свил, смастерил гнездышко, да рассыпалось оно. — Юлий проговорил это с напряжением, точно сидела у него внутри застаревшая боль-заноза и боялся он, что сейчас начнут ее ковырять. — Было гнездышко, батя, до сих пор тридцать три процента из зарплаты удерживают. Ну вы тут располагайтесь, как у себя дома, а я пойду в топляк дров подброшу.
Вернулся он к тому моменту, когда закипела вода в чайнике.
— Ну вот, кстати пришел, — снимая чайник с плиты и кидая в него заварку, доброжелательно сказал Евтей.
— Чай пить — не дрова рубить, — охотно согласился Юлий и, достав из тумбочки литровую стеклянную банку, высыпал в нее пачку чаю, залил кипятком и, накрыв банку брезентовой промасленной рукавицей, блаженно потер руки, — сейчас попьем в охотку!
Павел не удивился такому способу заварки. Иные сыплют пачку заварки даже на пол-литра. Чай, вскипяченный на углях с дымком и заваренный в железной консервной банке, накрытой промасленной верхонкой, — этот способ у бичей нечто вроде фирменного рецепта. Все иные способы заварки, на их взгляд, уже не то. Ощущение от чифира такое, будто бы проглотил медвежью желчь.
— У нас был охотник, который через каждые три километра чифир в кружке варил. Костерок затопит, чифирку глотнет и дальше бежит. Только бегом и передвигался. Пока чифир в голове — бежит, как испарился — стоп! Заправка! А в позапрошлом году прямо на бегу и помер... — Савелий рассказывал назидательным тоном, но Юлий, воспринял его рассказ по-своему.
— Да, жалко парня. Ни за что ни про что в ящик сыграл. — Юлий хотел рассказать еще что-то, но залаяла собака, послышался скрип шагов, затем по крыльцу мягко простучали, и в избушку в клубах морозного пара вошел высокий парень с вислыми черными усами, в темно-зеленой суконной куртке с эмблемой мастера лесной промышленности на рукаве. Стащив с головы мохнатую серую шапку из собачьего меха и похлопав ею по заляпанным снегом валенкам, он вежливо поздоровался. Увидев прислоненные к стене карабины, парень испытующе посмотрел на Юлия, но тот сосредоточенно отливал из литровой банки в кружку свое драгоценное питье, и ничто другое в этот момент его не интересовало. Тогда парень, подозрительно оглядев незнакомых ему людей и остановившись взглядом на Николае, вдруг забеспокоился и пошел к дверям, пробормотав:
— Пойду дровишек принесу...
Вернулся он минут через пять, весь в снегу и без обещанных дров.
«Наверное, подумал, что мы охотинспекторы, и ружье ходил прятать», — подумал Павел, с усмешкой наблюдая за парнем.
Так и было. Во время ужина, уяснив наконец, что перед ним тигроловы, парень облегченно вздохнул, рассмеялся и рассказал, что, приняв их за инспекторов, спрятал свое ружье и рюкзак с капканами в снегу за ручьем.
— Пошто ружье-то прятал, не регистрировано, што ли? — поинтересовался Савелий.
— С рук купил недавно, не успел зарегистрировать, а ружье хорошее, двухстволка двадцатого калибра, жалко, если отберут.
— Редкое ружьецо, нынче в магазинах нет уже таких, — сказал Евтей и посоветовал: — Ты, паря, не тяни, а то и в самом деле отберут.
Парень оказался разговорчивым — в пять минут он успел рассказать не только свою биографию, но и биографии родственников. Звали его Михаилом.
— Я вот о чем хочу спросить тебя, Юлий Васильевич, — поинтересовался Евтей, — ты тут тепляк топишь, в тайге живешь, всякий люд у тебя бывает. Про тигра не говорил кто-нибудь? Не видал ли кто следов тигрицы с тигрятами? А может быть, ты слышал, Михаил? — повернулся он к мастеру.
— Ну, ты, батя, даешь! — Юлий возбужденно заерзал, вскочил, оглядел всех многозначительным взглядом. — Ну, ты даешь... Обижаешь! Слухи!.. Вот дает! — он словно подхлестывал себя этими, пока еще ничего не значащими словами, а заодно подготавливал и слушателей к какому-то важному известию. — Придумал... Слухи... Да этих тигров у меня без всяких слухов полным-полно вокруг тепляка! — Федотов интригующе смолк, испытующе поглядывая на насторожившихся тигроловов.
«Ну и артист!» — восхищенно подумал Павел.
— Так ты, это, Юрий Васильевич, расскажи-ка нам подробней. Где тигры? — насторожился Евтей, переглянувшись с Савелием. — Ты что, стало быть, в тайгу ходил и следы тигриные видал?
— Зачем в тайгу, зачем следы? Обижаешь, начальник! — снисходительно заулыбался Федотов, довольный произведенным эффектом. — Я в тайгу не ходок, боюсь. Тигры сами ко мне приходят. Тут их развелось, как собак нерезаных! Житья они мне не давали осенью. Верите или нет, на двадцать метров от будки в туалет с ружьем ходил. И по воду тоже с ружьем. А началось все осенью. Лес тут еще не валили. Тихо было, а я сторожил. Ну, сторожу себе, значит, и сторожу. Журналы, книжки почитываю, бражку иногда варю — попиваю, рябчиков постреливаю. Все нормально. Но вот замечаю, что Бобик мой стал тявкать в одну и ту же сторону, за ручей. Там буреломник и ельник густющий — вот туда и лает. День лает, второй лает, третий. Прямо среди бела дня! Выйду, посмотрю — никого. Надо бы бабахнуть из ружья в ту сторону, да мало патронов — жалко. Может, на бурундука пес лает. Глупый пес, никудышный — сами видите. Потом и ночью стал гавкать. Перестал я обращать внимание. Черт с тобой, гавкай! И вот, днем это было, вдруг слышу, Бобик от цистерны с визгом несется и под будку. Под будкой, — Федотов постучал каблуком по полу, — прям под этим местом, визжит, как будто его швайкой под ребро шпыняют. Вот, думаю, пес с ума сошел, на каждый пенек лает, приедут бичи — отдам его в общий котел на закуску. Ну, значит, ругаюсь так, дверь открываю — ёшь твою ма-ать! Тигрище стоит — вот такенный! — Федотов, испуганно вытаращив глаза, протянул руки над полом, показав рост. — Представляете, кошачья морда, как мазовское колесо! В трех метрах от двери стоит, глазищи, как угли, горят — жгут меня. А сам хвостом туда-сюда, туда-сюда. Собака визжит под будкой, а я прилип к порогу, вот хоть верьте, не верьте — как в камень обратился! Ну, тигрище похлестал-похлестал хвостом, тихонько с достоинством повернулся и пошел к ручью. Дошел он до валежин, повернул голову, разинул красную пасть да как рявкнет — у меня ажно от затылка мороз пробежал и ноги от порога враз отклеились. Захлопнул я дверь, да на крючок. И с ружьем к окну. Жаканы в стволы сую, а руки как с глубокого похмелья трясутся, в патронник не могу попасть гильзой. А тигр еще постоял минутку да как махнет через валежины — такой громила, а взлетел — и нет его, как тень исчез. Представьте себе! Ежели этакий жеребец из-за валежины человеку на хребтину вспрыгнет... — Федотов облегченно вздохнул, помолчал, удивленно покачал головой. — Ну, короче говоря, простоял я с ружьем у окна целый час, наверно. Потом все-таки осмелился дверь открыть, выйти на порог. Бобик все под будкой повизгивает. Стал звать его, а он застрял, оказывается. В такую щель забился от страху, что ни туда ни сюда. Тут сумерки пришли. Ну, думаю, к черту тебя, а то пока буду под будкой лопатой землю подкапывать, этот черт подкрадется — и поминай Цезаря! Закрылся я в будке, всю ночь печку кочегарил, зверь-то огня боится, а утром домкрат из тепляка принес, поддомкратил будку и выволок Бобика.
— Ну, а тигра-то приходила еще? — нетерпеливо спросил Евтей.
— Как же, приходила. То-то и оно. На следующий день снег выпал, все следы стало видно. Гляжу: тигриные следы — вот такенные! — Федотов взял лежащую на койке драную солдатскую шапку и, перевернув ее кверху тульей, показал, какие были следы.
— Да, вот такенный след! Первый день прямо на тепляке увидел их — по тепляку ходил, зараза! Потом другие следы — поменьше — появились около цистерны. Потом около ручья, где воду беру. Кругом следы! И все разные... Да сколько их тут? Вот попал! Скорей бы, думаю, бичи приехали на заготовку леса, а то ведь съедят тигры. Бобик под будкой так и прописался, только есть-пить вылезал оттуда, лаем своим до того надоедал, что стал я его на ночь в будку забирать. Потом бичи приехали, стали бензопилами шуметь, тракторами, тигры и перестали появляться. А Бобик мой до сих пор, чуть что, так сразу под будку прячется. Недавно бичи его съесть хотели, — Федотов почесал заскорузлыми пальцами потную лысину, отпил из банки чифиру, вытер рукавом губы. — После праздников пропились, жрать нечего, а Бобик бегает, хвостом виляет, зажратый, черт, как пончик, круглый. Ну, ребята, значит, ко мне с вопросом: «Не пора ли, Цезарь, твоего барашка в братский котел?» Хотел я отдать его, да потом жалко стало. Такого страху псина натерпелась, вместе прятались от тигров, а тут после спасения я ее на съедение людям отдам... — Федотов даже потупился смущенно, точно винился перед тигроловами за то, что не отдал Бобика на съедение бичам. — Неловко как-то получается, навроде как предаю я своего товарища... Хрен с ним, пускай живет!
— Слыш-ка, ну а те следы, которы поменьше, около цистерны, ты говоришь, — разочарованно спросил Евтей, — те следы какие размером-то были?
— Это который маленький следок? Около цистерны? Меньше тех, которые на тепляке.
— Ну, насколько меньше-то? — Евтей начинал сердиться. — Ты мне покажи руками — с чайное блюдце, с кружку или, может, с котелок вот этот? Федотов наморщил лоб, вспоминая.
— Пожалуй, вот, с крышку котелка...
— Тьфу! Мать-перемать! — выругался Евтей, безнадежно махнув рукой. — Да ведь крышка эта, дорогой ты мой, двадцать сантиметров в поперечнике! Маленький следок! Тьфу!
— А что, разве это не маленький?
— Это, паря, след такого самца, который на полтонны весом, — разочарованно пояснил Савелий. — У тигрицы пятка от восьми до четырнадцати сантиметров, у самца больше. Значит, поменьше, чем тот, ты следов не видал?
— Нет, меньших не было, — тоже разочарованно помотал головой Федотов.
— И тигр-то у тебя, паря, был один и тот же, — наставительно заметил Савелий. — Два взрослых самца так близко в одном месте не живут — у них у каждого своя территория.
— И большая территория у тигра? — живо вставил вопрос Михаил.
— Да смотря какой тигр, — Савелий поморщился, ему не хотелось говорить сейчас про тигров, — смотря какой тигр. Самка с малыми тигрятами может жить на трехкилометровом участке, лишь бы зверь тут был, а с большими тигрятами большие переходы делает — километров до двадцати, а самец большой — километров до полста...
— Большой участок. А как он реагирует, если через его участок дорогу проводят или лес брать начинают? В глухую тайгу, наверно, уходит?
— Ишшо чего удумал! — Савелий удивленно покачал головой, глядя на Михаила с сожалением. — Да где ты в Приморском крае глухую тайгу-то видел? Лет двадцать назад еще была глухая тайга, а теперь нету ее, нету! Сейчас из любого места тайги — закрой глаза, пройди в любую сторону сто шагов, открой глаза — и увидишь либо старый, либо новый пень. Из любого места сейчас за день ходьбы в любую сторону непременно выйдешь на старую или новую лесовозную дорогу. Какая там, к черту, глухая тайга! Вы, лесозаготовители, рубите ее налево и направо. Новая вырастать не успевает. Пошто кедрачи изничтожаете? — Савелий посмотрел на Михаила сердито, требовательно, точно это он, простой мастер лесоучастка, является главным зачинщиком в истреблении кедра. — Пошто, спрашиваю, кедрачи изничтожаете?
— Ну как пошто? — слегка растерявшись перед бурным натиском Савелия, не понял вопроса Михаил. — У кедра кубатура... — Но тут же, сообразив, к чему клонит Савелий, сказал ему с обидой и раздражением: — Вы думаете, что, если мы лес пилим, значит, нам его не жалко? Иные пилят, конечно, не задумываясь, им хоть что под пилу подставляй, лишь бы платили побольше. Другие переживают. Но что поделаешь, древесина-то нужна? Нужна! Правда, из-за собственного ротозейства иной раз такие потери бывают, что самим стыдно друг на друга смотреть. Иной раз спилить-то спилим, а вывезти не успеваем. Техника забарахлит, или организация труда подводит. Вот и остается соштабелеванный лес на делянках гнить. За сохранность добытой древесины спрашивают слабо. Иногда из десяти спиленных деревьев до потребителя доходит только восемь, а остальные могут сгнить, утонуть, сгореть.
— Губите лес! — с возмущением поглядел на Михаила Евтей. — Думаете, что на наш век хватит, а там и хрен с ним?
— Самому мне, батя, тошно. Только ведь речь нужно вести не о запрещении лесозаготовок, а о хозяйском отношении к делу. Думаю, что вполне можно было бы из десяти спиленных деревьев довести до ума не менее девяти. А лучше бы и совсем без потерь. Правда, для этого и учет нужно получше поставить и спрос повысить. Да что там говорить, ведь и торговать нам выгоднее не лесным сырьем, а готовыми изделиями из древесины. Это же сразу доход в несколько раз увеличится. А то бывает, мы кому-то сырье поставляем, а они нам за наше же сырье рубашки нейлоновые, куртки ширпотребовские. А чтобы побыстрее, помасштабнее торговля шла, они нам еще и технику предлагают кой-какую: лесовозы, например, будьдозеры. Сами с себя кожу сдираем для них ихними же скребками.
— Ну ладно, ребятки, потолкли воду в ступе, пора и ко сну готовиться, — предложил Евтей. — Слышь-ка, Юлий Васильевич! Распределяй, где кому спать.
— Располагайтесь все на койках, а я уйду в тепляк, там у меня над печкой отличная лежанка, — распорядился Федотов.
— Да куда ты уходишь? — попробовал остановить его Евтей. — Неловко, паря, получается, приютил, обогрел, да еще и койку свою уступаешь.
— Ничего, батя! У меня, в тепляке комфорт. Да мне и сподручней там, ночью дрова подкладывать надо, придется беспокоить вас. Так что бывайте здоровы, живите богато и спите спокойно! — он театрально поклонился и, лягнув дверь, вышел.
— Действительно, как-то неудобно получилось, — сказал Павел.
— Зря вы переживаете, ребята, — успокоил тигроловов Михаил. — Ему там в самом деле удобнее. Там свет есть, нары над печкой. Будет он всю ночь книжки читать, а утром сменщик его приедет из поселка, днем Юлий и выспится.
— Да-а, такой жизни не позавидуешь — ни кола ни двора, — осуждающе покачал головой Савелий. — Ущербные люди эти бичи, одно беспокойство от них.
— Не скажите! — с жаром возразил Михаил. — Бичей хоть и поругивают, а без них нам туго бы пришлось. Рабочих рук на Дальнем Востоке не хватает. Вот, к примеру, работал я в позапрошлом году в геологоразведочной экспедиции. Живут в тайге в палатках. Заработки не ахти какие высокие, а условия, мягко говоря, не легкие. Степенный, семейный человек поработает в такой шараге два-три месяца и увольняется. Потому что ему нужна квартира, а где ее в экспедиции возьмешь? А бич неприхотлив. Поработал на сезонке полгода и дальше перебрался. — Михаил снял валенки и, поставив их к стене за печь, лег, укрылся курткой и продолжал: — Бичи для осваиваемых районов нужны. Где шарага, где плохое снабжение, скверная организация, трудные условия — там и бичи. Взять Цезаря нашего. Пять лет он топит тепляки в нашем леспромхозе — живет в вагончике или в таком вот барачке. Зимой тепляк топит, а летом здесь в тайге остается сторожить инвентарь, бензин и прочее. Вырвется раз в месяц в деревню, в общежитии поживет, с бичами водку попьет и опять в тайгу. Ну, кто бы на такую работу пошел, кроме бича? А его сменщик десять лет на такой работе проработал.
Павел встал, собрал со стола остатки ужина и вынес их собакам. Над темной притихшей тайгой ярко светила луна. Погрузчик с поднятой массивной челюстью, отсвечивая металлом и стеклами кабины, напоминающими глаза, был похож на застывшее чудовище. Перед входом в тепляк, как на тускло освещенной неоновым светом сцене, стоял с колуном в руках Федотов. У его ног были разбросаны поленья. Он стоял лицом к луне. Смотрел на нее или любовался притихшей тайгой, а может быть, просто задумался о чем-то, кто его знает. Он стоял неподвижно и долго. Так долго, что у наблюдавшего за ним Павла морозом прихватило уши и он, оттирая их ладонями, поспешил в избушку. Уже засыпая, Павел услышал ритмично-хлесткие и сильные удары колуна. Было ясно, что у тепляка работает сноровистый и усердный человек.
* * *
Утром, когда тигроловы собрались уже уходить, к тепляку, громыхая прицепами, подъехали два оранжевых лесовоза. Шофер одного из них, грузный, с одутловатым лицом мужик, увидев Савелия, протянул ему руку:
— Доброго здоровья, Савелий Макарович! Опять за тиграми гоняетесь? Вот уж действительно — охота хуже неволи.
Узнав, что тигроловы намерены идти к устью Ороченки, он радостно воскликнул:
— Так я же, хлопцы, могу вас подкинуть. Сидайте в мою колымагу, километров семь попутно со мной, а там прямо по склону.
От тепляка дорога круто пошла в гору, но мощный мотор тянул машину легко.
— Хорошая машинешка! — перекрикивая ровный басовитый вой мотора, похвалил Евтей.
— В самую точку попал, — польщенно кивнул водитель. — Тридцать кубов тянет — и хоть бы хны! Зверь, а не машина!
На вершине водитель переключил скорость, и лесовоз, взревев, как рассерженный бык, рванулся и, стремительно набирая скорость, помчался по ровному плато. Шум в кабине уменьшился, и можно было говорить, не надрывая голос.
— Да, Евтей Макарович, машина хорошая, — вновь заговорил водитель, — сколько уже лесу из тайги вывезла...
— Лучше не поминай — одно расстройство, — отмахнулся Евтей, продолжая внимательно смотреть на обочину.
— Это верно, одно расстройство, — плавно притормозив перед мостиком и вновь нажав на педаль газа, согласился водитель. — А я раньше не задумывался над этим. Вон сколько тайги этой было — бездонная прорва! Но как пошла эта мощная техника, так и загудело, затрещало все кругом. Первые годы брали лес в десяти километрах, а теперь до ста километров приходится уезжать за кедром. Не стало кедра! Поговаривают, что скоро сплошная рубка начнется. — Водитель приспустил боковое стекло, швырнул недокуренную сигарету. — Ей-богу, хоть и заработок на лесовозе большой, а противно иной раз и деньги в руки брать... Досадно сознавать, что я последние кедрины из тайги вывожу. Это, ребята, не красивые слова, в самом деле так.
Павел внимательно посмотрел на водителя, лицо его было серьезным и озабоченным, голос звучал взволнованно.
— Давно бы бросил это дело, но что от этого изменится? Другой на мое место сядет и будет делать то же самое.
— Вот-вот, — согласно закивал Евтей, по-прежнему не отрывая взгляда от обочины.
— Чего ты там, Евтей Макарович, высматриваешь? — не выдержал водитель.
— Смотрю, может быть, где тигрица тигрят через дорогу переводила, не промелькнет ли ее след...
— Ну смотри, каждому свое. Только вряд ли, мы тут уже давно лес возим, но ее следов не замечали, а ведь все охотники.
Машину опять тряхнуло. Потянулась дорога вся в колдобинах, в подтеках выступающей наледи.
— Все, магистраль кончилась! — сказал водитель, отчаянно выкручивая баранку то вправо, то влево, объезжая глубокие выбоины. — Такая дорожка, как доска стиральная, до самого поселка. Машины тяжелые, быстро дорогу разбивают. Вон сколь развалов по дороге, — кивнул водитель на очередной штабель кедровых хлыстов, — развалится лесовоз, выдернут его — и поехали, а штабель остался на обочине. Иногда, ежели недалеко от верхнего склада, подберут его, а ежели далеко, так и останется гнить. Вон там, видите, старый развал лет пять уже лежит.

Павел посмотрел туда, куда указывал водитель. На обочине перед мостиком лежал штабель уже потемневших от времени и тронутых гнилью кедровых хлыстов.
— Таких возов, ежели посчитать, только вдоль центральной дороги с полсотни насчитаешь, а в каждом возу в среднем по двадцать кубов — вот тебе и тыща кубометров. А сколько таких брошенных возов от глаза спрятано на делянах и волоках? Ладно бы убыток просто в деньгах, а то ведь моральный ущерб! Такое могучее полезное дерево зря спилили! Моральный вред пострашнее материального.
Водитель открыл дверку кабины, высунувшись, внимательно посмотрел на подпрыгивающий, брякающий прицеп, закрыв дверцу, досадливо поморщился каким-то своим мыслям и, еще раз с тревогой оглянувшись на прицеп в заднее стекло, торопливо продолжил излагать свою мысль:
— Я вот еще что никак в толк не возьму, какая тут выгода нам: мы поставляем лес, а нам за этот лес поставляют мощную технику для лесной промышленности. То есть получается, дают барану ножницы и говорят ему: «На вот тебе ножницы, сам себя стриги, шерсть нам отдай, а ножницы себе забери. Ты нам шерсть, а мы тебе ножницы». Ну так ведь выходит?
— Да вроде как бы так, — неуверенно согласился Евтей.
— Именно так, Евтей Макарович! Ихним же топором под собой сук рубим! Пиломатериал им продавать надо, а не кругляк, отходы себе оставлять, перерабатывать их в мебель, а то ведь на лесозаводах тыщи кубов горбылей и опилок сжигаем. Был я недавно у свояка в гостях в Дормидонтовке, посмотрел на тамошний лесозавод, сколько добра сжигают и в грязь затаптывают! Когда же порядок возьмутся наводить в этом деле? Как ты думаешь, Евтей Макарович? Долго еще так будем крушить-ломать тайгу? — сердито спросил водитель Евтея, останавливая машину перед крутым правым поворотом, уходящим в густой, темный ельник.
Павел, догадавшись, что это тот самый поворот, откуда им надо идти дальше пешком, открыл дверцу, но прыгать на землю медлил — ждал, что ответит водителю Евтей.
— Конечно, наведут, не сумлевайся, — застегивая на груди шинелку и передавая Павлу поводок Барсика, успокоил водителя Евтей. — Наведут, паря... Теперь уже скоро. Вышли на волок. Чистый и ровный, он серебряным мечом рассекал темный густой ельник на две половины.
Павел с Барсиком шел впереди, следом вел своего Амура Николай, сзади, приотстав, шли Евтей с Савелием.
Вскоре густой ельник кончился, и начались свежие, трех-четырехлетней давности поруба, но уже там и сям на пустотах среди выворотней и пней густо стоял тонкий, в палец толщиной, березовый и осиновый подрост. Пройдет еще два-три года, и все это разрастется вширь и ввысь, перепутается лианами актинидии, лимонника и винограда и станет непролазным вторичным лесом.
Павел шел своим обычным шагом, но, услышав за спиной тяжелое дыхание Николая, стал набирать темп. Дыхание за спиной участилось, а затем стихло. Оглянувшись, Павел увидел, что Николай отстал метров на двадцать и что круглое лицо его раскраснелось и лоснится от пота. Далеко на волоке маячили фигуры Евтея и Савелия. Пройдя до первого брошенного на волоке кедрового хлыста, Павел, смахнув с него снег, сел и стал ждать. Николай уселся на хлыст поодаль от Павла, отчужденно молчал, отворачивая разгоряченное лицо, вытирая пот со лба.
— Ну и здоров ты, паря, на ноги! — искренне похвалил Савелий, устало снимая котомку и присаживаясь рядом с Павлом. — Как сохатый ломишься.
— А чо ему не ломиться? Не пьет, не курит, жирком не оброс, не застоялся, тренирован, — с некоторой гордостью проговорил Евтей, косясь на Николая.
— Вспомните, дядюшка, сколько у вас в бригаде перебывало таких вот незастоявшихся ломовиков. — Николай чуть заметно скривил в усмешке губы, указывая подбородком на Павла. — И все они первые два-три дня ломились, а потом скисали, а некоторых и выводить приходилось под руки из тайги. Вспомните, дядюшка.
— Так ведь то были люди, не привычные к тайге, а Павелко-то на энтом деле сызмальства, — с горячностью возразил Евтей.
— А Нефедов в позапрошлом году с нами ходил и скис, — разве он не сызмальства к тайге приучен был?
— Нефедов твой алкоголик и лентяй! — вспылил Евтей. — Он след указал, потому и терпеть пришлось его в бригаде, а не то и духу бы его не было у нас!
— Я не хвалю его, просто мысль свою провожу через него. Так сказать, наследника вашего, Павла Калугина, предупреждаю, чтобы сразу, стараясь угодить вам, не надорвался бы ненароком да и все силы не израсходовал... — Николай хоть и подчинился воле старших, но очень раздраженно терпел присутствие Павла в бригаде и не упускал случая, чтобы не ущемить самолюбия парня. Возможно, в нем говорило чрезмерное честолюбие — многие жаждали примазаться к славе знаменитых на всю страну тигроловов Лошкаревых. Но, если жаждавшие славы обычно вызывали лишь только усмешку или досаду Николая, потому что были хлипки и жидковаты для тигроловского промысла и не могли быть соперниками ему в этом деле, то Павел Калугин, напротив, раздражал его какой-то скрытой силой — не только физической. А Николай терпеть не мог чьего-то превосходства над собой, — есть такие натуры, которые жаждут, чтобы все уступали им. Павел не собирался уступать, он, «чужак», и в самом деле мог стать продолжателем дела Лошкаревых, и это злило Николая.
— Угомонись, племянничек! Поживем — увидим, — усмехнулся Евтей и встал. — Малость дыханье перевели, остудились, и полно — дальше пойдем. Ты, Павелко, Барсика мне теперь отдай, и ты, Николай, тоже своего пса отцу отдай. Вы целик бьете — вам собаки только мешают.
Так и было в действительности, поэтому Павел охотно отдал собаку Евтею. Николай тоже не заставил себя уговаривать и передал Амура отцу.
Без собаки идти было легче, и Павел сразу взял высокий темп, решив не сбавлять его до тех пор, пока сзади идущий Николай не предложит идти тише или пока не отстанет. С полчаса Николай, тяжело дыша, то и дело вытирая рукавом пот со лба, шел за Павлом буквально по пятам, но затем шаг за шагом начал отставать и отстал бы, вероятно, намного, если бы не медвежий след, пересекший волок. След был большой, трехдневной давности и принадлежал бурому медведю.
— Жирный медведище, лапы пухлые, не сморщенные, — рассуждал Павел, стоя над следом.
— Что тут такое? — подойдя к Павлу, спросил Николай. — Тигра прошла, что ли?
— Да нет, медведь бурый. — Павел поднял голову и повел глазами в ту сторону, куда тянулся след. Наткнувшись взглядом на наклонно стоящую неподалеку от волока толстую липу с бугорком свежей земли у корней, с беспокойством стал искать вокруг липы на снегу выходной след зверя, но не обнаружил его... И тотчас он увидел темный раскол — дупло, из раскола высунулся медвежий нос и, раздувая трепещущие ноздри, стал обнюхивать воздух.
Павел сбросил со спины рюкзак, снял висевший на шее карабин, передернув затвор, загнал патрон в патронник. Николай тоже увидел медведя и, не снимая котомки, сдернул карабин, приставил его к плечу.
— Сбрось котомку, — тихо, но властно сказал Павел, охватывая взглядом и дупло, и Николая.
Тот, что-то пренебрежительно пробормотав, продолжал стоять не двигаясь.
— Сбрось котомку! — властно прикрикнул Павел.
Медведь высунул из дупла лоб и уши.
Николай послушно сбросил котомку.
— Заряди патрон в ствол, — тихо приказал Павел, медленно поднося карабин к плечу и ожидая момента, когда медведь высунет голову полностью...
Лошкарев продолжал держать карабин у плеча, выцеливая зверя.
Павел хорошо помнил, что в Николаевом карабине только четыре патрона, сидящих в магазинной коробке.
— Загони патрон в ствол, черт тебя подери! — настойчиво и зло повторил он.
— Да пошел ты!.. — огрызнулся Николай.
Но в этот миг медведь с неуловимой быстротой, как тень, выскочил из берлоги и, развернувшись грудью, прыжками ринулся на охотников.

Павел, точно слившись с карабином, поймал черную звериную грудь на мушку и нажал спуск. От выстрела медведь только чуть дрогнул, но продолжал стремительно накатываться, расти. Павел, как можно спокойней, передернул затвор и вновь, уже почти не целясь, выстрелил в черную косматую грудь, краем сознания досадуя и недоумевая, что не слышит выстрелов Николая. От второго выстрела зверь, словно бы споткнувшись, присел, рявкнул холодящим спину, утробным рыком, поднялся на дыбы во весь свой громадный рост, с ревом затряс, замахал косматыми лапами и, склонив низко голову, прижав уши, изготовился ринуться в последний, решающий, бросок... Но Павел успел поймать на мушку широкий медвежий лоб и выстрелить в него. Медведь замер на мгновение и рухнул в снег к ногам отпрянувшего Павла. Передернув затвор и дослав в ствол последний, четвертый патрон, не спуская глаз с темной, неподвижной туши, Павел услышал где-то справа возглас Савелия:
— Молодец, Николай, прямо в лоб ему попал!
«Странно, разве это Николай убил? Почему же выстрелов не слышал я?» — с недоумением думал Павел.
Медведь не шевелился: из оскаленной пасти его огненным язычком вытекала на снег кровь. Уши зверя не были прижаты и стояли торчком — значит, зверь убит. У раненного затаившегося зверя уши обязательно прижаты. Но все же, продолжая держать карабин наизготовку, Павел оглянулся на Николая.
Он стоял все на том же месте и с остервенением пытался выковырнуть ножом вставший поперек магазинной коробки и смятый затвором патрон. Вероятно, дернув назад затвор и не дав патрону полностью выйти из магазина на подачу, Николай резко подал затвор вперед, смяв патрон, и заклинил его.
Измерив Николая презрительным взглядом, Павел подошел к медведю сбоку, толкнул его ногой в спину. Медвежья туша послушно колыхнулась.
— Молодец, Николай, — подойдя к сыну, радостно проговорил Савелий, сбрасывая котомку и отпуская с поводка хрипящего, рвущегося к медведю Амура. — Гляжу — на дыбы поднялся, а ты его — прямо в лоб, инда голова у него дернулась!..
Николай, не поднимая головы, продолжал выковыривать патрон.
— Ловко, ловко ты его, сынок, в лобешник угодил. Упал как срезанный!
— Да я, батя, не стрелял! Не стрелял я! — раздраженно выкрикнул Николай, стуча рукояткой ножа по патроннику.
— Как же не стрелял? А в лоб его...
— Ну не стрелял, тебе говорят! Не стрелял! Патрон, видишь, заклинило у меня в магазинной коробке! — Он проговорил это с таким искренним отчаянием, что Павлу стало жаль его.
— Ты его, Николай, шомполом, попробуй отковырнуть, — посоветовал он. — Шомпол открути.
Николай послушно открутил шомпол, выковырнул измятый патрон, внимательно осмотрел его и зло швырнул под ноги.
— На хорошем месте медведя убили, — сказал Савелий смущенно и виновато посматривая на сконфуженного Николая. — Прям на волоке, шкуру и сало легко потом вынести на лесовозную дорогу, всего часа полтора шли, кажись, ну, с грузом — два пускай.
— Надо еще посмотреть, жирный ли медведь, — усмехнулся в бороду Евтей, одобрительно подмигнув Павлу.
— Ну дак чо, мешкать не будем, давайте-ка быстренько освежуем его. — И, первым подойдя к медведю, отогнав рвущих его и рычащих друг на друга собак, Савелий вынул из чехла нож, воткнул его в снег рядом с окровавленной головой зверя и, схватив его за переднюю лапу, попытался, как рычагом, перевернуть на спину, но слишком велик был зверь, не переворачивался, лишь колыхалась его косматая туша. — Ну, чо стоите-то? Рты раззявили! — рассердился Савелий, не выпуская медвежьей лапы. — Стоят, любуются. Ишшо постель тут постелите и лежа понаблюдайте!
— Чего ты взъярился? Стоял, стоял и вдруг как с цепи сорвался... — проворчал Евтей, но заспешил брату на помощь.
Вчетвером медведя легко перевернули на спину и принялись снимать с него шкуру.
Павел знал, что по таежному этикету на совместной охоте шкура зверя всегда отдавалась тому стрелку, чей выстрел был решающим, остальное делилось между всеми участниками охоты, даже и теми, кто вовсе не стрелял, но был в компании. «Хорошая шкура, — удовлетворенно думал он. — Черная с проседью — редко такой медведь попадается. Подарю эту шкуру Юрченко. Хороший мужик, памятник отцу сварил и оградку, а деньги отказался взять». Ломал Павел голову, чем бы отблагодарить его, а вот и представился случай.
— Ты, дядюшка, осторожней ножом работай, — недовольно сказал Николай. — Я смотрю, в трех местах уже мездру продырявил.
— Ну дак и чо? — продолжая быстро орудовать ножом и не поднимая головы, спросил Евтей. — Подумаешь, две махонькие дырки, чай не сапоги хромовы шить будут из этой шкуры.
— Сапоги не сапоги, а все-таки ни к чему лишние дырки. Директор мой такой привереда... В прошлом году достал ему великолепную рысью шкуру, выделанная уже была, отмятая, но в двух местах зашита — собаки порвали, когда еще живая была, да еще от картечин несколько дырочек на шее, так он и то недовольно поморщился, когда разглядывал ее.
— Так, стало быть, эта шкура тоже ему предназначена?
— А то кому же, дядюшка? Ты как только что родился! Ты думаешь, он мне отпуск дает без содержания — за красивые глазки? Как бы не так! Из каждой поездки привожу ему то шкурки на шапку и на воротник, то рога изюбриные, то еще чего-нибудь.
— Ну, понятно, понятно, племяш, — перебил Евтей усмехаясь. — Дело житейское, чего там юлить... Слышь, Павелко, а Павелко! — Евтей взглянул на Павла испытующе и с доброй затаенной усмешкой. — Ты, я смотрю, тоже директорскую шкуру не жалуешь, мало того, что тремя пулями ее продырявил, так еще и ножом норовишь прорезать.
— Я думаю, Евтей Макарович, директор извинит меня за такое хамство, тем более, что дареному коню в зубы не смотрят...
— Хорошо ответствовал, отрок Павел, — удовлетворенно кивнул Евтей, вновь принимаясь за прерванное дело.
«Ну и черт с ней, со шкурой, — с сожалением подумал Павел. — Тогда желчь моя будет, отдам ее матери на лекарство». Но все-таки досадно было ему примириться с той мыслью, что шкура достанется Николаю, уж лучше бы ее взял Евтей или Савелии...
Через полчаса напряженной работы охотники сняли с медведя шкуру и, оттащив ее в сторону, принялись разделывать тушу. Савелий взялся за самое ответственное — ловко и быстро вспорол живот, не прорезав при этом объемистый медвежий желудок, выгреб требуху на снег, отыскал печень, затем прилепившийся к ней полный, с кулак величиной, желчный пузырь, вырезал его, завязал узелок, чтобы желчь не вытекла, и деловито... прикрутил к пуговице своей шинели. Николай, ревностно следивший за движениями отцовских рук, одобрительно кивнул, а Павел, поймав на себе все тот же испытующий, добро улыбающийся Евтеев взгляд, едва заметно понимающе кивнул ему и широко, добродушно заулыбался, чувствуя, что вот именно сейчас, в сей миг освобождается от какой-то непонятной, обременительной тяжести.
«Черт с ней, и с желчью тоже, — уже без сожаления и даже весело подумал он. — Поделим жир — медведь жирный, килограммов по десять каждому достанется. Кто же у меня жир медвежий просил? Столяр просил, директор школы, дочь у него болеет, дальше кто еще? Да, соседка, Марья Ивановна, просила. Кто-то еще просил — не помню... Ну и матери остальное — тоже не повредит ей медвежий жир: в нем все витамины — полезная штука!»
Выпотрошив медведя, Савелий тщательно срезал с туши сало, которое тут же на снегу раскладывал на четыре равные части. К каждой он добавил еще и по большому шматку внутреннего, наиболее ценимого сала. Получилось килограммов по десять. Медвежью тушу Савелий разделал на восемь частей, все это сложил в одну кучу, оглядев ее, удовлетворенно сказал Павлу:
— Сходи-ка, Павел, вон к той елке, наломай лапнику, укроем от ворон да снегом присыпем — мясо придется однорукому отдать, нам его за один раз не вытаскать, а день терять недосуг... А ты, Николай, — повернулся он к сыну, — шкуру потуже сверни, пока она на морозе не застыла. В избушку ее к безрукому отнесем — там сохраннее будет, а потом, после отлова, приедем сюда, день потеряем да вынесем ее — вот и ладно будет.
Когда Павел принес охапку еловых веток, Николай уже скатал шкуру и затолкал ее в мешок. Мясо закидали ветками и засыпали снегом. На верху бугра Савелий воткнул наклонно тонкий прут, привязал к нему дратвой две стрелянные карабинные гильзы так, чтобы они от дуновения ветерка покачивались и, ударяясь друг о друга, позванивали. Это для устрашения волков и ворон. Оставалось на снегу неразделенное сало — четыре кучки. Павел порадовался тому, что захватил с собой в поход двухметровой длины целлофан. Взял он его для того, чтобы ставить перед нодьей или костром экран-стенку, рядом с таким экраном спать теплей, в бока не дует. Но придется пожертвовать целлофаном, завернуть в него медвежий жир, иначе пропитаются им все вещи в рюкзаке.
— Ну дак чо, кажись, все сделали как надо, — удовлетворенно сказал Савелий, оглядывая вытоптанную площадку. — У всех ли на месте все? Не затолкли ножи, рукавицы в снег? Ты, Николай, жир-то во что класть будешь? Надо было в середину шкуры положить его, и мой, и свой положи туда. До избушки тут километра два — не более, донесешь, а я бы твое шмутье к себе положил. Жир-то надо ли тебе?
— Да как же не надо! — Николай стоял над кучками жира, широко расстав ноги. — Как же не надо! Ну даешь ты, отец... Моя Надька только жиром и спасается. Прошлогодней пятилитровой канистры даже до осени не хватило. — Он говорил, ни на кого не глядя, словно бы только к отцу обращаясь, но в то же время как бы и Павлу с Евтеем объявлял, что «его Надька только жиром и спасается». — Как врачи прописали ей после операции медвежий или барсучий жир пить, так и пьет она его с тех пор... А тут еще пришлось поделиться с Ефрюшиным. Толстый такой, помнишь, в гости к нам приходил? Бутылку рижского бальзама приносил еще? Ну ты еще плевался, когда пил, не понравился тебе бальзам, помнишь? Начальник снабжения. Ну так у него дочка тоже болеет — жир заказывал...
— Это который любовнице своей цветной телевизор подарил, а женка его в энтот телевизор ейную же хрустальную вазу запустила?
— Этот, этот, — недовольно поморщился Николай.
— А-а, помню, помню! — обрадовался Савелий, поворачиваясь к Евтею. — Это ему я панты в прошлом году посылал. Старый хрен — под шестьдесят ему, а с любовницей баловается. Ну а годы-то, годы свое берут, вот он и просит у меня панты: «Я, говорит, мужчиной еще хочу побыть, достаньте мне панты, а я вам взамен достану и привезу на дом любого строительного материалу...»
— У него нынче летом дочка чуть не померла, — сдерживая досаду, перебил Николай не в меру разговорившегося отца. — Сложнейшую операцию профессор сделал ей, шансов, что выживет, мало было. Теперь потихоньку выздоравливает. — Николай с упреком посмотрел на отца. — О любовницах он давно уже позабыл, всякие лекарства достает, с ног сбился. А лучшее лекарство — медвежий жир. Но где его в городе достанешь?
— Да это уж точно, — виновато закивал Савелий. — Надо помочь человеку, рази мы против? — Он заискивающе посмотрел на чуть заметно усмехающегося Евтея: — Ну дак чо, Евтеюшко, поможем человеку, раз тако дело?
Евтей секунду помедлил, потеребил бороду, что-то прикидывая в уме, махнул рукой:
— Забирайте! Есть у меня на примете берлога, после отлова схожу к ней.
— Ну, правильно, Евтеюшко, правильно! — обрадовался Савелий. — Ежели берлога на примете есть, а у человека, вишь, беда. Ты, ежели хошь, так вместе на берлогу-то сходим — я помогу тебе убить и вытащить его.
— Да нет, благодарствую, медведек небольшенький, я уж как-нибудь сам постараюсь, без помощников... — Евтей еще что-то хотел сказать, но Савелий, видя, что брата начинает заносить, примиряюще сказал:
— Ну ладно, Евтеюшко, коль не надобны помощники, стало быть, и не надобны. — И повернулся к Павлу: — Ну а ты, Павлуха, сало медвежье возьмешь ли?
Павел, ожидавший этого вопроса и решивший уже отказаться от сала, вспомнил вдруг, что заказывала ему жир медвежий тетка Лукашиха — жена слепого бондаря, делавшего всему селу не только великолепные дубовые бочонки, но и гнутые, сработанные без единого гвоздочка, санки, на коих детвора с удовольствием каталась с Лысой горки, а взрослые подвозили на них дрова. Удобно было перевезти на них от магазина к дому и пару мешков комбикорма — крепкие были санки необычайно и служили долго. О слепом бондаре отзывались сельчане с большим уважением, и не только за то уважали, что кормил он своими руками без чьей-либо помощи трех дочерей и одного сына, что само по себе было делом похвальным, но в большей мере уважали за необычайно крепкие добротные бочонки и санки. И вот вспомнил сейчас Павел, что Лукашиха еще летом спрашивала, нет ли у него немного, хотя бы с полстакана, медвежьего или барсучьего жира... Жиру у Павла не было, но он пообещал достать.
— Я говорю, нужно тебе сало или нет? — нетерпеливо, слегка раздраженно, вероятно, истолковав молчание Павла по-своему, вновь спросил Савелий.
— Лично мне не надо жиру ни крошки! — пренебрежительно отмахнулся Павел и, чуть еще помедлив, конфузясь, точно виноват был в чем-то, неуверенно сказал: — Тетка Лукашиха просила у меня жиру, для нее вот только кусочек, если можно?
— Ну, паря, об чем толкуешь ишшо! — удовлетворенно воскликнул Савелий. — Сколько надо, столько бери. — Он нагнулся и, выбрав из кучки кусок сала величиной с кирпич, протянул его Павлу: — Вот из энтого — как раз поллитру наплавишь. Может, ишшо возьмешь?
— Нет-нет, Савелий Макарович, хватит мне этого вполне! — отмахнулся Павел, досадуя на то, что не отказался от сала совсем, как это сделал Евтей, но сейчас было уже поздно отказываться, и он смущенно взял протянутый ему, точно милостыню, кусок медвежьего сала и, достав из рюкзака целлофан, отхватил от него ножом неширокую плоску, остальное протянул Савелию: — Возьмите, в него удобно будет жир завернуть.
Савелий охотно взял целлофан, деловито расстелил его на снегу и принялся складывать на него весь медвежий жир. Николай кинулся помогать отцу, выискивая на истоптанном снегу даже крохотные жиринки и кидая их на шуршащий, ломкий от мороза целлофан. На круглом раскрасневшемся лице его блуждала еле сдерживаемая, довольная улыбка.
Собранного и завернутого в целлофан жира оказалось килограммов сорок. Нести такой тяжелый груз в избушку к Вощанову не имело смысла, ведь потом его все равно пришлось бы выносить на лесовозную дорогу, поэтому Евтей посоветовал Савелию оставить жир и шкуру рядом с мясом, а целлофан вернуть Павлу.
Савелий, поразмыслив, одобрительно кивнул, но Николай согласился оставить только жир, а шкуру решил все-таки нести к Вощанову.
— У Вощанова она целее будет.
— И то верно, сынок, — кивнул Савелий. — Дальше положишь — ближе возьмешь.
Не успели тигроловы разойтись как следует, пропотеть под грузом, а уже белая крыша Вощановского зимовья показалась.
Зимовье стояло на правой стороне замерзшей речки на небольшой полянке, окруженной светлым березняком с кое-где зеленеющими в нем молодыми елками; сюда же, к березняку, подступала крутолобая сопка, заросшая рыжим, сохранившим листву дубняком. На левой стороне речки темной стеной стояли могучие ясени, ильмы, дальше над ними, на взгорке, возвышались исполинские кедры и громадные, в два обхвата толщиной, ели, уходящие острыми вершинами в головокружительную высь, — там стояла девственная тайга, а волок обрывался в сотне метров от избушки.
— Ишь ты! Не дошли до однорукого. Аккурат перед самым порогом остановились! — удивленно сказал Савелий, приостановившись и оглядывая местность.
— Ненадолго, кажись, остановились. — Евтей указал рукой на левую сторону речки. Там виднелась широкая недлинная просека, и в конце ее лежал штабель хлыстов. — Видал, лес у них тут остался, значит, приедут за ним, выпластают и тот, что стоит.
— Похоже на то, — согласился Савелий. — Такой ядреный лес вряд ли оставят без внимания.
— Что-то дымком не пахнет, — с досадой сказал Николай, пристально глядя на избушку и принюхиваясь, как зверь.
Павел тоже понюхал воздух и уловил запах холодной золы.
— Может, он редко живет здесь, — предположил Савелий. — Базовое зимовье у него выше по ключу, километрах в десяти отсюда.
— Давайте на картах погадаем, — усмехнулся Евтей. — Терпенья у них нету. Вот придем и все узнаем.
Хозяин действительно редко посещал избушку, последний след его в верховьях ключа был примерно трехдневной давности.
Первое, что бросилось Павлу в глаза, — это чистота и порядок вокруг избушки. Поленница березовых дров в нескольких шагах от избушки была сложена аккуратно и ровно, как по линейке, рядом с ней стояли массивные, из березы же сколоченные, козлы; даже щепки не валялись, как обычно, а были собраны в кучу. Слева от двери висела одноручная пила с большим, как коромысло, черемуховым лучком.
«Это для того, чтобы удобней пилить было одной рукой, — догадался Павел. — Пила ведь длинная, когда пилишь один, она вибрирует и гнется, а с лучком — ровно идет».
В толстое нижнее бревно порога, как бы запирая дверь, был воткнут легкий топор с тонким, отшлифованным до блеска кленовым топорищем. Выдернув топор и воткнув его в то же бревно, сбоку от двери, Павел вошел в холодом пахнувшую, до инея промерзшую в углах избушку. Здесь тоже было все чисто и опрятно. Павлу понравилось, что нары были сделаны не на староверский манер — сплошь от стены до стены, а на современый лад — справа и слева двухспальные нары, а в проходе, перед большим окном, — длинный стол. Еще один кухонный столик перед маленьким оконцем слева от порога, тут же скамья для посуды. Справа обложенная диким камнем железная печь, возле печи — охапка тонких поленьев, береста и коробка спичек. Спальные мешки туго свернуты, подвешены к потолку, пол чисто выметен, около порога пихтовый веник.
Затопили печь. Сухая избушка быстро нагрелась. Напившись чаю, тигроловы стали совещаться, идти ли им сейчас в верхнюю вощановскую избушку или оставить этот поход на завтра. Время было — всего три часа.
— Дотемна успеем дойти, — сказал Евтей. — А не успеем, тоже не беда, по Вощановской тропе и при лунном свете хорошо идти. Зато день выиграем.
На том и порешили. Вощановская тропа оказалась торной и ухоженной. На стволах деревьев вдоль тропы виднелись подновленные затески; ветки, склоненные над тропой и мешающие ходу, — либо обломаны, либо срублены. Через каждые сто — двести метров стоял обочь тропы либо капкан с подвесом, либо кулемка, а в местах, где было много беличьих следов, были прибиты к стволам кедров и беличьи капканы.
Через час ходьбы тигроловы сняли и подвесили над ловушками трех колонков и двух белок, спущенные ловушки насторожили вновь. То и дело путик пересекали кабаньи тропы, следы изюбра, часто попадались и следы кабарги, за кабаргой большими скачками гонялась харза — парные следы ее пушистых лап виднелись и на высоких валежинах, и на стволах наклонных деревьев, и на скалистых террасках, откуда удобно прыгнуть на шею зазевавшейся кабарги. В двух местах туда и обратно тропу пересек след гималайского медведя.

«Веселое у Ивана Ивановича местечко, — подумал Павел, — жалко будет, если и сюда леспромхоз доберется...»
Вскоре тропа раздвоилась: правая на речку, левая вдоль подошвы сопок. Та, что тянулась вдоль сопок, была наиболее торной — по ней и пошли тигроловы.
Еще через четверть часа шедший впереди Евтей указал на свежий человеческий след. Человек спустился с сопок и пошел по тропе вверх, вероятно, в избушку. След был небольшой, сорокового размера, именно такого примерно размера и была нога у щуплого, низкорослого Вощанова. След был свежий, он даже не успел подмерзнуть — рассыпался, когда Евтей поддевал его снизу концом палки.
Обсудив это событие, уставшие тигроловы пошли дальше бодрее, но этой бодрости хватило на полчаса, не более, — напряжение дня сказывалось к вечеру все сильнее, давили на плечи лямки котомок, все большей тяжестью наливались уставшие ноги.
К верхнему, второму, зимовью пришли тигроловы уже в сумерках. Собаки у Вощанова не было, но он, услышав шаги людей, выглянул в приоткрытую дверь, узнал тигроловов и, когда они подошли, встретил их у порога уже одетый в телогрейку. С искренним радушием поздоровавшись со всеми за руку, тотчас указал, куда привязать собак, где взять им на подстилку сухой трухи, и тотчас же бросил обеим собакам по куску вареного мяса.
— Жирно живешь, Вощанов, — заметил Савелий. — Тако хорошо мясо с мякотью собакам бросаешь — не жалко?
— Желанным гостям — лучшее место и лучший кусок, Савелий Макарович, — с искренним радушием сказал Вощанов.
— Так ведь, это гостям, а не собакам гостей.
— А если гость желанный, то и собака, и лошадь его желанны, — мягко, но решительно возразил Вощанов, подавая Павлу знак рукой, чтобы тот проходил в избушку. — Исстари, Савелий Макарович, коня желанного гостя овсом кормили, а нежеланного — соломой потчевали. Собака да конь — первейшие друзья человека! Вот и вы без собак-то своих не смогли бы тигров поймать. Так ли, нет, Савелий Макарович?
— Да кто же возражает? Так-так, истинно так! — торопливо согласился Савелий.
Эта верхняя вощановская избушка рублена была не в чистый угол, как рубят теперь большинство плотников, а в лапу, по-староверски, с торчащими из углов торцами. Покатая, дранью крытая крыша была сделана с большим напуском над дверью, отчего вид избушка имела высунувшейся из-под снега головы с низко надвинутой на лоб фуражкой. Нары в зимовье, как и ожидал Павел, оказались традиционные, сплошные. Но все равно, несмотря на старость свою, на закопченность стен, кое-где уже сильно подгнивших, избушка показалась Павлу гораздо уютнее тех староверских добротно срубленных зимовий, в коих доводилось бывать ему прежде. Впечатление уюта создавали царившие тут чистота и аккуратность. Даже стекло керосиновой лампы было не закопчено, как обычно у охотников, заправляющих лампы соляром, а сияло, как электрическая лампа, и пламя фитиля стояло в ней неподвижным голубым лепестком.
«Керосином заправлена», — подумал Павел, щурясь от яркого света.
Помогая тигроловам развешивать по стенам одежду, хозяин возбужденно рассказывал о том, как он поймал вчера в колонковый капкан большую харзу и как она, открутившись от потаска, ушла с капканом километра за три, как потом убегала от него по деревьям, бренча железякой, и, верно, успела бы спрятаться в скалах, да зацепилась капканной пружиной за сучок.
— Вот она висит, разбойница! — Он кивнул в угол нар, где висела уже распяленная на правилке буро-желтая, величиной с комнатную собаку, длиннохвостая шкура харзы.
— Охота тебе было возиться с этой вонючей образиной? — брезгливо поморщился Савелий. — Канитель с нею на десятку, а принимают за рубль семьдесят.
— Это в прошлом году так принимали, — сказал Евтей. — А ноне, слышал, подорожали меха, и харза, кажись, двенадцать рублей будет стоить.
— Тоже не больно-то густо... — отмахнулся Савелий.
— Да не в цене дело, Савелий Макарович. — Вощанов снял телогрейку, повесил ее на гвоздь слева от двери, привычным движением подоткнул пустой левый рукав рубахи под брючный ремень. — Не в цене дело — больно уж яростно кабаргу эти харзы давят. Соберутся три-четыре штуки и загоном, по-волчьи, охотятся на нее.
— Раньше, помню, за убитую харзу премию давали, — заметил Евтей, деловито подсаживаясь к столу в угол, в свою излюбленную позицию, чтобы никому не мешать и всех держать в поле зрения.
— Было, было такое дело, — сморщив низкий покатый лоб, вспомнил Вощанов. — Давали небольшую премию, как за волка. Теперь не дают, а еще через пяток лет в Красную книгу запишут.
— А зачем же вы ее убили тогда? — серьезно спросил Николай. — На перед знаете, что зверь редкий, что скоро его в Красную книгу запишут, сознаете это, а все равно убили, да еще и пытаетесь в том, что харза исчезает, обвинить государство. Где же тут логика, Иван Иванович?
— Во как! Быка за рога! — Вощанов изумленно и одобрительно посмотрел на Николая. — Правильно вопрос поставил! Молодец! А только харзу я не трогаю вот уже лет десять, пожалуй, и эту бы не тронул, да я ж сказывал, что в капкан, ставленный на колонка, попалась. Что ж теперь, отпускать ее с капканом? И капкан пропадет, и харза. Стало быть, пришлось убить поневоле...
— Смотри-ка, выкрутился ведь! — воскликнул Савелий, тоже подсаживаясь к столу. — То хищником харзу называл, то уж пожалел ее.
— А я и сейчас ее хищником считаю. И волк, и тигр, и медведь — хищники, да это не значит, что всех их надо до последнего уничтожить. Ежели по такому принципу действовать, то человек — самый главный на земле хищник. Прошел, скажем, он по лесу в сапогах, километр всего — и то уж тыщу всяких букашек и растений каблуком раздавил, не говоря уж о других делах его... Ну да что я вас тут баснями потчую? — спохватился Вощанов, заметив, что все тигроловы сидят уже за столом. — Давайте-ка вначале похлебайте вермишелевый суп, а потом я вас кабанятиной накормлю.
И он принялся суетливо угощать всем лучшим, что имелось у него из съестных припасов. Сам он есть отказался, сказав, что уже поужинал, но с удовольствием пил чай, поглядывая на увлеченных едой тигроловов с восторгом, почти с умилением, как смотрит любящий отец на своих детей. Реденькие седые волосы его были гладко зачесаны назад; выцветшие бровки почти сливались с надбровными дугами, из-под них словно бы прямо в душу смотрели спокойные карие глаза, и была в них еще некая кротость, детская распахнутость. Да и фигурой своей тщедушно узкоплечей, сухощавым удлиненным лицом, на которое словно приклеили жиденькую бороденку и усишки, он напомнил Павлу скорей загримированного мальчишку, чем взрослого, и только пустой левый рукав да твердый мужской голос сразу же разбивали это нелепое Павлово сравнение, которому он сам же и усмехнулся в душе, посматривая на мозолистую и мускулистую руку Вощанова.
— Как мяско-то — уварилось, нет ли? — нетерпеливо спросил Вощанов у Евтея, сытно обтиравшего тыльной стороной ладони испачканные жиром усы и губы.
— Самый раз уварилось, — похвалил Евтей. — Я думал, и правда кабанятиной накормишь, секача сейчас только моим беззубым ртом и жевать. А ты, гляжу, справную чушку подстрелил?
— Три штуки завалил, — польщенно заулыбался Вощанов. — Двух на план в промхоз, одну себе. Еще двух изюбров надо отстрелять и одного медведя. Изюбров-то отстреляю, а медведя вряд ли. Грома своего старшему сыну отдал, у него тоже план большой на мясо, а без собаки несподручно медведя искать.
— Шшитай, что ты убил уже медведя! — торжественно объявил Савелий. — Токо он уже без шкуры и без сала...
— И без желчи, само собой, — с улыбкой глядя в недоуменное лицо Вощанова, добавил Евтей.
— И к тому же прямо на тракторном волоке лежит, рядом с вашей нижней избушкой, — вконец огорошил Вощанова Павел.
— Убили медведя или так балабоните? — Вощанов перевел вопрошающий взгляд свой на Николая, словно доверял ему больше, чем остальным.
Николай тоже, не сдержавшись, заулыбался:
— Правда, правда, Иван Иванович, лежит на волоке, ветками укрыт и снегом присыпан...
— Сало и шкуру мы себе забрали, — поспешно добавил Савелий. — А мясом ты сам распорядись.
— Бурый медведь-то али белогрудый? — не скрывая радости, спросил Вощанов и даже нетерпеливо заерзал, точно собирался куда-то бежать, но его удерживали.
— Бурый, бурый! — вновь опережая Савелия, закивал Евтей.
— Большой? На сколь кило мясо вытянет?
— Пудов на двадцать смело вытянет, — опять захватил инициативу Савелий.
— Чистого мяса? Или всего?
— Ишшо чего! — пренебрежительно поморщился Савелий. — Чистого мяса, конешно. Жирную медвежатину по рубль пятьдесят копеек принимают, а худую по рублю. Ну, сало мы срезали, значит, сдашь по рублю за кило, тебе в план, а нам магарыч потом поставишь... Согласен на такую куммерцию?
— Да я вам три магарыча за такую коммерцию поставлю! Вот молодцы! — Вощанов восторженно оглядел улыбающихся тигроловов. — Ну, молодцы! Главное — прямо на волоке. Да как же это он на вас наскочил?
— Не он на нас, а мы на него наскочили, — сказал Евтей и кивнул на Павла с Николаем: — Они вон шли впереди и наскочили на свежий след, а тут прямо и берлогу увидали под липой, ну и того... — Евтей секунду помедлил в нерешительности, испытующе взглянув на потупившегося племянника, нерешительно продолжал: — Ну и тово, убили его, значит.
— Что, прямо в берлоге, или выскочил он из нее?
— Из берлоги-то? Из берлоги выскочил...
— Ну и что — наутек или на них пошел? — азартно допытывался Вощанов.
— Да нет, прямо на них и пошел.
— Ишь ты, лешак какой! Раздражен, видать, был. Наверно, с родной-то своей берлоги леспромхоз его вытурил, вот он и выкопал себе другую. Помню я ту липу, она стоит рядом с волоком на взлобке, наклонная такая? Ну-ну-ну, она и есть. Там еще до леспромхоза была берлога белогрудого в дупле под корнями, а бурый-то, видать, на примете ее держал, расширил только... Стало быть, под той самой липой убили... — Вощанов удивленно покрутил головой. — Ну и ну! Дела-а... — И вдруг объявил с веселой улыбкой: — А у меня-то ведь, ребятушки, неподалеку от этой липы, под выворотнем связка капканов спрятана! А и не в этом суть, язви тебя в душу! — Вощанов пристукнул крепким кулаком по своему колену и вновь удивленно покрутил головой. — Вот судьба! А дело-то, ребятки, в том, что назавтра я собрался в нижнюю избушку идти, а заодно, и спланировал... — Он обвел заинтересованных тигроловов торжествующим взглядом: — Судьба, ребята! Ей-богу — судьба!.. Я ведь думал-то так: вот, думаю, приду в избушку, часа в два, затоплю печь, возьму пустой рюкзак, оставлю ружье и пойду по волоку к той самой липе, возле которой еще по чернотропу капканы оставил... Представляете? Вот пришел бы я туда с пустым рюкзаком. Говорите, кинулся он на вас четверых? А меня-то одного вряд ли бы он испугался, а? Вот вам и судьба! Не судьба ли? Не хочешь поверить в судьбу, дак поверишь в нее после таких вот неслучайных случайностей. — Вощанов многозначительно помолчал, постучал пальцами о край стола, скосив глаза на свой пустой левый рукав, сказал раздумчиво: — Сколько за всю жизнь было уже таких случайных случайностей — не судьба! В Кракове руку, вот, оставил, а по всем статьям должна была голова там остаться — опять не судьба! Не-ет, ребятки, что ни говорите, а есть над нами что-то, есть. Не бог, конечно, в бога не верую, люди его выдумали, а вот судьба или там что-то другое. Вот, как говорят ученые, — всемирный круговорот воды, мировой океан, значит, есть и всемирный круговорот жизни, и всемирный круговорот судеб людских.
— Больно ты, Иван Иванович, того, в дебрю полез, — бесцеремонно остановил его Савелий. — Наговорил целый короб — инда голова разболелась. Нашшет судьбы-злодейки, положим, и прав ты, а про всяки-разны круговерти — больно мудрено!
— А у тебя, Савелко, все, что мудрено, то и негоже! — вступился за Вощанова Евтей. — Человек просто мнение свое высказывает, никому его не навязывает, а ты скорей рот ему затыкать, дескать, говоришь мудрено. А кто виноват, что шея у тебя длинна, не сразу до головы доходит?
— Да рази я не даю говорить ему? Рази я в упрек сказал? — обиделся Савелий. — Пушшай свое мнение высказыват хоть до утра, я же просто для поддержания разговору сказал.
— Для поддержания разгово-ору, — передразнил Евтей. — Смутил, вишь, человека, вот те и поддержание твое.
— Да я уж успел свою мысль высказать, — с улыбкой сказал Вощанов.
— То-то и оно, что успел всего лишь, — проворчал Евтей.
— Ну, опять завелись старики, — сказал Николай Павлу. — Дня не могут прожить, чтобы не повздорить.
От неожиданности Павел даже на мгновение растерялся: точно ли к нему обратился Николай? Да, именно к нему. Не зная, как лучше ответить, чтобы и Николаю угодить и Евтея с Савелием не обидеть, Павел дружелюбно проговорил:
— Если только вздорят — не страшно, лишь бы по-настоящему, по большому счету не ссорились.
— Пока вроде не доходило у них до большого счета... — внимательно посмотрев на Павла, сказал Николай.
— И не дойдет, дай бог! — искренне подхватил Савелий. — Так ли, Евтеюшко?
— Пока общий язык находим, — кивнул Евтей. — Да и делить нам, слава богу, нечего. — Видимо, разговор этот был ему не совсем по душе, потому что он тотчас обратился к Вощанову: — А что, Иван Иванович, слышал я, на пенсию ты пошел нынче, правду, нет, говорят?
— Правду, правду говорят, — Вощанов вздохнул, вяло махнул рукой. — Чего ж неправду?..
— А пошто вздыхашь-то? Сколько дали?
— Сколько заработал, столько и дали — семьдесят четыре рубля! — хмуро и обиженно сказал Вощанов.
— Да ну-у, пошто так мало? — искренне удивился Евтей.
— Верно, что-то напутали — недошшитали? — встревожился Савелий, которому через год тоже предстояло собирать документы на пенсию. — Как же вышло так, что мало нашшитали?
— А как вышло? Просто вышло! — Выражение обиды по-прежнему не сходило с лица Вощанова, а голос его звучал все раздраженней. — Пенсию-то начисляют из среднего годового заработка! Во-от. А у меня на участке последние годы неурожай ореха. Ну три года ни белки, ни колонка не было, кое-как на четыреста-пятьсот рублей пушнины натягивал за сезон. И, скажи ты, как назло, все годы по полторы, по две тыщи получал... Ну, я чую, что пенсия не вытягивает на сто двадцать, к директору пошел. Так и так, беспокоюсь, дескать. Может, на хороший соболиный участок перебросите меня, да я там два-три плана перевыполню и пенсию заработаю стодвадцатирублевую. Не дал он такого участка. — Вощанов горько усмехнулся и замолчал.
— Да-а, вот оно как... А может, можно еще переиграть с пенсией? — спросил Евтей, задумчиво теребя бороду.
— Да можно было на два года еще отсрочить, может, годы эти оказались бы получше в смысле заработка, но уж все оформлено. Да хватит мне и этого! В деревне живу — огород да тайга прокормят...
— А как же Панасюк-то умудрился на стодвадцатирублевом окладе такую же пенсию получить?
— Ну, ты сравнил меня, Евтей Макарович, с Панасюком! Этот вьюн без мыла куда хочешь влезет. Разве ты не знаешь Панасюка? Двадцать лет перед Попичем стлался. Вначале они вместе в торговле работали. А потом, когда Попич директором промхоза стал, перетянул к себе Панасюка. Попервости, года три — тот завскладом был, а потом пасечником заделался. Пчел-то промхозовских на той пасеке с гулькин нос... Зато десяток директорских ульев стоят, да своих два десятка. Управляющий имеет там свои ульи, да еще кое-кто из начальства. Как суббота-воскресенье, так, смотришь, на «газиках» пое-ехали к Панасюку! Иной раз и баб понасажают. Как-то я случайно набрел на их шабаш... — Вощанов удивленно покачал головой, что-то припоминая, но, брезгливо поморщившись, махнул рукой: — Ну их! И вспоминать-то срамно! Князьки-и! Чистые удельные князьки-и! Короче говоря, дело у Панасюка подходит к пенсии, а зарплата у пасечника небольшая. Тогда Попич переводит дружка в охотники на сдельную оплату. Но Панасюк все на том же месте работает. Лето прошло, — Панасюк пчел в омшаник. Попич его вертолетом на самый лучший соболиный участок забрасывает. Так и живут душа в душу — летом мед качают, зимой пушнину. Кроме того, перед самой пенсией за Панасюка сдали пушнину любители. Деньги им выплатили, а пушнину на Панасюковый наряд вписали. Вот тебе и сто двадцать рублей!
Савелий был у директора в числе приближенных и не раз поставлял ему копченых тайменей, то панты, то женьшень, то рога изюбра или камус. Друзей Попича на уловистые рыбные места устраивал и поэтому не мог не знать о тех подробностях, о которых рассказывал сейчас Вощанов, хотя слушал он его с таким видом, как будто открывал неведомое...
— А помните, как отмечали Панасюку пятидесятилетие? — Вощанов обращался ко всем, но смотрел на одного Евтея. Тот молча кивнул. — Закатили пир на весь мир! Подарили юбиляру ружье автоматическое, речи пышные произносили. За что почести такие? И добро бы, ежели всем так, а то ему только. А вспомни, Евтей, как твой или мой юбилей отмечали? — При этих словах Вощанов мельком взглянул на смутившегося вдруг Савелия; и Павел сразу понял причину его смущения. Он помнил, что и Савелия Попич пышно поздравлял с юбилейной датой. — Ну, так что нам с тобой на юбилей преподнесли?
— Мне будильник дали, — смущенно улыбаясь, сказал Евтей.
— Во-во! Тебе будильник! — обрадовался Вощанов. — А мне поболе почету оказали... альбом для фотографий вручили — во как! Но дареному коню в зубы не смотрят, а то обидно, Евтей Макарович, что подарки-то эти не на собрании вручили, а в месткоме сунули, как вроде отпихнулись, мероприятие провели, галочку поставили...
— Да ведь сам ты виноват, Иван Иванович! — возразил Савелий. — Пошто не делал, как все делают? У тебя ведь три сына охотника, каждый бы из них на твой наряд по третьей части своей пушнины сдал бы, вот и набегло бы у тебя сто двадцать рубликов! Пошто сыны не помогли?
— Ты, Савелий Макарович, всех-то по себе не меряй, — обиделся Вощанов. — Сыны чуть не силой толкали свою пушнину в мой мешок. И стыдили, и уговаривали, чтобы я ихнюю долю на свой наряд записал. — Вощанов открыто и строго посмотрел на смутившегося Савелия. — Да только не внял я. Отверг ихнюю помощь. Я, Савелий Макарович, на войне воевал честно. И в мирное время, несмотря что однорукий, от инвалидной пенсии отказался, честно свой хлеб зарабатывал. — Голос Вощанова звучал сурово, но не зло: — И сыновей своих я всю жизнь учил жить на земле честно и с достоинством.
— Неужто и левой пушниной не приторговывали? — язвительно спросил Савелий, восприняв слова Вощанова как упрек себе.
— Левая пушнина была, как не быть? — спокойно согласился Вощанов, брезгливо взглянув на Савелия. — А пушнинкой мы, Савелий Макарович, не приторговывали никогда ради наживы, просто жизнь заставляет иной раз чуток оставить: то друзья просят, то родственники, то всякие нужные люди, черт бы их побрал! Нужно было лекарство достать жене — нигде нет! Достаньте, говорят, на шапку — будет лекарство. Нужны запчасти к мотоциклу — «нет запчастей». Куда ни сунься — везде дефицит, и везде за этот дефицит что-нибудь требуют. Вот и приходится оставлять. Но мы никогда этим делом не увлекались. Не в пример некоторым. — Вощанов нервно постучал о край стола, с упреком посмотрел на вновь потупившегося Савелия. — Негоже, Савелий Макарович, тебе задавать такие вопросы, негоже, ежели ты сам в прошлом году четырнадцать соболей загнал.
— Ишшо чего придумал... Не четырнадцать вовсе.
— Да уж не возражай, Савелко! — насмешливо перебил брата Евтей. — Об этом давно уж судачат все.
— Я вовсе не в упрек ему, Евтей Макарович, а к тому говорю, что ему вот чувство меры изменило, а вообще, и это не спекуляция, потому как наша чернорыночная цена чуть больше приемной, навар небольшой, а риск огромадный! Покупатель купит у нас в три раза дешевле, чем в магазине, и ничем не рискует, а у нас конфискация пушнины и штраф в трехкратном размере от магазинной, а не от приемной цены. Кроме того, охотничий участок отберут, права охоты лишат и позорить будут. То есть фактически — не выгода, а сплошной громадный риск. А все одно — продают!.. — Вощанов замолчал, потом резко поднялся и сказал: — Давайте-ка спать укладываться, а то я тут разговорился с вами, а мне еще двух колонков надо ободрать...
А утром, когда гости проснулись, Вощанов был уже на ногах. Он успел приготовить завтрак и накормить собак. Вместо лампы на столе горела свеча.
— Долго спите, товарищи тигроловы! Пора вставать! — Голос у Вощанова звучал доброжелательно, и, должно быть, уловив это, Савелий тотчас же откликнулся:
— А что, Иван Иванович, неужто проспали? Сколь же времени?
— Семь часов уже, Савелий Макарович, скоро рассвет, — миролюбиво, точно и не было вчерашнего напряженного разговора, сказал Вощанов.
Окончательно убедившись в том, что Вощанов не держит на него обиду за вчерашнее, Савелий повеселел.
Перед завтраком, когда Вощанов вышел на минутку из зимовья, Савелий шепнул Евтею:
— Ты про тигру спроси его, про тигру...
— Чо сам-то не спросишь? — усмехнулся Евтей. — Везде меня, как толмача, толкаешь...
— Да, вить, к тебе он больше льнет, Евтеюшко, значит, и доверия больше.
— Выходит, больше! — насмешливо сказал Евтей, но вошел Вощанов, и тигроловы смолкли.
Сели завтракать.
— А слышь-ко, Иван Иванович, — начал издалека Евтей, — у нижней твоей избушки штабель хлыстов мы вчера видали — свежие поруба там будто? Наверно, и тебя обкосят нынче?
— Этим порубам три года уже, штабель тот загнивать уж начал...
— Стало быть, бросили? А издали смотреть — будто новый лежит.
— Оставили этот угол как запас, пока на перевале лес берут.
— Стало быть, два сезона еще спокойно поохотишься?
— Спокойной охоты сейчас, Евтей Макарович, у нас не увидишь больше.
— Что верно, то верно, — закивал Евтей, недовольно косясь на брата, толкавшего его под столом ногой. — Это правильно ты подметил: тесно стало в нашей тайге и зверю и человеку. Вот взять хотя бы того же тигра, говорят ученые — чуть больше сотни их в Приморье осталось, и все они вынуждены метаться в сетях лесовозных дорог: куда бы он ни сунулся — везде либо на лесовозную дорогу натыкается, либо на охотничий путик. Кстати, на тепляке нам сказывали вчера, что у тебя будто бы осенью тигра собаку утащила, — правду, нет, говорят?
— Ну, вот с этого бы сразу и начинал, — оживился Вощанов, широко улыбаясь. — А то и так, смотрю, кружит и эдак, и меня извел, а пуще того Савелия Макаровича. Так бы прямо и сказал: есть тигрица? А я бы прямо ответил — нету. Нету, ребятки, тигрицы! Но... — Вощанов поднял кверху палец, ему, должно быть, хотелось потомить тигроловов. — Но была она с осени. Ей-богу, была. Собачки были не мои, сосед Крутиков дал мне их в тайгу прогуляться. Молодые псы — неученые. Ну, увязались со мной, я как раз продукты завозил сюда. Утром назад на трассу пошел — слышу: недалече взлаяли псы. Я на шум бегом — не дай бог, думаю, на кабана напорются, посечет он их, покалечит, а мне потом перед Крутиковым оправдываться. Ну, только пробежал половину, слышу: молчок... Однако все одно бегу и шумлю их, зову, стало быть, думаю: и кабана отпугну голосом, и их отвлеку к себе. Тишина. Ну, выбегаю на то место, где лай-то слышался, гляжу — на полянке все три собаки лежат кровью залитые. Я ружье наизготовку — думал, медведь их смял. Однако ближе подошел, смотрю: работа аккуратная, молниеносная — только тигра так может сработать. А тут и она из чащи рявкнула... Ну я и убрался оттедова подобру-поздорову. Крутиков не поверил, на мотоцикле приезжал со мной удостовериться. И скажи ты, как она с ими быстро управилась — минуты ведь не прошло!

— Ну, а почему ты решил, что это именно тигрица была? — нетерпеливо спросил Савелий. — Может, самец задавил собак.
— Да самец и был! — охотно подтвердил Вощанов. — След я его видел потом на ключе, пятку специально измерил — три спичечные коробки уместилось в ней, и пальцы длинные...
— Дак чо ж ты мозги нам запудривашь? — возмутился Савелий.
— Нишкни, Савелко! Дай человеку договорить... — одернул брата Евтей, подбадривающе кивая Вощанову.
— Ну, стало быть, прошла эта история с собаками, да и с тигром с этим. Пришел я уже на участок, кулемки хожу по путику подымаю. Тут заметил: вороны над распадком кружат. Не медведь ли, думаю, пирует там. Пошел туда — ружье пулями зарядил. Долго подходил — не подшуметь бы, думаю, зверя. Подкрался. Смотрю: изюбр задавленный и съеденный уже. Рога да потроха от него остались. Работа не медвежья — опять тигриная. Но самец-то ведь, когда задавит, тут и лежит на давленине, не растаскивает ее подобно медведю, а эта растаскана, но опять же не по-медвежьи, аккуратненько. Одна кость от другой недалеко, и чисто все, земля не перекопана. Медведь, он перекопает все да в земле вывозит, как чушка, а тут чистота. Ясное дело — тигрица с тигрятами. А тут недалече и следы обнаружил ихние. У матки-то у самой пятка на двенадцать сантиметров, а у молодых два спичечных коробка. Ну, больше я их следов не видал — просто не бывал в том ключе.
— Ну ты даешь, Иван Иванович! Такое хорошее известие держал до последнего! — радостно воскликнул Савелий.
— Так надо было еще вчера спросить, я бы сказал вам.
Известие Вощанова приятно взбодрило тигроловов, они принялись возбужденно выдвигать предположения, далеко ли может уйти тигрица за месяц.
— А справитесь ли вы с такими большими дураками? Они по весу поди не меньше матки своей?
— Справиться-то справимся, брали и побольше, — озабоченно сказал Евтей. — Да только риск большой собак потерять, но куды денешься?
После завтрака, еще раз подробно расспросив Вощанова, в каком ключе и где именно видел он давленину и следы тигрицы, охотники, быстро собравшись, вышли на поиск.
Вечером, едва лишь ступив на порог зимовья и увидев неудержимо улыбающегося Савелия, степенно поглаживающего бороду. Павел приготовился услышать хорошие новости и не ошибся. Войдя вслед за Павлом, Евтей, посмотрев на брата и племянника, спросил:
— Ну чо сидите, как начищенные самовары? Сказывайте быстрей — нашли следы али нет?
— Ишь какой скорый, вынь да положь ему, — тщетно пытаясь спрятать улыбку в бороде, усмехнулся Савелий. — Думает так, с бухты-барахты взял и нашел следы. За имя ишшо походить, покумекать надобно, а то, безголово-то, хоть всю жизнь ходи, ничо не отыщешь...
«Ну пошел, пошел брательник цену себе набивать — значит, отыскал следы», — сразу успокоился Евтей.
И куда вся усталость делась? Ведь еще минуту назад, оглядываясь, видел его Павел предельно уставшим. И вот перед ним возбужденный, радостный человек. И точно такую же разительную перемену Павел ощутил в себе, он ведь тоже минуту назад был угнетен и физически, и морально, а теперь готов плясать и петь. Как мало, оказывается, нужно человеку для радости! Даже находка тигриных следов, оказывается, тоже может быть настоящей радостью, несмотря на то, что эта же самая находка может обернуться бедой.
Обо всем этом Павел успел подумать, пока снимал и пристраивал над печкой свою видавшую виды охотничью шинелку.
Савелий между тем уже рассказывал, смакуя подробности, о том, как они с Николаем нашли едва-едва заметный глазу, запорошенный снегом, подозрительный следок, как, распутывая его, перевалили в соседний ключ и там наткнулись на давленину, от которой дальше идет уже хорошо заметная тигриная тропа. Правда, молодые тигры ростом и весом мало уступят своей матери, но выбора нет, придется ловить этих, лишь бы собаки не искалечились.
После ужина Савелий достал из своего мешка матерчатый сверток, развернул его, пересмотрел и пересчитал в нем свернутые в кольца какие-то веревочки, матерчатые вязки, назначения которых Павел определить не смог: две бязевые ленты длиной в метр, шириной в ладонь были сложены вместе и связаны в центре узлом. С обеих сторон узла приклеплены две полуметровые ленты.
Перехватив заинтересованный и недоумевающий взгляд, Савелий протянул Павлу вязку:
— На-ка, разгляди получше, этой вязкой и стягивают тигру лапы — не видал таких кандалов?
— Неужели эти тряпки удержут? — изумился Павел. — Я думал, веревками лапы связывают.
— Ишшо чего придумал! Свяжи-ка веревками лапы, в кровь изотрет веревка, потому как жесткая она и в кожу впивается, онемеют лапы и отмерзнуть могут на морозе-то... Веревками!..
— А ведь и я всегда думал, что вы их веревками связываете, — признался Вощанов, тоже с любопытством рассматривая вязки. — Чем же эти тряпки лучше веревок?
— А тем и лучше, что лапы сводишь к узелку и завязываешь крепко, но тряпка-то мягкая, в тело не врезается, а ишшо — сведенными лапами он дергать не может, разгону не имеет, потому и силы для разрыва нету. Ну и, кроме того, матерчатая вязка не уступит по крепости веревочной.
Усталость брала свое. Павлу хотелось спать. Подал пример Савелий:
— Ну, вы как знаете, ребятки, а я сёдни стоко препятствий преодолел, что до сих пор в глазах рябит. Пойду-ка вздремну минут шестьсот... — И полез с кряхтением на нары.
Вскоре легли и остальные.
* * *
Вышли из избушки, не дожидаясь рассвета, — благо ярко светила луна и вчерашний след Лошкаревых хорошо был виден, по нему и шел Павел. След упруго ломался от мороза и громко шуршал под подошвой. Савелий предупредил Павла, чтобы шел он, приноравливаясь к среднему шагу всей бригады.
Незаметно рассвело, и тотчас же, словно приветствуя рассвет, из ближней еловой чащобы прозвучала тонкая, нежная трель рябчика. Восход солнца застал мужиков уже на тигриной тропе.
— Ну вот и славно! — удовлетворенно сказал Савелий, снимая шапку и приглаживая мокрые, быстро индевеющие на морозе волосы. — Сейчас малость передохнем и — айда с божьей помощью. Авось, даст бог, дня через три догоним их, супостатов.
— Большие, сильные, — пристально разглядывая тропу, раздумчиво произнес Евтей. — Трудно отличить след молодого от самой ее. На такого двух собак маловато, надо бы трех-четырех.
— Не паникуй, Евтеюшко, ишшо рано паниковать, может, и наши собачки удержут. В Ракитном тогда, помнишь, вот таких же двумя собаками удержали...
— Я не паникую вовсе, — сурово перебил Евтей. — Просто рассуждаю, глядя на энти вот махоньки следочки, кои, ежели память мне не изменяет, поболе будут, чем те следки на Ракитном. Ну-ко приглядись да вспомни, брательничек... Вспомнил, нет? А заодно уж вспомни малиновских тигряток, те как раз вот такие и были. Кое-как одного тигреночка взяли, а скоко он собак у нас искалечил до смерти?
— Дак чо ты предлагаешь, не идти за имя, чо ли? — недоуменно и растерянно спросил Савелий.
— Пошто не идти? Идти придется, коль меньших нет. Только опасение высказываю. Тогда у нас собак было четыре, да в запасе две имелись, а теперь всего две. Ежели задавит их такой громила, где других собак возьмем? По дворам пойдем клянчить? Можно и поклянчить, да беда, что из сотни собак одна-две всего на тигра пойдут. Как тигру такую большую поймать и собак ей не стравить? Вот об чем беспокойство свое высказываю. А ты в геройску позу становишься — не паникуй!
— Вот уж и серчать, и наговаривать скорей, — примиряюще сказал Савелий и спросил с надеждой: — Ну дак чо — будем пробовать?
— Придется попробовать, отступать неудобно и некуда. А то вот, Павелко, ученик наш, — Евтей с улыбкой посмотрел на Калугина, с напряженным волнением слушавшего их разговор, — возьмет и подумает, что тигроловы Лошкаревы трусы и ловят токо годовалых тигрят, да и расскажет всем, пошатнет авторитет Лошкаревых... Да я шучу, шучу, Павелко! — заметив протестующий Павлов жест, успокоил его Евтей. — Будем пробовать, конечно. Ежели собак искалечим — вернемся в поселок, всех бездомных собак соберем, авось гурьбой и посмелее будут — удержут.
— Ну и пойдем тогда. Ишшо ведь сперва догнать надо их, окаянных! — Голос Савелия звучал озабоченно, но лицо его сияло довольством.
...На тигриной тропе Савелий преобразился, движения его сделались энергичными, в степенной осанке появилось нечто хищное, напряженное и азартное, точно у зверя, выслеживающего добычу. Павел двинулся было по тропе первым, но Евтей удержал его:
— Охолонись, Павелко! Я вперед пойду, а ты следом, заодно буду тебе обсказывать разные тонкости — ликбез преподавать.
По тигриной тропе идти было сравнительно легко, правда, ширина звериного шага не совпадала с человеческим — была меньше, и поэтому приходилось либо частить, либо иногда наступать в промежутки следов, благо, что снег был неглубок. Такая ходьба напоминала Павлу ходьбу по шпалам — ни два, ни полтора.
След был присыпан снегом, но заметен даже на открытых местах, в густом же пихтаче или ельнике, где падающий снег большей частью задерживался на ветвях, следы печатались предельно четко.
Вот уже целый час тянется тропа одной нитью: тигры идут, ступая след в след. Несведущему человеку показалось бы, что здесь прошел один тигр, а не три, но опытный следопыт сразу почувствует по плотности тропы, что зверь не один: слишком торный след для одного звериного прохода.
Но вот наконец-то в густом темном пихтаче, на припорошенной снежком наледи, тигриная тропа разбилась на три следа. Евтей с Савелием, как по команде, сняли котомки.
— Сбрасывайте и вы горбы свои, отдохнем, — предложил Евтей и, кивнув на следы, спросил Павла тоном экзаменатора: — Ну-ко укажи нам, где тут тигрицын след?
Сбросив рюкзак, Павел подошел к следам, сравнил их и тут же уверенно указал на правый крайний:
— Там тигрица прошла, а эти двое молодые.
— А не перепутал, может, наоборот, левый — тигрицын? — усмехнулся Евтей, заговорщицки подмигивая Савелию.
— Нет, не перепутал, Евтей Макарович, — твердо сказал Павел. — У нее и след крупней сантиметра на два, и глубже впечатывает — значит, тяжелей этих двух, да и шаг размашистей, а тут вот, у края наледи, она немного постояла: передние лапы парно стоят, — озиралась или принюхивалась, а эти молодые ходом прошли.
— Значит, уверен бесповоротно?
— Уверен — бесповоротно!
— Ну, ладно, один экзамен сдал, — удовлетворенно сказал Евтей. — Но это нетрудный экзамен: на чистом да на твердом месте легко прочесть, а вот на мелком, рыхлом снегу, — там посложней различать. Ну а теперь попробуй определи, кто из этих молодых самец, а кто самка.
Это задание оказалось посложней. Теоретически Павел знал уже, что у самца след продолговатей, чем у самки, и пальцы толще, тоже продолговатые и слегка растопыренные, а у самки след круглей и пальцы круглей, и тесней они жмутся друг к другу, ну и по размерам след самки должен уступать следу самца. Именно такой след по всем теоретическим данным был в середине. Павел, слегка поколебавшись в душе, но внешне как можно с большей уверенностью, указал на средний след.
— Вот тут ты прогадал, Калугин! — торжествующе воскликнул Савелий и даже заулыбался от удовольствия. — Прогадал, прогадал, парень, не сумлевайся! Он ишшо и сумлевается! — Савелий удивленно посмотрел на брата. — Видал ты его? Я ему говорю — прогадал, а он ишшо и плечами пожимат...
— Внимательней, Павелко, приглядись, — пряча улыбку, попросил Евтей. — Вспомни приметы, сравни и не торопись объявлять.
Сбитый с толку, Павел, чертыхаясь и волнуясь, еще раз сравнил следы и пришел к первоначальному выводу:
— Да что тут сравнивать, Евтей Макарович? Я совершенно уверен, что это самка, а там самец.
— Уверен бесповоротно?
— Бесповоротно!
— Да ты видел хоть следы тигриные ишшо когда-нибудь? Первый раз тигриный след в глаза видит, а прям из кожи лезет — утверждает: самка, и все! Ну надо же! Ты глянь на него, Евтей!
Савелий даже руками по бедрам себя захлопал, точно взлететь хотел от негодования, а между тем выражение лица его не соответствовало ни возмущенному голосу его, ни тем движениям, которыми он пытался подкрепить и усилить голос — лицо его улыбалось не только всеми морщинами, но, казалось, и всей заиндевевшей бородой.
— Так, значит, Павелко, на своем стоишь?
— Стою на своем, Евтей Макарович.
— Бесповоротно? — Борода Евтея и усы дрогнули и раздвинулись от широкой довольной улыбки.
— Да вы мне, по-моему, просто мозги крутите... — догадался Павел, видя, что и Савелий с Николаем тоже улыбаются.
— Так ведь мы же, Павелко, экзамент принимаем у тебя не в институте, куды по блату можно проскользнуть. Мы же в ликбез тебя экзаменуем! — Евтей поднял палец и повторил со значением: — В ликбез! Это посурьезней всяких институтов...
За наледью следы вновь сошлись на тропу, но ненадолго, вскоре Евтей остановился перед толстой валежиной. Здесь след раздвоился: тигрица переступила валежину, а молодые обошли ее.
— Вот видишь, Павелко, молодые прошли рядом с валежиной, вдоль нее. Это говорит о том, что они уже имеют замашки взрослого зверя — взрослый тигр либо рядом с валежиной пройдет, либо с приступом через нее, а молодой тигренок непременно по удобной толстой валежине прошел бы поверху, любят молодые тигры поверху ходить. А эти, стало быть, не котята уже. Сдается, что и матка скоро уходить от них будет.
Минут через десять Евтей указал на раздвоение тропы:
— Ну вот, легка на помине. Видишь, пошла тигра резко в сторону, а они прямо идут, как ни в чем не бывало, даже не приостановились, привыкли уже, стало быть. А матка либо учуяла что-то и проверить пошла, либо специально уходит от них — к самостоятельности приучает.
Молодые тигры шли без матери уверенно, иногда следы их расходились, но недалеко друг от друга. В одном месте они долго лежали, грелись на солнце — обе лежки протаяли до земли и покрылись ледяной корочкой. Потом, пройдя по склону, тигрята долго стояли и смотрели вниз, в ту сторону, куда ушла мать — следы их передних лап тоже протаяли до ледяной корочки. Они ждали тигрицу, но она не возвращалась. Не дождавшись ее, они пошли по склону дальше. Тигрята, должно быть, волновались, потому что то и дело били хвостами по снегу — справа и слева видны были неглубокие скобки и крючки. Несколько раз тигры выходили на кабаньи тропы, шли по ним недалеко, затем бросали их и продолжали свой путь вдоль склона. В одном месте идущая сзади молодая тигрица отошла в сторону, мелко-мелко засеменила и вдруг большими скачками ринулась вниз по склону, за ней, пройдя еще немного впереди, ринулся и самец.
— Наверно, тигрица рявкнула внизу — на зов ее пошли, — внимательно оглядывая следы, высказал предположение Савелий.
— Кто его знает? Очень уж круто да шибко помчались туда.
— Обрадовались, от радости и взыграла кровь.
— Ну, посмотрим, посмотрим сейчас. — Евтей стал торопливо спускаться.
Метров через двадцать скачущие тигры перешли на широкую рысь, у подножия склона, на границе дубняка, и вовсе перешли на шаг. Здесь пасся кабан-секач, его-то и почуяли тигры, но и он их почуял — ринулся вниз, наискось по склону, комья снега от копыт разлетелись. Такого кабана и стая волков теперь не удержит, а тигр не волк — если промахнулся, сразу жертву не настиг, то бежать за ней куда-то сломя голову считает делом для своей особы унизительным.
— Вот тебе и тигрица! — обернулся Евтей к Савелию. — Тигрятки-то, оказывается, уже самостоятельно охотятся!
— Выходит, что так, — с досадой поморщился Савелий.
— Не получилось у них вот только, — заметил Павел. — Промахнулись — убежал кабан.
— Кабан-то убежал, Павелко, а вот собачки наши набежать должны на них...
Километра через два тигры разошлись — самец пошел вниз, в густой пихтач, а самка мелкими шажками продолжала идти по дубовому склону; крючки и петли от ее хвоста стали появляться справа и слева от следа все чаще и чаще; местами она подолгу стояла, что-то высматривая, а вот поползла на брюхе, скрадывая кого-то. Впереди лежал упавший дуб с вывернутыми из земли корнями, за дубом виднелась небольшая впадина — мочажина, обрамленная кустами элеутерококка и леспедецы, туда и ползла тигричка и наконец, перемахнув через упавший дуб, пошла на кусты рысью, а от кустов и в прыжки ударилась, но опять неудачно. Тот, кого она скрадывала, — изюбр вовремя соскочил с лежки и огромными скачками пустился вниз, но, почуяв там, вероятно, второго тигра, резко повернул влево и был таков. Метров через пятьсот тигры сошлись, полежали недолго друг возле друга, вероятно, переживая неудачу, затем стали спускаться в глухой и глубокий каньон, густо заросший смешанным лесом.
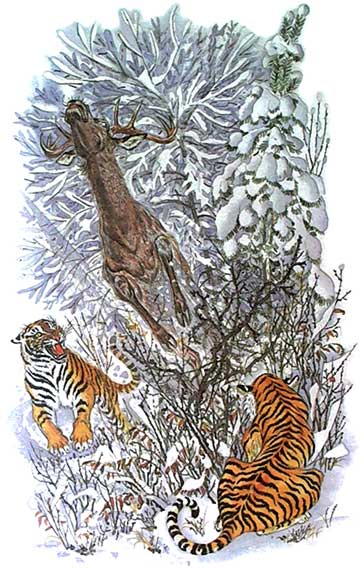
На дне каньона, в сплошном буреломнике, тигроловы нашли тщательно обглоданные кости изюбрихи. Как она смогла заскочить в середину этого немыслимого нагромождения валежин, через которые люди едва перебрались, этого уже никто не узнает; только дикий, невероятной силы страх мог загнать сюда изюбриху. Крутые склоны каньона были перекрещены вдоль и поперек упавшими деревьями. Живые деревья — елки и пихты — образовывали над каньоном темно-зеленый свод, сквозь который с трудом проникал сюда солнечный свет. Ели тут были очень толстые и на редкость высокие, точно стремились изо всех сил дотянуться до солнца.
Обглоданные кости и голова изюбрихи с застывшими, как стеклянные шары, глазами, истоптанный тигриными лапами снег, нагромождения валежин, холодный сумрак и зловещая обманчивая тишина вокруг — все это не располагало на веселые мысли, хотелось побыстрей выбраться из этого мрачного, как могильная яма, места.
Из каньона тигры поднялись по крутому склону, а тигроловам, чтобы выбраться из него, пришлось искать отлогий распадок.
Пройдя по склону километра два, звери вдруг повернули резко вправо, на пойму реки, и зарысили к группе огромных колоннообразных ясеней.
— В азарт вошли, опять кого-то учуяли, ловить собрались, — сказал Евтей, кивая на след. — С молодыми это бывает — научатся давить и давят первое время все подряд, как волки. Потом-то остепенятся, а сейчас им это в охотку.
Но ошибся Евтей. На берегу реки молодые тигры встретились с матерью. Встреча была, судя по следам, очень сдержанная, тигрица лишь обнюхала своих отпрысков — и, похлестав хвостом снег, деловито пошла в сторону. Молодые тигры зарысили было вслед за нею, но она, приостановившись, видимо, угрожающе рявкнула, и оба они испуганно отпрыгнули и долго топтались в нерешительности, прежде чем отправиться восвояси.
— Вот видишь, Павелко, это она подходила к ним для проверки: как, дескать, поживают мои отпрыски. Удостоверилась, что живут неплохо, с голоду не подыхают, и вот пошла своей дорогой. На четвертом году она их от себя отгоняет, научит давить и отгоняет. Ну, однако, материнское сердце беспокоится все-таки. В месяц раза два-три она их обязательно проведает. Если увидит, что молодые бедствуют, не могут никого задавить, что-то не выходит у них, тогда она опять берет их под свою опеку, снова учит, как нужно давить и охотиться. Преподаст урок и скроется, следит, как они усвоили. А потом и они сами все дальше и дальше начинают отходить друг от друга.
— Ты смотри, какой умный зверь! — изумился Павел.
— А ты думал как? Тигра — она умней любого зверя! — с гордостью заметил Савелий. — Куды умному медведю до тигры!
— А вот еще ихние лежки, — сказал Евтей.
Под невысокой, но очень густой и раскидистой елью Павел увидел две обледеневшие лежки.
— Рядышком спали, видно, поджидали матку свою, — уже на ходу продолжал говорить Евтей. — Не верится им, что мать ушла от них и им надобно начинать жизнь самостоятельно.
— Слышь, Евтеюшко! — окликнул брата отставший Савелий. — Не пора ли нам место для нодьи подыскивать? Солнце-то, вишь, за сопкой уже.
— Да я уж тоже об этом подумал. Вон за тот кедровый носок пройдем — там и будем искать подходящую кедру.
За кедровым носком подходящего сухого кедра, годного для нодьи, не оказалось. Подходящий кедр удалось найти лишь через час ходьбы на крутом неудобном для табора склоне. Но дальше идти и отыскивать другое, более подходящее место было рискованно: уже смеркалось, и надо было спешить с устройством табора.
В десять вечера взошла луна. Поужинав и покормив собак, сморенные усталостью тигроловы легли спать.
Внизу, как и предполагал Павел, спать было очень холодно, все тепло от нодьи уходило вверх, а снизу от подножия склона тянуло холодом так, что приходилось вертеться, подставляя к нодье то спину, то грудь, то бока.
Павел посмотрел на Евтея — тот лежал скорчившись, спиной к огню, с головой укрывшись шинелкой, со стороны огня она едва заметно парила, а с другой стороны была покрыта инеем, в инее была и торчащая из-под шинели борода. Павел привстал, посмотрел через пламя. Лошкаревы спали, блаженно вытянувшись, подставив заголенные спины жаркому огню.

Нодья горела ровно и хорошо, но все равно то Евтей, то Павел, просыпаясь от холода, поправляли ее, завидуя безмятежно спящим на той стороне Лошкаревым. И, как назло, ночь была ужасно морозная и оттого казалась нескончаемо длинной. Кое-как продремав до шести утра, Евтей и Павел, потеряв всякое терпение, разожгли костер и принялись варить завтрак и сушить на себе одежду. Залитая лунным светом тайга стояла вокруг темным оцепеневшим войском, ощетинившись острыми копьями и шлемами. Трещали от мороза сучки, но Павлу казалось, что трещат копья и тихо позванивают кольчуги. Павел представил себе, как ползет на тайгу, поблескивая квадратными железными щитами, бессчетное число трелевочных тракторов, а за тракторами люди в пластмассовых касках и с бензопилами...
Проснулся Савелий. Встав на колени, потер глаза, глотнул едкого дыма, пахнувшего на него от пышущей жаром нодьи, и закашлял, помешав Павлу дорисовать нелепую фантастическую картину сражения деревьев с тракторами.
— Ну, как спалось, Евтеюшко? — подходя к костру, участливо спросил Савелий.
— Как у Христа за пазухой, братец, — сердито проворчал Евтей, снимая с таганка закипевший чайник. — Спрашиваешь, будто не знаешь, как на уклоне возле нодьи спать.
— Да знаю, как не знать, — виновато признался Савелий. — Хреновое место попалось. Нодья хороша, а место — вишь какое...
— Да вижу, вижу, не слепой, чай. Тебя я, што ли, упрекаю? Сам привел сюда вас, сам и место неудачное выбрал.
— Ну, ничо, Евтеюшко, ничо... — Савелий широко с удовольствием зевнул. — Следующую нодью на хорошем месте поставим.
— Кто знает, может, и на худшем. Буди Николая-то, хватит, поди, спать, рассвета дожидать не станем, пока луна ярится, можно и при ней по тигриному следу идти.
— И то верно, Евтеюшко, кто рано встает, тому и бог дает, — охотно согласился Савелий. — Мороз-то седни, мороз... — И, зябко поведя плечами, пошел к нодье будить разоспавшегося Николая.
* * *
Выйдя на тигриный след, Евтей пропустил Павла вперед:
— Иди-ка, Павелко, у тебя глаза позорче моих, не ровен час, в лунном свете тигриную тропу с кабаньей перепутаю. Когда совсем развидняется, тогда подменю тебя.
«Я могу и без подмены по любым следам ходить», — подумал Павел. Но вслух ничего не сказал, только кивнул и быстро уверенным шагом пошел по следу.
Вскоре рассвело, но Евтей сзади молчал. Солнце поднялось над сопками. Евтей по-прежнему не окликал Павла, и Павел воспринял это молчание как знак одобрения. Так и вел он бригаду до самого вечера, там, где надо, легко и быстро распутывая тигриный след. Тигроловы ни во что не вмешивались, видно, проверяли Павла.
Место для нодьи Павел тоже выбирал сам. И когда подтаскивали бревна, командовал Павел: «Раз-два, взяли! Ищще, взяли!»
Место оказалось ровное и защищенное от ветра с одной стороны склоном сопки, с другой — густым елово-пихтовым лесом. И даже незамерзающий ключик-родник протекал рядом с нодьей. По бокам нодьи из валежника соорудили две стенки полуметровой высоты, загребли их снегом с внешней стороны, и получился табор — хоть куда!
Лицо Евтея удовлетворенно сияло. И даже Савелий, сдерживающий свои положительные эмоции к Павлу, не выдержал и, взглянув со стороны на ровно пылающую нодью и на уютный табор, покачав головой, одобрительно сказал:
— Ишь ты, шельмец какой! В батьку своего пошел.
На этот раз одинаково хорошо было спать у нодьи и с той, и с другой стороны, но все же, как заметил Павел, Николай выбрал себе место, где была мягче и толще хвойная подстилка. И еще невольно подметил Павел, что ночью подшуровывали нодью он и Евтей, два раза и Савелий просыпался, а Николай то ли не в силах был проснуться, то ли просто не считал нужным делать это.
Истину говорят — все познается в сравнении. В сравнении с прошлой ночью Евтей с Павлом спали по-царски и выспались вдосталь, поэтому и припозднились — вышли на тигриную тропу уже перед самым восходом солнца. Савелий ненастойчиво предложил Павлу отдохнуть от вчерашнего и идти сзади, но Павел пожелал идти первым.
— Не мешай ему самоутверждаться, — вступился за Павла Николай. — Пускай шпарит вперед, пока весь пар из него не выйдет. Когда выдохнется, сам пристроится сзади.
— А ежели у него этого самого пару на сто лет припасено? — спросил Евтей, вызывающе поглядывая на племянника.
— Посмотрим, посмотрим, дядюшка...
Тигры в тот день еще четыре раза пытались охотиться на кабанов, но всякий раз те спасались бегством.
— Видно, плохо вас мамаша обучила — избаловала! — ворчал Савелий. — Столько зверя кругом, а вы ишшо не задавили даже поросенка.
— По-моему, тут причина в том, что они друг другу мешают, — раздумчиво сказал Евтей. — Слышь, Павелко! Заметил ли ты, что к зверю подкрадывается да идет на прыжках токо одна тигричка, а самец либо со стороны пытается зайти, либо вовсе топчется сзади? Заметил?
— Нет, не заметил, — признался Павел, досадуя на то, что не обратил внимания на такую важную деталь.
— Так в следующий раз приметь. Еще имей в виду, что у тигрят одного возраста всегда тигричка взрослеет раньше самца и охотиться она раньше начинает, и хитрее она, и гораздо злей и проворней, хоть и ростом поменьше.
— Этого я не знал, Евтей Макарович, спасибо за науку.
— Ну вот, то-то же, спасибом не отделаешься, — польщенно заулыбался Евтей.
К полудню тигры поднялись на вершину хребта и долго шли по заросшему мелкой березой плоскогорью. Кроме рябчиковых набродов, здесь не было никаких иных следов. Убедившись в том, что плоскогорье не сулит им ничего хорошего, тигры вновь спустились на середину склона, но и здесь уже не было зверя — начались густые перестойные пихтачи, которые все копытные, кроме кабарги, обходят. По пихтачам, несмотря на отсутствие ориентиров, тигры не петляли, как ожидал Павел, а шли ровно, как по компасу, и наконец вышли из пихтачей на крутой солнцепечный склон, под которым блестел черными пятнами и полосами не замерзший еще до конца ключик. За ним, уходя вдаль, простиралась речная пойма, заросшая могучим смешанным лесом. Здесь, на солнцепеке, звери пролежали несколько часов — обе лежки протаяли до самой земли.
Не спрашивая согласия тигроловов, Павел решительно снял карабин, сбросил рюкзак, положив на тигриную лежку рукавицы, сел на них и, щурясь встречь солнцу, с блаженством расслабил мышцы. Остальные тоже не без удовольствия последовали его примеру. Здесь, на южной стороне, мороз почти не ощущался, сочно голубело небо, ласково светило солнце, лепетал неподалеку талый ключ, шелестели на елках и выводили замысловатые нежные трели клесты. Так бы и сидеть, и сидеть на этом, залитом ласковым солнечным светом склоне и сто, и двести, и тысячу лет!
— Сиди не сиди, а цыплят не высидишь! — первым поднялся Савелий. — Ежели тигры в пойму пойдут, придется, наверно, через протоки перелезать: вода, вишь, не везде замерзла.
— Да, хорошо сидеть, а идти надо, — с сожалением сказал Евтей и, оглядевшись, вздохнул. — Веселое местечко! Вот тут бы на угорье зимовьюшку срубить...
Павел упруго поднялся, взвалил на плечи рюкзак и молча стал спускаться по следу.
...Перейдя через ключ, тигры долго шли пойменным лесом, пытаясь охотиться на изюбров, следами которых была испещрена вся пойма. Но чуткие животные убегали задолго до подхода тигров, да и невозможно было к ним подкрасться незамеченным, на расстояние прыжка, — пойменный лес был редок и хорошо просматривался. Убедившись в том, что и здесь не лучшее место для охоты, звери вновь поднялись в сопки и стали бродить по старым кабаньим тропам.
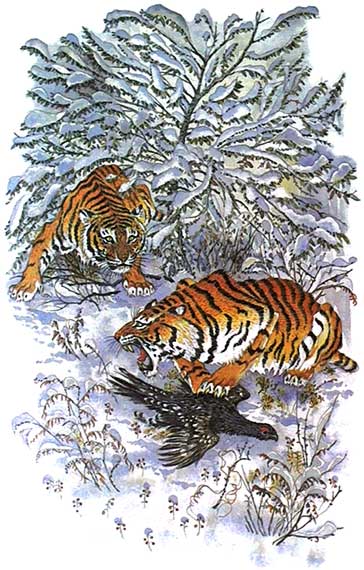
Наступили сумерки. Охотники выбирали кедр для нодьи и устраивали табор уже в темноте. Ночь была пасмурная, теплая.
«Будет снег, — подумал Павел сквозь дрему. — Раз оттепель — значит, снег». Он вспомнил, что и небо сегодня было сочно-голубого цвета — это признак оттепели.
Евтей и Савелий тоже думали о предстоящей перемене погоды, но думали с беспокойством и тревогой.
Снег пошел на следующий день.
— Ну, теперь хана тигриному следу — заметет! — упавшим голосом сказал Савелий.
— Раньше смерти помирашь, — упрекнул брата Евтей. — Может, пронесет еще, видишь, снег-то валит, а небо тонкое, наскрозь просвечивает.
Слова Евтея оказались верными. Через несколько минут снегопад прекратился, туча прошла, и свежевыпавший снег ослепительно заискрился на солнце. Припорошенная тайга точно и сама посвежела, сделалась уютней, веселей и просторней.
Очередную нодью сделать пришлось почти на вершине сопки. Здесь гулял пронизывающий ветерок, но вниз, в более тихое место, спуститься тигроловы не рискнули: там темнели сплошные ельники, а елка для нодьи не годится, горит она, правда, хорошо, но сильно трещит и стреляет долго тлеющими искрами и целыми угольками. Упадет горящий уголек спящему на одежду — вот тебе и дыра. Уж лучше здесь, хотя и на ветру, но у жаркого, ровно горящего кедра переспать, к тому же — не надо отклоняться от маршрута, силы тратить понапрасну — следы тигриные в десяти шагах от табора, утром встал на них и шагай себе прежним маршрутом.
* * *
Утро выдалось пасмурным. Тигриный след вывел на вершину сопки к невысокой скале. У основания ее, под могучим, в два обхвата, кедром, тигры ложились отдыхать, но пролежали недолго, лежки не успели даже обледенеть: голод гнал зверей, не давая им покоя. Обойдя скалу, поднявшись на нее по отлогой стороне и постояв наверху, тигры рысцой побежали вниз по распадку.
— Ну, слава богу, кажись, зверя почуяли, — сказал Савелий, — а то ведь так и помереть недолго с голодухи.
— Может, тигрицу опять услыхали? — осторожно спросил Павел. — В таком густом ельнике вряд ли копытный зверь стоять сейчас будет.
— Да, похоже на то, — кивнул Евтей. — Кабан сейчас на желуде, на орехах кедровых, изюбряк — на пойме... Разве что кабарга шастает в ельниках, мох с деревьев объедает. Или просто поблазнилось тиграм что-то. Да что гадать, вот чуток пройдем еще — и все станет ясно.
Через несколько шагов тигроловы увидели сразу несколько следов, расходящихся веером. Тигры здесь ходили и туда и обратно. Евтей громким шепотом окликнул Павла:
— Стой, Павлуха! Видишь, тигриные тропы кругом? Это неспроста, значит, где-то там давленина.
— Посмотрите на Барсика и Амура. — Савелий кивнул на собак. — Чуют что-то. Следы-то, правда, недельной давности, и на этой давленине вряд ли уже застанем тигров, но как знать, может, сохатого завалили, тогда этого мяса надолго им хватит, и как раз застанем их... Как думаешь, Евтеюшко?
Евтей внимательно посмотрел на Барсика. Пес, слегка натянув поводок, напряженно смотрел в низовья распадка; ноздри его, втягивая какой-то подозрительный запах, слегка подрагивали; уши стояли торчком и были направлены в ту же сторону — в темный, припорошенный снегом ельник.
— Что-то чуют, — согласился Евтей. — Но если б тигры там были, Барсик давно бы уж рвался, сам знаешь, как он бесится...
— Думаешь, нету их там?
— Да кто их знает. Что гадать, пройдем еще, как найдем свежий след, так и ясно станет.
— Вот место дрянное. — Савелий огляделся, недовольно морщась. — Ежели тут ловить придется — ни одной рогатины не видать. Из чего рогатины-то рубить?
— Погоди ты о рогатинах думать, — с досадой отмахнулся Евтей, двигаясь по правому краю тигриных следов.
С громко бьющимся от волнения сердцем Павел двинулся вслед за Евтеем. Вот оно — начало! Быть может, уже через несколько минут он услышит леденящий душу тигриный рев, увидит яростные глаза зверя и страшную оскаленную пасть...
В ельнике все следы сошлись в одну торную тропу. Тигроловы молча шли по ней, чутко прислушиваясь, напряженно всматриваясь. Собаки по-прежнему прядали ушами и смотрели по ходу тропы, но делали это спокойно, без азарта. Внезапно идущий сзади Евтея Барсик стал что-то вынюхивать на тропе, но Евтей дернул его за поводок, и пес неохотно засеменил вслед за хозяином. Павел ковырнул носком олоча снег в том месте, где нюхал Барсик, и выбросил на тропу обглоданную кость.
— Евтей Макарович! Стойте!
Обернувшись, Евтей осуждающе покачал головой:
— Зачем так громко разговариваешь? Спугнешь тигров раньше времени...
— Я нечаянно, забылся, — смущенно проговорил Павел. — Тут вот кость чья-то обглоданная...
— Какая ишшо кость? — Савелий недовольно обошел Павла. — Где кость?
— Да вот она, лежит на тропе.
Опережая Евтея, Савелий поднял кость, похожую на обрубленную человеческую руку с растопыренными пальцами, недоуменно осмотрел ее и вдруг произнес удивленно и растерянно:
— Так ведь это — тигриная лапа! Обглоданная!..
— Ты что, отец, не перепутал ли? — Николай взял кость у отца, разглядел ее и, удивленно покачав головой, передал ее подошедшему Евтею.
— В самом деле, лапа тигриная...
— Что бы это значило? — угнетенно спросил Николай.
— А то и значит, — уныло сказал Евтей, передавая находку Павлу, — что один тигр другого съел. Ходили-ходили, добычу поймать не смогли, оголодали вконец, ну и подрались, наверно. А может, один из них заболел и сдох, а другой, чтобы добру не пропадать, съел его. Съел и ушел восвояси! Вот и вся история! — Последние слова Евтей произнес громко и с раздражением. — Вот невезенье! Стоко дней тропили их — и все кобыле под хвост. Тьфу!
— Ты бы не лаялся громко-то, — неуверенно попросил Савелий. — Может, второй-то тигр лежит тут недалеко, спугнешь его...
— Как же, станет он неделю дожидаться нас! Видишь, костомаху как вылизал, оскубал? Ему этого мяса на три дня. Изголодавшийся зверь долго на одном месте лежать не станет.
— А все же, Евтеюшко, на всякий случай ишшо до места дойдем без шуму давай, — может, тама он и есть как раз.
— Ну пошли, пошли, все одно надобно это место отыскать.
Теперь Евтей шел по тропе решительным шагом и вскоре, приостановившись, выгреб ногой на обочину обглоданную берцовую кость, затем, через несколько шагов, пинком отбросил в сторону часть позвоночника. Но вот тропа вновь разбилась на несколько перепутанных, широко разбегающихся следов. Все они были той же недельной давности. Посовещавшись, тигроловы решили не распутывать следы, а просто прочесать их. Евтей пошел вправо по краю следов, Савелий влево, а Павел и Николай, отойдя друг от друга шагов на полста, пошли по центральным тропам.
— Ежели случайно тигру увидишь, не вздумай стрелять по ней, — предупредил Савелий Павла перед тем, как разойтись. — Тихонько от нее отступи подальше и тогда уж голос нам подай — мы к тебе прибежим.
— А если он прямо на меня пойдет?
— Ну, тогда вверх над ней стрельни — убежит она, а мы тогда собак отпустим, а ты по ее следу беги, и мы тоже на след ее выйдем.
— А если он не убежит, а кинется на меня, можно стрелять в него? — продолжал допытываться Павел.
— Ну, ежели совсем опасно станет... тогда конечно, а все ж постарайся как-нибудь, тово, выкрутиться — напугать ее...
Сейчас, прокрутив в голове весь этот разговор с бригадиром, Павел с лихорадочной поспешностью думал над тем: чем же, кроме выстрела, можно остановить нападающего тигра? «Может, зажечь ветровой спичкой пластмассовую расческу? Но пока буду пенал откручивать, да спичку вынимать, да пока зажгу ее, тут мне тигр голову пять раз успеет откусить. Вот опять, кажется, что-то лежит на тропе...»
Павел ковырнул ногой снежный бугорок и вывернул переднюю лопатку тигра. «Ишь, как потрудился, до блеска обглодал... Вот прыгнет сейчас из-за той вон валежины, и ты, братец Калугин, не только спичкой не успеешь чиркнуть, но и за карабин взяться не успеешь».
Он подозрительно посмотрел на лежавшую впереди толстую валежину, усмехнулся словам Савелия: «А все ж постарайся как-нибудь, тово, выкрутиться...» Да уж, конечно, ежели прыгнет, постараюсь на лету ее сшибить, не промахнуться. — И, подумав так, он снял с плеча карабин и взял его наизготовку. — Вот так, Савелий Макарович, вернее мне будет с ней переговоры вести».
Благополучно обойдя подозрительную валежину, Павел вновь вышел на тропу и, не увидев на ней свежего следа, успокоился, но карабин оставил в руках. «Береженого бог бережет», — эту поговорку часто внушал ему отец. Но что там впереди, в мелком густом ельничке? Почему так возбужденно растенькались синицы? Может, над зверем тенькают?
Чтобы не скрипели подошвы о твердый снег тропы, Павел пошел рядом с ней по целине, внимательно ощупывая глазами каждый подозрительный бугорок впереди, каждое пятно, не забывая между тем скользнуть взглядом по сторонам, да и назад оглянуться иногда, но это уже просто на всякий случай, перестраховки ради. Вот уже синичье теньканье совсем недалеко. Да вон же они — сидят на пушистой елочке, перепархивают с ветки на ветку, и то одна, то другая вниз пикируют. Что же нашли они там интересного? К той же елке и тропа ведет, а вон еще две тропы туда сходятся, и по-прежнему не видно свежих следов.
Осторожно подойдя к елке, Павел увидел под ней хорошо утоптанную, присыпанную свежевыпавшим снегом площадку. Утоптана она была не звериными лапами... Вокруг площадки снег тоже весь перетоптан.
Поставив затвор на предохранитель и закинув карабин за спину, Павел подошел к елке, высмотрел на площадке продолговатую ямку и, встав на колени, сдул с нее весь пушистый снег. Он увидел отпечаток олоча, подшитого рубчатой подошвой, вероятно, от покрышки мопедного колеса. Такие подошвы многие охотники подшивают теперь на кожаные улы — и мягко ходить, и не скользко, хоть с горы, хоть на гору, да и подошве износу нет. Смутно догадываясь о происшедшем здесь, Павел, чтобы проверить свою догадку, отломил еловую ветку и начал сметать ею снег с площадки — под снегом всюду проступали пятна крови. Все больше удивляясь, он увидел еще одну лапу и обглоданную кость, кажется, шейный позвонок. Концы фаланг на лапе были не обгрызены, как казалось на первый взгляд, а ровно срезаны в суставах ножом... Павел внимательно огляделся кругом и заметил на стволе светлую полоску — след свинцовой пули. Жакан ободрал кору на высоте колена. Стрелял человек стоя — пуля прошла чуть под углом сверху вниз. Павел прикинул, откуда удобней всего было стрелять в стоящего за елкой тигра, получилось, что стрелял не ближе и не дальше того молодого густого ельничка. До него метров тридцать — удобная дистанция даже для самого плохого ружья. Поднявшись с колен, Калугин принялся громко сзывать тигроловов.
— Ну, понятная картина, — осмотрев место происшествия, сказал Евтей. — Там, за ельничком, стоит избушка, я, когда сюда подходил, заметил крышу ее между деревьями. Видно, тигры, пересекая распадок, там, вверху, услышали собачий лай, ну и пришли сюда собачатиной полакомиться. Ну а собака их учуяла, стала лаять. Тут хозяин или хозяева к ельничку подошли, убили тигра, шкуру ободрали, все шито-крыто!
— А обглоданные кости? Почему они так далеко, в разных местах, а не в куче здесь? — спросил Павел.
— Все просто, Павлуха, ободранного своего собрата тигр побоялся рядом с избушкой есть, а утаскивал его по частям подальше, чтоб никто ему не помешал. Как съел всего, так сразу без задержки и ушел. Охотники не ожидали, что кто-то подойдет к избушке по тигриным следам, вот и бросили мясо без опаски: местечко тут, вишь, какое уремное?
— Чтоб им пусто было, паразитам! — выругался Савелий. — Четыре дня гонялись за тигром, а пришли к костям!
— Дурачье! — презрительно сказал Николай. — Напакостить грамотно не сумели — ведь река рядом, взяли бы уж да замели следы, в прорубь ведь можно было тигра по частям спустить — и дело с концом! Никакого криминала! А теперь вот криминал, да еще какой — тысяча рублей штрафа с конфискацией оружия, с лишением права на охоту.
— Надо ишшо доказать сперва, — неуверенно возразил Савелий. — Вишь, следов-то свежих нету, охотники поди убегли из зимовья?
— Так ведь это, отец, просто выяснить, кто они и откуда. Сейчас придем в зимовье, и все станет ясно. Прихвати-ка, Павел, эти костомахи с собой, они у нас как вещественное доказательство будут, — начальственным тоном сказал Николай.
Павел недовольно поморщился, но поднял кости и, зажав их под мышкой, побрел вслед за Лошкаревыми.
Зимовье оказалось неподалеку от ельничка, на самом берегу реки. Свежих следов вокруг избушки не было — это подтверждало предположение Савелия, что охотники «убегли». Зимовье было новое, рубленное в прошлом году и крытое толем.
— Не наших охотников работа, — определил Евтей. — Рубили халтурно, паз не выбирали — бревна впритык, да и стропила не по-нашему сделаны.
— Это, однако, с верховьев охотники, из Кругликовского промхоза...
— Ну вот, видишь теперь сам, что нетрудно установить, чье зимовье, — торжествующе подхватил Николай. — Кругликовский промхоз известен, а промхозу известно, разумеется, кто охотится в этом зимовье, — вот тебе и все следствие!
— Видно, как шкуру сняли с тигра, так на другой день и смотались отсюда, — сказал Евтей, подходя к двери.
В зимовье оказалось чисто и уютно: с двух сторон возле стен нары; между ними — большое окно с двойной рамой; стол слева от двери, перед маленьким, как амбразура, оконцем. На стенах висело три полотенца; в щель бревна были воткнуты три зубные щетки и три ложки, на гвоздях над оконцем — три кружки. Три спальных мешка, лежащих на нарах, тоже свидетельствовали о том, что охотников в зимовье было трое.
Павел взял лежащий на нарах журнал «Огонек» и прочел вслух фамилию подписчика: «Федюков».
— Ну вот, пожалуйста, еще вам одна улика! — торжествующе сказал Николай. — Фамилия одного браконьера известна, остальные сами отыщутся...
— Это, конечно, сынок, ежели взяться теперь за энто дело — тут и искать нечего, сразу найдут. — Савелий повернулся к брату: — Ну чо, Евтеюшко, чо делать будем?
— Что делать? Печку вот сперва растопить надобно да чайку попить, — проворчал Евтей. — Холодище тут!
Около печки не было ни полена дров и ничего сухого для растопки. Выйдя из зимовья, Павел торопливо выбрал из поленницы сухих дров, настругал топором мелких щепок и, пока Евтей ходил с чайником на речку, затопил печь. Всегда относясь к чистоплотным охотникам с уважением, о хозяевах избушки он думал с презрением — не столько потому, что сорвали они отлов тигра, браконьерски убив его, сколько за то, что, уходя из тайги, не позаботились о том безвестном человеке, который может вольно или невольно забрести в их жилище. Они не сделали того, что обязан делать, выходя из тайги, каждый таежник — оставлять в жилище сухую растопку и спички, и, хотя бы небольшой, запас еды.
— Ну дак чо делать-то будем, Евтеюшко? — вновь повторил свой вопрос Савелий, когда избушка нагрелась и тигроловы, не раздеваясь, а лишь сняв шапки, уселись за стол пить чай. — Будем второго преследовать али бросим его?
— Я думаю, Савелий, овчинка выделки не стоит. — Евтей расстегнул шинель, пригладив бороду и усы, осторожно хлебнул из кружки горячий чай, слегка обжегшись, отодвинул кружку. — Сам посуди, брательник: лицензии у нас две, погонимся за этим тигром, допустим, благополучно отловим его, а второго тигра — все одно искать придется? Так не лучше ли у той тигрицы, которую найдем, не одного тигренка взять, а двух? А этот черт нам собак выведет из строя, чует мое сердце. Они ведь к зимовью на собачий лай пришли, не иначе.
— Значит, предлагаешь искать других?
— Предлагаю искать других. Не теряя времени, надо вернуться в поселок и там поспрашивать мужиков, может, кто и сообщит о следах: сейчас многие любители из тайги вышли, кто орехи бил, кто белковал — наверняка кто-то видел следы.
— А мне кажется, дядюшка, лучше бы нам выйти в Кругликово, там и справки наведем о следах. Заодно и в промхозе заявим о случившемся. Пускай этих браконьеров накажут как следует, чтобы и другим неповадно было. Ведь не оставим же мы это дело безнаказанным?
Евтей усмехнулся:
— Насчет браконьеров ты правильно, племяш, мыслишь — наказать их надобно и непременно. Да вот смотри, что выйдет из этого. — Евтей опять осторожно отхлебнул из кружки и, убедившись, что чай уже остыл, сделал несколько торопливых глотков. — Так вот, племяш, смотри, что выйдет. Во-первых, у нас лицензии на отлов только до Нового года действительны, а там неизвестно, продлят их или нет. Во-вторых, и у тебя отпуск не на год даден, а сколько мы еще за тиграми пробегаем, тоже неизвестно.
— У нас еще месяц в запасе.
— Погоди, не сбивай меня. Месяц — это не так уж много, пролетит — не заметишь. В-третьих, нам до Мельничного идти полтора дня, а до Кругликово — три дня. Вот уж два дня потеряем и силы потеряем. Да там, пока заявим да пока соберутся, раскачаются охотинспекторы, еще два дня, да придется вести их сюда и показывать — вот тебе еще три дня — неделя ушла? Ушла. Это, ежели гладко все пойдет, а то, может, и с задорами, тогда и не рад будешь, что ввязался в это дело.
— Что ж ты, дядюшка, предлагаешь оставить все безнаказанным? — спросил Николай.
— Пошто оставить? Не-ет, этого дела оставлять нельзя! — Евтей нахмурился. — Придем в Мельничное, сообщим егерю Беспалову — пущай нашими следами придет, удостоверится и сам этим делом занимается — это его кровная работа, а наше дело — сообщить куда следует и тигров побыстрей поймать.
— А пойдет ли Беспалов ишшо на чужую территорию — это ведь Кругликовский район, а не наш? — засомневался Савелий.
— Пусть попробует не пойти — за это ответит по всей строгости! Браконьерство он обязан пресекать в любом месте, где оно обнаружится, — другое дело, что разбирательство он передаст не в свой район, а в ихний.
— Ну и ладно тогда, это уж их дело, — удовлетворенно закивал Савелий. — Пушшай разбираются, да и наказали бы их. Сотня тигров осталась в тайге, а и тех без жалости стреляют.
Перед уходом Евтей сложил найденные кости тигра под окном избушки и загреб их снегом, снег притоптал, пояснил:
— Это вещественное доказательство. Скажем егерю, где кости лежат, ежели он пойдет сюда — откопает их, заодно и другие поищет на тропах, ежели этих мало окажется.
— Разумно, дядюшка, разумно, — похвалил Николай. — Из тебя бы вышел хороший следователь.
— Следователь, не знаю, вышел бы али нет, а вот воспитателем при тебе я мог бы стать — это уж точно, токо вместо уговоров взял бы на вооружение хороший сыромятный ремень...
— Это для чего еще, дядюшка?
— Не для чего, а для кого, племянничек!
— Значит, для меня? — широко заулыбался Николай.
— И для тебя, и для других, кто неучтив со старшими и кто не радеет на работе. Нынче многих ремнем стегать пора — сверху донизу.
— А если, дядюшка, у тебя объявится воспитатель? И если он, стегая сверху донизу, как ты говоришь, стеганет и тебя? — Николай многозначительно повел глазами.
— Ну, ежели и у меня воспитатель объявится, возражать не стану и спину готов подставить под ремень, ежели это общему делу поможет.
— Шутишь, дядюшка!
— Ей-богу, подставил бы! — серьезно сказал Евтей. — Вот деда взять твоего, Макара. Спроси-ка у Савелия, как он нас воспитывал. Крут был с нами до беспощадности, бил нас чем попадя, до крови, по-настоящему бил, а вот поди же, никто из нас, четырех братьев, не в обиде на него. А почему? Потому, что бил-то он нас справедливо, за дело. За ложь бил, за безхозяйственность. Бросил я как-то хомут на пол в конюшне, не повесил его на стену; он меня уздечкой так отхлестал — до сей поры, глядя на хомут, задницу чешу. Ежели бьют справедливо, какая тут может быть обида?
— Ну, вы тут ишшо поспорьте, поспорьте, а мы вот с Павликом пойдем, однако, — сердито проворчал Савелий и, повернувшись, зашагал к реке.
— И то верно, заговорились, — виновато кивнул Евтей и, подбросив на спине котомку, торопливо принялся отвязывать нетерпеливо приплясывающего и повизгивающего Барсика.
* * *
В Мельничное тигроловы пришли в девять часов вечера. У Евтея были тут знакомые, он предложил зайти к одному из них, наиболее гостеприимному, но, поразмыслив, неуверенно сказал:
— Кто его знает, примет ли он такую ораву на ночлег, да еще с собаками? Да и самим неудобно людей беспокоить. Ежели б друзья были, а то просто знакомцы. Пойдемте лучше в промхоз в сторожку определимся, там мы никого не стесним и сами не стеснимся, а сторож только рад будет.
На том и порешили. Поселок был небольшой, из трех вытянутых параллельно берегу реки улиц; центральная освещалась электрическими лампочками, подвешенными на верхушках столбов. Редкие прохожие мало обращали на промысловиков внимания, здесь привыкли ко всякому бродячему таежному люду: то геологи, то лесоустроительная экспедиция, то туристы, ну, а охотников и своих предостаточно.
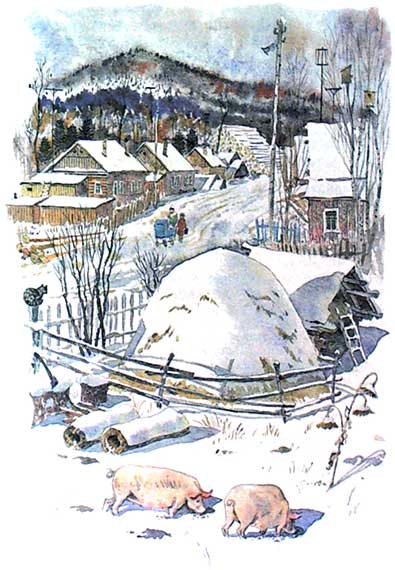
Сторож промхозовской территории и заготпункта, высокий горбоносый старик с бороденкой, похожей на клочок прилипшей к подбородку пакли, увидав гостей, действительно обрадовался:
— А-а, кажись, опять к нам тигроловы пожаловали? Проходите, проходите, не стесняйтесь. А где же тигры ваши?
— Тигры наши в тайге бегают, их ишшо найти надобно, — сказал Савелий наставительно.
— Как же — найти? Вы мне сказки потом расскажете, знаю я вашу конспирацию. — Сторож заговорщицки подмигнул мутно-голубым слезящимся глазом. — На зообазу поди отправили тигров-то?
— Да не поймали мы! — сказал Николай, устало сбрасывая рюкзак и оттаскивая его в угол.
— Да вы чо, я же вот вчерась в газетке читал, там про вас все пропечатано; дескать, бригада Савелия Лошкарева вышла в верховья Уссурки на отлов тигров и после десяти дней преследования пленила двух полосатых хищников. Так и пропечатано: «Двух полосатых хищников»! А вы мне мозги засоряете. — Сторож снял с вешалки полушубок, надел его и стал медленно застегивать пуговицы, обиженно моргая.
Тигроловы недоуменно переглянулись.
— Вы что, серьезно читали про нас в газете? — недоверчиво спросил Николай, проходя к столу и усаживаясь на табурет.
— Ну а как же, шутка, что ли? Вот этими своими собственными глазами читал. — Сторож постучал себя согнутыми пальцами в переносицу. — А вы мне мозги засоряете, конспирируетесь... Две недели в тайге пробегали — и пусты? Кто вам поверит? Дураков нема-а...
— Что, так прямо и написано, что уже поймали двух тигров? Именно поймали?
— Не «поймали» именно, а «пленили» именно! Так и пропечатано: «Бригада пленила двух полосатых хищников», — слово в слово.
— Вот дают! — с веселым восторгом воскликнул Савелий. — Мы ишшо и свежего тигриного следа не видали, а уже готово — отловили!
— Это они авансом отловить нам дозволили, — устало махнул рукой Евтей. — Услыхал какой-нибудь досужий корреспондентик, что в лес ушли, ну и быстрей, чтоб никто другой не опередил, застолбил золотую жилу...
— А вы чо, рази вправду не изловили? — понизив голос и с каким-то даже испугом, спросил сторож.
— Ну дак сказали же, — подтвердил Савелий.
— Значит, газетка-то наврала про вас, али как? — растерянно спросил сторож у Николая, считая его, вероятно, самым авторитетным.
— Ну зачем же так прямолинейно? — усмехнулся Николай. — Вот Евтей Макарович деликатней выразился — не наврала, а просто аванс нам выдала. Ушли в тайгу тигроловы — значит, поймают...
— Во дела! — Сторож нерешительно потоптался и присел на дощатый топчан, выставив, словно на обозрение, большие, черные, еще нерастоптанные валенки. — Да-а, ну и ну... Стало быть, конфуз с газеткой вышел? Может, они того... как его... ошиблись? Может, их самих в заблуждение ввели? — все никак не мог успокоиться он. — Бывает же так... наговорит охламон какой-нибудь, а ему и поверют... Чо делать-то теперь будете — опровергание напишите в газетку?
— Да успокойся ты, дед! — рассмеялся Николай. — Ничего страшного не случилось.
— Как не случилось? А еслив не поймаете?
— Еслив не поймаем, дед, все равно опровергание писать не будем, — насмешливо сказал Николай и, спохватившись, что сторож может обидеться, добавил мягче: — Придется взять встречные обязательства и поймать этих усатых полосатых хищников.
— Вот-вот, только в этом, ребятки, и выход — поймать их побыстрей! — азартно закивал сторож и, подозрительно оглянувшись на дверь, понизил голос: — Изловите их тихонько, и все шито-крыто! Кто вас ревизировать будет? Сёдни вы их поймали или две недели назад? Скажите: в тайге их держали, не на чем было привезти. Во-от! — Сторож даже облегченно вздохнул, помолчал, что-то соображая, и вдруг, точно вспомнив нечто важное, спросил: — Да, а это, пойманных тигров-то как вы в тайге содержите? Так связанные и лежат все время, али вы их на цеп привязываете? Я в кине видел: на цепах лепарды пятнистые расхаживали.
— Ты в кине на первом ряде сидел, дед, али на последнем? — сдерживая улыбку, спросил Николай.
— На первом, на первом!
— Да хватит вам зубоскалить попусту! — мягко перебил сторожа Евтей. — Отловленных тигров мы в сруб сажаем, вот и вся история. А ты вот скажи нам, уважаемый, вот что — не слыхал ли ты про тигриные следы?
— Да как не слыхал? Слыхал! У нас этих тигров нонче нашествие! — радостно выпалил сторож.
— Ты погоди, погоди, уважаемый, — вкрадчивым голосом остановил Евтей сторожа, пересаживаясь с табурета к нему на топчан. — Ты не торопись, по порядку обскажи нам, где, кто и когда видел хоть один тигриный следок?
Все напряженно и с надеждой смотрели на сторожа, и, поймав на себе эти взгляды, почувствовав важность момента и своей фигуры при этом, дед подтянулся, напрягся лицом и, помедлив, должно быть, тоже для вящей значимости, сказал, загибая мизинец на левой руке:
— Ну, к слову, наш заготовитель Никитенко позавчера ездил на деляну за дровами и видел там тигриный след. Это раз. Во-вторых, Михайло Крутилин неделю тому назад двух тигров видал — кабана задавили, секача килограммов на триста. Это два. Потом, потом... дай бог памяти, ага! На тепляке по лесосекам штук десять тигров бродит. Собаку у Цезаря съели тигры, и сам он в тепляке от них цельну неделю спасался не жрамши, не пимши, пока трактор не пришел, все сидел возле печки — огня-то боятся оне! Боятся, да?
— Боятся, боятся, уважаемый, — охотно закивал Евтей. — Ты дальше перечисляй, очень нам все это надо знать.
— Та-ак... Еще недавно у Вощанова тигрица съела четырех собак, кабана они задержали, а она за одну минуту и кабана убила, и собак растерзала, и самого Вощанова едва не придушила — он успел пальнуть по ней выше головы, когда она прыгнуть на него изготовилась. — Сторож несколько мгновений помолчал, как бы давая тигроловам переварить услышанное.
И тигроловы понимающе переглянулись.
— Ну, дальше, дальше, — пряча улыбку в бороду, подбодрил сторожа Евтей.
— Ну, дальше стрельнул Вощанов будто бы по ней — она и ушла. Это для обчества, стало быть. — Сторож подмигнул Евтею. — Для конспирации, а в сам деле пульнул он ей, хищнице полосатой, промеж глаз. Неужто цацкаться будет?
— Ты думаешь, порешил он ее? — заговорщицки спросил Евтей, с трудом удерживая улыбку.
— Верняко-ом! Приши-ил! Закон — тайга, медведь — хозяин! Кто его там ревизировать станет, Вощанова?
— Но это уж не наше дело, уважаемый, ты про тигров-то еще вспомни, — нахмурился Евтей.
— Да-да, не наше, не наше дело, — спохватился сторож. — Про тигров еще. Так, кто там еще видал?.. — Дедок закатил глаза к низкому, чисто побеленному, залитому ярким электрическим светом потолку, пошарил по нему взглядом, припоминая, затем уперся взглядом в пол, но и там, не найдя никакой зацепки для памяти, со вздохом признался: — Запамятовал! Кто-то еще будто видал, но запамятовал! Да и не прислухался я; говорят кругом, а мне без надобности — ловить я их для цирка не собираюсь.
— И правильно делаете, — с напускной серьезностью заметил Николай.
— Погоди, племяш, мы тут не все еще выяснили. Так, стало быть, уважаемый, на лесосеке видел след заготовитель, а на секаче — Михайло Крутилин?
— Они, они! Никитенко и Крутилин! И еще на тепляке Цезарь...
— Цезаря мы оставим на потом, у твоего Цезаря шибко много их, а нам всего двух разрешено отловить. А скажи нам вот еще что: где эти мужики проживают, как найти их?
— А чо их искать-то, их и искать нечего. Михайло-то прямо против клуба живет, а Никитенко, тот сам сюда утром заявится — на заготпункте пушнину будет принимать. — Сторож поднялся, снял с вешалки шапку, не торопясь, аккуратно нахлобучил ее по самые брови, кажущиеся приклеенными, и спросил неуверенным голосом: — Ну чо, хватит вам этих тигров или не хватит? — И предложил с искренней готовностью: — А то я вам еще сейчас припомню. Тут их мульён — тигров этих...
— Не надо, не надо больше припоминать! — поморщился Евтей. — Хватит нам с избытком. Спасибо!
— Ну тогда, ребятки, смотрите сами, — обрадованно закивал сторож. — Дело ваше. Тогда я пойду территорию обойду и домой спать направлюсь, а утром, часикам к семи приду. Чо мне тут делать? Теперича сюда при вас никто не сунется, вон каки волкодавы у вас, вмиг залают. А если из начальства кто заявится после кина, где, мол, Хохлов, скажите: пошел домой за чайной заваркой, чефирнуть, мол, захотел шибко. В сам деле, чо мне тут у вас место занимать? — Сторож, шаркая валенками, пошел к двери.
Сторожка была небольшая, но чистенькая, уютная и, главное, теплая. Поужинав и накормив собак, мужики в самом хорошем настроении и с верой в завтрашний день легли спать.
* * *
Никитенко пришел на заготпункт не к девяти, как сказал сторож, а на час раньше. Непомерно толстый, с отвисшими красными щеками, он, казалось, не вошел, а протиснулся в узкую дверь сторожки, шумно, тяжело дыша, поздоровался:
— Здравствуйте, тигроловы! Здравствуй, Савелий Макарович! Опять в наши края? Хохлов сказал, что тигриными следками интересуетесь?
— Ишшем, ишшем, Николай Павлович, с ног сбились. — Савелий с излишней торопливостью придвинул табурет; заготовитель благодарно кивнул и сел тотчас с таким блаженством, как будто только и мечтал об этом.
— Вы давно с центральной усадьбы? Как там наш уважаемый директор, Михаил Григорьевич, поживает?
— Да бог его знает, мы уж две недели бродим по тайге, следки ишшем. Сторож сказывал, будто следки ты видал недавно...
— Правду, правду сказал... Уф, ты! Жарко у вас натоплено. — Никитенко снял шапку из меха выдры, расстегнул на груди пуговицы темно-синего, подбитого ондатрой пальто. — Рад помочь вам, ребята. Значит, ситуация следующая. Три дня тому назад ездил я на промхозовскую деляну, ну и остановились в одном месте, слез я, пошел от дороги лес посмотреть, годный на строительство, — омшаник там собираемся построить. Ну вот, прошел метров сто, гляжу — след. Присмотрелся — тигриный! Совсем свежий, тепленький, прям парок над ним теплится. Да не один след-то. Похоже — два или три тигра прошли — один большой, два поменьше.
— Ты не ошибся, Николай Павлович? — радостно встрепенулся Савелий. — Может, это чушка с поросятами?
— Да ты что, Савелий Макарович?! — обиделся Никитенко. — Неужто я не смогу кабана от тигра отличить? Обижаешь!
— Да ты не серчай, это я так, для примеру. Больно уж часто кабаньи следы с тигриными путают, даже опытные охотники...
— Ну, опять ты про Фому! — обиделся Никитенко, и лицо его сморщилось — вот-вот заплачет. — Я ведь, прежде чем заготовителем стать, немало и тайги прошел, кое-что смыслю...
— Да мы тебя ни в чем и не подозреваем, — решительно вмешался в разговор Евтей и спросил с самым невинным видом, словно ради простого любопытства: — А по следам ты прошел хотя бы немного или сразу к машине заспешил?
— Немного прошел по ним... А к чему ты это, Лошкарев? — Никитенко посмотрел на Евтея с плохо скрытой неприязнью.
— Да ни к чему, просто надо всегда пройти по следу хотя бы немного, прежде чем точно установить, сколько зверей прошло и каких.
— А-а, ну это... это так. Как же, прошел немного...
— А сколько прошел? — все тем же нарочито равнодушным тоном продолжал допытываться Евтей.
— Что сколько — метров, что ли? — Никитенко беспокойно заерзал на табурете, отчего тот жалобно заскрипел.
— Ну да, метров или шагов, если хочешь, — насмешливо сощурился Евтей, не обращая внимания на укоризненно-предупреждающий взгляд Савелия.
— Да сколько метров — считал я их разве? Прошел немного, шагов несколько, да и повернул к машине.
— Ну метров хотя бы десять прошли вы по следу? — вежливо спросил Николай.
— Десять? — Никитенко с какою-то затравленностью или сожалением посмотрел на Николая. — Десять метров прошел, пожалуй. А какое это имеет значение, молодой человек?
— Для меня никакого, а для Евтея Макаровича, вероятно, имеет какое-то значение...
— Ну, бог с имя, с метрами-сантиметрами, — примиряюще сказал Савелий. — Ты вот ишшо, Николай Павлович, скажи нам: как добраться до того места, где след?
— Очень даже просто, Савелий Макарович. — Никитенко с кряхтением поднялся. — В десять часов наша промхозовская машина пойдет на деляну, вы на нее грузитесь — и айда! Шофер знает, где я с дороги сворачивал, так моим следом и выйдете, прямо на тигров.
— Мы вначале налегке съездим посмотрим, — осторожно возразил Савелий.
— Да чего там смотреть, чего смотреть? Верное слово тебе говорю, Савелий Макарович, не сомневайся! Прямо на след становись и веди свою бригаду, через пару дней поймаете!
— Да мы бы сразу поехали, — продолжал Савелий. — Да у нас ведь ишшо продукты не закуплены, и телеграммку вот деловую сын отобьет заместителю своему.
— Ну, смотрите, смотрите, вы — спецы! Мое дело — направление дать, а в остальном я вам не советчик. Одно хочу еще раз подчеркнуть со всей ответственностью, — Никитенко с неприязнью глянул заплывшими глазками на усмехающегося Евтея, — в следах я еще разбираюсь — не профан!
— Это мы еще посмотрим, — пробурчал Евтей вслед уходящему.
— Ну чо ты за человек такой, Евтей, неуживчивый? Пошто к нему-то цепляешься? Он вить добро дело для нас делает, — стал упрекать Савелий.
— То-то и видно, как он от добрых-то дел раздулся! — рассердился Евтей. — Верный пес он твоему Попичу — о здоровье его не забыл справиться.
— Ну, это его дело, Евтей, он нам следы показывает.
— Следы, следы! Ты думаешь: я зря его допытывал, сколько метров он по тем следам прошел? Он же ни хрена в следах не смыслит, и тайги боится как огня. В прошлом году бруснику принимал на верхнем перевале — от табора дальше кустов не ходил. Увидал на ключе след босой человеческой ноги, кто-то из ребят, видно, наследил, прибежал — едва отдышался от страха. В следах он разбирается! Тьфу!
— Ну дак чо, не ездить туда по-твоему, чо ли?
— Да разве я говорю, что не ездить? Непременно надо съездить. Такая наша участь теперь: всякие слухи проверять, на зуб пробовать. Павлика с Николаем оставим тут, пушшай продукты закупят, а мы вдвоем съездим. Как приедем — сразу к тому, второму, зайдем — к Михайле Крутилину?
— Вот-вот, к нему. Там тоже подозрительная история. Говорит — видел двух тигров. Да просто ли тигров увидать?
Николай вызвался один закупить продуктов, без Павла. Калугин только рад был этому. Отдав Николаю свою долю денег для закупки продуктов, он уехал с Евтеем и Савелием.
След оказался действительно не тигриный, а кабаний. Чушка прорысила, а за ней два прошлогодка прошли. Никитенко, наткнувшись на эти следы, к тому же не свежие, а двухнедельной давности, счел их тигриными и, круто повернувшись, заспешил к машине.
Обратно промхозовская машина должна была возвращаться только под вечер, ждать ее не имело смысла, оставалось одно — идти в поселок, до которого было около десяти километров.
Вначале Евтей материл заготовителя, а затем стал поддевать и Савелия, но тот, зная характер брата, терпеливо отмалчивался.
Через два часа Никитенко, закрывавший контору на обед, увидев подходящих к сторожке тигроловов, бодро крикнул им:
— Ну как, ребятки, на следах побывали?
— Побывали, побывали, паря! — насмешливо откликнулся Евтей, жестом руки останавливая порывающегося что-то ответить Савелия.
— Ну и как, подойдут вам такие следки?
— Замечательные следочки, паря! Токо беда одна небольшая...
— Что случилось? — В голосе Никитенко слышалась искренняя тревога.
— Да конфузик небольшой — у твоей тигрицы... копыта выросли! Язви тя в душу!
— Ты что там опять лаешься, Лошкарев? Какие копыта?
— Да чушка там прошла, Николай Павлович, — не выдержав братнего глумления над человеком, извиняющимся тоном крикнул Савелий.
— Не может этого быть, я же лично...
— Обсечка произошла, Николай Павлович! Ничего, это быват...
— Иди ему пособолезнуй, а то он сейчас от горя похудеет, как масло на сковородке оплавится, — проворчал Евтей, открывая дверь сторожки.
Николай, слышавший громкий диалог, ни о чем расспрашивать не стал, молча отложил в сторону газету, купленную на почте, снял с припечка и поставил на стол котелок с рисовой кашей, достал из мешка буханку свежего хлеба, колбасу, сыр, сливочное масло, затем также молча выставил кружки и миски. Старики, сняв шинелки и побросав их на топчан, торопливо уселись за стол.
После обеда тигроловы сходили к Михаилу Крутилину, но дома его не оказалось.
Слух о том, что они разыскивают тигриные следы, разошелся по всему селу.
На следующий день едва лишь ходившие на почту Евтей и Павел переступили порог сторожки, как Савелий, довольно потирая руки, сообщил, что был один пенсионер-охотник по фамилии Непомнящий, который родился в этом селе и знает окрестную тайгу, рассказал, что три недели тому назад видел на своем путике по Семенову ключу тигриные следы. До ключа по лесовозной дороге километров пятьдесят, а напрямки через перевал — вполовину меньше. Пенсионер согласился проводить тигроловов в свою избушку и показать следы.
* * *
Когда Непомнящий вошел в сторожку, тигроловы успели уже покормить собак, позавтракать, увязать котомки и сидели одетые, ожидая проводника. Степенно поздоровавшись, он удовлетворенно кивнул и сказал глуховатым, чуть охрипшим голосом:
— Снарядилися? Ну, порядок! Машина ровно в семь отходит, счас посидим на дорожку для фарту и пойдем. — И, сев на предложенный Павлом табурет, он деловито снял меховые с брезентовым верхом рукавицы, положил их себе на колени, расстегнул суконный бушлат на груди, достал папиросу и, к неудовольствию всех, закурил.
Среднего роста, кряжистый, с мускулистыми жилистыми руками, с широким морщинистым лицом, словно грубо вырезанным из ольхового нароста, с маленькими, широко расставленными глазками, острыми и холодными, он производил впечатление человека не просто физически сильного, но и хитровато-жесткого — себе на уме. Одет он был так, как подобает одеваться опытному таежнику: кроме бушлата из серого сукна на нем были такие же брюки с длинными заплатами на коленях и перетянутые на лодыжках белыми капроновыми лентами. Улы на ногах его были сшиты не из черной, фабричного производства кожи, а из кожи сохатого, кустарно выделанной; шапка тоже была сшита из продубленной до коричневого цвета овчины.
— А ты, Матвеич, ружьишко-то, хоть плохонькое, не забыл? — после неловкого минутного молчания уважительным голосом спросил Савелий.
— Ружье-то? Ружьецо взял. Берданка у меня затворная. За дверью оставил и мешок, и берданку. С морозу в тепло заносить оружие — только угроблять его — ржа заест, — рассудительно проговорил Непомнящий.
— Это верно, Матвеич, по-таежному, по-хозяйски, — закивал Савелий, многозначительно посматривая на скептически улыбающегося Евтея, точно хотел сказать ему: «Видал, каков? А ты сомневался!»
Но Евтей продолжал смотреть на проводника все с тем же недоверием.
«Ох уж этот Евтей — репей, не человек! Хоть бы с дурацкими вопросами не стал приставать... Ну, так и есть, уже нацелился...» — с досадой подумал Савелий.
— Значит, говоришь, Матвеич, ты нас к самому следу обещаешь подвести?
— Ну, а то как же? Как договорились с бригадиром вашим, Савелием Макаровичем, — гася папиросу о широкую ладонь свою и швыряя ее к поддувалу печки, с тою же степенностью сказал Непомнящий. — Ваши следы, мои пятьдесят рубликов, как договорено.
— А ты уверен, что там прошла тигрица с молодыми тиграми? Может, по следу волки или рысь прошла, а ты за тигрят их принял?
— Это, милый мой, совершенно немыслимое действо. Я тут с малолетства произрастаю и таежную науку до тонкостей изучил — будь покоен. — В голосе его было столько уверенности и убедительной силы, что Евтей даже смутился:
— Ты, приятель, не подумай, что я в тебе сомневаюсь, просто не мешает лишний раз спросить.
— Будь покоен! К завтрему на следах окажемся.
— Ну, пора, наверно, к автобусу, а то ишшо опоздаем, — засуетился Савелий.
В переполненный рабочий автобус тигроловы едва-едва втиснулись. Павел примостился на корточках у самого прохода, держась одной рукой за дверную скобу, другой — прижимая к себе Барсика. Он обратил внимание на то, что лесорубы, здороваясь с Непомнящим, разговаривали с ним тоном непочтительным, а иногда и насмешливо-пренебрежительным. Сам же Непомнящий, когда его спрашивали, куда он едет с тигроловами и не собирается ли он ловить тигров, отвечал невразумительно. «Боится, как бы не перехватили заработок», — с неприязнью подумал Павел.
Наконец, по знаку Непомнящего, водитель остановил автобус около моста через ключ. Выгрузившись, тигроловы с наслаждением вдыхали чистый морозный воздух, чуть припахивающий от дороги соляром и смолой от раздавленных колесами пихтовых веток, оброненных лесовозами. Легко вскинув на спину небольшой рюкзачок, повесив на плечо берданку и заткнув за пояс небольшой, в деревянном чехле, топорик, Непомнящий бодрым шагом спустился на лед речушки. Дождавшись тигроловов, обратился к Савелию:
— Вот там, в верху ключа, зимовьюшка есть. От нее по распадку подымемся на самую хребтину, оттедова до Семенова ключа совсем близко, — я энти места наскрозь прошел — будь покоен!
— Да кто ж сумлевается, Матвеич? Никто не сумлевается, — радостно кивал Савелий. — Известное дело, родимшись в тайге, тайгой и кормишься.
— Ну что, тогда пойдем помаленьку? — спросил Непомнящий то ли себя самого, то ли Савелия и, потоптавшись, пошел вперед, как и подобает идти проводнику.
Вначале он шел довольно быстро, где по льду ключа, где спрямляя излучины его через пойменный лес, но затем скорость его поубавилась. Он все чаще и чаще приостанавливался: то поправит рюкзачок на спине, то передвинет топорик за поясом с левого бока на правый, то словно прислушается к чему-то, высморкается. И наконец, остановившись вовсе, предложил идущему сзади него Павлу:
— А не пойти ли тебе вперед, молодой человек? Ноги, я смотрю, у тебя порезвей моих. Вот так прямо и прямо по ключу все держи и держи, а если отклонишься, я тебя сзади голосом поправлю, скажу праве — пойдешь праве, скажу леве — пойдешь леве.
— Вы мне скажите, сколько километров примерно до того зимовья, и я сам буду выбирать дорогу.
— А кто их мерял тут, километры эти? Сказывали, избушка прямо у ключа стоит. Потому и не отдаляйся от берега, а то, не дай бог, пройдем мимо.
«Ну, кажется, судьба послала нам второго Ивана Сусанина», — насмешливо подумал Павел, проходя вперед.
Речка не делала крутых петель, и ему не пришлось отдаляться от нее — шел он, как всегда, быстро, редко оглядываясь. Вскоре Непомнящий, идущий вслед за ним, вышагивал уже позади Евтея, затем пристроился за спиной Николая и наконец оказался последним.
К избушке подошли в полдень, она действительно стояла у самого берега речки, ее невозможно было бы проглядеть — долина в этом узком месте была вырублена и просматривалась насквозь, как футбольное поле. Кроме того, прямо к зимовью с низовий ключа, должно быть, от самой лесовозной дороги, сквозь плешины порубов тянулся чистый прямой волок, о существовании которого проводник, вероятно, не знал, иначе он повел бы тигроловов не по речке, а по волоку, тем более, что по нему тянулась старая, хорошо утоптанная тропа.
Не обратив внимания ни на волок, ни на тропу, нимало не смутившись тем, что избушка стоит на видном голом месте. Непомнящий, восторженно оглядев зимовье, сбросив рюкзачок и берданку, с неожиданным проворством юркнул в приоткрытую дверь и, тотчас же выглянув оттуда, радостно и удивленно сообщил:
— Слава богу, печка имеется, можно ночевать.
Тигроловы недоуменно переглянулись, а Непомнящий, широко распахнув дверь, уже заталкивал в печь сухие поленья.
— Ты что, Матвеич, ночевать, чо ли, тут собираешься? — осторожно спросил Савелий.
— Ну а то как же? Ясное дело — ночевать! — подтвердил Непомнящий, поднося к смолью горящую спичку и с детским восторгом любуясь расцветающим в поленьях пламенем.
— Так вить, кажись, рано ишшо, Матвеич? — досадливо поморщился Савелий. — Мы бы до сумерек десяток километров успели отшагать.
— Да что ты, Савелий Макарович? Бог с тобой! — испугался Непомнящий. — Дотемна мы все одно не успеем в мою избушку дойти.
— Так зато мы бы завтра к обеду пришли к ней и к следам завтра же успели. Нам дни терять несподручно, — рассудительно заметил Савелий. — Нам — чем скорей, тем лучше...
— Так я ведь говорю, что в избушку мы не успеем, — терпеливо повторил Непомнящий.
— Ну и шут с ней, с избушкой, Матвеич. — Савелий сбросил котомку, оглянувшись на чуть заметно усмехающегося Евтея, сказал, будто к брату только обращаясь, но так громко, чтобы слышал и проводник: — Ничо-о, Евтеюшко, счас мы почаюем и дальше пойдем, до хребта сёдни доберемся...
— Так я ведь говорю, что жилья на хребте нету, не слышишь, что ли? — все с тем же спокойствием сказал Непомнящий.
— Да нам и не нужна, не нужна избушка, Матвеич!
— Как же не нужна? Вот тебе раз! — Непомнящий заулыбался, точно услышал удачную шутку. — А где же мы ночевать-то будем? На улице, что ли?
— Зачем на улице? — удивился Савелий. — В тайге! В нодье переночуем!
— Это у какой такой нодьи? Нодья — это палатка, что ли? Нет там, на хребте, никакой нодьи!
Тигроловы удивленно переглянулись. Павел, сдерживая улыбку, чтобы не досадить уже расстроенному Савелию, отошел в сторонку и стал привязывать Барсика.
— Ты чо, Матвеич, сурьезно у нодьи никогда не ночевал? — после минутного молчания угнетенно спросил Савелий.
— Даже не слыхал, что это такое, — охотно подтвердил Непомнящий. — Это что, вроде как балаган или табор, по-вашему?
— А у костра ты когда-нибудь ночевал, Матвей Батькович? — строго спросил Евтей.
— Не-ет, у костра я тоже не ночевал: дурных нету — туберкулез подхватывать. Я все больше по байрачкам ночую.
— Значит, говоришь, все больше по байрачкам ночуешь? — Евтей укоризненно посмотрел на сникшего Савелия. — Ну-ну, правильно делаешь, Матвей Батькович...
— Матвеем Фомичом меня величают.
— Вот я и говорю, Матвей Фомич, правильно делаешь, что по байрачкам охотишься. — Евтей весело подмигнул вовсе сникшему Савелию. — По байрачкам оно, конечно, сподручней. Ну ничо, счас вот попьем чайку, напилим дровишек, подремлем, поспим, брюхо почешем и завтра до следующего зимовья как-нибудь дошкандыбаем, вот и день пройдет.
— Ничо-о, ребятки, ничо-о, — не замечая Евтеева издевательского тона, продолжал Непомнящий, закрывая дверцу разгоревшейся печки. — Счас мы зимовьюшку прогреем, чайком побалуемся. На-ко вот, молодой человек, ведерко, Павлом тебя звать, кажись? На-ко, Павел, посуду, говорю, да сбегай по воду.
С улыбкой приняв из богатырской ручищи Непомнящего ржавую десятилитровую банку из-под томата, заменяющую ведро, и черный от многолетней копоти чайник с отбитой во многих местах эмалью, заткнув за пояс топор, Павел с удовольствием пошел на речку.
Остаток дня тянулся нескончаемо долго; тигроловы от нечего делать напилили и накололи дров на неделю, отремонтировали надломленную стропилу, законопатили тряпьем щели изнутри в прогнивших углах избушки, подмели в ней пол и навели порядок. Вечером Непомнящий с достоинством принялся рассказывать им о том, как он лет пять назад убил жаканом громадного медведищу. И, чем больше рассказывал он о своих охотничьих подвигах, тем сильней убеждались тигроловы в том, что имеют дело не с профессиональным охотником и даже не с опытным любителем, а просто с обыкновенным крестьянином, если не боящимся тайги, как огня, то уж, во всяком случае, приходящим в нее без удовольствия, лишь в угоду корысти.
— Слушай, уважаемый Матвей Фомич, где ж ты работал до пенсии? — поинтересовался Евтей. — Ручищи у тебя, смотрю, как стяжки ореховые — не кузнечным ли делом занимался?
— Руки-то! Руки ничо-о — не жалуюсь, слава богу. — Польщенный, Непомнящий умиленно посмотрел на свои мощные, как лопаты, ладони. — Я этими руками доволен. А работал я, уважаемый, на хорошей работе — кочегарил в больнице да еще складом заведовал. Работка непыльная, дай бог каждому! — В голосе его звучали горделивые нотки: — На полторы ставки, по двести сорок рубликов в месяц выходило, да еще вот ружьишком, капкашками опять же прирабатывал — тоже, ежели с умом, доходец немалый. В прошлом году вот пенсию сто двадцать рублей отхлопотал.
— И долго ты проработал в этой доходной должности?
— Долгонько! Двадцать пять годков, ни меньше ни больше.
— А чего ж дальше работать не стал — и пенсию получал бы, и оклады свои?
— Оказия вышла! — Непомнящий помрачнел лицом, тяжело засопел. — Котельную, что была при больнице, ликвидировали и подсоединили к другой, интернатской, а там кочегаров полон штат.
— Ну, пошел бы на другую работу, — продолжал со скрытой усмешкой расспрашивать Евтей. — Твоими ручищами кувалдой махать.
— Не-е, с кузнечным делом я не связывался, да и зачем после пенсии работать — здоровье надрывать? Ежели бы за кузнечное дело платили бы сотни три...
— Ну, а кадровым охотником почему не оформишься?
— Еще похлеще придумал, — вяло отмахнулся Непомнящий и посмотрел на Евтея так страдальчески, как смотрят на безнадежно больного. — Кадровому охотнику надо план большой выполнять, да потом папоротник, да всяки разны травы да коренья собирать — комаров да клещей кормить. А то еще не простой клещ укусит, а энтот, как его? Энцефалитной, от которого помирают или уродами делаются. Не-ет, уважаемый, я до законной своей пенсии дожил, слава богу, и дальше сам себе хозяин — потихоньку, полегоньку — вот и буду прирабатывать. — Колючие глазки Непомнящего масляно заблестели. — Завтра на след вас выведу — пять червонцев в кошельке. Разве не заработок? Заработок!
— А может, с нами заодно и тигров пойдешь ловить? — стараясь придать своему голосу как можно больше серьезности, предложил Евтей.
— Да я бы и пошел, силы мне не занимать, — с озабоченностью сказал Непомнящий. — Да больно уж дело у вас рисковое — ненадежное: то ли поймаешь, то ли нет, то ли жив останешься, то ли в лапы к тигру попадешь — гори она ясным огнем, эта ваша тигра!
— А в тайге ходить ты не боишься, случайно? — напрямик и теперь уже серьезно спросил Евтей.
Непомнящий с полминуты молчал, что-то трудно соображая, почесал затылок, вздохнул и, неожиданно чистосердечно, даже словно бы с каким-то облегчением, признался:
— Без ружья боюсь, а с ружьем посмелее будто бы. Где чисто да видать далеко, там ничо-о еще, особливо хорошо по старым вырубкам ходить, а где тайгища, не тронутая пилой, темная да дремучая, — тако место я стараюсь обойти. Тигры да рыси в само таких местах и затаиваются. И сколько этой тайги еще осталось! Пилют, пилют ее, а все конца не видать! В старину, читал я, выжигали тайгищу, а на этом месте огороды сажали, вот бы и у нас таку практику возвернули. Проку от нее, от тайги, — комарье да клещи!
Далее Непомнящий с несвойственной для его характера живостью принялся выдвигать проекты по выжиганию и истреблению тайги и засеиванию вместо нее кукурузы и сахарной свеклы, способными, по его мнению, спасти весь мир от неминучей голодной смерти, которая наступить должна, если этого не сделать, самое большее — лет через полсотню. Если выжечь тайгу и засеять кукурузой и свеклой, то можно продержаться и тыщу лет!
Тигроловы слушали не перебивая, с любопытством и удивлением, переглядываясь между собой, точно каждый хотел удостовериться, что он слышит то же самое, что слышат и другие.
Вначале Павлу казалось, что Непомнящий просто психически больной, но вскоре он понял, что именно так ему хочется оправдать Непомнящего, который был вполне здоров, здоров тем чрезмерным здоровьем, которым отличаются люди, пустые, недалекие и жадные. Они никогда не болеют и ни в чем не сомневаются.
После ужина, когда Непомнящий вышел на минуту из избушки, Евтей, не сдержавшись, передразнил Савелия:
— Путевый челове-ек! Медвежа-атник! Ежели вот эдак по байрачкам поведет он нас, то как раз к Новому году доберемся до следа...
— Сам же утром приветил его, чуть обниматься не полез, — виновато потупившись, осторожно напомнил Савелий. — Сам тоже обманулся, а теперича одного меня винишь.
— Да не виню я тебя, — досадливо поморщился Евтей. — Просто сам на себя досадую — не напороться бы опять на балабола. Чует мое сердце: хлопотная у нас завтра экскурсия намекнется с энтим Матвеичем.
— Уж как-нибудь ишшо день-два надобно потерпеть, лишь бы на след привел, а там деньги отдадим и распрощаемся с ним.
Но откуда было знать Евтею, что «хлопотная экскурсия» вовсе не «намекнется», а обрушится, и не завтра, а уже сегодня. И путь к следам окажется гораздо длиннее...
Тигроловы улеглись на нарах и приготовились окунуться в блаженную тишину. Так приятно, когда тело твое, уставшее, разгоряченное и обремененное дневным трудом, наконец-то обретает покой...
Но вот скрипнула дверь, вошел Непомнящий, сняв сохнувший над печкой бушлат свой, бросил его на нары, не торопясь разулся, повесил улы на вбитый в балку напильник и, потушив свечу, пробрался ощупью на свое место к стенке, рядом с Савелием.
Какое-то время в избушке стояла тишина, нарушаемая тихим потрескиванием горящих в печке поленьев. Но вот в эту благостную тишину, словно камушки по склону, покатился негромкий рассыпчатый храп. Павел, не переносивший храпа, недовольно поморщился и, перевернувшись со спины на правый бок, натянул шинелку на голову. Но храп накатывался все ближе и ближе и вдруг обрушился камнепадом, вдребезги разбившим и тишину, и мысли, и образы — все разлетелось, развеялось в грохоте неслыханного храпа.
Тигроловы, изумленные, замерли, как будто услышали среди зимы раскаты грома небывалой силы. Дальше началось вовсе невероятное: то нарастая, то затихая, чтобы вновь и вновь обрушиться небывалой силы душераздирающей гаммой звуков, этот храп заставил тигроловов буквально оцепенеть, и они лежали так, словно были загипнотизированные. А храп метался по тесной избушке, сотрясая стены и потолок, тщетно отыскивая выход в мировое пространство! И все это на высших, душераздирающей силы тонах — и час, и два, и три, и всю долгую-долгую, невероятно долгую и кошмарную ночь!
Не раз сквозь дрему, укутав шинелкой голову, Павел благодарил судьбу за то, что Непомнящий лег не на этой стороне нар, а на той — возле бедняги Савелия...
Что ощущал в эту ночь Савелий, было известно лишь ему одному; тигроловы слышали только то, что он вначале то и дело бормотал с жалобным изумлением: «Господи Иисуси! Да что же это такое? Разве ж можно так храпеть? Ишшо не слыхал такого храпу... Наследство ему там отрывают, что ли? Да разве ж можно так храпеть? Неужто можно?» Но вскоре Савелий, потеряв терпение, стал поругивать и шпынять соседа острым локтем в бок: «Да чтоб тебя черти разорвали! Отвернись к стене! К стене отвернись, говорю, боров окаянный! Чтоб ты там поперхнулся! Да чтоб тебя расперло, борова окаянного! Да за что мне такие муки! Отвернись, говорю, к стене! Чего ты мне в ухо трубишь? В стену, в стену труби!»
Непомнящий что-то мычал, послушно переворачивался и начинал трубить снова. Окунулся Павел в сон лишь перед рассветом, когда Непомнящий, прекратив храп, проснулся и шумно, с наслаждением зевая и почесываясь, добавил в пригасшую печь мелких сухих поленьев, и принялся готовить завтрак.
Во время завтрака Евтей, с улыбкой поглядывая на сердитого невыспавшегося Савелия, восхищенно сказал Непомнящему:
— Ну и храпел ты ночью, Матвей Фомич! Отродясь такого храпу не слыхивал, по сию пору от храпу твоего трам-тара-рам в голове стоит. Ты, часом, не приболел? Говорят, от болезни иногда ни с того ни с сего храпенье находит, как чих, например.
— Шутник ты право, Евтей Макарович! Да рази храп от болезни? Отродясь, слава богу, не баливал, — обиделся Непомнящий и тут же сказал с сожалением и гордостью: — Рази это храп? Вот в молодости храпел я — вот это храпел! Перво-наперво, доложу я вам, три жены от меня ушло из-за этого самого храпу.
— Ну это, паря, не мудрено-о-о, — вставил Савелий. — Возле твоей постели и лошадь не устоит, разве что вовсе глухая...
— А вот четвертая баба глухая попалась. Ну, мне и лучше! Двадцать лет прожили, — скопытилась, царство ей небесное. А хорошая бабенка была...
— Оглохла при тебе уж или до тебя? — не унимался Савелий.
— До меня, до меня — с умыслом взял ее, глухую-то. Ты вот послушай дальше. — Непомнящий, загадочно улыбнувшись, понизил голос: — Из-за храпу моего меня из армии списали, только месяц и прослужил. Шутка ли — я им там все планы перепутал. Ночью храплю — вся казарма не спит. И в каптерку меня закрывали, и в сушильную комнату, все одно, отовсюду мой храп доносится! Одну ночь не даю спать, другую, третью, недосыпают солдаты, спят в карауле, на посту. Отправили в госпиталь, а я и там понизил всю оздоровительную работу — больные бунтуют, шумят! Ну и списали меня как инвалида, документ выдали. Домой приехал, а тут война через месяц. Всех берут на войну, а меня обходят. Так и не призвали, храп-спаситель спас от смерти, а ты говоришь — больно-ой. — Непомнящий усмехнулся, степенно пригладил темно-русые волосы, причесанные на две стороны, как у купца, и, с купеческим же превосходством оглядев насупившихся тигроловов, сказал хвастливо: — Мои сверстники нехрапящие давно уж облысели да прижухли, а иные и на погост отправились, а я, храпящий, сами видите, ни одной волосины не потерял еще, и зубы целы, и машинка в порядке. А ты, Евтей Макарович, говоришь — больно-ой...
— Значит, Матвей Непомнящий, говоришь ты, что храп-спаситель спас тебя? — не отвечая на вопрос, спросил Евтей, нервно подергивая бороду и сурово сдвигая брови.
— А ты сам-то воевал ли? — догадавшись, к чему клонит Евтей, спросил Непомнящий.
— Воевать не пришлось, хоть и просился на фронт, — голос Евтея звучал глухо и напряженно, как стальной, натянутый до предела трос, по которому ударили вдруг кувалдой. — Призвали на маньчжурскую границу, а потом приказали стать военным охотником — зверя промышлять пришлось да мясом снабжать армию — тоже не сладкая служба, зверя убьешь в сопках, а мясо обязан вытаскивать на спине. В три погибели согнешься и прешь... Савелко вон знает — тоже в охотничьей бригаде служил. — Евтей брезгливо взглянул на равнодушно жующего Непомнящего. — От войны увильнул, так мог в охотничьей бригаде служить, на такой бычьей хребтине мог бы целого изюбра за раз вытаскивать...
— Напрасно изгаляешься, Евтей Макарович, я и в поселке не сидел без дела, — невозмутимо возразил Непомнящий. — Власть доверила мне охранять приисковое золото. Сколь раз мог бы с золотишком да с наганом утекти в Америку, однако не попользовался такой возможностью.
— Ишь ты, какое одолжение сделал — не убег в Америку! — язвительно усмехнулся Евтей.
— Одолжение или нет, а медаль за верную службу в охране имею! — вызывающе ответил Непомнящий. — И за трудовую доблесть тоже медальку выдали, и грамот всяких почетных полон чемодан, между прочим, храню.
— Ну-у, брат, да ты герой, оказывается! А вот у меня и Савелия — за отловленных тигров ни одной медали нет... — Евтей с искренним удивлением покачал головой.
— Стало быть, ваша работа не такая ценимая, как моя была, — пожал плечами Непомнящий и после нескольких секунд всеобщего молчания спросил: — А что, правда это, что за столько отловленных тигров вам ни одной медали не выдали? Я читал, бригада Савелия Лошкарева самая знаменитая на Дальнем Востоке и единственная в Союзе. Неужто не наградили?
— И ишшо, окромя тигров, мы и поросят, и рысей, и леопарда лавливали, — торопливо вставил Савелий и с надеждой посмотрел на Евтея, ожидая, что он скажет Непомнящему.
— Медаль, говоришь? Да разве в медали дело? — Евтей усмехнулся.
— Зато про нас в газетах и в книгах написано! — опять воскликнул Савелий.
— Вот-вот, Савелко, — одобрительно кивнул Евтей. — В самую точку попал! Медали нет, а слава добрая есть!
— От славы вашей, как от дыму толку — ни пощупать, ни надеть, — пренебрежительно сказал Непомнящий и, опершись о стол короткими руками, поднялся, подошел к нарам и принялся сосредоточенно одеваться.
Тигроловы тоже засуетились. Ни кто из них больше с Непомнящим не заговаривал, косились на него с неприязнью.
Вперед идти опять пришлось Павлу, а проводник, как и вчера, пристроился сзади и оттуда изредка покрикивал:
— Малость леве возьми! Леве, леве! Еше леве! А теперь праве — вон к тому мохрастому кедру...
Вскоре Павлу надоело слушать эти «леве» и «праве», но приходилось подчиняться: какой ни есть, а все-таки лоцман-проводник. Особенно часто слышалось сзади «леве», «праве», когда попадали в густые ельники или пихтачи. Слыша такие команды и выполняя их, Павел заметил, что получаются большие отклонения вправо и влево от основного направления — выходила слишком извилистая тропа, так ходит челноком охотничья собака, отыскивая след, и еще так ходит неуверенный в себе человек...
На одном из перекуров Евтей тихо, но так, чтобы не слышал сидевший в стороне Непомнящий, сказал Павлу:
— Что-то шибко виляем мы — ты не все команды выполняй его, попрямей иди.
— Я давно уж хотел это сделать, — кивнул Павел, — да боюсь, что он заведет нас не в то место и меня же обвинит, что, дескать, команды его не выполнял — уж лучше попетляем, Евтей Макарович...
— Пожалуй, резонно, — согласился Евтей и, покосившись на проводника, плюнул с досады.
К полудню поднялись на самую вершину хребта, но из-за густого леса видимости не было, ощущалась только большая высота и то, что это водораздел. Павел обернулся к проводнику, вытирая рукавицей пот со лба, раздраженно сказал:
— Все! Выше подниматься некуда — на водораздел пришли! Теперь куда — праве или леве?
Непомнящий с минуту молча озирался; широкое лицо его было красно, как будто он только что вышел из бани. Глаза устало и беспокойно пытались что-то высмотреть в просветах между деревьями, но там всюду голубело пустое небо.
Тигроловы ждали ответа, а Павел и Евтей уже не просто ждали, но и смотрели на проводника с подозрением.
— Так куда пойдем, Матвей Фомич? — насмешливо повторил вопрос Павел, уже почти не сомневаясь в том, что проводник завел их не туда, куда нужно. Ведь он говорил о низком перевале, а привел на высокую гору, на самый водораздел ключей!
— Давай ниже спускайся.
— Куда ниже, вниз совсем или по хребту? — не понял Павел.
— По хребту, по хребту, — неуверенно закивал Непомнящий, продолжая озираться.
— Ну, по хребту — значит, по хребту, — с бесшабашностью сказал Павел и зашагал по хребту, мысленно гадая, выведет Непомнящий бригаду сегодня в Семенов ключ или, отклонившись от курса, вынудит ночевать у нодьи.
Через час ходьбы извилистый хребет стал резко заворачивать подковой на восток. Павел решительно остановился:
— Нам, кажется, не на восток, а на запад нужно, Матвей Фомич? Мы не сбились ли с курса?
— Я, молодой человек, эти места наскрозь прошел... Иди по хребтине, как до седловины дойдешь — сразу леве держи и вниз спущайся.
Непомнящий проговорил это неожиданно уверенным тоном, и Павел успокоился. Но седловины все не было и не было, от хребта вправо и влево отходили заросшие густым пихтачом отроги. Калугин опять засомневался: судя по солнцу, они сделали по хребту полную подкову. Но, решив не сбивать проводника, пока сам не признается, что заблудился, Павел молча шел вперед. Наконец попали в какую-то заросшую дубняком седловину, истоптанную кабаньими следами.
— Стой-ка, стой-ка, молодой человек! — обрадованно окликнул Непомнящий. — Кажись, тот самый дубовый перевалец. Он самый. А ты сомневался... — Он горделиво обвел взглядом приунывших было, а теперь сразу повеселевших тигроловов. — Вот тотчас прямо вниз спустимся малость, по распадку пройдем и в Семеновом ключе окажемся, а там и до зимовья моего рукой подать. К следам-то уж не успеем сёдни к тигриным. — Непомнящий покашлял и виновато признался: — Малость я промахнулся с перевалом, не по тому распадку стал подымать вас, колесо пришлось сделать...
Спустившись вниз и пройдя под бдительным бодрым окриком «праве-леве» километра три, Павел вновь засомневался: ключ, к которому они пришли, опять круто заворачивал на восток и отроги основного хребта, видимые в просветы деревьев, тоже тянулись туда же, на Большую Уссурку, тогда как тянуться должны были на запад, в пойму Светловодной. Остановились, окончательно убежденные в том, что Непомнящий заблудился.
— Ну что, Матвей Фомич, скоро байрачек твой на горизонте появится? — спросил растерянно озирающегося проводника Евтей.
— А бог его знает, — устало отмахнулся Непомнящий.
— Вот те раз! — удивился Евтей, не ожидавший такого признания. — А ключ этот Семенов или не Семенов?
— Бог его знает, может, Семенов, а может, и нет, — равнодушно и устало ответил Непомнящий. — На перевале узнавал место, а тута не узнаю, вроде и мой ключ, вроде и не мой...
— Ты, Матвеич, сразу-то ишшо не паникуй, оглядись как след, — попытался успокоить проводника Савелий. — Вспомни-ка вот: были или нет в твоем ключе такие поруба, как эти?
— Да кто их знает, Савелий Макарович...
— Да ты не спеши, не спеши! — загорячился Савелий. — Ты спокойно оглядись да вспомни все как есть. Вон, к примеру, вспомни, где солнце обычно стояло у тебя в энто же время, когда ты, скажем, вверх по ключу своему шел?
— Как это где стояло? — Непомнящий сморщил лоб, мучительно пытаясь понять вопрос, и, не поняв его, укоризненно сказал: — Где солнце стоит? Известное дело где — на небе!
Тигроловы, переглянувшись, заулыбались. Савелий придвинулся ближе к Непомнящему.
— Ну, вспомни, когда ты утром выходил из избушки, где у тебя солнце стояло — прямо в верховье ключа или внизу ключа, или справа — вспомни! — требовательно попросил он.
Непомнящий послушно и словно бы с удовольствием закрыл глаза заиндевевшими ресницами, посидел так, то ли вспоминая, то ли просто отдыхая, и, сказал все тем же устало-равнодушным голосом:
— А кто его знает, где оно стояло? Где бог назначил стоять, там и стояло... а зачем это знать тебе?
— Тьфу! Да как же ты ходишь по тайге, неужто за солнцем не следишь?
— А на что следить? Светит оно, и ладно — пущай себе светит. А я хожу не по небу, чай, по путику своему, а на путике у меня затески, вот по затескам и хожу.
— А в твоем ключе затески откуда начинаются?
— От самой лесовозной дороги и начинаются...
— Что ж ты сразу нам не сказал, что по затескам ходишь, мы бы с тобой напрямки не рискнули идти, а пошли бы с лесовозной дороги. Теперь вот отыщешь ли?
— Малость ошибся я — это точно. Надо еще пониже спуститься...
— Нечего внизу делать! — решительно перебил Евтей. — Если это твой ключ и по нему твой путик с затесками, тогда мы сейчас перережем его поперек; уткнемся в путик — значит, пойдем по нему, куда скажешь; не уткнемся — значит, надо в другой ключ переваливать.
Перерезав ключ, тигроловы не обнаружили в нем ни путика, ни затесок. Близились сумерки. Пора было делать нодью.
— Придется тебе, Матвей Непомнящий, в конце своей таежной жизни переночевать один раз у нодьи — хоть узнаешь, что это такое, если жив останешься, — шутливо сказал Евтей.
Нодья получилась удачная, и место подыскалось удобное. Непомнящий в строительстве участия не принимал и в устройстве табора тоже: слишком вяло двигался он, то ли от усталости, то ли от лени, но, скорей всего, от того и от другого.
Посмотрев на него со стороны, Евтей с досадой сказал:
— Ты лучше костер разведи да ужин вари, а мы тут сами управимся. — И, отойдя в сторону, чтобы не слышал проводник, добавил с презрением: — Только под ногами путается, стоит, рот раззявил, как в штаны наложил...
Во время ужина Непомнящий с недоверием посматривал на медленно разгорающуюся нодью и, наконец, качая головой, сокрушенно вздохнул:
— Эх ты, жалость какая — до зимовьюшки не дошли! Около этой нодьи околеешь за ночь.
Но, когда нодья разгорелась и запылала жаром, он повеселел и смотрел уже на нее с удивлением. Радовался он тому, что тигроловы ни в чем его не упрекали и ни о чем не расспрашивали, относились к происшедшему спокойно, как будто не в тайге они сбились с пути, а в большом селе попали не на ту улицу и теперь вот деловито расположились на ней цыганским табором и спокойно готовятся спать...
А кругом на сотни верст раскинулась черная, зловещая тайга. Ближние ели тянут из темноты свои мохнатые колючие лапищи, и в небе о чем-то перемигиваются звезды, и холодный снег вокруг лежит саваном, и в необъятной таежной темени ломает сучки мороз, словно свечи в гулком склепе потрескивают...
Спать Непомнящий вознамерился на стороне Павла и Евтея, но Евтей протестующе замахал руками:
— Извини, уважаемый, хоть обижайся, хоть не обижайся, но спать ты иди к Савелию, на их стороне и площадка пошире, и место удобней, к тому же Савелий и привык уже к тебе, вот и пущай услаждается пеньем твоим.
Бригадир недовольно что-то пробурчал, но возражать не посмел.
Примостившись между ним и Николаем, Непомнящий вскоре захрапел, захрапел как-то по-новому, резко, напористо, словно бы даже с вызовом.
— Ну, завел пускач! Теперь всю ночь прогырчит, как застрявший бульдозер. Чтоб тебя разорвало! — громко выругался Савелий.
По привычке или из благих намерений. Непомнящий, проснувшись до рассвета, принялся готовить завтрак. Коротенький часок тигроловы поспали в блаженстве.
В этот день, перерезав три больших ключа, они вынуждены были сделать вторую нодью.
Непомнящий не узнавал местность и только одно твердил:
— А бог его знает? Промашка вышла! Должно, подальше надо пройти...
Павел имел на этот счет свое мнение.
— Надо бросить эту восточную сторону и перевалить через хребет на запад, — сказал он на следующее утро. — Ведь леспромхозовская дорога с западной стороны хребта — значит, и Семенов ключ там же, а здесь мы только время зря теряем.
— Верно говорит Павелко! — поддержал Евтей.
Савелий колебался, вопросительно смотрел на Непомнящего:
— Как ты шшиташь, Матвеич, с западной стороны или с восточной?
— А бог его знает!
— Ну, тогда пойдем на запад! — сердито проговорил Савелий.
На западную сторону хребта перевалили лишь к вечеру, и сразу же Непомнящий узнал верховья своего ключа, но до зимовья было еще километров десять. Тигроловы до полной темноты могли бы успеть преодолеть это расстояние, но проводник, выбившись из сил, едва тащился сзади и сам предложил сделать поскорей нодью. И была третья нодья, и третья изнурительная ночь под звуки ненавистного храпа.
К следующему полудню вышли наконец на путик Непомнящего и через час ходьбы увидели потемневшее, покосившееся зимовье с покатой лубяной крышей.
Внутри избушки оказалось тесно и неопрятно, но промысловики были рады и этому жилью, а Непомнящий просто сиял от восторга.
— Далеко ли тигриный след отсюда? — не дав ему как следует насладиться радостью, деловито спросил Евтей.
— Рядом совсем, метров пятьсот, может, больше чуть, вот сейчас попьем чайку и сведу вас туда...
— Раньше ты говорил: километра два-три от избушки, а теперь — пятьсот метров, — подозрительно оглядывая проводника, заметил Евтей и, повернувшись к еще не вошедшему в избушку и стоящему перед открытой дверью Савелию, предложил: — Слышь, Савелко, ты не сходишь ли с ним прям сейчас до следа? Он говорит, пятьсот метров всего. Пока мы тут печку будем растапливать, чай кипятить да дрова рубить, вы и возвернетесь. А то чай будем пить да о следах все думать, — может, к выеденному яйцу четыре дня подбираемся?
— Ну ты, Евтей Макарович, зря сомневаешься. Ежели я в одном промашку сделал — лешак попутал меня, так неужто и во всем остальном без доверия ко мне относиться?
— У нас, в тигроловском нашем деле, как в торговле, закон тот же самый: доверять — доверяй, но все одно проверяй. Вот Савелий сейчас и проверит, что там за следы такие.
Вернулись мужики минут через сорок. Молча оба вошли в избушку, молча разделись, подсели к столу. Лицо Савелия было хмурым, лицо Непомнящего выражало вину.
— Ну, что там оказалось, Савелко? — упавшим голосом спросил Евтей, заботливо наливая брату чай в кружку и подсовывая к нему миску с горячим супом.
— Опять промашка вышла, — потупился Непомнящий. — Никогда со мной такого греха не бывало, а тут прям затемнение какое-то нашло. Вот истинный крест — не бывало!
— Рысь там, Евтеюшко, туда-сюда прошлась по старому тигриному следу, ишшо и зайцы налапотили, — после минутного молчания ответил Савелий.
Евтей понимающе кивнул и больше уже не спрашивал ни о чем. Непомнящий, втянув голову в плечи, настороженно посматривал на тигроловов, ожидая упреков, но те больше о следах не вспоминали и вели себя так, словно ничего не случилось. Правда, переговариваясь между собой, они избегали обращаться к хозяину избушки, точно его и не было здесь. И, словно в благодарность за такое великодушное к себе отношение, Непомнящий, едва лишь они улеглись спать, захрапел, вероятно, именно так, как храпел когда-то в молодости. Это было действительно совершенно немыслимый храп, невозможно было даже представить, что эти мощные яростные звуки исходят из обыкновенного человеческого горла...
Далеко за полночь, когда из-за сопок показалась поздняя луна, Павел вдруг не услышал храпа... Это было так непривычно, что, открыв глаза, он с замиранием сердца прислушался, пытаясь понять, в чем дело. Потрескивали и шипели в печке толстые ясеневые поленья, шуршала в углу под нарами мышь. «Почему же не слышно храпа?» — с испугом подумал Павел и, оперевшись на локоть, вгляделся. Лунный свет, сквозь небольшое оконце, смутно освещал неподвижную фигуру. Павел хотел разбудить лежащего рядом Евтея, но тот сам проснулся и с тревогой глядел на вытянувшегося вдоль стены Непомнящего. Вслед за Евтеем приподнялись Савелий с Николаем. С полминуты тигроловы с нарастающей тревогой вслушивались и вглядывались в сторону Непомнящего. Но он не храпел, не ворочался и не скрипел зубами. Он не проявлял признаков жизни.
«Только этого еще не хватало», — подумал Павел, собираясь встать и зажечь свечку, но в это время Савелий тревожно спросил:
— Эй, Матвеич! Пошто молчишь? Ты живой?
— Толкни его в бок, может, у него сердце остановилось, — тоже с тревогой в голосе посоветовал Николай.
Савелий осторожно толкнул соседа, тот пошевелился, что-то пробормотал, в горле у него побулькало, протяжно проскрипело, и вдруг тишину взорвал храп.
Упал на нары Николай, вздрагивая от смеха. От души смеялись Евтей с Павлом. И только Савелий продолжал смотреть на храпящего, но теперь, вероятно, уже жалея, что толкнул его...
* * *
Пять дней не было тигроловов в сторожке Хохлова. Их возвращению он был искренне рад.
— Нашли с кем связываться, — выслушав рассказ Савелия, сказал Хохлов. — Этот Непомнящий — самый первейший на селе болтун! Да и человек дерьмо, никто с ним не водится.
Следующие два дня промысловики вновь расспрашивали жителей о тигриных следах, нашли еще двух охотников, видавших следы, но один из них после тщательного допроса, проведенного Евтеем, оказался лгуном, другой же две недели тому назад видел следы тех же самых тигров, которых уже преследовали тигроловы от вощановской избушки.
На третий день изнывающие от безделья, а еще больше от неопределенности Савелий и Николай стали уговаривать Евтея переехать в другой район — в Пожарский или Дальнереченский.
— Там-то мы быстрей отыщем, — доказывал Савелий. — Тигров там завсегда водилось больше, чем в нашем районе. Помнишь, как, бывало, здесь ищем, ищем, не можем найти, а туда переедем — и сразу след готов.
— Бывало, что и там не единожды промахивались, а здесь отлавливали, — упорствовал Евтей. — Поживем еще денька два-три, съездим в нижний поселок, там поспрашиваем. Ведь была же тигрица с малыми тигрятами на артемовских угодьях осенью. Была! И около верхнего порога тоже шишковщики видели следы тигрят. Значит, есть они где-то, и должен следы их кто-то засечь. А ежели мы сейчас, до конца не вызнав, сорвемся, потом жалеть будем: зачем, дескать, до конца не вызнали? Два дня потерпим — все равно уж больше потеряно.
— Так ведь Николаю быстрей надо, его же на месяц отпустили... — настаивал Савелий.
— А ты уверен, что в другом районе-то быстрей, не дольше получится? Вот то-то и оно, что никто этого знать не может, ежели б телеграмму кто оттуда прислал, тогда без разговоров поехал бы, а то ведь молчат — значит, и нет ничего.
— Пожалуй, дядюшка прав, — согласился Николай, поразмыслив. — Завтра я еще всем нашим агентам в разные районы телеграммы разошлю.
— Так ведь месяц тому назад рассылали уже, — недовольно проворчал Савелий.
— Надо вновь напомнить, отец, активизировать людей, тем более, что в газете написали про нас, что уже поймали, а раз поймали — значит, и не нужны нам больше следы. Простая логика, отец.
— Ну, как знаете! — отмахнулся Савелий. — А токо помяните мое слово: зря время потеряем.
Но время потеряли не зря. На следующий день поздно вечером дружно залаяли на улице Барсик с Амуром. Послышался скрип снега под чьими-то жесткими каблуками, кто-то решительно и громко постучал, и не успели тигроловы откликнуться, как дверь широко распахнулась и в сторожку, щурясь от яркого света, вошел молодой человек в черном драповом пальто с воротником из черного же с проседью каракуля, в норковой шапке и в меховых хромовых перчатках. Парадная одежда в столь поздний час могла говорить только о том, что человек зашел сюда на огонек либо из клуба, где сейчас как раз кончился киносеанс, либо забрел из гостей и к тому же наверняка ошибся адресом...
— Здравствуйте! — вежливо поздоровался незнакомец. — Кто из вас Лошкарев Савелий Макарович?
— Ну, я буду Савелий Макарович, — насторожился бригадир и кивнул на табурет: — Проходи, садись.
Незнакомец, сняв шапку и пригладив темно-русый, зачесанный на правую сторону чуб, высоко, точно гусь, поднимая ноги, прошел к табурету и сел, быстро оглядывая сторожку и тигроловов голубыми, чуть навыкате, глазами.
— Я, собственно, к вам, Савелий Макарович, вот по какому делу. — Назнакомец стал крутить на коленях и мять свою богатую шапку. — Слышал я, что, если кто следы тигриные покажет вам, того вы берете с собой в бригаду для участия в отлове...
— Ну да, берем, и ишшо, если кто ловить не хочет, — тому пятьдесят рублей...
— Я бы ловить с вами желал...
— Ну дак лови на здоровье, — усмехнулся Савелий. — Ежли б след указал, так и взяли бы мы тебя, а без следу нам самим, как видишь, тошно без работы сидеть.
— Значит, если след вам покажу, тогда вы меня берете на равных правах в свою бригаду?
Гость, перестав теребить шапку, напряженно смотрел на Савелия. Теперь только тигроловы почувствовали, что этот поздний гость — неслучайный, слишком он взволнован и внутренне напряжен, слишком многозначительные вопросы задает.
— Ежели укажешь след, тогда можешь выбирать: либо полста рублей за след, либо участие в отлове, — четко и с расстановкой повторил Савелий, оценивающим взглядом окидывая гостя.
— И абсолютно на равных правах буду я участвовать в отлове? — твердея голосом, еще раз переспросил незнакомец.
— Сказал ведь уже: на равных, конешно, — как же ишшо? — стал раздражаться Савелий.
— Да вы не сердитесь, я это к тому, чтобы потом не было на этот счет никаких недоразумений.
— Да ты, парень, прямо нам скажи: нашел след или только справку берешь? — нетерпеливо перебил гостя Николай.
— Нашел, конечно, потому и спрашиваю об условиях.
Тигроловы переглянулись.
— Далеко следы? Не путаешь их с рысьими? — после паузы, замирая голосом, тихо спросил Савелий.
— Вообще-то, далеко от поселка, в сорока километрах, но недалеко от деляны. Я там лес отводил, вот и наткнулся случайно. Да вы не беспокойтесь: следы надежные, двухнедельной давности, видны четко. Тигрята средние, следы их размером с пол-литровую банку... Прошел я по ним километра два, вначале тянулись одной тропой, а на речке разбились на три — катались по льду, на боку лежали — отпечатки четкие, ошибиться невозможно. В следах я немного разбираюсь — лесником работаю.
— Ну, паря, ежели омманишь, мы тада портки сымем и задницу настегаем, — с притворной строгостью, тщательно маскируя ликование свое, сказал Савелий и, поразмыслив, деловито осведомился: — А с работы тебя отпустят? Может, придется за тиграми твоими две недели гоняться?
— Об этом, Савелий Макарович, не беспокойтесь, — с начальником своим я уже договорился.
— Стало быть, — и здесь порядок? Ишь ты! Ну-ну, это по-нашему, молодчина! — искренне похвалил Савелий, все уважительней посматривая на гостя. — Так-так, хороши ты новости принес. А скажи, как звать-то тебя?
— Викентием звать, Викентий Юдов, — хрипловато ответил парень: он все еще, должно быть, волновался.
— Ну ладно! — решил Савелий. — Стало быть, утром ты в походной одежде к нам приходи. Мы, как магазин откроется, наберем продуктов на две недели и, не мешкая, будем добираться до твоей деляны...
— В одиннадцать часов нас туда довезет наша лесхозовская бортовая машина — я уже договорился. — Викентий встал, надел шапку, торопливо попятился к двери: — Значит, завтра к девяти часам подойду я к вам. До свидания!
* * *
След, к которому привел Юдов, оказался действительно рядом с леспромхозовской деляной и был двухнедельной давности, четко просматривался и принадлежал тигрице с двумя уже почти взрослыми тигрятами.
— Большенькие тигрятки, — с легким разочарованием сказал Савелий, пройдя по следу. — Не везет нам нынче на малых тигрят: все большие да большие попадаются.
— А что, таких разве уже нельзя ловить? — встревожился Юдов.
— Пошто нельзя? Всяких ловить можно, какие попадаются, таких и ловим. Просто хлопотно с большими, тяжело, да и собак попортить могут. Но выбору нет, стало быть, этих и будем преследовать. — И, повернувшись к стоящему в стороне Павлу, сказал: — Ну дак чо, Павлуха, давай, дуй вперед, распутывай след от начала до конца. Барсика Евтею отдай, чтобы не мешал тебе следы прочитывать. Ну, с богом!
Передав собаку Евтею, Павел пошел вперед. Молодые тигры, их было два, свободно вышагивали за матерью точно след в след: по размерам они не уступали ей — чем меньше тигренок, тем чаще наступает он в промежутки материнских следов. К вечеру на берегу ключа, прямо на чистом месте, нашли тигроловы останки молодого кабана. По следам было видно, что в охоте на него принимали участие все три тигра.
— Видишь, как она учит их давить, — показывая Павлу следы, сказал Евтей. — Сама чуть-чуть даванула кабана, ровно кошка крысу, и отпустила, а они, вишь, апосля этого давай крутить его, всю поляну исколесили, забавлялись подранком. Сильные, черти, придется за ними побегать.
Юдов шел за бригадой, ничем не интересуясь и ни о чем не спрашивая. Когда останавливались для короткого отдыха, он тотчас же вынимал из бокового кармана пачку «Беломора» и молча курил, украдкой внимательно осматривая тигроловов, и, кроме любопытства и усталости, Павел ловил в его голубых глазах неуверенность и беспокойство. Одет он был в темно-зеленый суконный бушлат с эмблемой лесничества на рукаве, такие же зеленые брюки напущены были, как подобает охотнику, на голяшки ул и перетянуты на лодыжках веревочками; на поясе справа, на широком офицерском ремне, висел двухрядный патронташ; на левой стороне болтался большой, в кожаном чехле, нож с наборной пластмассовой ручкой. У ног Юдова лежал новенький рюкзак, на рюкзак опиралось тоже новое автоматическое пятизарядное ружье.
Обогнув леспромхозовские деляны, тропа вывела тигроловов на речную пойму, здесь пришлось им ладить нодью.
Перед ужином Юдов преподнес им сюрприз — вынул из рюкзака бутылку водки. Евтей неуверенно высказал мысль о том, что после водки тяжело будет завтра расхаживаться, но Савелий быстро убедил его в том, что тяжесть может быть только с перепою, но от ста граммов одна только польза человеку. На том и сошлись. После выпитой водки Юдов преобразился, сделавшись не в меру разговорчивым; рассказывал мужикам о таком количестве встреч своих с живым тигром, что даже Савелий не выдержал и, матерно выругавшись, сказал:
— Ты врать-то ври, да меру знай! Я уж три десятка лет по тигриным следам хожу, а тигрицу на воле раз пятъ-шесть всего видел. А ты без году неделя в тайге, а уже насмотрелся двадцать раз — убавь, убавь число-то! Мы ведь и так видим, что парень ты смелый да радивый.
Однако доводы Савелия не смутили Юдова, и он продолжал доказывать, что именно все так и было, как он говорит.
На третий день тигроловы, вывершив ключ, попали на старые, десятилетней давности, поруба. Юдов достал из-за пазухи подробную карту леспромхоза и, найдя на ней нужную точку, сказал:
— Все, перевалили мы в другой район, теперь тут территория Пыжинского леспромхоза.
— Лишь бы не увела она их в Лесозаводский район, — озабоченно сказал Савелий. — Тут они рядом граничат.
— А чем плох Лесозаводский?
— А тем и плох, что лицензии у нас на отлов только в трех районах — Лесозаводский не попадает в разрешение.
— Чепуха какая-то! — Юдов посмотрел на бригадира с недоверием. — Получается чепуха, ведь, к примеру, десять дней вы за тигрицей гоняетесь в положенных районах, а под конец она уйдет в чужой район, — и вся беготня ваша напрасна?
— Пошто напрасна? — усмехнулся Савелий, переглянувшись с Евтеем. — Ежели она в другой район переходит, мы тада берем хворостину и, как корову, перегоняем тигру опять в разрешенный район, тут и ловим по закону.
— Нет, я кроме шуток спрашиваю, Савелий Макарович, очень мне интересно знать эту технологию.
— Ну какая тут технология? Поймаем в другом районе, не указанном в лицензии, а говорим, что поймали в разрешенном, вот и вся недолга. В крайнем случае, переоформят бумаги, да это волокита долгая с бумагами-то, лучше все по закону сделать: поймать в одном районе, а сказать — в другом. — Савелий вдруг засмеялся. — Однажды мы настигли тигрицу на самой границе районов, разбили тигрят — один убежал в запретный район, другой — в незапретный. Стали ловить перво-наперво незапретного. Поймали, в сруб определили. Ночью такой снег вывалил, что на второй день, сколько ни искали запретного — как в воду канул! Увела тигрица. И потом токо через полмесяца отыскали его опять на незапретной зоне, тут и поймали — сознательный попался, добровольно из запретной зоны ушел.
С водораздела тигры спустились по заросшему аралией волоку вниз на густо заросшие березняком и осинником бывшие деляны. Местами сквозь частокол мелколесья и аралии приходилось буквально продираться. На старых волоках всюду попадались следы изюбра. Наконец молодые тигры легли на снег; тигрица резко пошла рысью вправо, сделала полукруг и, взобравшись на огромный штабель ясеневых хлыстов, подобралась к лежащему за ним изюбру и прыгнула не него сверху, не дав ему даже подняться. От изюбра остались только голова с великолепными восьмиконцовыми рогами да клочья шерсти с требухой, расклеванной вороньем.
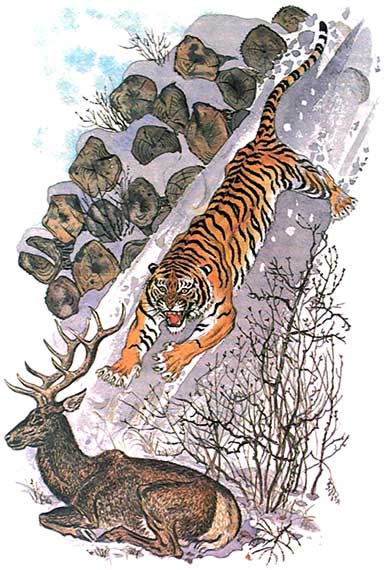
С южной стороны штабеля, где пригревало солнце, тигроловы разожгли небольшой костерок и подвесили над ним чайник. Пока закипала вода, Павел забрался на штабель, осмотрелся. Весь снег вокруг был истоптан тигриными лапами, местами желтыми и красными от крови, здесь же были видны и тигриные лежки.
Сквозь березняк увидел еще четыре таких же огромных штабеля ясеневых хлыстов метрах в двадцати друг от друга, судя по всему, эта заросшая площадь была когда-то верхним складом леспромхоза, но леспромхоз перешел на другие деляны, а штабеля ценного ясеня в полтысячи кубов по каким-то причинам вывезти не смогли, как не вывезли многие сотни других штабелей и тысячи бревен, разбросанных по делянам, волокам, вдоль дорог и по речным берегам...
«Сволочь какая-то бесхозяйственная! Сколько леса загубила! Сфотографировать бы это и в «Крокодил» сообщить».
Спустившись к костру, Павел возмущенным тоном рассказал тигроловам о том, что видел.
— Обычная история! — спокойно ответил Юдов. — Вот в этом штабеле кубов двести ясеня, кубометр ясеня стоит восемьдесят рублей и все дорожает с каждым годом. Считайте, сколько стоит этот штабель? Шестнадцать тысяч рубликов! А их тут пять штабелей...
— А куда же лесники смотрят? Пошто не штрафуют? — хмуро спросил Евтей.
Юдов удивленно взглянул на Евтея:
— Вы, Евтей Макарович, как только что родились на свет. Не так это просто, оштрафовать. Ну, штрафуют иногда. Впрочем, — Юдов махнул рукой, — штрафуют, да что толку — штраф не из директорского кармана, а из государственного. В годы войны за этот брошенный штабель кому-то бы крепко не поздоровилось, могли бы и срок намотать, а сейчас, плевое дело, списали, и дело с концом! В крайнем случае мораль почитали. А за такой экономический разбой пора по всей строгости спрашивать.
Обо всем этом Юдов говорил как-то умиротворенно, как о привычном и незыблемом. И это очень не понравилось Павлу. Он посмотрел на Юдова и с упреком, задиристо сказал:
— Вы обязаны штрафовать их беспощадно. Так, чтобы неповадно было.
— Попробуй побороться с ними, а я посмотрю на тебя. — Юдов смотрел на Павла насмешливо. — Думаешь, не пытались навести порядок? Пы-та-ались, и еще как, но все замкнулось на порочном круге. Вот сами посудите, мужики. — Юдов подбросил в костерок сухих веточек, примостился на бревне поудобнее. — Что такое наш лесхоз? Это маленькая, маломощная производственная организация. Нам дают план на заготовку дров, деловой древесины, орехов, ягод, грибов и всяких дикоросов. Кроме того, мы сажаем лес и тушим пожары в лесу. Рабочих рук в хозяйстве мало, техники не хватает, всего-то имеем: два стареньких трелевочника, две бортовые машины и один лесовозик, который чаще на ремонте, чем на ходу. Запчастей нет, если что-то сломается, приходится просить помощи у леспромхоза. И запчасти и технику дает нам в аренду леспромхоз. То есть, попросту говоря, мы во многом зависим от леспромхоза. Теперь подумайте: один раз мы оштрафуем их, другой раз, третий, а через неделю пойдем просить бульдозер или бензин. И что мы от них получим? Кукиш с маслом! Они от нас зависят, а мы от них зависим — вот вам и круг, как же его разомкнуть? — он посмотрел насмешливо на Павла. — Ты говоришь, что мы обязаны реагировать на каждое нарушение. Как же тут реагировать?
— Не любите вы тайгу, только о своем благополучии заботитесь, поэтому и бороться боитесь. Браконьера, который одно дерево срубит, вы смело хватаете за шиворот, штрафуете, пишете о нем в газету. А этих боитесь? — Павел кивнул головой на штабель. — Хреновые вы хозяева.
— Давайте-ка быстренько чайку по кружке глотнем и поскачем дальше, — позвал Савелий, — не дай бог в порубах ночевать придется, тут и нодью подходящу не найдешь.
Бригадир как в воду глядел — ночевать действительно пришлось в порубах, у плохой сучковатой нодьи. Верхнее бревно то и дело зависало на сучках, как на железных штырях, а в прогоревшей оболони образовывались сквозные щели, вокруг которых древесина начинала гореть слишком быстро, и приходилось верхнее бревно то и дело поднимать вагами и срубать выступавший сук.
...Петляя в порубах, в невероятном трущобнике, тигры вскоре задавили и съели еще одного изюбра. Но, если для тигров колючие заросли элеутерококка и аралии и тем более заросли березняка и осинника — как для рыбы вода, то людям приходилось буквально продираться через них.
— От беспутные! — ругался Савелий, выпутываясь из лиан актинидий или лимонника.
Павлу тоже хотелось душу отвести руганью, но он молчал, опасаясь, что идущие сзади воспримут его ругань как признак усталости, и Евтей опять начнет предлагать ему пристроиться сзади. Хотя, если быть честным, Павлу ужасно надоело продираться первым. Не устал он, нет, а просто опостылело ему разгребать руками эти бесконечные тонкие прутья и веточки, густой сетью стоящие перед глазами. Зато с каким удовольствием вступили тигроловы под вечер в кедровый лес. Павел, остановившись, начал озираться по сторонам.
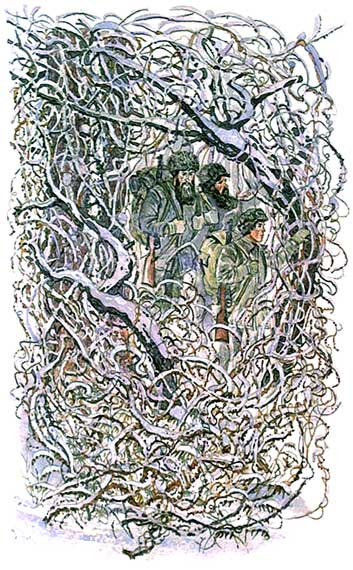
— Чего увидал? — встревоженно спросил Евтей.
— Да ничего, просто удивляюсь, больно кедрач тут чистый, такое впечатление, что человек тут действовал.
— Да так оно и есть, Павелко! Неужто не видишь — бугорки вон кругом?
— Вижу бугорки — муравейники под снегом вроде...
— Пеньки! Пеньки сгнившие! — с каким-то даже торжеством произнес Евтей.
— О чем спорите? — спросил подошедший Савелий.
— Да вот показываю Павлу, как раньше леспромхоз хозяйствовал.
— А-а, это верно. — Савелий, оглядевшись, понимающе закивал: — Верно, верно, Евтеюшко, раньше они по-хозяйски рубили, не все подряд, как нынче, а выборочно, гнилую дупляну кедру не трогали, возили конем по ледянке — ледяной дороге, даже дерн в тайге не нарушали. И тайга после старых порубов, вишь, какая чистая стоит. А теперича все подряд стригут, и дупляну кедру, и развилисту — лишь бы грохнуть на землю!
Кедровый лес скоро кончился, и вновь начались поруба, из которых, казалось, никогда уже не выберешься.
— Язви тя в душу! — то и дело слышал Павел за своей спиной голос Евтея.
— Нешшастье! Истинно — нешшастье, Евтеюшко! — откликался ему Савелий.
Николай молчал, но, срывая досаду свою на Амуре, с силой дергал его за поводок, когда он застревал в кустах. Юдов, приотстав от бригады, тоже молчал, но мысленно, вероятно, проклинал свое тяжелое ружье, которое длинным стволом цеплялось за кусты.
* * *
В середине следующего дня тигриная тропа вышла на заброшенную лесовозную дорогу, кое-где уже заросшую березой и ольхой, и потянулась прямо по центру дороги к синеющим впереди крутым сопкам. Изюбры, вероятно, тоже любили пользоваться этой дорогой: следы их то и дело пересекали ее и тянулись вдоль обочин.
Часа через два ходьбы на крутом повороте тигроловы увидели оранжевый трелевочный трактор, он стоял посреди дороги и казался совершенно новым, только что поставленным тут, но росшие вокруг него нетронутые кусты свидетельствовали о том, что брошена машина лет пять тому назад. По тому, как равнодушно прошли тигры мимо трактора, стало ясно охотникам, что ходили звери этим путем не однажды и к трактору привыкли.
Сняв котомки, мужики с любопытством осмотрели трактор. Он был почти новый. Наверно, поломка была серьезная, если он остановился посреди дороги как вкопанный. Павел залез в кабину, подергал рычаги. Их заклинило, но все здесь было целое: и стекла, и сиденье, и приборный щиток. Павел поднял капот — двигатель тоже был на месте. Только сняли топливные трубки и пускач...
— Ну что, может, заведешь его, да поедем за тиграми на тракторе? — шутливо спросил Савелий.
— Нет пускача и топливных трубок, остальное все на месте! — удивленно воскликнул Павел, выбравшись из кабины и заглядывая на лебедку. — Даже трос с лебедки не сняли!
— Что трос — вон кувалда и ломик под щитом лежат! — тоже удивленно сказал Евтей, трогая рукой рыжеватую от ржавчины гусеницу, словно не доверял своим глазам, хотел удостовериться в том, что перед ним действительно самый настоящий железный трактор, а не фанерный макет его.
— Жалко, что он так далеко от Мельничного стоит, — с сожалением сказал Юдов. — Наш лесхозовский тракторишко весь уже расхлябался. Я бы этот трактор директору нашему продал. Он бы мне за такую находку сразу квартиру дал...
...Вскоре тигры свернули с дороги опять на поруба, но они были уже позапрошлогодние, кусты на них еще не успели вырасти. Но все равно идти здесь было тоскливо и трудно: всюду вдоль и поперек лежали либо спиленные, либо вывороченные с корнями стволы деревьев, задранные к небу, точно в судорожной мольбе, бесчисленные сучья-руки. Особенно хаотические нагромождения деревьев были вокруг мест, где производилась погрузка хлыстов на лесовозы: чтобы очистить площадку, мощные бульдозеры не только вывернули с корнями деревья и столкали их, как хворост, в большие валы, но и содрали дерн до коренных пород.
Пробираясь по делянам, тигроловы наткнулись на спиленный огромный ясень. Он привлек их внимание не столько размерами, сколько формой своей — крона его состояла из шести растущих от одного ствола ветвей, каждая из которых была в обхват толщиной и метров двадцать-тридцать длиной.
Павла поразило, что у ясеня был отпилен и увезен только основной комель метров шести длиной, а остальное, по массе своей в пять раз больше, чем комель, брошено.
— Видал, Викентий, как ваша служба работает? — кивнул Павел на вздыбленные к горизонту гигантские ветви ясеня.
За это штрафовать положено, — согласился Юдов. — Надо сучки отпиливать и осаживать на землю.
— Да я не про то совсем! — с досадой отмахнулся Калугин. — Я говорю про то, что пятиметровый комель увезли, а остальное бросили.
— А это... Это все по инструкции — все правильно, прямой ствол отпиливания около семейных сучков, а дальше — развилка или семейные сучки — это уже неделовая древесина.
— Да ведь эти сучки по массе в несколько раз больше комля!
— Ну и что? Я же говорю — неделовая древесина...
— Заладил: неделовая, неделовая... — передразнил Павел. — Вся древесина деловая — хозяева неделовые! Ведь ясень на фанеру все равно перемалывают в опилки, хорошую ровную древесину перемалывают, а можно было бы ровные стволы не трогать, оставлять для мебели, а вот кривые сучки, всякую неделовую, как ты говоришь, древесину перемалывать да делать из нее и фанеру, и деревоплиту, и все что угодно...
— А ты пойди в Министерство лесной промышленности, сделай об этом доклад, может, там тебя послушают, — язвительно сказал Юдов, оборачиваясь к Николаю, словно бы за поддержкой, и тот поощрительно кивнул ему:
— Верно, Викентий, верно. Я тоже советую Калугину пойти работать замминистра — такой талант пропадает...
Не вступая в пререкания, Павел обогнул верхушку ясеня и зашагал по тропе дальше, удивляясь тому, как быстро Юдов с Николаем нашли общий язык.
К вечеру стали попадаться свежие осенние поруба с еще не выветрившимся запахом смолистых опилок и раздавленной хвои. На многих поваленных кедрах висели большие желтые шишки, похожие на спелые ананасы.
Павел сорвал три шишки, две сунул в карман, третью принялся шелушить и щелкать орешки на ходу. Тигроловы последовали его примеру — очень уж соблазнительно желтели шишки на поверженных кедрах, да и вкусные, спелые семена оказались в них.
Побродив среди пней и не найдя здесь ни изюбриного, ни кабаньего следа, тигры резко повернули вправо, поднялись по склону до границы нетронутого леса, прошли вдоль нее километра полтора, то и дело заглядывая вниз на белую ленту дороги, вьющуюся по склону. Убедившись в том, что место это бескормное, опять круто повернули вправо, поднялись на водораздел, полежав тут несколько часов, спустились в пойму какой-то неизвестной тигроловам речки. Здесь, на склоне, и застигла охотников ночь. Выспались они плохо, чувствовали себя совершенно разбитыми. Но в этот день судьба уготовила им приятный сюрприз: тигры, спустившись со склонов сопок в долину пойменного леса, вышли неожиданно на проселочную дорогу с конскими следами и пошли по ней. Вскоре показались впереди поляна и стожок сена. Полежав на дороге и походив в нерешительности взад-вперед, звери свернули в густой ельник, огибающий поляну подковой.
— Дымом пахнет, — сказал Павел, принюхиваясь. — По следам пойдем или прямо по дороге?
— Пойдем по дороге, — сказал Евтей. — Жилье близко.
За стожком проселочная дорога влилась в другую дорогу, более торную, со следами вездеходных гусениц и машинной колеей. Пройдя по ней метров двести, тигроловы увидели одноэтажный двухквартирный дом с надворными постройками и большим огородом. И колючая проволока вместо забора, и шиферная крыша здесь, в глухой тайге, показались Павлу нелепыми.
Две лайки, белая и черная, привязанные под навесом сарая, подняли остервенелый лай, и тотчас же на крыльцо выскочил толстый лысый мужик в расстегнутом нараспашку егерском мундире. Увидав приближающихся к кордону вооруженных людей, он юркнул обратно в дом и тотчас вышел на крыльцо застегнутый на все пуговицы и в форменной фуражке.
Тигроловы к этому времени уже успели привязать собак.
— Доброго здоровья, хозяин! — бодро приветствовал егеря Евтей. — Пусти переночевать, а то до гостиницы шибко далеко идти нам...
— Здравствуйте, здравствуйте! — пробасил егерь, настороженно оглядывая гостей. — Ночевать — ночуйте, ради бога, да знаете ли вы, охотнички, куда попали?
— Куда ж попали? — с беспокойством спросил Савелий.
— Ведь здесь охотиться нельзя. Это заказник военно-охотничьего общества, а я здешний егерь Барсуков! — Он сказал это внушительным тоном и значительно посмотрел на Савелия, ожидая, должно быть, увидеть на его лице испуг или хотя бы растерянность, но заиндевевшие усы и борода Савелия дрогнули от улыбки.
— О-о! Паря! Заказник для проказников? Этто нам знакомо... Мы таких заказников-проказников немало видывали...
Уверенный тон Савелия, улыбки на заросших лицах вооруженных мужиков смутили егеря, но он вдруг отступил к двери и, держась за нее одной рукой, дрогнувшим голосом спросил:
— Вы охотники? А охотничьи билеты у вас имеются? И карабины у вас, смотрю. На карабины разрешение милиции необходимо иметь. Вот с часу на час должна приехать рейдовая бригада во главе с участковым — сможете ли вы перед ними документально оправдаться? — последние слова он сказал явно для острастки незваных гостей.
— Да вы нас не бойтесь, уважаемый, — поспешил успокоить егеря Николай. — Мы не охотники и не бандиты. И разрешение на оружие у нас имеется. Тигроловы мы. Вот бригадир наш, — Николай кивнул на ухмыляющегося отца, — Савелий Макарович Лошкарев, а мы все — члены его бригады.
— Тигроловы? Так чего же вы сразу не сказали? — обрадовался егерь, широко распахнув сенную дверь. — Проходите, проходите, гости дорогие! — И, спохватившись, внушительно сказал поднявшемуся на крыльцо Николаю: — А я вовсе и не испугался вас, просто малость решил предостеречься — уж больно рожи у всех у вас подозрительно заросшие.
— Потому и участковым решил попугать? — спросил Евтей.
— Да нет, рейдовая бригада в самом деле должна подъехать... — И, облегченно засмеявшись, махнул рукой: — Денька через три-четыре обещались.
Егерское жилье состояло из просторной кухни и комнаты-спальни. Даже с мороза, после ночевок у нодьи, это жилище показалось Павлу неуютным и грязным. Потрескавшаяся, с облупившейся штукатуркой печь; закопчен был и потолок, и стены; в углах черными лоскутами колыхалась паутина. Своей неряшливостью жилье егеря напомнило Павлу избушку Цезаря...
— А я тебя, Савелий Макарович, сразу-то не признал, — выставляя на плиту большой медный чайник и ведерную эмалированную кастрюлю, возбужденно проговорил егерь. — В прошлом году я ведь видал вас троих в Малиново, и собаки были с вами те же самые. В рейсовый автобус вы грузились. В феврале, кажись, это было? Точно, в феврале — вспомнил!.. Да вы посмелее, посмелее, ребятки, будьте как дома! — перебил он собиравшегося что-то ответить ему Савелия. — И еще я в газетке недавно читал, что тигров поймали двух. Славно работаете, славно! Значит, двух отловили, а теперь еще разыскиваете? Так всю зиму и бегаете за ними? Вот работа! Я сейчас вам борща согрею, похлебаете борщеца, сразу и на душе полегчает. Вы уж поди давно по тайге шастаете? Смотрю, пооборвались да щетиной позаросли, может, побриться кто пожелает? — Он посмотрел на Павла, лицо которого уже успело обрасти аккуратной светло-русой бородкой. — Могу бритву дать — хочешь побриться?
Но не успел Павел отрицательно покачать головой, а егерь уже смотрел на Савелия и рассказывал ему о том, как на прошлой неделе, уезжая в поселок, он забыл вылить из ведра воду и она за три дня промерзла до дна, а ведро лопнуло по шву. Задавая тигроловам вопросы, он тут же, не дожидаясь ответа, перескакивал на другое, и складывалось такое впечатление, что он спрашивал самого себя и сам с собой же разговаривал. Двигался егерь по кухне, несмотря на свое грузное тело, излишне суетливо. Павлу подумалось, что и суетливость хозяина, и его возбужденная болтовня вовсе не черта его характера, а скорее всего либо от искреннего желания угодить гостям, либо просто егерь в одиночестве намолчался и теперь старается выговориться перед людьми, да при этом еще людьми необычными — тигроловами!
И Павел оказался прав: егерь вскоре остепенился и перестал суетиться. Во время ужина при свете двух керосиновых ламп Павел хорошо разглядел его лицо. Оно было гладко выбрито, одутловато, с мясистым лилово-красным носом; на правой щеке в центре темнело, размером в копеечную монету, родимое пятно; под глазами висели мешки, а самые глаза были черными, как у цыгана, с хитренькими блестками в глубине. То и дело поглаживая пухлой волосатой рукой коричневую лысину, он, отвечая и рассказывая, смотрел не только на собеседника, но и успевал одновременно внимательно следить за всем, что делается в комнате.
Спросив тигроловов, кого как звать, и назвав себя Сидором Петровичем, егерь между тем обращался к одному только Савелию, и тот, польщенный вниманием, стал вдруг называть егеря на «вы».
После чая егерь снял китель, подсел на край скамьи ближе к печке и закурил. Воцарилось неловкое молчание. Юдов попросил у егеря папиросу и тоже закурил, к неудовольствию сидящего рядом с ним Савелия. Евтей, морщась от табачного дыма, тихонько покашляв и погладив бороду, спросил у хозяина:
— Давно егерствуешь в здешних местах?
— Пятый год пошел.
— А раньше где работал?
— Раньше-то? Раньше я на китобойной флотилии плавал. Китов разделывал, амбру выискивал, — усмехнулся егерь. — Потом китов запретили добывать — остался не у дел, тут и подвернулась эта работенка.
— Ну и как, доволен?
— Доволен вполне! — искренне сказал егерь. — Оно ведь, если с толком да с умом, то любое дело можно поставить на выгодные рельсы. Вначале боязно было: окладишко восемьдесят шесть рублей — смехота после китового промысла! Но потом ничего — приспособился. Первый год вдвоем мы тут обитали — старший егерь командовал заказником. Вот занудистый мужик! — Егерь покачал головой, поморщился и, бросив горящую папиросу в таз, повторил сердито: — Занудистый мужик! Ну никого в заказник без путевки из военного охот-общества не пускал! По сорок-пятьдесят протоколов за год составлял, и это ведь в таежной глухомани. Приехали однажды ребята с путевками, трех кабанов убили вместо двух — протокол составил! Завторга города оштрафовал и ружье забрал: без путевки с компанией тот приехал. У всех путевки, а у него не оказалось. Ребята уговаривают его: дескать, есть у него путевка, дома забыл — бесполезно! Твердит одно: «Принесешь путевку, документы на оружие, тогда и разговаривать будем». Вот такой занудливый человек был. За вредность стреляли в него дробью, это когда он еще в Хехцирском заповеднике работал, а все одно вредности не убавилось, двадцать лет в егерях работает — и все такой же неуступчивый.
— Так ведь, мил человек, егерь и обязан неуступчивым быть, — заметил Евтей. — Ежели он не будет никого штрафовать, зачем тогда и егерская служба?
— Да кто ж говорит, что не должен егерь штрафовать? — егерь с сожалением посмотрел на Евтея и, натолкнувшись на его суровый и умный взгляд, тотчас обратился к Савелию: — Никто и не говорит, что штрафовать не надо. Надо штрафовать, и чем больше, тем лучше, да не всех же подряд: браконьеров — штрафуй без жалости, а культурных, солидных людей — зачем же компрометировать? Ну, ошибся человек, документы дома забыл... Да и много ли надо этим асфальтным охотникам? Приедут, водочки, коньячку попьют, побеседуют мирно у костра, свежим воздухом подышут, ну — постреляют, душу отведут, не столько убьют, сколько набегаются, ноги наломают — так ведь это им отдушина в тесной душной жизни их городской! Это ж для них спасительный бальзам! Это ж тоже надо понимать. Ну, так или нет, Савелий Макарович? Понимать ведь надо людей, все мы не святые, а жить-то кажному хочется, и отдушину кажному хочется иметь. Так почему же нельзя все по-человечески понять и в чем-то снисхождение сделать задыхающемуся горожанину? — егерь говорил возбужденно и искренне, но вместе с тем и осторожно, но чувствовалось, что поднимает он эту тему далеко не в первый раз и готов слышать о ней самые разные мнения...
— Ну вот, положа руку на сердце, Савелий Макарович, прав я или не прав, в том, что нельзя на всех подряд цепной собакой кидаться?
— Дак об чем тут речь, Сидор Петрович, — неуверенно кивнул Савелий. — Знамо дело, с хорошим человеком — по-хорошему, а ежели злодей какой, то и по-плохому с таким-то можно...
— Вот-вот, Савелий Макарович! — обрадовался егерь, с упреком глянув на Евтея. — Я про то же самое и говорю...
— А где ваш напарник сейчас? — поинтересовался Павел.
— Оконфузился он в конце концов!
— Заворовался, что ли? — спросил Савелий.
— Да нет! В этом он неисправимый дурачок был. Власть превысил, да еще и не на своей территории — другому поселковому егерю помогал. Пожаловался тот: дескать, кто-то третий день подряд на «уазике» ночью по соевым полям ездит и стреляет коз из-под фар, а угнаться за ними не могу вот на своем мотоцикле, ну, тот-то и рад стараться: я, говорит, помогу тебе. Ну и подкараулил. Отстрелялись те, стоят при свете фар, свежуют козочку. Он, значит, подкрался к ним сзади из темноты да как-то умудрился три ружья, прислоненных к машине, сграбастать. — Егерь покачал головой и с невольным восхищением признался: — Ловок был Егор да рисков на подобные трюки! Ну, сграбастал он все эти ружья, за межу унес, потом к ним, к охотникам выныривает опять: «Руки вверх, голубчики!» А охотнички выпрямляются, и видит наш герой непосредственного своего начальника — главного охотоведа, а с ним его друзей, тоже начальников. Ну, посмеялись они, похвалили подчиненного за службу и просют ружья возвернуть. Егор уперся, как бык в стену. Вынул протокол и заполнил его по форме... Потом сграбастал ружья и айда в деревню. Ружья передал тому егерю. А тот егерь не дурак, ружья все возвернул на другой же день и протокол подписать отказался как свидетель. Ну, в общем, попрыгал, попрыгал Егор, а достать начальников не смог — больно высоко замахнулся, ну и подал тогда заявление на расчет. В охотничьем журнале как-то статейка была о нем. Будто бы в заповеднике в каком-то егерскую службу опять возглавляет — в пример другим ставят... И вот уж не знаю, не знаю, долго ли удержится...
Наверно, долго егерь разглагольствовал бы о бывшем начальнике своем, если бы не прервал его Савелий, увидавший на лице брата признаки недовольства и готовности ввязаться в спор, который не пришелся бы по сердцу хозяину дома.
— Ну да бог с ним, с твоим Егором, — решительно остановил егеря Савелий, вновь переходя на «ты». — Ты нам лучше вот что подскажи... След тигрицы с тигрятами ищем мы, не видал ли ты следков тигрят?
— Следков тигрят? Нет, кажись, малых следков не встречал. Больших следов много. Вон, кстати, метров двести от перекрестка через дорогу самчина прошел, и дальше ехать, к деревне — другой тигрище ходит прямо по дороге — вот такая лапа! — Он вытянул руки и сложил вместе две ладони. — По вездеходной подмерзшей колее идет и еще вдавливает, трамбует снег, как слон, в полтонны весом, дьявол!
— А этот, большой-то, до сих пор здесь ходит?
— Ходит до сих пор — куда ему деться? Позавчера его след видал в километре отсюда — он тут прописался постоянно, еще и при Егоре обитал, иной раз на край огорода приходит.
— А что лошадка, около стожка следы мы видали, бродит твоя? — поинтересовался Савелий.
— Лошадка-то? Лошадка казенная!
— И не боишься, что тигра ее задавит?
— Уж чего-чего, а этого не боюсь, Савелий Макарович, — улыбнулся. — Тигров тут полно, а живности домашней ни одной еще не тронули. Благородный зверь! Ни разу не покушался ни на лошадь, ни на корову.
— Так у тебя и корова ишшо имеется?
— У меня все имелось, Савелий Макарович, — с гордостью и сожалением сказал егерь. — Имелось до прошлого года, пока женатый был, а как ушла жена, так и некому стало хозяйствовать.
— Пошто ушла — небось жизнь в тайге прискучила? — участливо спросил Савелий.
— Ушла-то почему? Да так, характерами не сошлись, повздорили... А в тайге ей нравилось жить! Таежница была природная...
Егерю не хотелось, видно, ворошить больную тему: лицо его морщилось, глаза растерянно бегали, словно что-то пытались вспомнить и отыскать.
Савелию сделалось неловко, он покашлял, покивал сочувственно и спросил:
— На вездеходе-то сам ездишь? Смотрю, в гараже у тебя стоит — до-обрая машина, куды хошь на ней.
— Сам езжу, конечно, а то кто же еще? Малость в технике смыслю — в танковых частях служил, механик-водитель...
— А-а, ну тогда легче тебе управляться с ей... — Савелий опять покивал и, вероятно, чтобы совсем уже отвлечь егеря от невеселых мыслей, сказал: — Мы тут за перевалом брошенный леспромхозом трелевочник нашли, совсем ишшо хороший, новый, токо чо-то в моторе сломалось, может, наладил бы да и перегнал бы его к себе?
— Трелевочник? Нет, не надо, Савелий Макарович. Мне хватит этого вездехода на десять лет. Экспедиция тут в позапрошлом году стояла. Уезжать стала — вездеход мне оставили. Поговорил с начальником, сделал им доброе дело, ну, они и отблагодарили — списали вездеход: утоп, дескать, в речке. Мало будет этого, другой есть в запасе. В десяти километрах отсюда — новехонек стоит — бросили его, списали. Мотор у него заклинило... Ну, ладно, ребятки. — Барсуков поднялся, бросил в печь недокуренную папиросу и закрыл трубу. — Кормите собак своих, да, наверно, спать будем укладываться. В той половине-гостинице поселил бы я вас, но холодно там, да и поговорить мне охота с хорошими людьми. Как ты на это посмотришь, Савелий Макарович, если я всю твою бригаду в одной комнате укладу? Матрасов полно — десять штук, одеяла тоже есть, на полу постелетесь — пол теплый...
— Да нам после нодьи теперича и на голом полу — сущий рай поспать! Как тебе удобственней, так и укладывай нас.
Когда все уже улеглись, Савелий окликнул егеря:
— Слышь-ка, Сидор Петрович! Матрасов, я смотрю, у тебя много, и гостиница, говоришь, в той половине, — значит, стало быть, частенько к тебе гости наезжают?
— Гости-то? Да как сказать, — Барсуков беспокойно заворочался, тяжко заскрипели под его грузным телом тугие пружины. — Смотря по сезону: весной на пантовку приезжают. Летом — никого нету, один я тут. Осенью, в сентябре-октябре, опять наезжают на изюбриный гон, есть такие любители в трубу изюбра подманить, ну, зимой частенько наезжают...
— Ну и как, ты с имя ладишь, нет? Среди ихней братии и приверед поди немало?
— Привереды? Привереды есть! — Егерь вздохнул и вдруг, что-то вспомнив, хохотнул: — Да вот, кстати, недавно одного такого привереду привозили сюда. Ва-ажная птица! Два мужика бегают вокруг него на цыпочках. А сам-то — смотреть не на что: сморчок сморчком, живчик худющий! Издалека приехал. Изюбра пожелал убить, намекнул мне. Хорошо, говорю, будет сделано, есть у меня место, завтра отведу туда. Как же! Оказывается, он мечтает походить по уссурийской тайге один и изюбра тоже один, собственноручно, убить мечтает. Вот задача! Это, говорю, для него невозможно будет... Надо сделать — устроить! Ну, утром собрались, повез я их по дороге к перевалу. Высадил. Дорога чистая, снегом покрытая, неезженая, через нее изюбриные наброды. Вот, говорю, Эдуард Константинович, идите по этой дороге тихонечко и смотрите вперед: здесь часто изюбры вдоль дороги аралию грызут да и лежат тут же, — может, подфартит вам на счастье, а мы, говорю, будем тут вас дожидаться, как только выстрел услышим — сразу подъедем. Ну, прошел он метров полсотни, однако машет рукой мне. Подбегаю, думал, забыл он что, ан нет, показывает на след и говорит с тревогой: «Кажется, Сидор Петрович, этот след не изюбриный, не кабан ли это секач прошел через дорогу?» Да нет, говорю, Эдуард Константинович, это не секач, это мой сосед Никифор прогуливается тут; он, говорю, хороший джентльмен — не только человека не тронет, но даже и его добычу обходит стороной. «Какой еще Никифор? — недовольно спрашивает. — Это ведь заказник! И никаким Никифорам тут браконьерничать разрешения нет. Так-то вы участок охраняете?!» — Егерь опять хохотнул, поскрипел пружинами, подтыкая под бока одеяло, возбужденно и весело продолжал: — Ну, стало быть, слушал, слушал я его да и говорю: Никифор-то, говорю, Эдуард Константинович, тигр-самец. Он тут прошел... Что тут сделалось! Смотрю — побелел мужичок, заозирался вокруг да и говорит эдак вежливо: вы, говорит, Сидор Петрович, возвращайтесь к вездеходу и следуйте на нем от меня на дистанции видимости. А то человек я для тайги неопытный, неровен час, заблужусь, придется вам меня разыскивать, а это ни для вас, ни для меня непростительно. Ну я было хотел возразить: дескать, какая же это охота, ежели вездеход греметь будет! Ну, однако, ума хватило смолчать. Ну вот, отпустил я его метров на двести и поехал тихонько за ним. Километра два проехал, смотрю — назад идет, к вездеходу. Притомился! Костер развели, коньячку выпили, закусили плотненько. Дальше поехали. Он впереди крадется с ружьем, ажно на цыпочках привстает — добычу высматривает. А я сзади на всю тайгу гусеницами лязгаю, на малом газу соляром ее окуриваю.

— Да неужто и в сам деле, как рассказываешь, было? — не поверил Савелий.
— Да чтоб мне провалиться на этом месте, если вру! Километров шесть по дороге этак прошли, три раза костер разжигали, коньяк пили, колбаской копченой закусывали. Неужели врать я буду? — Голос егеря звучал обиженно.
— Да я не в том смысле, что не верю, — поправился Савелий. — Просто чудно! Ишшо не слыхал подобного.
— Дайте вы дальше человеку дорассказать! — нетерпеливо перебил отца Николай.
— Ну так вот, ребятки! — взбодренный вниманием слушателей, продолжал егерь. — Таким вот макаром проохотились мы два дня, а у гостя времени было на кордоне три дня всего, ну, он и занервничал. Помощнички его ко мне: «Выручайте, Сидор Петрович. Надо уважить, нельзя его отпускать с плохим настроением, надо, чтобы он непременно этого треклятого изюбра увидал хоть одним глазком и стрельнул бы в него!» — «Да где ж я ему этого изюбра достану — его же к дереву не привяжешь». — «Надо достать и привязать, Сидор Петрович!» Ну, что тут делать? Стоп — сам себе думаю! А не попробовать ли и в самом деле привязать?.. Зову шофера его, сели в машину — по газам и вверх, на перевал. Есть у меня там в конце дороги солонец заветный, около него чистины — на триста метров все видать кругом. Там и зимой, и летом изюбры держатся. Повезло! Убил! Небольшого бычка-сайка, рожки трехконцовые. Ну и на том спасибо. Приподнял я этого изюбришку, к дереву прислонил слегка, снизу палками подпер, ну, чтобы только стоял, не падал. Так рассчитал: ежели жаканом саданет по нему, то чтобы от удара упал непременно. А чтобы за ночь не завонял, брюхо ему пропорол, газы выпустил и в ребрах ножом дырьев наделал. К машине вернулся, шофер спрашивает: «Кого стрелял?» — «Рябчика, кого еще? Много знать будешь — быстро состаришься...» Вы еще не спите там? — забеспокоился егерь.
— Слушаем, слушаем, дальше сказывай, — успокоил его Савелий.
— Ну, вот, утром гости опять ко мне: «Что делать будем?» Спокойно, говорю, ребята, все будет на высшем уровне, только ежели что увидите не так — никаких вопросов не задавайте. Гляжу — ничего не поняли, а все равно кивают. Ну и ладно — поехали. Доехали до того места, где машина стояла, тут и остановил я вездеход. Слезайте, говорю, Эдуард Константинович, дальше мы с вами пешком пойдем, по новому методу попробуем охотиться: вы стрелок, а я ваш заряжающий и телохранитель. Ну, пошли. Веду его чуть в стороне от моего вчерашнего следа. Подходим к тому месту. Ну, думаю, не дай бог, упал изюбр, тогда придется провести гостя мимо, а самому быстренько поднять опять это чучело да новый заход сделать. Подходим. Вижу — стоит изюбр. Толкаю в бок охотника, шепчу ему: «Эдуард Константинович! Гляньте вон туда — кажется, изюбр стоит?» Глянул он, затрясся, ружье к плечу да как шарахнет из обоих стволов. Изюбр как стоял, так и стоит, не шелохнувшись. Он в него — откуда прыть взялась, перезарядил да вторым залпом, да третьим, а изюбр стоит! Примерз он там, что ли, сукин сын? Или зацепился за что-то? Снял я карабин, думаю: сейчас шарахну его пулей в голову по кости — вот и будет толчок. Однако, смотрю, изюбр мой как раз в тот момент, когда гость гильзы стреляные вынимал, завалился на бок. Ну, слава богу! Тут я кричу: «Убил, убил!» И — галопом через кусты к убитому. Подбежал к нему, палки, подпорки разбросал, на снегу свои вчерашние следы затоптал, чтобы не понял гость ничего. А тут и он прибежал, глаза выпучил, тоже бегает вокруг изюбра, рукой машет да взахлеб рассказывает, как он увидел этого изюбра и как всадил в него все шесть пуль. Вот, говорю ему, вы свое дело сделали, Эдуард Константинович, остальное я сам проверну — работа эта грязная, нудная! А вы идите пока к вездеходу, костерок, чаек и все такое прочее сообразите, а я тем временем освежую его, рожки вам, как трофей, сохраню. Ушел, слава богу! Однако через полчаса привел свою свиту показать изюбра, не вытерпел, а я уж к тому времени освежевал его и мясо шкурой накрыл. Ноги с камусами содрать не смог. Задубел изюбр, обрезал их по суставам и тоже в мясо под шкуру положил.
— Стало быть, уехал он довольный? — спросил Савелий.
— Вполне! И рога, и камус, и мясо увез.
— Ну, известное дело, начальники к нашему делу неспособные.
— Не скажи, Савелий Макарович, не скажи! — возразил егерь. — Один другому разница. Вот один приезжал, так тот, как приехал, наутро ружьишко на плечо и в тайгу один, без провожатого. А в сумерки мы уж из ракетницы собирались стрелять, думали — заблудился, а он приносит в рюкзаке освежеванное мясо кабанчика-прошлогодка. Пуда два тащил с самого перевала.
— Ну, бог с имя, — сказал сонно Савелий. — Спать будем.
* * *
Утром Евтей повел тигроловов прямо к следу того тигра-самца, который перешел дорогу неподалеку от перекрестка.
— Незачем нам по проселочной дороге подыматься, — сказал он. — Наша это тигрица в том месте дорогу перешла, туда и было ее направление, а следов тигрят энтот егерь-барсук просто не заметил: ежели на вездеходе разъезжать по дорогам да с кабинки выглядывать — проглядишь что угодно.
Так и оказалось, как предполагал Евтей: тигрица перевела молодых тигров через дорогу, пересекла пойму, поднялась на склоны сопок, заросших кедрово-лиственным лесом, и здесь, в небольшом светлом распадке, задавила чушку, от которой осталась только половина рыла, несколько обглоданных розоватых костей да ворох грубой шерсти на утоптанном до желтизны снегу. От этой давленины потянулась тигриная тропа, уже отпечатанная на последней, десятидневной давности, пороше. Тигроловы шли по ней, не сбавляя шагов. Рано еще было радоваться недельной давности следам: за это время звери могли уйти далеко. И все-таки по ясным, четким следам идти стало легче, точно сил прибавилось.
— На второй давленине должны настигнуть, — сказал Евтей идущему впереди Павлу. — А сколько дней потребуется идти, кто ж его знает? Может, она неделю будет ходить без добычи, а может, завтра трех кабанов подряд задавит, и завтра же настигнем ее...
— Сплюнь три раза, Евтеюшко, — устало проговорил Савелий. — Ишшо сглазишь. Хоть бы дня через три догнать — и то ладно. Снег должон большой вот-вот выпасть — успеть бы до снега...
Вывершив распадок, тигры пошли по кабаньим тропам. Там, где тропы разделялись, разделялись и промысловики, каждый шел по своей тропе до тех пор, пока не обнаруживал на ней тигриный след; в этом случае он сзывал товарищей условным свистом. Если же тропа разбивалась, а следов не обнаруживалось, тигроловы бросали эту тропу и выходили на другую, пока справа или слева снова не раздавался условный свист. Так, расходясь и сходясь, вышли к огромному, с обломанной вершиной, тополю, вокруг которого снег был истолчен и тигриными и кабаньими следами. На коре дерева, в чешуйках коры — торчали пучки кабаньей шерсти: кабаны так усердно чесались боками о ствол, что в некоторых местах даже отшлифовали его, содрав кору до оболони, причем обдиры были и старые, потемневшие от времени, и совсем свежие — не один год, знать, чесали чушки свои бока об это дерево.
Внимательно осмотрев ствол дерева, тигроловы увидели на нем множество царапин от медвежьих когтей, тоже старых и новых. Тут же были и шерстинки смолисто-черного цвета...
— Никак дупло белогрудого? — задрав голову и обходя дерево, сказал Савелий. — Точно, его дупло! Вот оно! — указал он рукой вверх.
С южной стороны ствола на высоте четырех-пяти метров от земли зияла аккуратная черная дыра, заеложенная снизу и обгрызенная до желтизны по окружности. Барсик и Амур, вздыбив шерсть, внимательно обнюхивали дерево.
— Белогрудка в дупле, — уверенно сказал Евтей. — Тигрица в дупло пыталась забраться. Вон шерсть ее. — Евтей оценивающе обошел дерево: — Так и есть, пыталась вытащить медведя из дупла, да не тут-то было — медведь хитер оказался, вишь, какая дырка тесная — впритирку, а главное — со стороны наклона дупло — трудно тигру удержаться на таком дереве.
— А он не выскочит оттуда? — с опаской спросил Юдов.
— Не бойся, паря, — успокоил Савелий. — Теперь, после тигры, его оттуда и силой не вытащишь. Она небось весь загривок ему исцарапала, вытащить его пыталась.
— Так, может, и нет его там? — усомнился Юдов.
— Ишшо чего! Та-ам сидит — куды ж ему деться?
— Но если б там он был, тогда бы чушки не чесались об дерево... Они же боятся медведя... Дух бы медвежий учуяли... и... убежали бы...
— Как бы не так! — снисходительно усмехнулся Савелий. — Это на воле они боятся его, а когда он в дупле лежит, тогда они прямо-таки специально дразнят его — из вредности! Обступят дерево с дуплом и ну чесаться! Чесанет боком и в сторону отбегает — глядит, чего будет. А он там фырчит, злится, да нельзя ему вылезать из берлоги...
— Что делать-то, отец, будем? — спросил Николай, кивая на дупло.
— Ты на что намекашь? — не понял Савелий.
— На что? На медведя намекаю, на кого же еще?
— Ну дак чо, — опять не понял Савелий, — убить его предлагашь?
— Предлагаю убить, — кивнул Николай, настороженно поглядывая на Евтея. — А что, очень удобная берлога, дупло низко, быстро мы его оттуда выкурим, а не выкурим — прорубим дыру. Оболонь тонкая. — Николай стукнул прикладом карабина по дереву. Звук удара гулко прокатился над лесом, а внутри дерева что-то глухо прошуршало.
Собаки натянули поводки, беспокойно застригли ушами, продолжая обнюхивать дерево, вздыбили на загривках шерсть.
— Не стучи, а то выскочит, — сказал Евтей.
— Надо бы убить его. Удобная берлога, — продолжал уговаривать отца Николай.
— Так ведь на белогрудых нынче запрет наложили, — проговорил Савелий. — Ишшо к тому ж заказник тут, как бы впросак не попасть. Барсуков первый нас и оштрафует...
— За Барсукова ты не бойся, отец, — убежденно возразил Николай. — С ним о чем угодно можно договориться.
— Эк вас расперло! — насмешливо воскликнул Евтей.
— Ты как, Евтеюшко, возражаешь или согласный? — Савелий неуверенно посмотрел на брата и с тою же неуверенностью стал смотреть на дупло.
— А я, брательничек, ставлю вопрос на голосование. Как общество решит, так и сделаем. — Евтей повернулся к Юдову, беспокойно посматривающему на дупло: — С тебя начнем. Согласен ты выкуривать медведя или нет?
— Да как все решат, так и я, — пожал плечами Юдов. — Оно бы и можно попробовать...
— Ясно дело, — удовлетворенно кивнул Евтей. — Стоишь на нейтральной черте. Теперь ты, Павелко, ответствуй. — Евтей смотрел на него испытующим и чуть насмешливым взглядом.
— Я против этой охоты, Евтей Макарович, — решительно возразил Павел.
— Это еще почему? — притворно удивился Евтей, согласно между тем кивая. — Какие твои доводы против этой охоты?
— Просто мне кажется, нам сейчас каждый час дорог. Надо что-то одно делать, а не гоняться за двумя и тремя зайцами... Да и вообще... — Павел хотел сказать, что жадность никого еще до добра не доводила, но, покосившись на Николая, промолчал. Лицо его и без того уже сердито напряглось и покраснело, глаза сузились.
— Разумный довод, разумный, — закивал Евтей и весело сказал: — Я тоже против, а ты, брательничек?
— Ну тады и я супротив, ежели вы супротив, — охотно согласился Савелий и, повернувшись к сыну, виновато добавил: — Вишь, Никольша, обшшество супротив... Оно и правильно. Покуда выкурим его, да удачно ли стрелим ишшо. Может, собак покалечит, может, и самих... Да и того... Покуда шкуру да мясо выносить да с егерем этим увязывать... Словом, сам видишь — канитель...
— Да уж вижу, вижу, отец, не слепой, — обиженно проговорил Николай, отходя в сторону и с силой резко и зло отдергивая рвущегося к дереву Амура.
С этой минуты Павел вновь, как в начале похода, стал ловить на себе его прищуренный холодный взгляд.
А утром, уже после того, как тигроловы, позавтракав, увязывали котомки, Павел, случайно ковырнув ногой хвойную подстилку, увидел под ней три бумажных шарика. Развернув один из них, обнаружил, что это обертка от шоколадной конфеты «Каракум». Шарики были спрятаны как раз на том месте, где спал Юдов. Брезгливо скомкав обертку, Павел незаметно бросил ее под ноги и втоптал обратно под хвою. Теперь он вспомнил, что точно такой же шарик он видел у первой нодьи, и тоже под постелью Юдова... Сомнений не было: в рюкзаке, который Юдов всегда развязывал и увязывал сам, а на ночь клал себе под голову, хранились шоколадные конфеты, и их Юдов для поддержания собственных сил на протяжении всего пути тайно ел, а бумажки прятал под хвою, либо, идя по тропе сзади бригады, отшвыривал их в сторону. Павел стал внимательно наблюдать за Юдовым, часто оглядывался на него и однажды увидел, как тот, сняв рукавицу, быстрым движением руки точно вытер ладонью губы, а когда отнял ладонь, на губах остался след шоколада. Очень хотелось поделиться Павлу своим открытием с Евтеем, но, поразмыслив, решил промолчать. Ведь от того, что он откроет другим эту маленькую мерзкую тайнишку, Юдов не сделается лучше, а только вызовет у мужиков презрительное отношение да посеет смуту.
В полдень тропа вывела на крутой склон. Здесь, на краю темного пихтача, тигрица задавила кабана-секача и вытащила его на чистый склон и, пятясь, проволокла через густой орешник на крутой носок, на вершине которого стоял густой раскидистый тис. Под кроной его тигры и съели кабана, пролежав около него дня три-четыре.
От границы пихтача до вершины носка было не менее ста метров крутого склона, и при этом весь орешник, через который волокла тигрица десятипудовую тушу кабана, был либо надломлен и согнут, либо вовсе срезан, будто косой трава. Всюду на тычках сломанного орешника виднелись клочья кабаньей шерсти.
— Экая силища! — разглядывая сверху волок, удивился Савелий.
— За чем ей было нужно вытаскивать кабана на такую высоту? — недоуменно спросил Павел.
— А это у нее прихоть такая, — довольным голосом, в котором звучала и гордость за тигрицу (вот-де она какая!), сказал Савелий. — Внизу-то, в пихтаче, темно и никакого тебе обзору, а здесь, вишь, какое веселое место. Тигра, она любит на возвышении да на солнышке полежать, понежиться, и чтобы видать ей было все кругом. Лежит, как царица на троне, и эдак вот вполглаза смотрит.
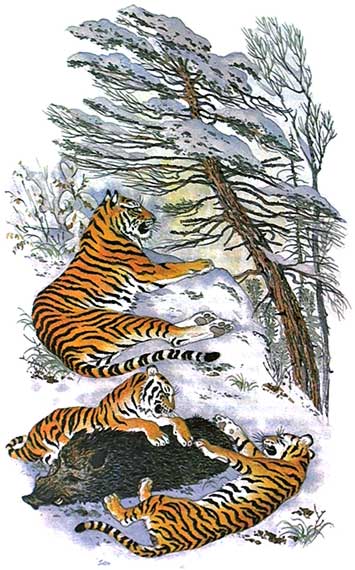
Съев кабана, тигры поднялись на седловину, заросшую перестойным пихтачом, и спустились по крутому распадку в пойму безымянного ключа. Здесь тигрица вышла на чей-то охотничий путик, оставила молодых тигров, а сама прошла по путику до первого капкана, обнюхала его. Словно удостоверившись, что все в порядке, вернулась и повела тигрят по своей охотничьей тропе, по своему извечному большому кругу, по сложной орбите, заранее предугадать и рассчитать которую не взялся бы ни один даже самый опытный таежник.
Вечер застал тигроловов на краю неширокой, но длинной мари, похожей на занесенную снегом взлетную полосу. По краям мари росли чахлые приземистые ели, совершенно не пригодные для строительства нодьи. Пришлось спуститься на поиски сухого кедра в пойму ключа, но и там подходящего дерева не оказалось — вместо него нашли уже в сумерках сухой и крепкий, как кость, ясень. С большим трудом распилив его на четыре четырехметровых балана и добавив к ним еще столько же сырых ясеней, сложили все это в штабель на угли большого костра. Ясень разгорался быстро и жарко. После ужина тигроловы, еще запасшись дровами, улеглись вокруг нодьи и стали дремать, подставляя огню то заиндевевшие спины, то озябшие руки.
* * *
Утром Павел опять обнаружил под хвоей на том месте, где спал Юдов, цветные бумажные шарики. «Уж ел бы конфеты вместе с оберткой для полной маскировки, — гневно подумал он, борясь с желанием вытрясти содержимое юдовского рюкзака на снег перед Лошкаревыми, — пусть бы полюбовались примерным своим компаньоном. Наверняка в рюкзаке его припрятаны от общего стола не одни лишь конфеты...»
Перед тем как уйти от нодьи, Савелий еще раз пересчитал и тщательно проверил вязки.
— Все, ребятушки! — торжественно объявил он. — Сон я седни видел вещий: будто плыли мы на лодке и стукнулись о камень, и лодка стала тонуть, а мы будто мешки из лодки на берег выбрасываем, выбрасываем. Это уж проверенное у меня: как увижу лодку тонущую, так на второй день и ловить начинаем.
— А я сегодня бабу голую видел во сне, — блаженно улыбаясь и потягиваясь, сообщил Юдов.
— Баба голая — это не к добру, — поморщился Савелий. — Завсегда, ежели баба голая снится, к снегопаду это, токо снегопаду нам ишшо и не хватало. — Старик укоризненно посмотрел на Юдова.
— А тут, брательничек, и без вещих снов понятное дело, что скоро снегопады начнутся, — хмуро и раздумчиво поглядывая на Юдова, сказал Евтей.
— Ничо, Евтеюшко, ничо, сёдни-завтра настигнем тигру, а потом пушшай заснеживат.
— Дай-то бог, ежели сёдни-завтра, — вздохнул Евтей. — А то ведь оно на воде вилами писано, как все обернется. Уж сколь раз мы с тобой на последнем моменте ловить собирались, а приходилось еще полмесяца бегать.
— Так-то оно так! — снисходительно улыбнулся Савелий. — А все же седни мы ее непременно настигнем. Сон мой в руку, вот помянешь потом.
— Да я рази возражаю? Дай бог! Просто ребят настраиваю не на «ура», а на то, чтобы они свои силы рассчитывали на долгое преследование, а то, ежели сёдни-завтра не настигнем, как ты обещаешь, они возьмут и носы повесют.
— Не разочаруемся, Евтей Макарович, — бодрым голосом успокоил Юдов. — Не знаю, как Павел, а лично я человек терпеливый да выносливый: потребуется месяц гоняться за тиграми — буду и месяц гоняться.
— Еще бы не гоняться тебе, — усмехнулся Евтей. — Рюкзачишко-то у тебя пионерский, да и сзади идешь по торной тропе. А ты вот целик побей да Павлову котомку потаскай... Месяц он бегать собрался. Ну-ну, поглядим...
— Зря вы осердились на меня, Евтей Макарович, — ничуть не смутился Юдов. — Я мог бы запросто впереди идти, да вы же сами не доверите след распутывать. А рюкзак... Рюкзак действительно пионерский. Но я уж тут ни при чем — какой в магазине продавался, такой и купил.
— Мал золотник, да дорог, Евтей Макарович, — сказал Павел, многозначительно посматривая на юдовский рюкзак. — Главное не объем и форма, а содержимое. — Калугин перевел взгляд свой на Юдова, желая смутить его, но тот деловито вскинул рюкзак на плечи, повернулся к Павлу спиной.
До полудня тигриная тропа петляла по южному склону хребта в низкорослых дубняках, пересекая старые кабаньи тропы, затем спустилась в широкую долину ключа, заросшего могучим ильмовым лесом, и здесь, в пойме, неожиданно вывела тигроловов на старую тракторную дорогу. Колея глубокая, идти по ней было удобно. То и дело дорогу пересекали изюбриные следы, поэтому, наверно, и тянуло тигров к дороге. Вскоре ильмовый лес остался позади, и потянулись липовые рощи вперемешку с ельником. На дороге появился старый, полузасыпанный снегом человеческий след. Справа от дороги показалась небольшая поляна, посреди нее стоял на столбах длинный и открытый со всех сторон навес, крытый толем, под ним аккуратно сложенные в три яруса бочки, свежеструганные некрашеные ульи, медогонка из нержавеющей стали, ящики, мешки, мотки колючей проволоки.
Смело обойдя навес, тигры пересекли поляну и направились вверх по ключу к зеленеющей гриве пихтача. Дальше от навеса к дороге тянулась хорошо утоптанная человечья тропа.
— Должно, пасека недалеко, — сказал Евтей, кивая на тропу. — Недавно приходил сюда человек. Дня два назад, не более. Похоже старик, али ноги больные — вишь, как валенками шаркал? — Евтей посмотрел на брата: — Чо делать-то будем, Савелко? Солнце уж низко скатилось, не успеть нам сегодня тигру догнать... Может, на пасеке переночуем, а завтра затемно сюда придем? Все одно, у нодьи нам придется ночевать...
— Да кто его знает, Евтеюшко, как оно лучше? Ты как думаешь, Николай? — Савелий посмотрел на сына.
— Мне все равно, отец, — устало отмахнулся тот. — Если пасека близко, тогда выгодней на нее пойти.
Пасека и в самом деле оказалась недалеко. Вскоре тигроловы подошли к залитой наледью речке и на той стороне ее увидели рубленный из толстых свежих бревен и крытый шифером омшаник. За ним стоял покосившийся от времени, с позеленевшей тесовой крышей, небольшой домик; из печной трубы его весело и приветливо струился дымок.
Лохматый коротконогий пес, напоминающий росомаху, выскочив из-под крыльца, поднял истеричный визгливый лай, и тотчас распахнулась настежь сенная дверь, в темном проеме застыла кряжистая фигура седобородого старика с большими темными, глубоко запавшими глазами. Крутые плечи его и широкую грудь плотно облегала темно-синяя в белую полоску рубаха навыпуск, опоясанная узеньким ремешком. Спокойно оглядев приближающихся гостей, старик, шаркая большими серыми валенками, спустился с крыльца.
— Цыц, Мухтарка! Охолонись! — нестрого крикнул на злобно лающего кобеля. — Я вот тя счас хворостиной... Цыц, тебе говорят!
— Пушшай, пушшай лает, — сказал Савелий. — Надоест — сам утихнет. Здравствуй, хозяин! Пустишь ли нас переночевать?
— Цыц, тебе говорят, окаянный! — теперь уже строго крикнул пасечник и, топнув ногой, замахнулся на пса. Тот же, словно и ждал этого, мгновенно смолк и с видом исполненного долга затрусил к сараю, возле которого, помахивая хвостом, стояла серая лошадь. Повернувшись к Савелию, пасечник приветливо закивал: — Здравия желаю! Здравия желаю! Еслив добрые люди — проходите, милости прошу, ночуйте, живите сколь надо — в тесноте да не в обиде.
— А в какую же местность забрести нас угораздило? — спросил Евтей, почтительно поздоровавшись.
— Так вы, стало быть, не ивановские охотники-то? От оно что... А то-то я смотрю, личности незнакомые. На Дубовскую пасеку вы попали, сердешный, на Дубовскую. А Дубовская оттого она, что фамилия моя Дубов, Еремей Дубов, осемьдесят три года Дубовым кличут. Вот как! Полвека на этой пасеке живу-тружусь с пчелками. Слава богу — никому не в тягость. А Иванковцы километрах в десяти отсюда, на речке Малиновке, а Малиновка в Быструю падает, вот и карта вам — глобус, определяйтесь теперь сами, откуда вас унесло и куды прибило. — Пасечник внимательно, с легкой усмешкой, оглядел Савелия, Евтея, скользнул по Николаю и Юдову, чуть задержал взгляд свой на Павле. — Зверовщики поди? Ишь как по тайге истаскались, одежонку поистрепали до дырьев, а добычи нет, гляжу, да еще и приблукали — откуда ж путь держите?
— Тигроловы мы, дед, тигроловы, — опережая Савелия, сказал Юдов важным и снисходительным тоном. — За тигром гонимся. А это наш бригадир, — он кивнул на Савелия. — Знаменитый Лошкарев Савелий Макарович. Слыхал о таком?
— Во-от оно что, — слегка удивился старик, с уважением взглядывая почему-то не на Савелия, а на Евтея. — Слыхал, слыхал! Вон какие орлы, оказывается, залетели! Ну-ну-ну, стало быть, тигроловы? Дело хорошее! Ну дак, чего стоите, как сироты казанские? Айда в дом! Собак вон туда, на ту сторону веранды оттащите, там скобы есть, за них и привяжите.
Ничего лишнего не было в доме пасечника, только самое необходимое. Слева от печи стоял кухонный столик, покрытый голубой клеенкой, чуть левей в углу — умывальник. Справа от двери перед окном — стол, сколоченный из толстых дубовых плах, между столом и окном — длинная, от стены до стены, дубовая же лавка. В спальне справа и слева от окна две кровати, между ними поместились огромный, обитый медными позеленевшими узорчатыми полосами сундук и небольшая вычурная этажерка, туго забитая книгами и журналами. Под потолком над печью на бельевой веревке, протянутой через всю комнату, сушились пучки разных трав и кореньев.
Без лишней суеты хозяин выставил на стол эмалированные кружки, миски, нарезал и сложил горкой пышный домашний хлеб, поставил снятый прямо с плиты ведерный чугун с борщом, принес из сеней полрамки сотового меду. Затем появились на столе соленые грузди, отварная картошка, и, наконец, к радости Евтея и Савелия, пасечник принес в алюминиевом бидоне медовуху. Павел от такого питья отказался. И сам хозяин не прикоснулся к нему.
— Пошто не пьешь-то?! — искренне удивился Савелий. — Или здоровье не дозволяет?
— Здоровье дозволяет, слава богу. А не дозволяет вера наша зелье всякое пить да курить.
— Баптист, что ли?
— Зачем баптист? Не баптист. Из староверов я.
— Смотри-ко, Евтеюшко! Наш брат — старовер! — удивленно воскликнул Савелий. — Мы ведь, Еремей, тоже из староверов! И деды, и прадеды наши староверство хранили, да и батько наш старой веры придерживался...
— Вот то и беда, сердешный, что батько ваш уже не хранил, а токмо придерживался, — строго перебил Савелия пасечник. — Был я в староверской деревне на Амгуни лет пять тому назад. У сестры гостил. — Дубов одобрительно посмотрел на Павла, наливающего в свою кружку чай. — Приехал — собралась родня. Бражку пить затеяли. Ну, бог с вами, пейте. Вначале, как и подобает, кажный из своей кружки пил, а потом перепились, кружки перемешали, матерщинничать, богохульствовать стали, передрались, ну — свиньи, истинно — свиньи! Не стало веры — и человек пошатнулся.
— Религия, дед, — это опиум и узда для народа, — поучительным тоном сказал Юдов.
— Эк тебя расперло от мудрости, внучек, — усмехнулся пасечник, принимая из рук Павла чайник и ставя его на припечек. — Религии всякие, внучек, бывают. Ну как, крепка медовуха? — спросил он Савелия, единым духом выпившего кружку дурного напитка.
— Ишшо не распробовал, — вытирая ладонью усы, довольно проговорил тот.
— Хороша! Хороша голубочка! — похвалил Евтей. — Как по отчеству тебя, Еремей...
— Еремей Фатьянович, — закивал дед.
— Отличная медовуха, Еремей Фатьянович. С устатку-то оно и не грех выпить.
Похвалили медовуху и Юдов с Николаем.
— Оно-то ведь, еслив с умом пить ее, так и правда безвредно, — польщенно сказал пасечник. — Для добрых людей делаю. Иной выпьет на веселье, на радость кружку-две, как вы, а иной доберется до нее и, покуда из человека в свинью не обернется, не отлипнет. Мне, что ли, тоже чайку с вами попить? — Дубов, сунув руки глубоко под стол, вытащил оттуда, как фокусник, пол-литровую оловянную кружку с выгравированным на ней староверским крестом и какой-то надписью.
Несмотря на свои восемьдесят три года, дед был еще крепок, и в узловатых руках его чувствовалась сила, да и крутые плечи, и загорелая, отнюдь не морщинистая, шея говорили о крепком здоровье. На вид ему можно было дать никак не более шестидесяти. Об этом же говорили и ясные карие глаза его, проницательно и мудро смотревшие на собеседника.
— А ты, дед, гляжу я, знахарством занимаешься? — сказал Савелий, кивая на пучки трав. — Для себя токо собираешь или ишшо и других людей пользуешь?
— Да всяко приходится. Травку-то для себя сушу, конечно, но обращаются люди, приходится и с ними делиться. Знахарству-то меня матушка научила — царство ей небесное. С той вот поры и лечу помаленьку.
— Ну чо, хорошее дело, — одобрительно кивнул Савелий. — Особенно ежели и благодарность ишшо от людей имеется.
— Да уж сколько этих благодарностей — не счесть. В позапрошлом году охотника одного выходил. Привезли его ко мне прямо из больницы, высох весь, как щепка... Желудок пищу не принимает. Стал я его кровохлебкой лечить. Цветы и корни кровохлебки, настоянные на водке, — первейшее лекарство от желудочных болезней и аппетит нагоняет. Через месяц этот охотник трескал у меня любую пищу, порозовел весь, бегать стал, а был черный как головешка и даже ходить не мог. Врачи потом, когда обследовали его, удивились даже. Вот ведь как! — Пасечник сказал это с гордостью. — Мно-огим помогли мои травки, грех жаловаться, людям облегчение, а мне утешение. Благодаря этим травкам я и сына названого обрел себе. — Старик, широко улыбаясь, оглядел тигроловов. — Лет десять тому назад один мой старый знакомец приехал ко мне на пасеку с женой. Приехал, отдыхают тут, и как-то в разговоре пожаловался мне: вот, дескать, друг у меня помирает в госпитале от белокровия. Врачи сказали: больше двух месяцев не протянет. Жалко, больно хороший человек — морской офицер, на подводной лодке плавал. Ну я этому своему знакомцу и говорю, еслив, говорю, дорог тебе твой друг и еслив врачи правду говорят, что помрет он через два месяца, тогда вези свово друга ко мне на пасеку, я его вылечить попытаюсь. Андреем звать. Лежит, бедный, ни кровиночки на лице, глаза ввалились. Жена его, Ольга, тоже с ним приехала. Плачет: спасите, дедушка, мужа, только на вас одна надежда осталась. В дом хотели нести его, а я говорю — стоп, ребятки! Будет он лежать на чердаке омшаника, на сеновале, чтобы пахло сеном и лесной здоровый дух был. Вот так!..
Пасечнику, должно быть, очень приятно было вспоминать и рассказывать историю эту, с лица его все не сходила радостная улыбка.
— Да-а, ну вот, стал быть, положили его на сеновал под марлевый накомарник, дверь чердака настежь открыли, да еще и с другой стороны несколько досок в стенке выбил я, чтобы свету было больше. Друзьям и жене его велел уехать и не приезжать три недели, чтобы, значит, не нервировать больного. Ну вот, стал я поить Андрея пчелиным маточкиным молочком да и прополисом не брезговал. Гляжу, через недельку ожил Андрюха, розоветь стал. Медком его пою бархатным, хлебушком потчую. Маточкино молочко трудоемко да нудно собирать, но уж ради такого дела приходится. А через десять дней спустился Андрюха с чердака и стал мало-помалу помогать мне. Дальше — больше, дальше — больше. Ожил человек! Через три недели друзья приехали, а он, Андрюха-то... — Еремей Фатьянович тихонько, радостно засмеялся, промокнул ребром ладони заблестевшие глаза. — Н-да, стал быть, помирал человек, пластом лежал, а они приехали, друзья-то, а он, это самое... Андрюха-то... стоит в омшанике и во всю ивановскую песню горланит да топором хлещет — трап сколачивает! Ну, Ольга-то, увидамши такое дело, навзрыд плачет. То Андрюху целует, то ко мне кидается руки целовать. Беда с этими женщинами! У них всегда причина слезам — и от горя плачут, и от радости. — Пасечник сокрушенно вздохнул и, удивленно покачивая головой каким-то своим мыслям, принялся сосредоточенно пить чай.
— Ну, а дальше-то что, Еремей Фатьянович? — нетерпеливо спросил Евтей. — Совсем излечился офицер-то ваш?
— Дальше? А что дальше? Дальше — он у меня еще две недели попил маточкино молочко с прополисом, медку поел, лесным здоровым воздухом подышал, поработал на пасеке и поехал домой. — Пасечник опять широко улыбнулся и сказал не без гордости: — А теперь зато мой Андрюха капитан второго рангу! Каждый год с Ольгой приезжают ко мне, понавезут продуктов всяких, подарков! А куды мне, старику? Андрюха так отцом меня и кличет. Еслив, говорит, отец, трудно будет на пасеке — дай знать, я тебя к себе заберу на городскую квартиру. Чуда-ак! Рази выживет земляной да лесной человек в городской квартире? Здесь походишь босиком на лесном воздухе по землице-матушке, от нее, от землицы, в тело твое и силушка подходит. А еслив от земли оторвался — считай пропал, прежде срока в домовину укладут. Не-ет, покуда ноги мои держут, буду по земле ходить, своими руками хлебушко добывать, да и польза, чай, от меня людям добрым. Разумно я мыслю или нет?
— Истинно так, Еремей Фатьянович, — уважительно сказал Евтей.
— Да уж куды разумней, — согласился и Савелий. — Все бы эдак вот, как ты, поступали. А слышь-ка, ты вот говоришь, что офицер тот морской названый сын тебе, а родного сына разве не было?
— Родных-то? Как не быть — были, были, мил человек... — Дубов перестал улыбаться, лицо его напряглось, счастливо блестевшие глаза потускнели, и сам он точно съежился весь. — Четверо сыновей у меня было, мил человек... Было да не стало — всех четверых на войне убило, и старуха моя, Ефросиньюшка, едва последнюю похоронку на четвертого сынка, младшенького Петрушу нашего, получила, так и слегла от горя, и в тот же год один я остался ото всего дубовского племени. Будь она проклята, эта война! И сейчас этого слова слышать не могу без того, чтобы не проклинать его. — Пасечник гневно посмотрел на стоящий на подоконнике радиоприемник. — Когда бы ни включил эту машину — всегда там о войне говорят, не в одном месте, так в другом воюют. Взять бы всех этих зачинщиков раздора да сослать бы их на остров, как проказных, и пущай бы грызлись они там промеж собой. Неужто род людской позволит этим паучьим выродкам отравить все живое? Разве бог для того создал человека, чтобы его руками уничтожить всю красоту земную? Ведь страшно и дико не то, что человек на свою собственную жизнь замахнулся, а то, что он еще и на святую Землю замахнулся, на небо голубое, на траву, на все живое! — пасечник поднялся и взволнованно заходил по кухне, прижимая большие жилистые ладони к груди. — Еслив подумать, то наша земля аки маленький цветок в бескрайнем холодном космосе. Люди должны лелеять этот цветок и хранить его. — Пасечник вновь подсел к столу, извиняющимся тоном сказал: — Вы уж на меня, старика, не серчайте, наговорил я вам тут...
— Ишшо извиняться удумал, — смущенно проговорил Савелий. — Все правильно сказал. У кого что болит, тот о том и говорит.
— Вот-вот, в самую точку попал, мил человек! — вновь оживился старик. — Мне-то щепотка жизни осталась, не сегодня, так завтра помру, а вам жить да жить еще. А ведь и внукам и правнукам вашим захочется на небушко голубое посмотреть, водицы ключевой испить, послушать в тайге щебетанье птичек. О, господи! Да рази всю земную красу перечтешь? Пчелка вон жужжит, жужжит над вербной почкой ранней весной, и уж такая благодать и краса в этом малом. Мне боязно даже думать, что вот я помру, насладившись земной красой, а внуки, правнуки ваши могут лишиться хоть частицы всего этого...
Утром, прощаясь с пасечником, Павел протянул ему лист бумаги.
— Вот вам, Еремей Фатьянович, мой адрес. Вдруг будете в наших краях, буду рад. Помогу, чем смогу.
— Спасибо, внучек, спасибо! — искренне поблагодарил старик. — В ваши края не планирую, на отшибе вы живете, а из меня путешественник плохой. Однако, может, и свидимся еще, кто знает. Но еслив я, внучек, гостеприимством твоим не воспользуюсь, а другой страждущий человек обратится к тебе — все одно приветь его вместо меня — так и пойдет гулять доброта людская от одного к другому — вот и ладно будет жить на земле!
В словах пасечника не было ни рисовки, ни поучительных ноток. Эти простые, но такие необходимые слова выходили из самых глубин его доброй души. Прощались тигроловы с пасечником, как с родным. Даже Николай, скупой на похвалу, уже довольно далеко отойдя от пасеки, вдруг остановился и, оглянувшись, с запоздалым удивлением сказал:
— Надо же, старик какой! Даже исповедоваться захотелось.
* * *
Снежок, упавший ночью, слегка притрусил тропу, сгладил резкие выбоины и грани на ней, так что в предрассветных сумерках она порой с трудом различалась на белой ленте ненаезженной дороги. Но вскоре рассвело, и след стал виден четко.
— Вот и кстати снежок сёдни выпал, — довольным голосом сказал Савелий. — Старые следы подбелит, а новые заново пропечатает. Может, сёдни вот как раз новый тигрицын след и найдем, на счастье свое. Она теперь, по новому-то снежку, непременно захочет прогуляться.
— Да-а, не мешало бы сёдни след ее свежий найти, — мечтательно проговорил Евтей. — Мы бы его по такой славной пороше быстренько распутали да к обеду и отловили бы одного.
— Сплюнь три раза, дядюшка! — полушутя-полусерьезно воскликнул Николай. — Сглазишь.
— Не сглажу, племянничек, не боись. Чему бывать, того не миновать. Ежели, скажем, вчера немного не дошли мы до тигрицы и она услышала нас, то сёдни ночью, хоть глазь не глазь, а она непременно вернется по своей тропе до наших следов...
Евтей не договорил. С обочины дороги, из-под снега, взрывом взметнулся к вершинам берез табун рябчиков. Шумно хлопая крыльями, птицы стремительно разлетелись в разные стороны, но некоторые, рассевшись тут же на ближайших березах, спокойно принялись клевать почки.
— Тьфу! Перепугали, окаянные! — с трудом удерживая рвущегося к птицам Барсика, выругался Евтей. — Чуть поводок не выпустил от страха, ажно сердце екнуло.
— Вот-вот, токо ишшо не хватало выпустить, — ворчливо заметил Савелий. — Меньше надо балаболить языками. А то идут и балаболят, и балаболят.
Павел, заметив впереди на обочине дороги чей-то свежий след, ускорил шаги — очень уж почерк следа похож был издали на аккуратную тигриную походку...
— Ты куда, Павелко, припустил? Что там увидал такое? — тревожно спросил Евтей.
— Кажется, след ее, — обернувшись на ходу, неуверенно ответил Павел и в то же мгновение остановился как вкопанный, увидав прямо у ног своих свежий тигриный след.
Выйдя на дорогу, тигрица прошла по ней немного в сторону пасеки, но, учуяв дым или услышав что-то тревожное, резко повернула назад, то и дело оглядываясь, пошла по дороге вверх, вероятно, намереваясь сделать петлю и выйти на свою старую тропу. След тигрицы уже успел остыть — собаки не обращали на него внимания, зато тигроловы приободрились.
— Ну вот, ребятки, кажись, сели мы ей на хвост! — довольным голосом проговорил Савелий. — Теперича надобно новым следом ее идти до самого логова, а на старые следы и внимания нечего обращать. Это ж она от давленины на разведку сюда приходила.
— Ты, брательник, лучше вязки проверь: не забыл ли? — скрывая радость, напомнил брату Евтей.
— Вязки я ишшо утром проверил, Евтеюшко, а вот ты достань-ко патроны все из котомки да отдай Павлу, пушшай он их по карманам рассует, чтобы сподручно стрелять было.
— О, это ты верно надоумил! — Евтей, сбросив котомку и развязав ее, вытащил из нее мешочек с патронами и, широко улыбаясь, бросил его Павлу.
Взвесив мешочек на руках, Павел сразу понял причину Евтеевой улыбки: избавиться в походе от пятикилограммового груза — истинное блаженство!
Тигрица действительно вышла по дороге на свою старую тропу, прошла по ней до пихтового леса, затем повернула в залитый наледью ключ. Дойдя по льду до снежной целины, она по-заячьи сделала резкий прыжок в сторону, тут же недалеко от берега пересекла свой утренний след и от него широким шагом пошла через бурелом, через густой березняк, затем через гриву молодого кедрача к виднеющейся впереди небольшой островерхой сопке.
— Ладно ли, Савелко, сделали мы, что за ей увязались, а не по тропе пошли, может, она не к тигрятам, а на охоту направилась? — нерешительно спросил Евтей.
— А бог его знает, — так же нерешительно ответил Савелий. — Ишшо пройдем вон до той сопочки, а там, ежели она крутить да вертеть начнет, бросим тогда след ее и выйдем на тропу опять.
— Я-то так и думал по тропе идти с самого начала, да ты от радости поскакал за ей галопом.
— Дак ведь оно, Евтеюшко, завсегда так — рассчитывать быстрей да лучше, а получается все наоборот.
Тигроловы замолчали. Павел слышал за своей спиной только шорох снега да тяжелое, шелестящее на морозе дыхание Евтея.
Обойдя замерзшее болотце, тигрица вышла в густой темный пихтач. Здесь было много кабарожьих следов, но она не обращала на них внимания. Даже не заметила вроде бы изюбра, которого спугнула с лежки.
— Вот видишь, Евтеюшко, стало быть, она не на охоту пошла, ежели внимания на зверя вовсе не обращает, — заметил Савелий, указывая на следы изюбра.
— Вроде так получается, но посмотрим, что дальше будет, — может, просто отводит нас, следы путает.
— Навряд ли, Евтеюшко, погони-то она за собой не чуяла ишшо, вот разве сёдни, может, что-то заподозрила.
У подошвы сопки тигрица повернула вправо, долго шла вдоль склона, опять не обращая внимания на свежие следы кабанов и изюбров. Двигалась она по большому кругу, намереваясь, видимо, замкнуть его на своей тропе — так, по крайней мере, хотелось тигроловам. Это и случилось. Выйдя на тропу, тигрица легла, наверно, прислушиваясь к таежной тишине, и, не уловив ничего угрожающего, упруго поднялась и пошла дальше, наступая точно в свои старые следы.
«Напрасно кругаля дали, — с досадой подумал Павел, — ведь нас интересует не сама тигрица, а молодые тигры, значит, и надо именно их следами интересоваться. Впрочем, Савелий знает об этом гораздо лучше меня, просто азартный он не в меру. Вряд ли азарт — достоинство тигролова».
— Удвой внимание, Павелко, — тихо сказал Евтей. — И шибко не беги теперь, чтобы все были рядом. След-то, видишь, утренний уже. Внимательно за тропой смотри. Главное сейчас — не прозевать то место, от которого они от нас рысью пойдут, этот след должон быть горячий.
В голосе Евтея Павел уловил скрытую напряженность, а вскоре почувствовал, что и сам начинает волноваться до дрожи в теле. Нет, это был не страх. Павел не боялся предстоящей встречи с тигром, ведь он гораздо больше рисковал своей жизнью, когда встречался один на один с медведем; хотя, не будь риска, Павел и не стремился бы сделаться тигроловом. Именно риск и необычность промысла привлекают его. Ну а если же случится непредвиденное... что ж, Павел скорей умрет, но трусом не станет. Эта мысль успокоила его, дрожь ушла, и сердце стало биться ровней, но напряжение осталось, и холодок внутри тоже остался.
Тем временем тигриная тропа завела промысловиков в обширную котловину, заросшую перестойным ельником. Вся долина была перетоптана кабаньими следами — большой табун пасся на хвоще, который рос здесь густой щетиной, едва-едва прикрытой снегом. Следы были и старые, недельной давности, и свежие — ночные. Но опять тигрица, не обратив внимания на близость кабанов, продолжала идти своим курсом. «Значит, и правда где-то у нее близко давленина», — подумал Павел, стараясь проникнуть взглядом как можно глубже в чащу, но чаща все расступалась и расступалась, показывая совсем не то, что напряженно ожидал увидеть он. Но то, чего не могло пока увидеть зрение, пыталось рисовать воображение... А рисовалось все одно и то же: сумрак пихтового леса, мрачные нагромождения корневищ и валежин, утрамбованный снег, забрызганный кровью, на снегу растерзанный кабан или изюбр с обглоданными ребрами и над ним три огромные, испачканные кровью, кошачьи морды со злобными и горящими глазами... Почему-то казалось Павлу, что глаза у тигра именно злобные и горящие, как угли, ведь недаром же людская молва считает его самым опасным и кровожадным зверем.
— Павелко! Слышь, остановись-ка! — приглушенным голосом окликнул его Евтей. — Не беги шибко, вон Юдов с Николаем приотстали... — Евтей, усмиряя дыхание, внимательно ощупывал взглядом тигриную тропу и пересекающие ее кабаньи следы. — Вишь, кабанов тут сколько на хвоще собралось? Большой табун, его-то она и будет пасти теперь всю зиму. — Брови и борода Евтея заиндевели, на щеках и на носу поблескивали бисеринки пота. — Скоро уж придем к давленине. — Он взглянул на Барсика — пес, натянув поводок, пристально смотрел в чащу леса по ходу тигриной тропы, туда же смотрел и Амур. — Видишь, собаки насторожились?
— Чо стали? — тихо и тревожно спросил Савелий.
— Да ничо, просто вас поджидаем, и Павлу сказывал, чтобы тише шел, — должно, близко она уже. Скажи Николаю, чтобы карабин приготовил к стрельбе. Айда, Павелко!
И опять послышалось Калугину в голосе Евтея скрытое напряжение и волнение. Сердце Павла, сколько ни пытался он себя успокоить, вновь застучало громко и часто, нервы напряглись. Шел он небыстро, но дыхание почему-то все время перехватывало, как во время бега. Минут через десять такой напряженной ходьбы он увидел на тропе кроме попутного еще и встречный тигриный след. Он был еще теплый: собаки, понюхав его, вздыбили на загривках шерсть. Тигроловы понимающе переглянулись.
— Теперь, Павелко, поспешай! — тихо сказал Евтей. — Видно, тигра почуяла нас, вишь, приходила сюда узнать, в чем дело. Сейчас она может на давленине нас не дождаться, а сразу поведет от нее молодых, придется тогда на рысях за имя бежать.
«Вот оно, начинается!» — азартно подумал Павел, ринувшись по свежей звериной тропе. Но не успел он пройти и ста метров, как наткнулся на растерзанную чушку — она лежала у подошвы сопки на чистом месте посреди кабаньих троп и копанин. Весь снег вокруг был изъеложен и замусорен шерстью. Быстро обойдя давленину, охотники нашли выходные следы тигров, — они тянулись по старой кабаньей тропе вверх на сопку и были уже чуть-чуть подстывшие, — звери ушли отсюда минут пять тому назад.
— Эх-ма! Язви тя в душу! — тронув след рукой, с досадой выругался Савелий. — Увела, учуяла нас раньше времени. Ну, давай, давай, Павлуха! Чо стоишь? Быстрей иди по следу до первой лежки. Как прыжками от нас пойдут, так сразу стреляй! Понял, нет?
— Все понял, Савелий Макарович! — весело откликнулся Павел, вновь ринувшись по следу.
— Да не так шибко! — осадил его Евтей. — Торопиться торопись, да и нас не оставляй. На свежие чушечьи тропы ежели выйдет она — смотри, не потеряй ее следы, не давай ей оторваться от нас.
На середине склона тигры действительно вышли на свежие кабаньи тропы и долго петляли по ним, стараясь запутать свои следы, но Павел уверенно разбирался в них и вскоре вывел бригаду на снежную целину. Здесь тигры продолжали подниматься наискось по склону к вершине сопки — шаг их был по-прежнему спокоен. Но вскоре Павел заметил сбоку отпечаток передних лап. Тигрица оглядывалась назад и смотрела вниз по склону, раздраженно стегая хвостом.
«Ничего, ничего, голубушка, злись не злись, а мы от тебя не отстанем», — удовлетворенно подумал Павел.
Подниматься на гору, хотя и по неглубокому, но рыхлому, сыпучему, как песок, снегу было все трудней: котомка давила на плечи, тесным обручем сжимала грудь, затрудняя дыхание, горячий пот заливал лицо. Если потребовалось бы увеличить темп, Павел не смог бы этого сделать: он карабкался вверх по следу на пределе сил. Вначале идущие за ним тигроловы наступали ему на пятки, но вскоре стали отставать. Павел сбавил темп и сразу почувствовал облегчение. А тигриная тропа все тянулась и тянулась вверх, и казалось, что ей не будет конца... Однажды, оглянувшись, он увидел лицо Евтея: усы и борода его были мокрыми от пота, брови и шапка густо заиндевели, перекошенный от напряжения рот жадно глотал морозный воздух. Следом, низко опустив голову, точно старая вьючная лошадь, с отчаянным напряжением взбирался Савелий. «Мне тяжело, а как же они, старики, такие нагрузки выдерживают?» — удивленно подумал Павел, невольно замедляя темп.
— Пошто шаг сбавляешь? — сердито прохрипел Евтей. — Не сбавляй, не сбавляй! Гони ее, Павелко, гони! Покуда рысью не пойдет, гони...
— Давай, давай нажимай, Павлуха! Ишшо немного, и разбивать их будем, — азартно прохрипел Савелий.
По тому, что тигрица не обошла густой островок колючего элеутерококка, а прошла через него напролом, Павел сделал вывод, что она уже спешит оторваться от преследования — шаг ее сделался шире. Наконец под вершиной горы, в чистом дубняке, тигрица, прекратив подъем, пошла вдоль склона размашистой рысью. Тронув рукой след, Павел срывающимся от волнения голосом крикнул:
— Пошла! Пошла рысью от нас!
— Дак чо рот раззявил? — возмущенно затряс головой Савелий, удерживая за поводок встающего на дыбы Амура. — Чо рот раззявил?! Стреляй! Стреляй, тебе говорят! — Савелий суматошно замахал рукой, обернулся к Николаю, торопливо снимавшему из-за спины карабин, закричал и на него: — Стреляй! Стреляй быстрей! Как беременная баба копошится... не мог приготовиться зараньше?
— Да угомонись ты, отец! — огрызнулся Николай. — Вечно ты...
Но голос его утонул в грохоте выстрела. Быстро передергивая затвор, Павел выпустил в воздух всю обойму.
После выстрелов на несколько мгновений воцарилась звенящая тишина. Павел оглянулся на Евтея, не зная, что делать дальше.
— Беги по следу! — крикнул тот. — Стреляй на ходу!
— Беспрерывно по очереди стреляйте! — продолжал заполошенно взмахивать рукой Савелий, напирая на Евтея. — Чо стоите, мать вашу? Павлуха, беги по следу! Николай, стреляй! Стреляй, тебе говорят! Оглох, что ли?
Суматошное ли настроение Савелия передалось собакам, или вид убегающего по следу Павла смутил их, но только оба пса, взвившись на дыбы, подняли злобный лай и визг, и в это же время оглушительно загремели выстрелы Николая — он стрелял без пауз, звуки выстрелов сливались в сплошной гул, и Павел, успевший зарядить свой карабин новой обоймой, продолжил этот громоподобный гул. Затем наступила опять заминка, оба стрелка лихорадочно заряжали на ходу, но эхо выстрелов продолжало катиться над тайгой и сопками, и собаки за спиной у Павла злобно взвизгивали и лаяли, а Савелий хрипло, тяжело дыша, неугомонно кричал:
— Стреляйте! Стреляйте быстрей! Не давайте ей продыху!
Несколько раз выстрелил и Юдов, но звуки его гладкоствольного ружья по сравнению с выстрелами из ствола нарезного оказались негромкими хлопками, карабинные же выстрелы гремели, зловеще сотрясая ломкий морозный воздух. Казалось, будто гигантские плети безжалостно хлещут по гулким спинам сопок, похожих на оцепеневшее в страхе стадо мохнатых фантастических чудищ. Стреляя на бегу в воздух, Павел не забывал смотреть и под ноги, опасаясь споткнуться и сделать случайный выстрел. Не прошло, как показалось ему, и минуты, как пять обойм, лежащих у него в правом кармане, были расстреляны. Ствол карабина нагрелся, смазка на нем расплавилась и потекла на руки. «Ну и грохот подняли! — удивленно подумал Павел. — Услышит кто со стороны — испугается до смерти».
— Реже стреляй, Павелко, реже! — вклинился между выстрелов голос Евтея. — Экономь патроны!
— Пушшай стреляют, пушшай, пушшай! — азартно подбадривал Савелий.
— Да где пущай? Где пущай?! Все патроны расстреляет — чем другорядь тигру отпугивать станешь?
Расстреляв еще одну обойму, Павел увидел наконец раздвоенный след — тигрица крупной рысью пошла влево, а молодые резко повернули вправо, прямо вниз по склону, в пойму ключа.
— Евтей Макарович! Разбили! Разбили! — радостно сообщил он подбежавшему Евтею. — Вон она пошла в сторону...
— Хорошо, Павелко, молодец! — хрипло и тяжело дыша, проговорил Евтей. — Теперича пробеги по ее следу метров сто и выстрели вдогон ей раза три-четыре. Ежели след ее не повернет опять к молодым, тогда бегом напрямки возвращайся к нам. Мы за молодыми пойдем — догонишь нас, а ежели поворачивать она будет, тогда гони ее дальше и стреляй беспрерывно.
— Все понял, Евтей Макарович! — крикнул Павел и, не раздумывая, кинулся по следу тигрицы.
Сзади что-то напутственное прокричал Савелий, но голос его утонул в собачьем лае и визге; затем громыхнул выстрел, другой, третий — это стрелял Николай. Павел, приостановившись, тоже выстрелил, передернул затвор и, низко согнувшись под тяжестью рюкзака, обливаясь горячим потом, побежал дальше.
Миновав чистый дубовый склон, тигрица углубилась в густой сумрачный ельник и стала забирать вправо — ближе к молодым тиграм. «Неужели опять соединится с ними?» — забеспокоился Павел и выстрелил еще два раза. Справа внизу громыхнул выстрел Николая. Взбодрился Павел, чуть расслабился, но продолжал идти по следу, зорко шарить глазами по сторонам, а карабин держал так, чтобы удобно было вскинуть его в любой момент...
От быстрой ходьбы с тяжелым рюкзаком взмокла спина. Продираясь сквозь ельник, Павел наткнулся правой щекой на сучок, с досадой провел рукавицей по царапине, боли не почувствовал, но, увидев на рукавице кровь, с усмешкой подумал: «Вот тебе, тигролов Калугин, и первая рана, полученная в схватке с тиграми».
След тигрицы все круче забирал вправо. Внезапно впереди посветлело, еловый лес распахнулся и выпустил Павла на крутой склон, заросший кустами лещины. Тигрица, точно испугавшись чего-то, резко отвернула влево и зарысила вдоль границы ельника в вершину кедрового распадка.
— Пошла! Пошла! — радостно крикнул Павел и выстрелил по направлению следа два раза. И опять тотчас же справа снизу в ответ громыхнул третий выстрел, туда и побежал Калугин напрямик через кусты, то и дело оскользаясь на крутом склоне и падая на бок, рискуя кувыркнуться через голову и сломать себе шею.
Николай больше не стрелял, но Павел уже отчетливо слышал лай собак. Догнал он тигроловов в пойме ключа.
Евтей и Савелий с трудом удерживали рвущихся собак.
— Ну што, ушла тигра? — нетерпеливо спросил Савелий.
— Ушла, ушла, прямо вверх ушла, — растирая разгоряченное лицо снегом, устало проговорил Павел, намереваясь присесть на корточки, чтобы унять дыхание и хотя бы чуть-чуть отдохнуть.
Но Савелий, радостно осклабившись, кивнул Николаю:
— Ну-ко, сынок, стрельни ишшо два разика, нагони собачкам азарту. — И, наклонившись к Амуру, отстегнул ошейник.
После выстрелов собаки, отпущенные тигроловами, обгоняя друг друга, молча умчались в чащу, и промысловики один за другим ринулись вниз по тигриному следу. Павел бежал последним, вслед за Юдовым, но вскоре Юдов начал отставать, отрываясь от Николая, и Павел обогнал Юдова, затем обогнал и Николая, Савелия, Евтея и, вырвавшись вперед, удивился тому, что смог не только преодолеть свою недавнюю неимоверную усталость, но и опередить всех. И все же усталость брала свое. Нельзя же бежать за тиграми бесконечно... Проклятый рюкзак! Он давит на плечи, точно скала, и одежда — как свинцовый скафандр — жарко, душно и тесно в ней, содрать бы ее и помчаться дальше в чем мать родила...
— Чуток притормози, Павелко, шибко бегишь! — хриплым задыхающимся голосом окликнул Евтей. — Не отстраняйся далеко, видишь, Юдов отстал?
— С этим Юдовым ишшо! — выругался Савелий. — Юдов! Мать твою! По готовой тропе неужто шибче не могёшь? Шибче беги, не то тигрица тебе задницу надерет! Заднего-то она и ловит завсегда! — И замахал нетерпеливо Павлу: — Беги, беги, Павлуха!
Несколько раз оглянувшись на бегу, Павел увидел, что угроза подействовала: трусоватый Юдов теперь бежал между Николаем и Савелием.
— Стой, Павелко! Стой! — Голос Евтея очень кстати. Сердце в груди бухает молотом — в самый раз успокоить его хоть на минуту, хоть на мгновение.
Подкинув на спине рюкзак, широко расставив ноги и согнувшись, Павел, не теряя драгоценных мгновений, отдыхает, вопросительно поглядывая на подбегающих тигроловов.
Подбежав, те тоже несколько мгновений стояли, низко согнувшись, усмиряя дыхание, растирая снегом потные, разгоряченные лица. Евтей, сдернув с головы шапку, прислушался, неуверенно сказал:
— Кажись, лают...
Павел тоже снял шапку и прислушался. Тихо, монотонно шумела тайга, гулко бухало в груди сердце, отдаваясь в висках тонким пульсирующим звоном; еще слышал Павел дыхание рядом стоящего Евтея, но больше никаких звуков уловить не мог.
— Не слышно лая, Евтей Макарович, показалось вам, должно быть.
— Ага! Есть лай! — обрадованно встрепенулся Савелий. — Лают, лают, сердешные!
И сразу лай услышали все тигроловы.
— Держут! Держут, сердешные! — Савелий торопливо нахлобучил шапку, тревожно сказал, обращаясь к Павлу: — Поспешать надобно, как бы тигра собак не покалечила. Устал впереди? Давай подменю тебя...
— Не устал, пустяки! — отмахнулся Павел, стараясь придать голосу как можно больше бодрости, и, видно, удалось ему это, потому что Савелий, одобрительно кивая, обернулся к Николаю и сказал восхищенно:
— Видал, каков? А ты говорил: сломается, не выдюжит. Давай, Павлуха, ишшо поднажми — экзамент твой ишшо продолжается!
Судя по тому, что лай раздавался все на одном месте, собаки держали зверя крепко. Тигроловы бежали по чистому дубовому склону, но там, где лаяли собаки, темной стеной стоял пихтовый лес. У границы пихтарника Евтей зычным голосом остановил бригаду:
— Стойте! Стойте, ребятки! Там, в пихтаче, рогульки мы не найдем, надо здесь их вырубить!
— Ох ты. В сам деле, Евтеюшко! — спохватился Савелий и, проворно сбросив котомку, развязал ее. Вытащив топор, подбежал к тонкому, с раздвоенной вершинкой ясеню и начал немедля, с остервенением рубить его. Через несколько ударов ясенек дрогнул, наклонился и, тонко заскрипев, упал в снег. На все это ушло у Савелия на более минуты. Затем, отрубив от начала развилки полуметровое древко в руку толщиной, бригадир ловко, двумя взмахами, отсек правую и левую части развилки, острые косые срезы еще двумя ударами затупил, чтобы, не дай бог, не поранить тигра, не выткнуть глаз ему острым концом развилины. Удовлетворенно осмотрев рогатину, Савелий кинул ее под ноги Юдову:
— Держи, паря! Вот тебе рогулина...
— Это мне? — Юдов поднял рогатину, недоверчиво и со страхом посмотрел на нее, крикнул убегающему к следующему деревцу Савелию: — Не коротко ли вы обрубили ее, Савелий Макарович? Больно мала она!
— В самый раз, паря, в самый раз! — отмахнулся Савелий, высматривая в вершине деревца следующую рогатину. — Ты думал, чем длиньше рогулина, тем безопасней к тигру подступаться? Шалишь — все наоборот!
Павел, тож срубивший к этому времени рогатину, услышав последние слова Савелия и глянув на рогатину Юдова, поспешно укоротил древко своей на целый метр.
— Мало, мало отрубил, Павелко! — насмешливо заметил Евтей, волоча мимо него увесистую дубовую рогатину. — Вершка два-три можешь смело еще отрубить. Черенок от вилашки, я ведь говорил тебе уже, не должен быть более одного маха на две руки. С длинной-то рогулей в кустах не развернешься, запутаешься, да и тигра удерживать потом сподручней будет, когда грудью на торец черенка надавишь...
Измерив черенок, Павел обнаружил, что он действительно длиннее, чем нужно, но отрубить целых полметра не поднималась рука, и, повернувшись к Евтею спиной, он сделал видимость, будто отрубает весь лишний полуметровый кусок древка, в действительности же отрубил не более вершка и, довольный этим, побежал к своему рюкзаку.
А собаки между тем, вероятно, заслышав стук топоров, залаяли смелей и настырней. Бросив след, Павел бежал теперь прямо на лай, и, чем ближе он приближался к нему, тем сильней нарастало в нем желание увидеть тигра. Ни прежнего страха, ни волнения он уже не испытывал. Он бежал на собачий лай с азартом охотника, думая только о том, чтобы настигнуть добычу, не упустить ее... Тяжелая рогатина мешает бежать — цепляется за кусты, за нижние ветви деревьев. Собаки лают совсем уже близко. Надобно еще пробежать вон тот затекший наледью ручеек, затем полянку к бурелому — а там, должно быть, и прячется тигр. «Скорей, скорей к нему! Держите его, собачки, держите, родимые! И совсем оно не страшно», — с легким даже разочарованием подумал Павел.
Но едва лишь успел он так подумать, как в следующее мгновение из-за бурелома, словно раскалывая землю на две половины, раздался громоподобный рык, от которого у Павла внутри все наполнилось холодом, ноги сделались неимоверно тяжелыми. Невольно замедлив бег, Калугин растерянно оглянулся на Евтея. Тот бежал с рогатиной на плече, низко опустив голову и, казалось, вовсе не обратил внимания на тигриный рык. Через минуту рык повторился, затем раздался истошный визг Барсика, басисто взлаял Амур, и все смолкло.
— Стой, Павелко! Подожди, не лезь в бурелом, — предостерегающе окликнул Евтей. — Кажись, Барсику нашему каюк... Изловил его...
Вновь раскатисто и жутко рявкнул тигр, коротко, испуганно пролаял Амур, где-то в стороне от него опять взвизгнул Барсик, и снова все заглушил леденящий душу рык. Тигроловы нерешительно остановились перед буреломом. Зверь теперь уже рявкал в буреломе непрерывно. Рычание его раздавалось то в одном месте, то в другом, так же в разных местах взлаивал и Амур: голос его был то злобным, то испуганным, но вот к нему присоединился обиженно повизгивающий голос Барсика. Видно, тигр гонялся за собаками.
— Ну, слава богу! — обрадовался Евтей. — Вроде жив Барсик.
Сняв рогатину с плеча и выставив ее перед собой, примериваясь к ней, Николай вопросительно глянул на разглядывающего бурелом Евтея.
— По-моему, там вовсе не тигренок, дядюшка, — сама тигрица. Очень уж голос басистый.
— Похоже, что сама и есть, — тоже напряженно вглядываясь в бурелом, неуверенно проговорил Савелий.
Николай тревожно посмотрел на отца, беспокойно оглянулся, тронул рукой приклад висящего за спиной карабина.
— Больно зычно и злобно рявкает, — продолжал рассуждать Савелий. — Индо мороз по спине! Неужто подвернула она к собакам? Как думаешь, Евтеюшко?
— Я думаю — не она, — уверенно тряхнул головой Евтей, продолжая изучающе оглядывать местность. — Если б тигрица там была, то давно бы она собак изничтожила. Молодой там, молодой — шуму много, дела нету! Просто басовитый, черт! Но все одно, в бурелом нам к нему не резон подлезать, попробуем обойти... А вы, ребята, — Евтей обернулся к Павлу, — как только выйдем к нему и он на нас прыжками пойдет, сразу рюкзаки на землю и плечо к плечу становись, рогатины крепче держать, чтобы лапой не выбил. — Он перевел строгий взгляд на Юдова: — И не дай бог кто из вас за спину спрячется!..
— А если, дядюшка, это все-таки тигрица — что делать будем?
— Что делать, что делать! — направляясь в обход бурелома, сердито сказал Евтей. — Раньше мы всяких ловили: и больших, и малых, кого собаки задержут, того и ловили. Ежели тигрица окажется, пойдем на нее — вот тебе и сказ весь! Не оставлять же собак ей на съеденье.
— Само подходящее для спору время выбрали, — ворчливо заметил Савелий.
Павел попытался обогнать Евтея, но тот молча указал рукой сзади себя. Сам же быстро и решительно обходил бурелом, одобрительно кивая каждому тигриному рыку, точно это был не грозный звериный голос, а приятная соловьиная трель...
Павел не то чтобы испугался — просто все в нем до последней малой жилочки словно перевернулось и тревожно напряглось. Этот жуткий леденящий рык точно взрывом разметал-рассеял прежний Павлов азарт — одна только мысль стучала теперь: «Не струсить! Не подвести Евтея!» И, повинуясь этой мысли, он готов был бежать сейчас за Евтеем хоть в жерло вулкана...
Вот опять отчаянно взвизгнула собака — на этот раз это голос Амура, — зацепил тигр, видно, и его. Отвлекая внимание зверя на себя, злобно залаял Барсик. Лай собак, рычание тигра, тяжелое дыхание бегущих через бурелом охотников, бородатые сосредоточенные их лица, массивные кривые рогатины на плечах, темный лес, мертво лежащие на земле валежины, пауками вздыбленные и застывшие выворотни — все это мгновенно отпечаталось и накрепко вошло в сознание Калугина чрезвычайно напряженной, угнетающей, но вместе с тем и чем-то необъяснимо притягательной картиной, — так бывает, вероятно, когда идешь по краю пропасти — и страшно, и хочется заглянуть в нее...
Обойдя наконец бурелом и выбравшись на чистую прогалину, охотники увидели стоящего там тигра; метрах в пяти от него, нервно дергая хвостом, злобно лаял Барсик — весь бок его был в крови. Амур лежал сзади зверя и тоже лаял, но не злобно, а скорей обиженно, с подвывом и повизгиванием, точно жаловался. Барсик, не переставая лаять, медленно и осторожно подступал к рычащему зверю. Оглушительно рявкнув, тигр метнулся на собаку, но Барсик, мгновенно отскочив, стремглав пустился прочь, а сзади ловил уже длинный тигриный хвост Амур. Круто развернувшись, тигр с ревом бросился ловить Амура, но тот уже стоял далеко в стороне и готов был отбежать еще дальше. Тем временем Барсик, сделав полукруг, вернулся на прежнее место. Эту слаженную работу собак Павел, несмотря на свое крайнее волнение, тоже успел отметить. Но дальше все замелькало с быстротой неудержимой: тигр, повернув голову, коротко, с какой-то особенной злостью рявкнул и, задрав хвост, помчался вдруг галопом, но не на собаку, а на приближающихся к нему людей.
— Сымай котомки! Становись рядком! — властно скомандовал Евтей, освобождаясь от котомки и выступая вперед с рогатиной наперевес.
Вмиг сняв рюкзак и перекинув карабин с плеча за спину, Павел оказался рядом с Евтеем. Еще мгновение — и близко с Павловой рогатиной выставили свои Савелий и Николай. Краем глаза Павел попытался увидеть пятую рогатину, но ее не было ни справа, ни слева...
Ловким движением Евтей набросил на конец своей рогатины пустой дерюжный мешок. А тигр между тем, не обращая внимания на наседавших сзади собак, стремительно надвигался — неукротимый и зловещий. Все ближе! Ближе! Ближе! Вот уже видны его злые глаза, оскаленная пасть и прижатые к затылку уши.
— Держись, ребята! На прыжок идет! Я его отвлеку, а вы не зевайте, — прозвучал твердый и спокойный голос Евтея.
— Здоровый, черт! — заметил Савелий.
— Старайся, Павелко, на бок его сбить, когда он мешком отвлечется. Да не лезь вперед! Я приму его на себя, потом уж кидайся и ты.
— Крепко упрись, Евтеюшко, на тебя, на тебя идет! Не зевай, ребяты! Ишшо, ишшо подпусти его, Евтеюшко!
Потому ли, что Евтей стоял крайним и чуть впереди остальных, по другой ли причине, но, Павел это ясно видел, тигр бежал прямо на него, именно его злобно прожигал глазами, именно на него готов был обрушить всю свою накопившуюся ярость и силу...
Евтей стоит не шелохнувшись, выставив перед собой рогатину, чуть согнулся, напружинился, не сводя глаз с оскаленной тигриной морды, ждет какого-то особого момента. Перед самой рогатиной тигр резко затормозил всеми четырьмя лапами, широко распахнув пасть, оглушительно рявкнул, присел, собираясь прыгнуть, и в это же мгновение Евтей толкнул рогатину с висящим на ней мешком прямо в тигриную морду, но зверь с непостижимой быстротой и ловкостью перехватил лапами мешок и рогатину.
— Нава-ли-ись!! — истошно закричал Евтей, пытаясь вырвать рогатину.
Но, прежде чем раздался крик Евтея, Павел уже выцелил тигра и, чуть присев, вложил в рогатину всю силу ног, рук и корпуса, толкнул рогатину в тигриную шею и, к своему удивлению, увидел, как зверь легко опрокинулся на бок, замахав лапами, дико вращая глазами, клокоча и хрипя оскаленной красной пастью, попытался вывернуться и легко бы это сделал — Павел это сразу почувствовал и потому закричал с отчаянием:
— Навались! Увернется сейчас, увернется-а!!
— Доржи, Павлуха! Доржи! — откликнулся Савелий словно бы откуда-то издалека, но вдруг оказался рядом, и толстая ясеневая его рогулина обхватила и придавила к земле могучую тигриную грудь, а с другой стороны осторожно уже обхватывала и удерживала тигриный пах рогулька Николая. Евтей, вырвав наконец свою рогатину из звериных лап, придавил ею живот тигра. Тигр глухо рявкал, хрипел и отчаянно извивался, пытаясь сбросить с себя обхватившие и придавившие его рогатины.
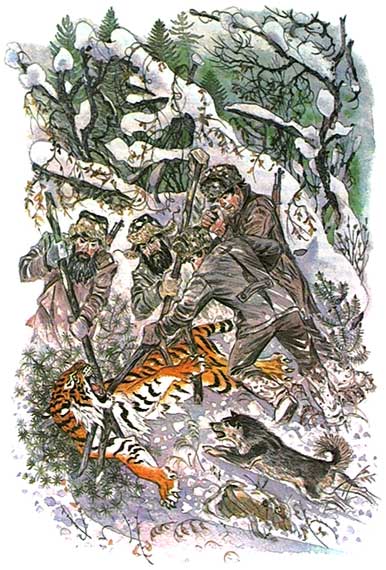
«Но где же пятая рогатина? Их ведь пять должно быть», — недоуменно подумал Павел и, оглянувшись, увидел за своей спиной Юдова; в одной руке у него было ружье, в другой — рогатина.
— Юдов! Ты что стоишь, как в штаны наложил? — негодующе крикнул Павел, изо всей силы стараясь не дать тигру просунуть лапу в развилку рогатины. — Паразит такой... А ну помогай быстрей! Чтоб тебя... Помогай, говорю!!
Тигр уже просунул лапу в развилку рогатины и легко, будто между прочим, как ни упирался Павел, оттолкнул ее и, освободив шею, яростно зарычав, попытался схватить клыкастой пастью Евтея за ногу, но тот вовремя убрал ее.
— Юдов!! Мать твою... Оглох ты?! — гневно закричал Савелий, тоже с трудом удерживающий свою рогатину. — Брось ружье! Брось ружье, тебе говорят! К Павлу на помощь! Придавите ему шею скорей! Ох, мать вашу — сейчас извернется!
Павел вырвал рогатину и вновь придавил тигриную шею, но неудачно — тигр теперь уже заученным движением точно и быстро просунул лапу в зазор развилки, но в это время рогатина Юдова, меньшая по размерам, плотно обхватила горло и прижала его к земле. Почувствовав силу пяти рогатин, тигр, как показалось Павлу, сразу расслабился и посмотрел на обступивших его двуногих существ с удивлением и с паническим страхом. Но это длилось лишь несколько мгновений, и вот уже Павел почувствовал, как сжались и напряглись под рогатиной мышцы зверя, круглые янтарные глаза с зеленовато-карими зрачками дико завращались, заворочались и, наконец, вылезши из орбит, застыли, распираемые изнутри клокочущей дикой яростью.
— Ребятки! Крепше рогули держите! — тревожно предупредил Савелий. — Сейчас буйствовать начнет... Николай! Отпихни Амура — вишь, куснуть подкрадуется — озлит тигра чертов пес! Пни! Пни его...
Николай обернулся, собираясь отпихнуть ногой Амура, но тот, словно почувствовав это, торопливо, воровски куснул тигра за крестец и тотчас отскочил далеко в сторону. Тигр словно этого укуса и ждал: злобно рявкнув приглушенным горлом, вздрогнул, сжался и, с силой распрямившись, хрипло, яростно рыча, завозился, изгибаясь и водя тигроловов из стороны в сторону, замахал широченными лапами, увенчанными круто загнутыми, как стальные крючья, когтями, тщетно царапая мерзлое дерево рогатин. Прошло, вероятно, немало времени, прежде чем тигр опять успокоился. От напряжения у Павла совершенно онемели пальцы, сжимавшие древко рогатины, но зверь все продолжал извиваться, оглушительно рявкая. Наконец, сообразив, что ему не удастся ни сбросить с себя эти жестокие деревянные лапы обступивших его страшных существ, ни дотянуться когтями до их живого, дурно пахнущего мяса, тигр изо всей силы стал выкручиваться со спины на бок.
— Навались! Не давай ему на лапы подняться! Не удержим тогда, — забеспокоился Евтей и распорядился решительно: — Ты, Юдов, передай свою рогатину Павлу. Да не отрывай ты ее от шеи! — вскричал он испуганно и возмущенно. — Черенок ему свой передвинь — он его примет и будет держать шею вместо тебя, а рогатину Павла ты вынь да вставь к Савелию поближе — грудь надо крепше держать, чтобы на бок он не перевернулся. Понял, нет теперь? Вот так, правильно... А ты, Павелко, не дави, не дави так шибко! Рогатина тесная — вишь, как шею ему сразу придушил. Силу, что ль, не чувствуешь?
Наконец, измучив охотников и себя, тигр, расслабив мышцы, притих, перестал рявкать, но не сдался совсем, дрожа всем телом, притаился выжидательно, клокоча горлом, как притухший после извержения вулкан, без прежней бешеной ярости, но с какой-то словно бы осознанной расчетливостью стал внимательно следить за действиями своих врагов. Разглядывая глаза поверженного тигра, Павел поразился той сложной гамме чувств, кои неуловимо источались из их янтарной прозрачности.
— Ну, кажись, малость утихомирился, сердешный, — удовлетворенно сказал Савелий. — Не пора ли мне, Евтеюшко, вязать его?
— Сейчас проверим. — Евтей несколько раз подряд сильно надавил на рогатину. Тигр зарычал громче, злей, выпустил когти-крючья, чуть напрягся, но тут же и расслабился. Через минуту, вновь тщетно попытавшись разозлить тигра, Евтей кивнул, Савелию: — Давай, брательник, приступай!
Савелий, нетерпеливо ожидавший этого кивка, тотчас передал свою рогатину Николаю, снял из-за плеч тощий мешок, развязал веревки. По тому, каким сосредоточенным и серьезным было выражение лица Савелия, и по тому, как тщательно и в то же время с нервозной торопливостью он разбирал вязки, Павел сделал вывод, что процесс связывания не так уж прост и безопасен, как он это предполагал.
— Сейчас, Павелко, само ответственно дело пойдет, — словно прочтя его мысли, сказал Евтей. — Чуть прозеваешь, не углядишь — он тебя когтищами за нос и ухватит... Аккуратность тут нужна. Смотри — запоминай, как Савелий управляться будет с этим делом. Главное — неторопко вязать, но и не мешкать... — И, вспомнив о чем-то, вдруг осекся, нахмурился, посмотрел на Юдова: — А ты, паря, почему у нас за спинами остался, да еще с ружьем? Почему рогатиной, как все, не работал?
— Так я ведь, Евтей Макарович, думал, что надо одному с ружьем остаться — на всякий случай, — искренне и убежденно проговорил Юдов. — Для подстраховки я стоял...
— Вот оно что... «Для подстраховки»... — усмехнулся Евтей. — Ну-ну... Ангел-телохранитель...
— Да хватит тебе, дядюшка, парня смущать! — заступился за Юдова Николай. — С кем не бывает конфуза? Намеренья-то у него действительно были самые добрые, если разобраться по существу.
— Ну, ежели по существу, тогда конешно! — насмешливо сказал Евтей и, заметив, что Амур опять подкрадывается к тигру, топнув ногой, крикнул: — Амур! Нельзя!
От крика человеческого или от близости собаки тигр угрожающе зарявкал, заворочался, попытался вывернуться, но охотники сильней навалились на рогатины, и зверь вскоре успокоился, ровно и угрожающе заклокотал горлом, продолжая внимательно следить глазами за всем, что происходит.
Связывал Савелий тигра, как показалось Павлу, утомительно долго и излишне осторожно, словно мину обезвреживал, а было все просто: вначале бригадир набросил веревку с петлей на одну переднюю лапу зверя, затянув ее, он передал конец веревки Николаю, тот, изо всей силы натянув веревку, обмотал ее вокруг древка своей рогатины. Затем точно так же Савелий поступил и со второй передней лапой, но конец этой веревки передал уже Евтею, и Евтей, как Николай, обкрутил ее вокруг своей рогатины. Вырывая из веревочной петли лапу, тигр вместе с веревкой тянул на себя рогатину — выходило так, что он сам же себя давил двумя рогатинами и удерживал.
С большой осторожностью связав сначала передние, а затем и задние лапы и крепко стянув их веревкой друг к другу, пара к паре, Савелий выпрямился, взявшись рукой за поясницу, болезненно сморщился:
— Проклятущий радикулит! Как постою в наклон, так и деревенеет спина — хушь ты что! — Лошкарев старался говорить сердито, но глаза его при этом удовлетворительно смотрели на связанного зверя. — Ну-ну, порявкай мне ишшо, сейчас мы тебе, голубчик, пасть твою закроем... — Савелий вынул из кармана кусок обыкновенной бельевой веревки метровой длины, подошел к оскаленной морде тигра. — Ну, давай, Евтеюшко, с богом, ишшо одно дело сделам.
Евтей молча кивнул, отдал древко своей рогатины Павлу, подошел к тигру с затылка, встал на колени. Зверь беспокойно завертел головой, зарявкал, одновременно следя глазами и за Евтеем, и за Савелием. Бригадир, наклонившись над оскаленной тигриной мордой, приблизил к ней пустую рукавицу. Тигр, выпустив из внимания стоящего сзади человека, поднял голову, рванулся к рукавице, — этого и ждал Евтей. В ту же секунду крепко схватил он зверя снизу за уши. Такое бесцеремонное обхождение тигру чрезвычайно не понравилось. Он отчаянно задергался, яростно зарявкал, пытаясь вывернуть голову и схватить человека за руку, но тот держал его за уши жестко и цепко. Сломив тонкий прутик, Савелий сунул его торцом в распахнутую пасть, тигр тотчас закусил этот прутик.
— Ну вот, я же говорил, что закроем тебе пасть. — Савелий подергал прутик. Тигр глухо заурчал и еще крепче сжал челюсти. — Во-во, ишшо малость пофырчи. Ну-ко, Павлуха, одной рукой прутик держи, другой рогулю не выпускай, да прутик-то пошевеливай, потеребливай, а то он отплюнет его, да пасть свою опять раззявит. — Передав прутик, Савелий ловко обкрутил вокруг тигриной морды веревку, крепко затянул ее вначале на один, потом на другой узел, обвел длинный конец веревки вокруг тигриного затылка, продернул конец ее через специально оставленную возле левой губы петлю, затем туго натянул этот конец веревки и накрепко бантиком связал его с другим концом на зверином затылке — получился тугой намордник. В наморднике тигр потерял свой царственный, леденящий кровь голос, а только приглушенно рокотал и фыркал ноздрями, и в глазах его, напряженно вытаращенных, уже не было прежней ярости и взрывной затаенной силы, а угадывались только страх и желание свободы. Странно было видеть Павлу царя зверей в такой неприглядной, униженной позе; кроме гордости и торжества, Павел испытывал еще и чувство вины перед ним.
А Савелий между тем уже развернул большой рогожный мешок и подсунул его под тигриный зад. Убрав рогатины, охотники приподняли извивающегося тигра руками и стали заталкивать в мешок. Мешок хотя и был огромный, нестандартный, но зверь был больше мешка в два раза.
— Куда же мы его пихаем? Он же не влезет сюда... — засомневался Павел.
— Ишшо чего! Влезет, влезет, Павлуха, — изо всей силы надавливая руками на тигриный затылок, уверенно проговорил Савелий.
И точно, сколько ни упирался зверь, а мужики все же бесцеремонно затолкали его в мешок и, собрав над затылком рогожу, накрепко привязали к ней заплечные ремни.
— Не задохнется он там? — опять забеспокоился Павел.
— Да не бойся ты, — снисходительным тоном успокоил Николай. — Мешок ведь редкий, как решето, хватит ему воздуху. А то, что тесно ему, так это на пользу, иначе, дай свободу в мешке, он такие кренделя начнет выделывать — разорвет и вязки, и мешок.
— Кошка, она и есть кошка, — укладывая на бок вздрагивающий, рявкающий куль, многозначительно проговорил Савелий. — Эта кошачья порода гибкая, не то что собака или другая какая живность. Взять, к примеру, рукавицу вот эту. В энту рукавицу я тебе любого кота запихаю, а попробуй запихай в нее такого же размеру собачку!
— Запихашь, не запихашь, — ворчливо передразнил Евтей. — Собак скорей ловите, как бы за другим тигром не увязались, да быстрей пойдем на ключ — надо еще успеть отабориться засветло.
Быстро собрав разбросанные рюкзаки, мужики стали решать, кому первому нести мешок с тигром.
— Килограммов восемьдесят, пожалуй, будет, — приподняв мешок, уныло проговорил Николай.
— Да, не меньше пяти пудов, — согласился Евтей, с усмешкой поглядывая на топтавшегося в стороне Юдова, успевшего уже вскинуть на плечи свой тощий пионерский рюкзачишко.
— А может, Евтеюшко, стяжок вырубим да понесем его на стежке по двое? — неуверенно предложил Савелий.
— Ну уж нет, брательничек, на жерди-то этой будет он раскачиваться, как маятник, и тебя за собой водить. Идешь как пьяный — не ходьба это! Забыл, как в прошлом году тащили на жерди такого кота? Сам же матюгался...
— Так-то оно так, Евтеюшко, в мешке сподручней, конечно... — Савелий болезненно поморщился, удрученно вздохнул: — А все ж и в мешке тоже не малина, ташшить ведь его надо, окаянного...
— Давайте я первый его понесу, — предложил Павел.
— Погоди, охолонись пока, — остановил его Евтей. — Первый вот потащит Николай, пример вам с Юдовым покажет. Как устанет он, так Юдов спину подставляй, затем уж ты, Павлуха, свою удаль покажешь — вот и пойдет у нас дело кругом. — Евтей лукаво подмигнул брату: — Молодым — дорогу, старикам — почет! Ну-ко, подставляй-ка, племянничек, спину, сейчас мы с Павлухой навьючим на тебя.
Мешок оказался таким тяжелым, что Николай, сделав несколько неуверенных шагов, попросил вырубить палку-посох. Тигр продолжал глухо урчать и дергаться, и после каждого дергания его Николая либо бросало в сторону от тропы, либо толкало по ходу вперед. Пройдя с полкилометра, Николай попросил замену.
Юдов подставлял спину с таким видом, словно тигроловы собирались бить по ней палками. Хватило Юдова шагов на двести. Павел подставлял спину под мешок не без волнения, боясь оказаться слабей Николая. Но, пройдя с грузом несколько шагов, успокоился — такой вес приходилось ему нашивать множество раз, особенно на заготовке брусники. Очень часто там он приносил на приемный пункт не как другие, по пять-шесть ведер ягоды, а сразу десяток. Правда, тот груз все больше под гору носить приходилось и не дальше трех-четырех километров, этот же груз ворочается и дергается за спиной, и надобно идти не по твердой земле, а по рыхлым следам в снегу. Да и зимняя одежда пудовым привеском к телу прильнула, вольно не расшатаешься. И все же, если поднатужиться, можно пронести этот груз, если и не три километра, то уж два наверняка, а там передохнуть немного и дальше продвинуться.
— Не устал, Павелко? Давай подменим, — приостановившись, спросил Евтей.
— Нет-нет, рано еще. Вы мне след пробивайте. Как устану — сам скажу.
— Не мешай ему, дядюшка, рекорд ставить, — насмешливо сказал Николай. — Он сейчас поставил своей целью перекрыть мое расстояние в два раза.
— Не распаляй ты парня, — с притворной строгостью одернул Николая Савелий. — Ишшо и взаправду распалится и будет ташшить этого тигра до упаду, а нам потом придется обоих вытаскивать. — Последние слова бригадир произнес с явной насмешкой.
Павел обиженно опустил голову.
Через километр мужики стали с любопытством оглядываться на него. Парень устал, лямки мешка нестерпимо давили на плечи, но, ловя на себе любопытные взгляды, он упрямо, с какою-то даже злостью напрягал мышцы и шел, не отставая от тигроловов, нарочито твердым, пружинистым шагом. Наконец Савелий, не выдержав, приостановился, удивленно спросил:
— Неужто не устал ишшо? Давай подменим...
— Вы мне тропу бейте, устану — скажу! — сердито отмахнулся Павел и, спохватившись, добавил мягче: — Не беспокойтесь, Савелий Макарович, выше головы не прыгну.
Николай, шедший впереди, вначале тоже оглядывался на Павла, но вскоре перестал, пошел по целику быстрей, вероятно надеясь на то, что Павел не выдержит высокого темпа ходьбы и попросит замену. Но Калугин все не отставал, а тут и место открылось для табора такое, что лучше не придумаешь: и ровные сухие кедрины для нодьи, и молодой пихтач для сруба рядышком, и незамерзающий родник в двадцати шагах.
Помогая Павлу снимать мешок, Евтей, кивая на Николая, одобрительно шепнул:
— Молодец, Павелко! Крепко ты ему досадил. Так и дальше действуй — ничо-о, это им обоим на пользу, может, спеси поубавится.
Чтобы разгоряченный в мешке тигр не застудился, набросали на снег пихтовых веток, на ветки и уклали мешок. Нодью построили и зажгли уже в сумерках. Сруб для тигра ладили при свете костра и нодьи, и лишь в полночь развязали и выпустили в него зверя. Верх сруба завалили в два слоя толстыми бревнами. Предстоящая процедура пересадки тигра в сруб беспокоила Павла, он предполагал, что это дело сложное и трудное, что опять потребуется прижимать зверя рогатинами, опять он будет злобно рявкать, но оказалось все чрезвычайно просто: в углу мешка распороли сантиметров на двадцать шов. Евтей через образовавшуюся дыру засунул руки и ощупью спокойно развязал с тигриных лап матерчатые вязки. Затем он привязал к наморднику шнур, протянул конец его через дыру, тотчас же дыру тигроловы прикрыли руками, затем осторожно развязали верх мешка, и так же ощупью развязал Евтей на тигрином затылке концы намордника. Теперь осталось сдернуть намордник — для этой цели и была, оказывается, пропущена через дыру в углу мешка веревочка. Стоило потянуть за нее — и намордник снялся. Во время всех этих манипуляций тигр только глухо урчал, но не пытался ни укусить, ни царапнуть Евтея за руку, как этого ожидал Павел.
— Пока тигр в мешке и не видит света — делай с ним что хошь, — объяснял Евтей, — хоть когти ему там стриги, главное, чтобы свет к нему не попадал. Ну и руку, конечно, в пасть не суй — откусит! Если же он, когда ты его развязываешь, невзначай вонзит в твою ладонь коготь, постарайся не дергать рукой, а жди терпеливо, когда он сам вытянет его.
Затем тигра подняли на сруб, убрав с него два бревна, сунули мешок в образовавшийся проем и вытряхнули зверя. Пока тигр озирался, соображал, где он и что с ним, мужики вставили бревна на свое место да еще и придавили их сверху для надежности валежником. Сруб был небольшой — метра два в длину и метра полтора в ширину, высота — чуть больше тигриной холки; если делать сруб выше, зверь встанет на задние лапы, а передними разбросает бревна потолка. Все просто. Но не сразу дошли Лошкаревы до этой простоты. Много было, особенно в первые годы, неудач и срывов...
Привязав собак около сруба, промысловики, совершенно обессиленные, наскоро поужинав, улеглись вокруг ровно горевшей нодьи. Спали беспокойно. Ночью то и дело рявкал в срубе тигр, собаки поднимали лай. Проснулись задолго до рассвета. Павел чувствовал себя совершенно разбитым, тело его болело, точно побитое. С трудом поднявшись на ноги, отойдя от нодьи, он растер лицо и шею снегом. Стало немного легче. Завтракали торопливо, с таким видом, точно опаздывали куда-то.
«Вот чудаки, — недовольно подумал Павел. — Полчаса раньше, полчаса позже — какая разница? Уж нынче поспать-то можно было подольше...»
На рассвете, оставив Юдова у нодьи караулить пойманного тигра, вышли на поиски второго.
— Ежели тигра сёдни ночью не увела его, должон крутиться он где-то тут, неподалеку, — размышлял Савелий. — Даст бог — скрутим и второго, а там недельку ишшо с зообазой проваландаемся, придем домой, в баньке как след попаримся и айда на соболевку опять...
— Погоди соболевать да баниться, — сердито остановил брата Евтей. — Не говори гоп, пока не перепрыгнул. В сам деле, возьмет мамаша и уведет его сёдни ночью. Видал, как вчера она неохотно от молодых отбивалась? Преданная! Чего хошь от нее жди — любого сюрпризу.
Как в воду смотрел Евтей: тигрица действительно отыскала ночью своего детеныша и повела его рысью в сторону дубовской пасеки. Пройдя по следу километров пять и убедившись, что тигрица не намерена менять своего курса, бригада остановилась.
— Все! Теперича она постарается увести его как можно дальше, — с досадой сказал Евтей, обращаясь к Павлу. — Оставит его там-отко где-нибудь в глухом укромном месте, а сама завтра около сруба появится, второго зачнет выручать... — Он повернулся к удрученно стоящему Савелию. — Юдова одного у сруба оставлять нельзя: кто знает, сколько мы за этим тигром пробегаем, да и продуктов у нас немного... Разумней так сделать: вернемся сейчас к нодье, спилим оставшиеся три кедрины на бревна, чтобы три-четыре нодьи из них вышло, поставим их вокруг сруба. Потом вы все пойдете на пасеку, а я останусь караулить. На пасеке Юдов пущай возьмет продуктов и дует ко мне — вдвоем-то мы по очереди дежурить будем, отобьемся от тигрицы, ежели станет к срубу подступаться. Ну а вы втроем тем временем второго изловите. Юдов-то все одно не помощник для вас — обуза одна. — Евтей еще хотел что-то сказать про Юдова, но, брезгливо поморщившись, махнул рукой и принялся сердито сдирать с усов намерзший куржак. — Одобряешь, Савелко, проект мой? Ежели хочешь ты остаться у сруба — оставайся. А я с ребятами...
— Ишшо чего! — повеселевшим голосом воспротивился Савелий. — Я пойду с ребятами... Куды они без меня?
В вопросе этом уловил Павел самонадеянность, точно бригадир хотел подчеркнуть незаменимость своей персоны и свое явное превосходство над Евтеем, между тем, как считал Павел, дело обстояло совсем иначе...
Вернулись тигроловы на табор в полдень. Юдов, видимо, не отходил от нодьи ни на шаг — все лицо его было закопченно, словно у кочегара. Тут же рядом с ним стояло на боевом взводе и ружье.
— Ты, паря, лицо-то свое в божеский вид приведи, а то тигра увидит — до смерти испугается, — насмешливо сказал Евтей. — Снегом вон оботрись, да и автомат свой отодвинь подалее от огня — неровен час, расплавится, заодно и на предохранитель его поставь — прострелишь невзначай себя или из нас кого.
Узнав о том, что ему предстоит идти к пасеке и затем возвращаться опять к нодье, но уже без провожатых, одному, Юдов побледнел, спросил, нельзя ли остаться у нодьи, но, услышав о том, что ночью ожидается приход тигрицы, побледнел еще больше и угнетенно замолчал.
Свалив стоящие рядом со срубом сухие кедры, распилив их на бревна и сложив три нодьи, мужики оставили Евтею продуктов ровно на сутки и ушли на тигриный след. Тигрица, как и предполагал Евтей, вывела охотников точно на проселочную дорогу, недалеко от того места, где она пересекала ее прежде. Отсюда она повернула к устью широкого ключа, вершина которого едва угадывалась в сгущающихся сумерках.
— От шельма! Прямо в ключ повела, — чертыхнулся Савелий. — Ежели в самую вершину уведет — за день едва ли вывершим.
— Надо не проспать завтра, выйти с пасеки затемно, может, и успеем тогда, — неуверенно сказал Николай.
— Да уж, чай, не заспимся... Подыму я вас, не сумлевайтесь...
Выйдя на тропу, тигроловы оставили тут котомки, только Юдов взял с собой пустой рюкзачишко — завтра он должен нести в нем продукты.
Стемнело. Непроницаемо-темной стеной стоит вокруг тайга, и небо над ней — точно синяя мантия, усыпанная яркими блестками. Заснеженная проселочная дорога кажется Павлу продолговатым слабосветящимся облаком, плывущим в космосе из ниоткуда в никуда, и он, перебирая ногами по этому облаку, тоже плывет, плывет куда-то в морозную темень. Но вот сладко пахнуло дымком, приветливо и уютно замаячил в темноте желтый квадратик окна, и всколыхнулось уставшее тело, радостно потянулось к слабому тусклому огоньку.
Пасечник встретил тигроловов все с тем же искренним радушием, захлопотал возле плиты, выставляя на нее чайник, кастрюлю, налил в умывальник теплой воды, между делом тревожно спросил о том, где они оставили Евтея Макаровича и не требуется ли им помощь. Узнав, что Евтей жив-здоров, караулит пойманного тигра и ждет Юдова с продуктами, Дубов радостно закивал и тотчас же принялся щедро складывать у порога, где лежал рюкзак Юдова, банки с тушенкой, сухари, чай, крупу, сахар.
— Тут на полмесяца, Еремей Фатьянович, куды столько? — запротестовал Савелий. — Парень и не дотащит все это! На три, ну, на пять ден от силы возьмем, остальное все лишне, спасибо, выручил нас.
Спать улеглись тотчас после ужина, чтобы проснуться пораньше, но сон ни к кому не шел. Стали говорить о том о сем, сетовали на тяжкий, всегда опасный и ненадежный промысел да и заговорились до полуночи. И вновь, как в прошлый раз, хозяин пасеки, проснувшись задолго до рассвета, растопил печь, подогрел завтрак и лишь тогда разбудил гостей. Было еще темно, когда, позавтракав, тигроловы, все, кроме Юдова, собрались уходить. Юдов вдруг обнаружил, что у него оторвалась подошва олоча, и, сняв его, решительно сказал нетерпеливо поджидавшим мужикам, чтобы шли они своей дорогой, не теряя времени, а он, починив олоч, сам найдет дорогу к Евтею — слава богу, немаленький.
— И то верно, — кивнул Савелий. — Чо мы будем ждать тебя? Тропа утоптана — слепой дойдет по ней, не то что зрячий. Ежели тигрица где-нито рявкнет в стороне, или свежий след ее подсечешь — не бери в голову, не тронет она тебя, ну, стрельни для острастки пару раз и дуй своим ходом. Евтею скажи, чтобы сруб со всех сторон снегом бы привалил, а то сквозняк снизу, не дай бог, простудится зверь.
— А слышь-ко, Савелий! Погодь! Чуть не забыл — сухостойная голова, — остановил пасечник уже взявшегося за дверную скобу Лошкарева. — Там-отко, в Гнилом ключе, куда тигрица, говоришь, направляется, в самом верхотурье скала по-над ключом — изюбринные отстои там да солонец природный. Ну дак, чуть ниже скалы, у развилки, зимовейка имеется. Гости мои туда все ходют белку промышлять, про солонец-то я им не говорю — испоганют! В прошлую осень в зимовейке бывал я, а в энту осень не довелось, краем уха слыхал, что стояли там какие-то охотники. При мне посуда была там, пила, топор, дровишек оставлял я изрядно и все такое протчее, как подобает. Ежели нужда приспичит — имейте зимовейку на примете.
— Вот за это ишшо раз спасибо, Еремей Фатьянович! — с чувством поблагодарил Савелий.
— Вовсе не в подошве дело, — пренебрежительно сказал Павел, когда вышли на дорогу. — Просто побоялся Юдов идти ночью по тигриной тропе, решил белого дня дождаться.
— Знамо дело — испугался, — согласился Савелий. — Обувка у него, видал я, в полной исправности. Трусоват, трусоват, чо там говорить...
— А ты тоже, отец, хорош! — упрекнул Николай. — Зачем ты ему про тигрицу сказал? Только масла в огонь подлил.
— Ишшо чего! Я бригадир, мое дело упредить — пушшай настороже будет.
— Да он и так сейчас по следу будет идти со взведенным курком, без твоего упреждения!
— Ну и пушшай идет! Мое дело — упредить... Да и чо пристал ты ко мне со своим Юдовым?! — неожиданно разозлился Савелий. — Юдов! Юдов! След он показал нам не задарма, не за спасибо, — ворчал Савелий. — Слыхал, как вечером он, узнавши про то, что тыщу двести за тигра платят всего, сразу разочаровался? Даже челюсть у него отвисла. — Савелий засмеялся, раскашлялся и передразнил Юдова: «Всего тыщу рублей? На всех тыщу рублей? У-у-у, а говорили десять тысяч!» Слыхал — нет? Десять тыщ ему подавай! Широконько рот раззявил... Тьфу! — Савелий громко плюнул в темноту и замолчал.
Так до самого тигриного следа и шли молча. Там и застал их рассвет...
— Ну вот, полюбуйся! — тревожно воскликнул Савелий, указывая на тропу. — А ты даве упрекал меня: дескать, масло в огонь подливаю... Вот полюбуйся — сёдни ночью она по нашим следам уж прошла. Вот те и масло! Небось к Евтею уже подходила? Хреново ему без собаки! Чуть задремлет — она и сруб разворотит...
— Ничего, отец, сегодня она еще не осмелится близко к срубу подойти, а завтра они с Юдовым дежурство установят, — успокоил Николай.
— Вся надежда, что вдвоем, — вдвоем-то укараулят, поди?
* * *
Ключ Гнилой вполне оправдывал свое название; тигрица петляла, запутывая следы, и охотникам несколько раз пришлось пересечь болотистую, захламленную валежником пойму. Переходя ее последний раз, Савелий, споткнувшись, упал на валежину — лицо защитить успел, но стекло на часах разбил вдребезги. Это происшествие так расстроило его, что, выругавшись и плюнув с досады, он тотчас отстегнул часы и, широко размахнувшись, зашвырнул их в чащобу. Но, видно, правду говорят: «Одна беда не ходит, за собой другую водит». В полдень из-под самых ног у Павла выпорхнул рябчик. От неожиданности парень отпрянул, Барсик рванулся, вырвал у него поводок и начал ошалело гоняться за перепархивающей с места на место птицей.
— Чо стоишь, рот раззявил?! — злобно вскричал Савелий. — Лови собаку, лови!..
Не двигаясь с места, Павел пристально смотрел на злобно кричащего, размахивающего руками Савелия, и в душе его, как снежный ком, нарастало протестующее чувство.
— Чо стоишь? Чо стоишь? Собаку выпустил, ишшо и глазами лупает! Беги лови! Тигролов! Ишшо молоко на губах не просохло...
Гнев Павла сменился обидой. Ему хотелось сказать Лошкаревым что-нибудь обидное, махнуть рукой и уйти, хотя именно сейчас, как никогда, надо было удержаться...
— Тебе не тигров ловить — телят пасти!.. Ишшо и глазишшами лупает. Нахально втесался... Савелия Лошкарева решил заменить? Не надейся! Савелий Лошкарев таких заместителей видал-перевидал...
Павел с надеждой посмотрел на Николая, но тот не только не намерен был останавливать несправедливый гнев отца, но, как показалось Павлу, даже подбадривающе кивал ему. Именно от этого, от усмешки, которую он заметил в глазах Николая, Калугин неожиданно для себя начал успокаиваться, смутно догадываясь, что именно в этом спокойствии и вся его сила, а в следующее мгновение он уже знал, что сказать Лошкаревым.
— Пожалуйста, не кричите на меня, Савелий Макарович. Я вам такого повода не давал и унижаться перед вами не стану. Не пришелся ко двору, так и скажите об этом спокойно, без крика. Ловите тигров с Юдовым и с Непомнящим. Сейчас я Барсика поймаю, вот он, кстати, и сам бежит сюда, и пойду домой, чтобы больше не раздражать вас своим присутствием.
Павел поймал за ошейник подбежавшего с виноватым видом пса, погладил его и, привязав поводок за тонкую елочку, скосив глаза на опешившего Савелия, снял рюкзак, развязал его и принялся выкладывать на снег продукты и мешочек с винтовочными патронами.
— Вот вам ваши патроны. Продукты мне тоже не нужны... — И вдруг Калугина ожгла мысль: «А что, если Лошкаревы примут капитуляцию, а потом в поселке извратят действительные события, обвинят меня в трусости или даже в подлости — как быть тогда? Ну и черт с ними! Пусть говорят, что хотят, но не будет по-ихнему, не будет!» Калугин вытряхнул на снег содержимое рюкзака, собрал в него свои личные вещи, вскинул на плечи и, не взглянув на Лошкаревых, с веселым облегчением, словно освободившись от неприятной повинности, торопливо, искренне не желая, чтобы его останавливали, пошел вниз по ключу, намереваясь прямым курсом выйти к пасеке...
— Сто-ой! Ты энта чо удумал? Правду, что ль, уйти-то собрался? — тревожно и растерянно окликнул Савелий. — Ишь какой обидчивый — слова ему сказать нельзя... Охолонись-ка маленько! Тигру-то кто ловить будет?
Неохотно остановившись и поняв, что теперь ему уйти уже не удастся, не зная к добру это или к худу, Павел обернулся к Лошкаревым:
— Я, Савелий Макарович, абсолютно серьезно высказал мнение свое. И желание ваше выполнил: вам нужно было, чтобы я ушел с вашей дороги — вот я и ухожу. По-моему, вы должны быть довольны, да и мне, если честно признаться, надоело недовольство ваше на себе испытывать. Если бы не Евтей Макарович, то давно бы и отстал я от вас, только на его доброте и держался. — Павел, отвернувшись, вновь собрался идти.
— Стой, Павлуха, стой! Ежели ты уйдешь, мы ведь вдвоем с Николаем тигру-то не осилим, значит, и нам уходить надобно? А друг-то твой, Евтей Макарович, чай, на тебя надеется, что не подведешь. А ты, вишь, како время выбрал выгодно для себя... Кабы знали мы, что так-то ты сделаешь, не стали бы и надеяться, взяли бы Юдова. Не-ет, сиз голубь, залетел в нашу голубятню, вот и сиди смирно — терпи... — Савелий сердито взглянул на Николая, что-то тихо сказавшего ему. — Нет, сиз голубь, давай-ка повертай назад, складывай котомку да и айда быстрей тигру догонять. Погорячились, повздорили, да и забудь про то. Вот поймаем тигру, сделаем дело, тогда и гуляй себе на все стороны, избавляйся от нашего лошкаревского гнету... — В голосе Савелия уже не было растерянности и просительных ноток, он уже не сомневался в том, что Павел останется. — Ну дак чо, Павлуха, хватит дуться поди? Чего промеж людей не бывает, иной раз и полаешься зазря, а дело-то надобно завершить — как ты думаешь?
— Я думаю, Савелий Макарович, вы совершенно правы, — удрученно согласился Павел. — Надобно поймать тигра — это верно. — И, тяжко вздохнув, пошел к радостно приплясывающему на привязи Барсику.
После ссоры, обычно всегда идущий впереди, Павел демонстративно уступил тропу Николаю, пропустил вперед себя и Савелия.
Бригадир, чувствуя вину свою, то и дело оглядывался на Павла и с наигранной веселостью рассказывал охотничьи байки. Но Павел не слушал. Наигранно-веселый голос старика раздражал его. Очень кстати тигриная тропа завела охотников в буреломник. Савелий замолчал, перелезая через валежины. Вскоре сквозь деревья по ту сторону ключа увидели крутую скалистую сопку, о которой говорил утром пасечник. Перейдя ключ, тигрица полезла прямо на крутяк, след ее, освещенный низко стоящим солнцем, хорошо просматривался снизу. Николай, нерешительно потоптавшись у подножия сопки, двинулся по следу.
— Николай! Давай лучше обойдем эти скалы, — предложил Павел. — Вон там справа хороший прямой распадок, по нему и поднимемся до самой вершины, там и подсечем опять тропу...
Не оборачиваясь, молча и упрямо Николай продолжал карабкаться вверх.
— Савелий Макарович! Ну скажите вы ему! Зачем мы полезем на скалы? Там и шею недолго свернуть, а главное — смысла нет, обойти ведь можно...
— Так-то оно так, — кивнул Савелий, оценивающе поглядывая на скалы. — Хреновое место, ну дак чо теперь, вишь, он же ведущий, стало быть, куды он, туды и мы. — И с кряхтеньем неохотно стал подниматься за сыном.
«Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет». Павел хотел сказать об этом вслух, но Лошкаревы уже карабкались вверх, и, махнув рукой, Павел полез вслед за ними. Снизу подъем казался вполне доступным; здесь же, наверху, сразу почувствовалось, что он не только крут, но даже опасен. Это, вероятно, давно уже понял и Николай, но, утешая больное самолюбие, продолжал карабкаться выше и выше. Еще не поздно было повернуть вправо, пройти немного по крутому склону и выйти к распадку. Павел и хотел об этом крикнуть Николаю, но в то же самое мгновение тот, взмахнув руками, упал, стремительно заскользил вниз, сбив с ног Савелия, успевшего тотчас за что-то ухватиться, и, перевернувшись через голову, потеряв карабин и шапку, ударился ногами о выступающую из-под снега каменную глыбу — на ней и удержался. Павел, стоявший недалеко от глыбы, увидел, как, пытаясь подняться на ноги, Николай тотчас сник и болезненно поморщился.
— Ну чо там у тебя, сынок, не зашибся? — тревожно спросил Савелий.
— Кажется, ногу сломал или вывихнул, — мрачно сказал Николай. — Фу-ты, черт, сплошное невезенье...
— Да ты чо тако балаболишь? Правду, что ли? — Савелий лег на бок и, тормозя ногами, волоча за собой упиравшегося Амура, торопливо подполз к Николаю. — Ишшо чего удумал? Правду — сломал? — вновь с тревогой спросил Савелий, заглядывая сыну в лицо. — Может, просто зашиб — отойдет ишшо? Ну-ко приступи.
— Да я уж приступал, отец, — невозможная боль! Ты не суетись, пожалуйста. Что сделано, то сделано, теперь надо подумать, как выбраться.
«Надо было мне, дураку, не капризничать, а вперед идти, вот и не случилось бы этого», — подосадовал на себя Павел и, подойдя к Лошкаревым, с искренним сочувствием сказал:
— Сегодня весь день кувырком: Савелий Макарович часы разбил, поругались из-за пустяка, теперь вот с Николаем беда случилась.
— Уж так оно повелось, — растерянно озираясь, сокрушенно вздохнул Савелий. — Завсегда так: пришла беда — отворяй ворота... Как же быть нам теперь? Нодью тут не из чего даже сделать. Костыли из березы вон вырубить, да попробуй на костылях до нодьи...
— Зачем нодью? — возразил Павел. — Еремей Фатьянович говорил, что недалеко от этой скалы избушка есть — надо к ней и выбираться.
— Это ишшо верней, — кивнул Савелий. — Забыл я про пасечника — он вить и правда говорил... Ну как, сынок, не полегшало? На костылях-то сможешь двигаться?
— Смогу, наверно, только рюкзак вам придется забрать.
Спустившись в пойму, Павел вырубил Николаю из молодых березок два удобных костыля. С трудом съехав на боку к подошве сопки, Лошкарев-младший примерил костыли — они оказались длинноватыми. Павел хотел подрубить их еще, но Савелий посоветовал оставить такими, как есть: ведь идти придется не по асфальту, а по рыхлому снегу, торцы костылей непременно будут вязнуть, а если укоротить их, то придется низко пригибаться. Замечание Савелия оказалось верным — длинные костыли, глубоко угрузая в снег и в мох, позволяли Николаю держать корпус прямо. Но все равно передвигался он медленно и с большим трудом. Павел выбирал наиболее легкий путь, где по льду ключа, где по кромке берега. Завалы примечал издалека, обходил их заранее. Чтобы легче было Николаю, старался шагать мельче, бороздил снег ногами, если ветка поперек следа торчала — обламывал ее, если толстый сук или небольшая валежина преграждали путь — пригибал их к земле и ждал, пока через них не переступит Лошкарев-младший. Савелий шел сзади сына, караулил, чтобы вовремя подхватить его, если тот потеряет равновесие. Время от времени Николай останавливался, навалившись на костыли, подняв больную ногу, отдыхал, морщился от боли, виновато приговаривал:
— Вот не повезло, так не повезло! И не вовремя...
— Ничо-о, сынок, хорошо, что ишшо ногами, а не головой ударился, — неумело успокаивал Савелий. — Не дай бог головой бы... А нога, что нога? Пустяки, заживет! Выберемся на пасеку, дед-пасечник сказывал, что людей всякими травами лечит, костоправством владеет — он тебя быстро на ноги поставит. Хороший, правильный старик.
Не менее часа продвигались тигроловы вниз по ключу, а избушки все не было. Правда, за этот час преодолели они с полкилометра всего, но все равно, если верить словам пасечника, избушка или признаки ее должны были уже появиться... Первым вслух засомневался Николай.
— Надо, пока светло, кедрину сухую для нодьи подыскивать, — сказал он капризным голосом. — Никакой избушки тут нет! Или в этом ключе еще одна скала-отстой, или пасечник просто вовсе не о том ключе говорил.
Павел тоже в душе уже начал сомневаться, но делать окончательный вывод было еще слишком рано, и он возразил:
— До сумерек мы еще смело можем двигаться вниз по ключу, нам ведь все равно сегодня или завтра придется идти в ту же сторону... Кроме того, пасечник говорил, что ключ подступает к самой сопке, а на той стороне продолговатая поляна — солонец. Все совпадает — есть там на поляне солонец или нет его, под снегом не видно, но поляна есть — это точно. Мы слишком мало еще прошли. Впрочем, мне все равно: скажете здесь нодью делать — тут и сделаем.
— Слышь-ко, сынок, Павел верно сказыват. Нам бы часок-полтора подвигаться вниз. Скала-то вон ведь, рядом виднеется, не шибко оторвались от нее. Как думашь?
— Ну, раз решили, значит, пойдем! — нервно проговорил Николай.
Вскоре тигроловы увидели избушку, воспряли духом. Николай заковылял быстрей, стараясь не отставать от заторопившегося Павла.
— Ну вот и зимовейка отыскалась! — радостно воскликнул Савелий. — Теперича мы кум королю, сват министру! Щас мы в ней обживемся, устроим Ташкент. Старинное зимовье, гляжу, и место выбрано по уму — на стрелке да на солнышке...
Павел тоже обрадовался в первую минуту. Но чем ближе подходил к зимовью, тем тревожней становилось у него на душе. Вначале насторожило то, что над крышей не видна была печная труба. «Наверно, трубу охотники сняли и сложили в зимовье, чтобы дождь по ней в печку не затекал. Правильно! По-хозяйски! В сырое лето печка за один сезон проржавеет, если трубу не снять...»
Рядом с зимовьем увидел Павел железную бочку — это не сулило ничего хорошего. Тревожное чувство росло. Подойдя к избушке, тигроловы некоторое время изучающе по привычке присматривались ко всему. В нескольких метрах от зимовья валялась железная бочка; там же торчали из-под снега пустые деревянные ящики. Слева от избушки с солнцепечной стороны — жердяной остов четырехметровой палатки, внутри него широкие сплошные нары, укрытые слоем снега. Под нарами — пустые консервные банки, пустые ящики из-под соли, возле входа присыпана снегом печь из листового железа с метровым куском трубы. «Не из зимовья ли перетащили ее сюда?» — с тревогой подумал Павел и, сбросив рюкзак, торопливо заглянул в избушку — печи там не было...
— Вот стервецы!
Павел осторожно выдернул из-под снега печь. Она была насквозь проржавевшая и уже почти непригодная. А без трубы ею вообще пользоваться нельзя. Но, к счастью, поковырявшись в снегу вокруг каркаса, Павел вскоре обнаружил еще два отрезка. Савелий тем временем осторожно вернул печь в избушку, не переставая при этом клясть людей, учинивших здесь не просто беспорядок, но беспорядок подлый и преступный.
— За пакость эдаку я бы этим паразитам самолично руки-ноги переломал бы! Погань — не люди! — раздавался из избушки возмущенный голос Савелия. — Детей воспитуют, может, на работе в почестях ходют, а сюда пришли, как нелюди!
Павел между тем выковырнул из-под снега эмалированный чайник без ручки, миску, керосиновую лампу и простреленное жаканами цинковое ведро. Занеся свои находки в избушку и осмотревшись в ней, понял, почему гневно ругался Савелий: в зимовье был такой беспорядок, как будто здесь побывали погромщики. Мешочки с продуктами, некогда висевшие под потолком, теперь валялись, изгрызенные мышами, на полу; тут же скомканные заплесневевшие байковые одеяла, телогрейка, латунные гильзы, пыжи, посуда, клочья изюбриной шерсти, огрызки свечей, таблетки — все это изгажено мышами и перемешано с мукой и сахаром. Там, где были нары, виднелись только две поперечные перекладины с одной единственной плахой, оставшейся только потому, что была она накрепко прибита к стене большими гвоздями. Значит, перенесли охотники в палатку не только печь, но и плахи от нар, а заодно и сухую смолистую растопку прихватили, приготовленную пасечником по таежному обычаю для доброго проходящего люда. Нет, не рассчитывал Дубов на таких бессовестных людей, заботливо оставляя в зимовье сухую растопку и съестные припасы. И вот явились они, поправ, испоганив святой охотничий обычай.
— Ну как, Павлуха, налюбовался? — с горькой усмешкой спросил Савелий. — Слава богу, по свету пришли, дотемна, хоть успеем в маломальский вид зимовье привести. Давай-ко беги, смолье добывай да дровишек, а я тут печку установлю. Надо быстрей тепло в зимовье загнать, а то Николай без движения застудится.
Но не скоро удалось загнать в избушку тепло; вместо тепла вначале нагнали дыму — не продохнуть! Насквозь изъеденная ржавчиной печь долго не могла по-настоящему разгореться: дым упорно не желал уходить в трубу, а струился сквозь множество щелей, и лишь после того, как залатали самые большие дыры жестянками, вырезанными из консервных банок, печь наконец разгорелась и заполыхала жаром.
Покончив с печью, тотчас же разбросали в палаточном каркасе нары, плахи перетаскали в зимовье, и, пока Савелий прибивал их на прежнее место, Павел нарубил дров. Порядок наводили в избушке уже при свечке. Все сопревшее, изъеденное мышами пришлось выбросить, только телогрейка оказалась еще на что-то пригодной. Ужинали поздно — уставшие, угнетенные событиями минувшего дня, о дне будущем не проронили ни слова. И, лишь укладываясь спать, Савелий, сокрушенно вздохнув, высказал вслух то, что не давало ему покоя:
— Это ведь пантовщики были, на солонец сюда прилетали. Три ящика соли — мясо, видно, солили. Настреляли изюбров, тут же кишками да кровью все испоганили. У этих волков повадка такая, сколь раз видал: где убьют на солонце, тут же прямо и разделывают, а то и кострище разведут, соляркой зальют. Зверь потом на этот солонец два-три года боится подойти. Верняком и этот, дедов солонец, загубили.
* * *
Проснувшись за полночь, чтобы подбросить в прогоревшую печь дров, Павел не слухом, а всем своим телом почувствовал перемену погоды. Не доверяя ощущению своему, он, включив фонарик, приоткрыл дверь. Желтый пучок света бессильно увяз в белой стене снегопада. Отвязав собак, Павел впустил их в избушку.
— Что там, Павлуха, тигра шастает? — сонно приподнял лохматую голову Савелий. — Правильно сделал: собачек беречь надо, без них нам делать нечего в тайге. Тигра сейчас обозленная, уташшит собак из-под самого порога...
Павел хотел сказать о том, что не тигра шастает, а снегопад большой идет, и что если он будет продолжаться до утра, то выбраться из тайги станет намного трудней, но удержался, не сказал — зачем тревожить человека преждевременно? Может, и утихнет снегопад к утру.
Но снегопад к утру не утих, не утихал он и весь день; о том, чтобы куда-то идти в такое ненастье, не могло быть и речи: крупные, как раздерганная вата, снежинки валили так густо, что даже стоящий в двадцати шагах от избушки огромный, с обломанной вершиной тополь виднелся смутно и зыбко.
Bечером Савелий попытался уговорить Николая наложить на ногу лубок и крепко забинтовать ее — нога на месте ушиба сильно припухла и покраснела, но Николай категорически отказался:
— Ты мне такой лубок наложишь, что придется потом ногу мою вторично ломать. Уж лучше я доверюсь твоему костоправу Дубову.
— К нему выбраться надо, — обиженно сказал Савелий. — Снегу выше колен насыпало, а к завтрему до самой развилки подвалит... — Он заискивающе посмотрел на Калугина. — Придется нам с Павлухой, как снег уляжется, до самой пасеки траншею проминать, а потом уж и тебя вытаскивать. — И, вздохнув, торопливо перевел разговор на другую тему: — Как там Евтейко с Юдовым? В такую непогодь у нодьи весь мокрый будешь, рази токо навес из жердей построить догадаются. — Савелий говорил умышленно громко, вопросительно поглядывая на Павла, желал, наверно, чтобы тот поддержал разговор, но Павел разговора не поддерживал — сидел перед свечкой, чинил рукавицу и делал вид, что поглощен работой. Ужинали в напряженном молчании. Сразу после ужина, погасив свечку, улеглись спать. В темноте молчание уже не казалось напряженным, а было естественным. Пламя в печке горело неохотно, но это было и к лучшему — экономились дрова, а тепла в избушке хватало с избытком — старое зимовье рублено было на совесть. Сквозь мелкие дыры в печке пробивались бесчисленные пучки света, и было в зимовье достаточно светло от них.
А за бревенчатой стеной все не смолкал тихий, монотонный шорох снегопада, и, улавливая его, Павел представил себе тускло горящую в снежной темени нодью, согбенную, присыпанную снегом фигуру человека. Невольно поежился. «Как там Евтей Макарович с Юдовым от снегопада защищаются? Целлофан мой у них остался, можно его приспособить на навес, сверху снегом придавить — вот и крыша. Неужели не догадаются? Впрочем, если мы с Савелием догадались, то Евтей и подавно». С этой успокаивающей мыслью Павел и уснул.
* * *
Евтей Лошкарев сидел перед нодьей в маленьком балагане, сделанном из жердей и обтянутом целлофановой пленкой, на верху которой слоем лежали пихтовые ветки и снег. В балагане было сравнительно тепло и даже уютно, правда, два часа тому назад все было иначе. Пока Евтей строил около балагана и разжигал последнюю новую нодью, пока она разгоралась да пока он тушил остатки старой нодьи, складывая головни около сруба на случай, если они потребуются потом, одежда его промокла. Евтей продрог и был раздражен. Но скоро бревна разгорелись, он высушил на себе одежду, напился кипятку, заваренного березовой чагой, и сидел, настороженно поглядывая на освещенный спокойным пламенем сруб и дальше за него в черно-белую рябь снегопада. С правой руки от Евтея в боевой готовности карабин: в прошедшую ночь, когда тигрица подошла слишком близко к срубу и стала рявкать, пришлось выстрелить два раза. Сегодня днем рев тигрицы раздавался несколько раз, но издалека. Сгоряча Евтей хотел выстрелить, но вовремя сдержался: патронов оставалось всего два десятка, а ночью тигрица наверняка попытается вновь подойти к срубу. Вот тогда и нужно будет стрельнуть, да и то экономно. Неизвестно ведь, сколько ночей будет он сидеть здесь и ждать помощи. Может, придется еще швырять в зверя горящие головешки, как приходилось это делать ему лет десять тому назад. Главное — крепко не заспаться, почаще посматривать на сруб. Завтра нужно балаган пристроить прямо к стене сруба, и, пока еще силы есть, повалить оставшиеся две сушины, что стоят на краю пихтарника. Еще пару ясеней сырых необходимо срубить: сырой ясень вперемешку с сушиной хорошо и долго будет гореть. Две-три ночи продержаться еще можно — ночью караулить, а днем придремывать. Оно, конечно, тигрица и днем может прийти, однако днем легче с ней воевать, да и, чего греха таить, — не так боязно... Хотя если подумать, то самое страшное сейчас — голод. На одном кипятке, да еще по такому глубокому снегу, без лыж к тому же, далеко не пройдешь. И Юдов запропастился... Ведь уговор-то был таков, чтобы он вернулся к Евтею с продуктами, и вряд ли Савелий изменит такой уговор. Разве что, не дойдя до пасеки, все они увязались за тигром? Поймали его и так же вот мыкаются теперь с ним где-нибудь в тайге... Хорошо, если так, тогда кто-нибудь из бригады не завтра, так послезавтра все равно придет на выручку. Хуже, если Савелий отправил Юдова, как условились, а тот наткнулся на тигрицу. Теперь по такому снегу и места трагедии не найдешь... Хотя вряд ли это. Если бы тигрица убила человека, она бы теперь не острожничала, а напролом пошла бы на сруб. Нет, тут что-то другое. Скорей всего, поймали ребята второго тигра, и надобно Евтею держаться, сколько можно.
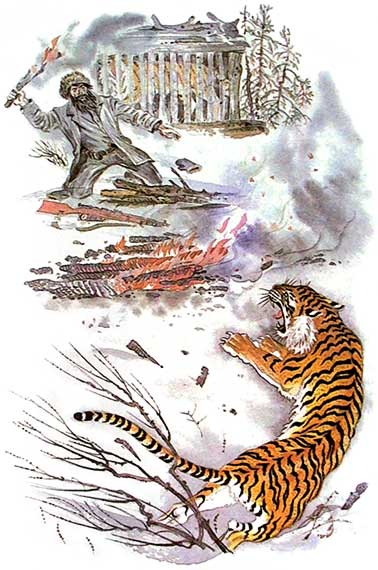
Он опять посмотрел на сруб, невесело усмехнувшись, подумал: «Тигр без еды две недели пролежит, и хоть бы что ему, а я вот сутки не поел, и брюхо уже болит, слабость во всем теле...» Старик совсем заскучал. Ведь и помереть так можно не за понюшку табаку... Но насторожился вдруг, вздрогнул: «Батюшки светы! К чему бы это?» Послышался ему сразу непонятный и враждебный звук. Ажно дрожью взялся Евтей. «На самом деле такое или от голоду померещилось?» Еще чутче прислушавшись, Евтей уверился, что звук рождается по ту сторону нодьи, за стеной огня, и исходит снизу, от земли, будто там, в десяти шагах от огня, открылся вдруг маленький вулкан, и вот, всхрапывая, кипит и булькает в тесном придушенном горле его огненная лава...
«Да ведь это же тигра!» — молнией обожгла Евтея догадка.
Схватив карабин, сняв его с предохранителя, он, низко пригнувшись, вышел из-под навеса к торцу нодьи и, держа карабин у плеча, медленно выпрямился, глянул в темень и вздрогнул, увидев в нескольких шагах два ярко-зеленых светящихся глаза. Усатая тигриная морда с полураскрытой пастью неотрывно смотрела на Евтея своими демоническими глазами.
— Куда прешь! Куда прешь, чертова немочь!! — испуганно закричал Евтей, держа тигрицу на прицеле, и повторил зычным голосом, но уже не для того, чтобы испугать тигрицу, которая продолжала стоять не шелохнувшись, как изваяние, а скорей для собственной бодрости повторил: — Куда пре-ошь! Счас пальну промеж глаз, а ну марш отсюда!
Но в это время, вероятно почуяв мать, заурчал, зарявкал в срубе молодой тигр. Тигрица резко повернула голову к срубу, глаза ее тотчас потухли, и Евтей увидел могучего зверя в профиль. Оглушительно и страшно рявкнув, так, что у Евтея внутри все оборвалось и тело сделалось на мгновение каменно непослушным, тигрица, стоя к нодье боком, вновь застыла, наставив уши к срубу и вся подавшись к нему... Невольно, против желания своего, Евтей прицелился зверю в висок, чуть пониже уха, указательный палец лег уже на спусковой крючок, и кто-то уже вкрадчиво подсказывал стрелку, что этим вот выстрелом он раз и навсегда избавится от опасного своего врага, а заодно и решит все проблемы с пищей, ведь тигриное мясо не только вкусное, но даже целебное... Стреляй! Стреляй, Евтей, что же ты медлишь? Никто, кроме членов бригады, не узнает об этом, а если и узнает, причина к оправданию есть — самооборона! Тигрица-то рядом совсем... Стреляй, Евтей! Стреляй, не раздумывай! И, боясь подчиниться этому своему желанию убить врага, боясь взять на душу грех, не в силах дольше испытывать нервы свои, Евтей выстрелил чуть выше головы зверя. Тигрица, точно стеганули ее бичом, подпрыгнула, резко повернулась к нодье и, сверкнув глазищами, угрожающе зарявкала, в то же время тихонько пятясь в темноту.
— А-а, не понравилось?!! — торжествующе вскричал Евтей. — Марш! Марш отсюда!! Мать твою... — И, выругавшись, выстрелил еще.
Этот выстрел громыхнул как-то особенно оглушительно — тигрица, сверкнув глазами и рявкнув недовольно, круто развернулась, сделала прыжок и канула в темень. Чуть помедлив, Евтей выстрелил в третий раз, затем, взяв пустой котелок и кружку, принялся стучать ими друг о друга, дико крича, улюлюкая.
Опять зарявкал молодой тигр в срубе, но мать уже не ответила ему. Перестав стучать, Евтей тревожно прислушался: тихо потрескивало пламя нодьи, монотонно шуршал снег, гулко и торопливо стучало в груди сердце. Зарядив карабин и поставив его на предохранитель, Евтей прошел под навес, устало опустился на пихтовую подстилку, налил в кружку теплой воды из чайника, принялся пить ее, терпко пахнущую дымком, жадными, торопливыми глоточками, удивленно косясь на свои крепкие узловатые ладони, — вяло обхватывая кружку, они мелко-мелко дрожали.
* * *
— Ну дак чо, Павелко, что делать-то будем? Надо совет держать, — с тоской поглядывая на чуть заголубевшее оконце, сказал Савелий. — Снег-то не перестает, надобно что-то делать, как думашь?
— Как скажете, так и сделаем, — вяло откликнулся Павел.
— Ну я маракую так примерно, — Савелий оглянулся на сидящего у порога сына: — Николай по такому снегу все одно не ходок. А и нам сидеть тут не резон. Надо скорее выходить на пасеку, да и Евтей с Юдовым скоро все сушины вокруг сруба сожгут. Тигра надо в клетку пересаживать да на зообазу отправлять. Мое такое предложение: давай сёдни пробьем тропу в сторону пасеки, сколько сможем, и вернемся сюды, а завтра по энтой тропе Николая поведем. Ежели до пасеки завтра не сможем дойти, сделаем нодью, а уж на третий день хоть на четвереньках да выберемся к пасеке. — Савелий с беспокойством посмотрел на Павла, нетерпеливо спросил: — Так или нет? Аль у тебя есть другой план?
— Я бы другое предложил, Савелий Макарович, — раздумчиво сказал тот.
— Ну дак чо? — обрадовался и насторожился Савелий. — Предлагай, я к тому и спросил: одна голова — хорошо, две — лучше...
— А третью голову вы уже не берете во внимание? — насмешливо спросил Николай.
— Присоединяйся, никто не запрешшат, — холодно сказал Савелий и, помедлив, добавил хмуро: — Ежели послушал бы Павла да не поперся бы на энту прокляту гору, глядишь, в тот же день и тигру поймали бы, и ногу сохранил бы...
— А зачем же ты и сам поперся на нее, если умный такой?
— А потому и поперся, что дурень был!
— А теперь, значит, поумнел? — усмехнулся Николай.
— А теперь поумнел! — вызывающе повысил голос Савелий. — Да, поумнел! Не усмехайся! Сёдни вот целу ночь лежал не спамши, всяко разны думы передумывал: теперь вот умней, кажись, стал, и, даст бог, ишшо поумнею. А ты вот, гляжу, и не желашь умнеть-то — усмехаешься! Спеси, гонору много... И я дурак старый... — Савелий безнадежно махнул рукой, нетерпеливо кивнул удивленному Павлу: — Давай, излагай план свой, надобно скорей бежать отсюдова.
— План мой таков, Савелий Макарович. — Павел оживился, но все еще продолжал посматривать на бригадира с удивлением. — Я думаю, что два и, тем более, три дня нам терять на выход к пасеке нельзя. У Евтея с Юдовым сегодня последняя нодья догорает, и придется им валить сушняк для костра. У костра, сами знаете, какая ночевка — мученье! Да и сушняка там на сутки-двое всего. К ним придется пробиваться день, да пока тигру в клетку перегонять... Словом, крайний срок — через два дня нам надо быть у них. Это первое... — Павел неуверенно посмотрел на Николая, сосредоточенно подкладывающего в печь дрова.
Савелий, вероятно истолковав взгляд Павла по-своему, обернувшись к сыну, поторопил его:
— Побыстрей дрова пихай, видишь, с открытой дверцей она, проклятая, ишшо хуже дымит. Надымил, ажно в горле першит... Ну дак чо на второ, сказывай!
— А во-вторых, — уверенней продолжал Павел, — на костылях Николай до пасеки и за два дня не дойдет. На лошади если сюда приехать — тоже не выход, и долго это, а ему нужна помощь немедленная, и местность здесь — буреломник да болото.
— Ну дак чо теперь, помирать ему тут? — рассердился напряженно слушавший Савелий. — Не пойму, к чему клонишь?
— Зачем помирать? Пускай живет на здоровье! — заулыбался Павел, но, увидев, что Савелий начал нервно теребить бороду, торопливо и серьезно обратился к Николаю: — Скажи, сколько килограммов ты весишь?
— Зачем это знать тебе? — настороженно спросил Николай.
— Я же серьезно спрашиваю.
— Ну, допустим, семьдесят два килограмма, что дальше?
— Я так и думал! — удовлетворенно кивнул Павел. — Семьдесят два плюс одежда, итого — восемьдесят кило. До пасеки, если идти напрямик, километров семь-восемь. А мне не однажды приходилось из тайги выносить в промхоз мясо и кабана, и изюбра... Да еще и капканы, и приманка, и карабин — килограммов на семьдесят грузу набиралось. Вытаскивать за пятнадцать километров, и ничего, терпимо...
— Ты что же, предлагаешь вытащить меня из тайги на себе, как борова? — едко усмехнулся Николай.
— Совершенно верно, только не как борова, а как больного человека.
— Ну-ну, спасибо, — продолжал усмехаться Николай. — Только, во-первых, жидок ты, конек-горбунок, упадешь подо мной на первом километре. Во-вторых, я просто не сяду на тебя.
— Ты это, Павелко, сурьезно предлагашь? — недоверчиво спросил Савелий, беспокойно заерзав вдруг и заозиравшись, точно потерял что-то.
— Нам нынче не до шуток, Савелий Макарович.
— А как же ты его понесешь, на закорках-то разве удержишь? Ну, тигру-то я видал, как ты пер, — крепок, не сумлеваюсь. Так ведь тигра в мешке, мешок с лямками... А так руками надо под коленами держать — не удержишь долго-то? Кабы вот на лямках...
— Так я, Савелий Макарович, это дело еще с десятого класса освоил! — улыбнулся Павел. — Кольку Кузьмина тащить вот так же пришлось. Женьшень пошли искать на Каменную горку, а его там змея укусила. Взял я Кольку на спину, да скоро и в самом деле руки онемели. Ну тогда я привязал к пустому рюкзаку перекладинку, вроде качели, веревочные стремена к брючному ремню пристроил. Сел Колька на эту перекладину, ноги в стремена, обхватил меня за шею, и четыре километра до поселка я его чуть не галопом провез. А он ведь, сами знаете, громила какой против меня. Так что, Савелий Макарович, затея эта вполне реальная...
— Чушь и бред — твоя затея! — Николай резко поднялся, поджав правую больную ногу, опершись рукой о край стола, допрыгал до нар и, пробравшись к стене, демонстративно улегшись на спину и закинув руки за голову, проговорил раздраженно и категорично: — Чушь и бред! Даже если и способен ты вынести меня, это еще не значит, что я дам на это свое согласие...
— Послушай, Николай! — как можно мягче и дружелюбней сказал Калугин. — Ты, пожалуйста, не думай, что я хочу показать Лошкаревым свою силу и выносливость и этим все-таки завоевать вашу благосклонность или как-то ущемить ваше достоинство. Ничего уже мне не нужно от вас. Абсолютно ничего! Тигров я с вами ловить больше не буду, сам отказываюсь от этого. Но сейчас мы обязаны не только о себе думать, но и о других тоже. Через два дня надо быть у Евтея Макаровича... У нас единственный выход, который я предлагаю. Если снегопад не перестанет к вечеру, то за сутки снегу навалит по пояс, и тогда мы все здесь застрянем... Ты же образованный, умный человек...
— Я уже сказал свое решение, — сдерживая раздражение, глухо проговорил Николай и отвернулся к стене.
— Ну и глупо! — рассердился Павел. — А главное — эгоистично! Ну хоть вы ему скажите, Савелий Макарович. Убедите его в том, что это единственный выход...
— Не надо ни в чем убеждать меня!!! Понятно тебе или нет?! — Гневно выкрикнул Николай, вновь переворачиваясь на спину. — Как сказал, так и будет! Пойду на костылях...
— Ну и будешь шкандыбать три дня!
— Да хоть неделю буду шкандыбать, какая тебе разница?!
— Мне-то нет разницы, — подчеркнуто спокойным голосом согласился Павел и холодно закончил: — Да Евтею с Юдовым далеко не все равно. И Савелию Макаровичу, отцу твоему, тоже не все равно. Как видишь, всем не все равно, только тебе все равно — так получается?
Николай не ответил, опять закинул руки за голову, упрямо смотрел в потолок, играя желваками...
— Короче говоря, Савелий Макарович, — вновь обратился Павел к задумавшемуся Савелию, — ситуация у нас такая: если Николай сейчас не согласится на мое предложение, тогда я немедленно ухожу на пасеку один и завтра буду пробиваться к Евтею Макаровичу — буду их выручать. Пока тигра вывезем, пока лыжи добудем, через неделю за Николаем придем. На неделю, я думаю, вам тут продуктов хватит...
— Погоди планировать, не суетись, Павлуха, — дружелюбно остановил его Савелий и, повернувшись к Николаю, тем же дружелюбным тоном, но настойчиво сказал: — Слышь-ко, сынок, Павлик-то опять дельно говорит: ежели промежду вас согласья нет — это ваше лично дело, а все остальны-то при чем? Надобно скорее выбираться отсюда. Снегу навалит под саму крышу, вот и будем куковать. Все дело наше насмарку пойдет, и все из-за гонору, из-за того, что согласья нет — кто в лес, кто по воду. В разные стороны тянуть, токо дело разорвешь на части — ни тому, ни другому впрок, а людям на смех. Так ли, нет, говорю?
Николай молчал, прекрасно, должно быть, понимая, что возражать действительно глупо, и поэтому после долгих отцовых уговоров, когда тот, потеряв уже терпение, начал повышать голос и вот-вот готов был взорваться, он, точно делая отцу одолжение, выдавил из себя:
— Ну хорошо, пусть будет по-вашему. Но только помяни мое слово, отец: Калугин упадет подо мной через два километра. Вот увидишь.
— Ну, упадет — пусть, — охотно согласился Савелий. — Упадет, ты малость на костылях пройдешься, а отдохнувши, он ишшо с километр пронесет тебя. Так вот потихоньку и доползем. Нам ведь все одно двигаться надо. Давайте котомку собирать, продуктов на три дня возьмем — хватит, лишнее тут оставим. — И заторопился, опасаясь, что Николай опять заартачится.
Павел тоже принялся торопливо вырубать из полена перекладину, на которой должен был сидеть Николай, но, критически взглянув на его работу, Савелий предложил просто сделать в рогожном мешке, в котором перетаскивали тигра, прорези для ног, просунуть в эти прорези ноги, как в трусы, верх мешка завязать на груди, заплечные же ремни надо подтянуть потуже. Стремена, чтобы ноги Николая не болтались, можно привязать прямо к патронташу Павла.
Затея Савелия понравилась Павлу, и даже Николай, отрешенно сидящий на нарах и не принимавший участия в сборах, чуть заметно оживился. Он даже безоговорочно влез в мешок, просунув ноги в прорези, затем, ухмыляясь, взобрался Павлу на спину, терпеливо ждал, когда Савелий, довольно кивая, привяжет на патронташ Калугина веревки и сделает из них петли-стремена. В конце концов после неоднократных примериваний и подтягиваний все было сделано и подогнано.
— Ну вот, справна сбруя вышла! — отходя в сторону, с улыбкой воскликнул Савелий.
— Давайте-ка присядем на дорожку и пойдем, пойдем, ребятки. — Вновь заторопился Савелий, все еще опасаясь, что Николай в самый последний момент передумает или затеет с Павлом спор.
Наведя в избушке чистоту и порядок, тигроловы наконец-то, не без робости и волнения, выбрались наружу. Уже совсем рассвело. Ближние деревья едва угадывались за густой кисеей снегопада. Снегу выпало выше колен, но был он весь легкий и пушистый.
— Однако как бы нам прямо-то умудриться шагать? — озабоченно сказал Савелий, пройдясь по снегу. — Горизонту нет, и солнца нет, будешь вроде прямо шагать, а непременно отклонишься. Эх-ма, компас бы сейчас иметь, куды б с добром!
— Вот вам компас, Савелий Макарович. — И Павел протянул изумленному Савелию туристический компас. — Направление к пасеке — точно северо-восток, я это засек еще позавчера, когда мы на сопку поднимались.
— Ну-у, паря, ну-у, вот какой ты расторопный, — бережно принимая компас, одобрительно закивал тигролов. — Мы-то сколь годов за тиграми бегам и сколь уж раз в экую непогодь ходить доводилось, иной раз как пойдешь челноком — десять километров понапрасну отмахашь. А был бы компас... Сколь раз зарекался компас купить!
— Дарю вам на память, — искренне сказал Павел.
— Ну дай бог, дай бог! Ежели счастливый компас окажется, то и особая цена ему будет...
Павел засек время — было без пяти минут девять. Приняв из рук Николая костыли, он, опершись на них, согнувшись, присел слегка, подставил Николаю спину:
— Садись, ездок, пора ехать!
— Ну, попробуй, попробуй. — Николай резко, без предупреждения, взгромоздился Павлу на спину.
Савелий тотчас помог пристегнуть заплечные ремни и, торопливо взвалив на себя котомку, повесив на шею карабин и ружье, отпустив на свободу Барсика и взяв на поводок рвущегося за Барсиком Амура, торопливо зашагал по целику, то и дело с беспокойством оглядываясь на Павла. А тот, орудуя костылями, как лыжными палками, шел вполне уверенно и твердо, и Савелий вскоре успокоился, зашагал веселее.

Пройдя за бригадиром метров двести, Павел в полной мере почувствовал всю тяжесть лежащего на его спине груза, мысленно представил себе угрюмую заснеженную чащобу тайги, ее каменное холодное равнодушие ко всему живому, покрытое глубоким снегом и заваленное буреломником пространство, которое надо будет преодолевать. Представив это, он все-таки не впал в уныние. Конечно, трудно, но вполне осуществимо.
...Стиснув зубы, Калугин прошел без передышки километра полтора. Стрелки часов показывали половину десятого.
— Ежели и дале дело так шибко пойдет, то мы, однако, и правда до свету на пасеку выберемся! — восторженно заметил Савелий. — Ну как, Павлуха, вытерпишь?
— Вытерплю, Савелий Макарович, — пряча хмурость, ответил Павел. — Вытерплю!
В сумерках, с трудом передвигая ноги, тигроловы благополучно вышли на проселочную дорогу и обнаружили на ней чей-то свежий след. Нагнувшись, Савелий установил, что человек ходил по дороге от пасеки в обед и вернулся туда только что — отпечатки подошв его валенок не успели еще притруситься снегом.
— Наверно, старик засиделся — промяться решил, да, кстати, вот и целик нам промял, — устало проговорил Савелий, обращаясь к Павлу.
— Кто его знает, может, и другая причина, — вяло ответил Павел. Он настолько выбился из сил, что сейчас ему было решительно все равно, куда и зачем ходил пасечник, главное — что он промял целик...
— Ну дак чо, Павлуха, отдохнем, али ишшо потерпишь? Недалеко уж пасека...
— Потерплю, Савелий Макарович. Осталось тут шагов пятьсот... Потерплю.
У самой пасеки Николай вдруг заерзал беспокойно.
«Стесняется, наверное», — подумал Павел и, щадя самолюбие седока, предложил ему слезть и дойти до пасеки своим ходом. Николай с готовностью согласился, а Савелий одобрительно кивнул Павлу.
Амур и Барсик загнали хозяйского пса под крыльцо, не дав ему и голоса подать, но пасечник все-таки услышал шум и, приоткрыв сенную дверь, радостно замахал рукой:
— Сюды, сюды подымайтесь, тут в сенях и отряхнетесь от снегу. — На нем был ватный стеганый бушлат, подпоясанный патронташем; на патронташе висел большой нож в кожаных ножнах. Увидав ковылявшего на костылях Николая, пасечник торопливо сошел с крыльца и, подойдя к нему, с беспокойством спросил: — Что это с ногой у тебя? Топором поранился, али тигра царапнула?
— Ни то, ни другое, уважаемый Еремей Фатьянович, просто ударился о камень — кость сломалась, — почтительно сказал Николай.
— Вот пришли к тебе за помощью, — заспешил Савелий. — Вся надежда теперь на твое умение. Может, подлечишь сына мово? Обезножел вовсе.
— Если перелом — зачем лубок не наложили? — строго прервал Савелия пасечник. — Когда ногу-то зашиб?
— Позавчера зашиб, как поднялись на ту сопку круту, где солонец-то у тебя, возле избушки там-отко, на сопке этой и оскользнулся...
— Постой, постой, чо баишь-то? — Пасечник недоуменно посмотрел на Савелия: — Так вы от самых солонцов сюды и привели его?!
— Оттуда, оттуда. Сёдни вот утром вышли из зимовья твово и вот, слава богу, пришли, дотёпали... А зимовье твое пантовщики пограбили...
— Ну, бог с ним, с зимовьем! Бог с ним! Да как же он, сердешный, в экую снеговерть на костылях-то? — Пасечник заботливо подхватил Николая под локоть, помогая ему взбираться на крыльцо.
Стряхнув с одежды снег, тигроловы ввалились в теплую избу. На столе уютно горела керосиновая лампа, весело потрескивали в печи сухие еловые поленья.
— Счас я тебя, болезный ты мой, сча-ас, сча-ас, — приговаривал пасечник, проводя Николая в спальную комнату и усаживая его на лавку. — Помоги, Савелий, раздеться сынку своему. — Голос хозяина звучал требовательно и непреклонно.
Савелий с готовностью бросился исполнять это указание.
— А ты, Павлуша, налей-ко из кадки воды в ведро да поставь на плиту. Горячая вода скоро нам потребуется.
Уставший до предела Павел, успевший уже присесть на лавку, вскочил и тоже как можно быстрее принялся исполнять волю пасечника, а тот между тем, выйдя на минуту в сени, принес пучок какой-то травы и небольшой сундучок. В сундучке хранилась целая аптека лекарственных трав и мазей, все было аккуратно разложено по коробочкам, стеклянным баночкам и мешочкам.
— Счас мы ногу твою посмотрим и на место поставим, — уверенно проговорил пасечник, сбрасывая с себя шапку и бушлат. — Костоправство — это нам знакомо дело. Счас я тебе пихтовой смолки с травами намешаю, вот и лекарство готово будет. Потом вправлю все как есть, лекарствием ногу натру, лубок поставлю, бинтиком притяну. Дней пять походишь на костылях, попьешь зелья моего горького и бегом побежишь. Иные с переломами лежат, как чурбаны, по месяцу, а у меня скоро ходить будешь. У зверя раненого почему быстро все заживает? А потому, что он двигается! И переломы у зверя быстро срастаются. В недвижимом теле все болезни живут, как в стоячей воде болотной затхлость образуется. А в проточной воде — все чисто.
Старик, взяв лампу со стола, поднес ее к обнаженной ноге Николая. Осмотрев ее и удовлетворенно кивнув, он передал лампу услужливо стоявшему рядом Савелию:
— На-ко, посвети.
Нога на месте ушиба была припухшей, но опухоль уменьшилась, зато краснота и лиловость проступили резче.
Осторожно, легкими движениями ощупывая ногу, пасечник то и дело спрашивал Николая:
— Тут болит? А тут болит остро или тупо?
Сделав из бинта салфетку, он налил на нее из баночки какой-то тягучей, янтарного цвета жидкости, пахнущей смолой, добавил спирту, затем достал из пол-литровой банки другую мазь, похожу на солидол, присыпал все это каким-то белым порошком и наложил на больное место. Растерев этой смесью опухшую ногу, забинтовал ее от колена до щиколотки.
— А как же лубок? — не выдержав, наконец спросил с беспокойством Савелий. — Ты же говорил, лубок надобно. Перелом ведь.
— Дак это не я, а Николай про перелом-то говорил, — улыбнулся пасечник. — Перелому нет! Очень сильный ушиб, кровь спеклась над костью, от мази она скоро разойдется. Через два-три дня можно уже и приступать на ногу.
— Ну, спасибо тебе, Еремей Фатьянович! — облегченно вздохнул и с чувством поблагодарил Савелий, делая знаки и Николаю, приглашая и его выразить благодарность лекарю, но тот, не обращая на отца внимания, хмуро и недоверчиво разглядывал свою искусно забинтованную ногу.
Закрыв сундучок и усевшись на него, Еремей Фатьянович, расправив на груди широкую бороду, испытующе оглядел тигроловов, многозначительно покашляв в кулак, привлекая к себе внимание, сказал, точно обухом по голове ударил:
— Паренек-то ваш, Юдов, не к Евтею пошел, а в деревню удрал. Сразу же опосля вашего ухода и смотался...
— Ишшо чего! — Савелий изумленно уставился на пасечника: — Ты чо, Фатьяныч, правда, чо ли?..
— Как не правда? За всю жизть свою человека не обманывал, не имею таких привычек.
— Да как же это? — Савелий растерянно заозирался. — Как же это можно? Евтей же там без продуктов остался... Надо немедля идти к нему! Надо идти, Павлуха, выручать Евтейку!..
— Да погоди, погоди горячиться, — остановил Савелия хозяин. — Куды теперь на ночь идти? Токо силы вымотаешь да и делу повредишь. Завтра и пойдете.
— Так вить он же без еды тама, без сна, и костер поди-ка нечем уже поддерживать. Тигра там давно уж поди осаждат его, а он сонный...
— Плохо, выходит, дело... — пробормотал пасечник. — Я вот седни хотел продуктишки Евтею Макаровичу поднести, помочь чем могу, да не вышло... Снег-от, видали, какой? Версты три одолел, дальше тропа в гору пошла, а я в снегу увяз! Кое-как назад пришел. Мешок с харчишками в конце следа на елку подвесил, стрелил два раза. Навроде и мне Евтей отозвался. А может, поблазилось... Назавтра решил опять пробиваться. Ну, теперь, слава богу, сами и пробьетесь. А то ведь я ходок никудышный. Слава богу, не помер там. Я уж и записку — завещанье на столе оставил. — Пасечник, широко улыбаясь, покачал головой. — Написал помощнику своему, который, говорил я вам, приехать должен на лошади, да вот все не едет: запил, должно, в деревне. Ну в записке наказал ему, что, ежели не вернусь, пущай ищет меня по следу и тигролова выручает. Сидит, дескать, он у нодьи за Синей сопкой без продуктов.
Встревоженные тигроловы понемногу успокаивались, а когда хозяин повторил, что Евтей откликнулся выстрелом — значит, жив-здоров, подумали. Ночь одну уж как-нибудь потерпит, будет уверен, что помощь придет. Рассудив так, они принялись ругать Юдова такими отборными словечками, заслышав которые, пасечник покачал головой и, вспомнив, что надо отнести сундучок, ушел в сени. Вернулся он в избу лишь минут через пять, когда мужики «перебрали» Юдову все кости.
— Ну так вот, стало быть, — заговорил пасечник. — Проводил я вас, захожу в избу, гляжу: Юдов обувку на ногу надевает. Что, говорю, починил уже? «Починил, починил, дедуся!» Невежливо эдак отвечает. Обиделся я, однако молчу, гляжу, что дальше. А дальше — он чай стал пить. Одну кружку выдул, другую! Третью! Пьет, а с его пот градом. Вижу: нервное у человека настроение неспроста! Слышу — браниться стал, какого-то Цезаря все бранит: дескать, зря этому Цезарю две поллитры за след отдал. Цезарь след тигрицын показал ему, а этот Юдов у Цезаря как вроде след-то купил за две поллитры, а потом, стало быть, и вас привел. А привел-то вот почему: набрехал кто-то ему, что вы за отлов одного тигра десять тыщ золотом получаете. — Пасечник брезгливо поморщился. — Ну, когда узнал, что тыщу всего на бригаду, тут, видно, у него весь интерес пропал. Утром вы еще про тигрицу речь завели: дескать, опасная зверина и все такое подобное. Ну он, сразу я приметил, увял. Вот, чай-то он попил, попил, да и схватился за живот. «Ой! Ой! Аппендицит у меня! Надо, говорит, в больницу бежать, пока не поздно, у меня, говорит, уже один приступ был, а второй приступ опасный для жизни». За ружьишко свое, провиант из рюкзака вытряхнул и — бегом по дороге с оханьем да аханьем в деревню. Вот и вся недолга. — Пасечник горестно вздохнул и метнулся снимать с плиты закипевший чайник.
— Надо было, Фатьяныч, энтой заразе заряд дроби в задницу послать! — загорячился Савелий. — Сколь живу на белом свете, всяких людей повидал, а такого дерьма не видывал.
— А вы же в пример его ставили, Савелий Макарович, — не сдержался, высказал Павел давнюю обиду. — Такой примерный тигролов был...
— Ишшо чего! Я его, Павлуха, сразу наскрозь увидел! Трусоват, корыстен, ленив! Это вон Николай его все привечал, огораживал.
— Ну-ну, давай, вали на меня теперь, — ухмыльнулся Николай. — Стрелочника нашел. Ты бригадир, ты и отвечай за все.
— Вот так ты и делашь всегда — подзудишь, подзудишь, дров наломашь, а потом и выскользнешь! — возмущенно и обиженно проговорил Савелий. — Ну ничо-о, теперича в сам деле слушать тебя боле не намерен, хватит, наслушался!
— Вот и молодец, давно уж пора, — вяло согласился Николай.
* * *
Вместо условленных шести часов Савелий разбудил Павла в четыре. Сам он уже был одет по-походному. Тихонько, чтобы не разбудить Николая и пасечника, Павел, превозмогая сонливость и ломоту в теле, оделся. Взглянув на лицо Савелия, освещенное неярким, приспущенным огнем лампы, Павел усомнился в том, что бригадир смыкал глаза в эту ночь. Завтракал Савелий неохотно, все поглядывал нетерпеливо на Павла и на стоящие около порога котомки, в которые еще с вечера положили продукты, а также взятую у пасечника напрокат двухместную палатку, жестяную печурку с трубами, спальный пуховый мешок, две козьи шкуры на подстилку и две сигнальные ракеты, тоже предложенные добрым хозяином на случай, если придется пугать тигрицу. Котомки получились увесистые. Павел посматривал на них без энтузиазма, утешаясь только тем, что котомки нести все-таки гораздо легче, чем человека.
Взвалив наконец котомки на плечи и потушив лампу, тигроловы, стараясь не шуметь, вышли из теплой уютной избы в морозную темень.
Снегопад кончился, в черноте неба, затянутого тучами, кое-где поблескивали звезды. Покормив собак и взяв их на поводки, тигроловы, обогнув омшаник, вышли на свою вчерашнюю тропу, — ночной снегопад припорошил ее довольно толстым слоем. Павел хотел идти первым, но Савелий запротестовал:
— Ишшо успешь силу вымотать! Покуда есть тропа — иди сзади, на целик выйдем, тогда уж я тебе почашше буду уступать, ежели пожелашь.
В темноте полузанесенная снегом тропа различалась плохо; чтобы не напрягать зрения, Савелий удлинил поводок и пустил Амура впереди себя — идти за ним стало легче.
К подножию сопки, откуда вчера вернулся пасечник и где повесил он свой рюкзачишко с харчами, пришли на рассвете. Подъем в сопку из-за глубокого снега оказался действительно трудным, и тигроловам пришлось изрядно попотеть, прежде чем они выбрались на вершину. Здесь снегу оказалось больше, чем в пойме. Березы под его тяжестью согнулись коромыслом, плотно укутанные снегом пушистые ели казались издали непроницаемой белой стеной.
— Надо стрелить пару раз, может, Евтейка откликнется, — сказал Савелий.
Павел согласно кивнул, снял карабин, и в тот же момент оба тигролова услышали внизу два гулких торопливых выстрела. Это были выстрелы прицельные — так быстро, раз за разом, стреляют только по движущейся мишени...
«Не в тигрицу ли стреляет Евтей?» — с тревогой подумал Павел и, не спрашивая согласия Савелия, торопливо расстрелял в воздух все пять патронов. Загудела, заохала потревоженная гулким эхом тайга, с ближних елей серебряной пылью посыпалась кухта. Но вот умолкло, кануло в дебри эхо, тишина воцарилась кругом. Тигроловы с тревогой вслушивались в нее. Евтей, если все благополучно у него, должен непременно откликнуться выстрелом. И долгожданный этот выстрел прозвучал, и Павел через минуту ответил ему тоже одним выстрелом.
— Ну, слава богу! Жив-здоров братуха! — едва поспевая за расшагавшимся Павлом, радостно воскликнул Савелий. — Ничо-о! Скоро мы его малость подкормим, подпоим, взбодрим... Чо там впереди, Павлуха? Чей след? Не кабанья ли тропа? По такому глубокому снегу легко кабана добыть. Тигра надобно покормить, да и нам бы не мешало свининки.
Торопливо подойдя к следу, Павел невольно взялся рукой за ложе висевшего на груди карабина — это была, действительно, заснеженная кабанья тропа, но на ней четко отпечатался след тигрицы — он был уже подмерзший, но и не присыпанный легкой предутренней порошей. Собаки, жадно втягивая ноздрями воздух, тянули в ту же сторону, куда ушла тигрица.
— Тропа попутна — пойдем по ней, — тихо сказал Савелий. — Барсика к поясу привяжи, чтобы стрелять не мешал. Да и чтобы не вырвался — не дай бог, за тигрой увяжется...
Привязав поводок к поясу, Павел, держа карабин наизготовку, осторожно двинулся по тропе. Барсик отказывался идти сзади, все норовил обойти хозяина и вырваться вперед. Амур тоже тащил своего хозяина вниз.
— Павлуха! — тихо окликнул Савелий. — Дай-ко мне твово Барсика: помешат он тебе стрелять, дернет в самый неподходящий момент — упустишь зверя.
Передав собаку, Павел пошел вперед со взведенным затвором. Зверь может показаться в просвете деревьев всего лишь на несколько мгновений, и в эти мгновения надо успеть прицельно выстрелить. Цепкие глаза охотника внимательно ощупывали все пространство впереди, задерживаясь на каждом подозрительно темном пятнышке среди заснеженных деревьев и кустов, и наконец остановились на сером продолговатом бугорке, неестественно выступающем из-под снега. Сойдя с тропы и держа карабин у плеча. Павел стал медленно приближаться к бугорку, пока ясно не различил, что это лежащая на боку чушка. Поймав ее в прицел, Павел все ждал, когда она вскочит на ноги, но она была неподвижной. Чушка с разорванным горлом лежала на забрызганной кровью копанине. Ноги ее были уже замерзшие, но вся туша еще теплая. Тигрица свалила чушку мгновенно и, не тронув ее, а лишь постояв над ней и постегав хвостом, вернулась на тропу и ушла вниз.
— Это она от злости, — покачал головой Савелий. — Злая попалась, стерва! Евтейке, наверно, спать не давала. Бывают такие иногда: заберешь у нее тигренка, а она потом ходит и давит поголовно зверя — всю злость на ём измещает.
— Наверно, не злость это, Савелий Макарович, — неуверенно возразил Павел. — Просто инстинкт у нее первое время остается — задавить зверя и привести сюда детей своих, ну вот и давит она, а детей нету, вести некого. Ну и продолжает давить, пока не поймет, что зря давит.
— Может, и так, — согласился Савелий. — А только сейчас нам эта чушка как нельзя кстати пришлась.
Быстро разделав чушку, тигроловы, до отрыжки накормив мясом собак и нарезав мякоти на корм тигру, очень довольные зашагали к нодье напрямик по целику.
У подошвы сопки, за километр до нодьи, стали попадаться засыпанные снегом тигриные следы, но, чем ближе подходили охотники к нодье, к запаху дыма — тем следы встречались чаще, и свежей они были.
— Ты смотри, как она куролесила! Ты посмотри! — удивлялся Савелий. — Давно, давно таких нахальных не встречал.
Но, когда он увидел свежую, набитую до ледяной корочки, тропу тигрицы в какой-нибудь сотне метров от нодьи, множество прыжковых следов к самой нодье и к срубу, то, обогнав Павла, побежал впереди, тревожно крича:
— Евте-ейка! Евте-еюшка!! Брате-ельник!!!
— Ну чо кричишь?! Чо кричишь, как полоумный?! — раздался голос Евтея, и вслед за этим из-под дымящегося навеса вышел и сам Евтей — весь закопченный, перепачканный сажей, похожий на дюжего деревенского кузнеца.
Свежие тигриные следы обрывались в десяти шагах от сруба, огибали его и терялись в молодом пихтаче. Здесь же виднелись и старые следы — на них лежали там и тут черные головешки и обгоревшие куски дерева.
«Головешками отбивался», — догадался Павел, чувствуя, как холодеет спина от страшной догадки.
Тигриные следы виднелись и слева, и справа от табора, и там тоже всюду лежали и стояли торчком черные головешки...
— Батюшки! Да тут настояшше побоишше было! — воскликнул Савелий.
— Пришлось повоевать... Будь она неладна! — сдерживая радость, откликнулся Евтей.
Павел ожидал, что братья обнимутся или хотя бы пожмут руки, но они просто кивнули один другому приветливо, как будто и не расставались.
— Очень вы меня сейчас выручили, ребятушки! — помогая Савелию снять котомку, взволнованно сказал Евтей. — Пять патронов всего осталось. Ночью-то я головнями кидал в нее, без выстрелов обошлось. А тут, гляжу утром, — прет как танк. Два раза стрелил над ней, чуть отскочила и опять повернула... Ну уж дальше невозможно терпеть! Три патрона всего. Или она меня, или я ее. Только хотел ей промежду глаз пулю пустить, а тут — бабах! Бабах! Бабах! Ваши выстрелы. Ну, ее ровно кто шилом под задницу кольнул — рявкнула, и ходу! Ты, Павелко, стрелял? Молодец! Стрелил как по заказу. Выручил. Ишь как совпало! Ну, проходите, гостюшки дорогие, в хату мою. — Евтей с улыбкой кивнул на сделанный из жердей навес, под которым горел небольшой костерок.
Павел сразу отметил, что запас дров у Евтея небольшой.
Савелий принялся торопливо выкладывать из мешка продукты. Рассеянно следя за его руками, Евтей спросил напряженным голосом:
— Юдова с собой забрали?
— Ишшо чего! На пасеке мы его оставили, как условились...
— Да где же он? Что с ним случилось?! — Евтей тревожно посмотрел на Павла. — Где Юдов?
— Ты, братуха, не беспокойся. Он уже сам за себя побеспокоился, — продолжая выкладывать продукты, тянул с ответом Савелий. — Иудов он, а не Юдов. На осине повесить бы его за одно место...
— Да не тяни ты за душу! — рассердился Евтей. — Толком сказывай: что с ним?
— Драпанул — вот где Иудов!
— В деревню?.. Обидели вы его, что ли? Ничего не пойму! — Евтей опять повернулся к Павлу: — Объясни мне толком, почему Юдов в деревню ушел?
— Он не ушел, Евтей Макарович, а сбежал. На следующее утро, как мы ушли отсюда, он должен был вернуться к вам. Мы так и рассчитывали, а пришли вчера на пасеку — оказалось, сбежал...
Выслушав Павла, Евтей, вопреки ожиданиям тигроловов, не возмутился, но даже обрадовался:
— Ну и хорошо, что сбежал, хорошо, что живой! А то я тут испереживался весь. Не дай бог, думаю, что-нибудь случится. — И, поколебавшись, сказал виновато: — Я ведь все время опасался за него, ребяты... Всякой подлости ждал от него... Правду говорят: человек познается в мелочах... Этот человечишко и в мелочах-то был пакостник. Конфеты шоколадные прятал от нас да тайком их и ел. Было, видать, еще что-то вкусное в рюкзачишке у него, очень уж Барсик старательно всегда обнюхивал рюкзачишко. Я уж вам ничо не сказывал, опасался раздору. — Евтей усмехнулся, взглядывая на брата. — Он ведь любимчиком у сынка твово был...
— Да ну его к черту, Евтеюшко! Давай-ка лучше чайку вот попьем — кипяток, гляжу, приготовлен у тебя, заварить только надо.
Опасаясь, что Евтей вновь заведет речь о взаимоотношениях Юдова с Николаем и, чего доброго, примется еще приплетать к этому и Павла, Савелий, заваривая чай, стал торопливо рассказывать о том, как Николай повредил ногу и как Павлу пришлось вытаскивать его на пасеку. Рассказывая, он ни словом не обмолвился о большой ссоре с Павлом. Евтею это показалось неестественным и, посматривая на Калугина испытующе, он спросил:
— Как на духу отвечай — измывались над тобой Лошкаревы?
— Нет, этого не было, Евтей Макарович, — решительно сказал Павел, поймав на себе напряженный взгляд Савелия. — До обеда мы шли очень мирно...
— А после обеда рассорились?
— Да нет, Евтей Макарович, — улыбнулся Павел. — Ей-богу, не успели мы поссориться... После обеда Николай ногу ударил, и там уж стало нам не до ссоры...
— Вот-вот, разве что не успели, — недоверчиво закивал Евтей. — Честно говоря, я думал, выживут они тебя, пожалел уж, что остался у нодьи. Надо было Николая здесь оставить.
— Ни об чем не жалей, Евтеюшко! Ишшо чего! — взбодрился Савелий. — Чо жалеть-то? Сам же всегда говоришь: все, что не деется, деется к лучшему... Человек в беде познается. Ну я вот, может быть, энтим разом, в беде-то... — Савелий покашлял, насыпав в чайник заварки, продолжал трудно: — Может быть, в беде этой и признал Павла по-настоящему... Надежный мужик! И тигролов из него выйдет, я тебе скажу, самый что ни есть хваткий — без подмесу! Ты думашь, Евтеюшко, мы с Павлухой зря сходили в тот Гнилой ключ? Не зря, не зря...
Евтей, выслушав брата, сказал с чувством:
— Ну что ж, брательничек, если так действительно... очень я рад тому! У меня теперь камень с души свалился. — И, подсаживаясь к огню, довольно поглаживая выпачканную сажей, свалявшуюся бороду, с нетерпением оглядывая еду, сказал устало: — Еще бы часика три вздремнуть, то и вовсе вся жизнь малиной станет...
— Это мы устроим, Евтеюшко, устроим! — с готовностью закивал Савелий. — Вот мы прям тут под навесом палатку поставим, печку в ней установим, козьи шкуры есть на подстилку, спальник пуховый — ложись и спи, а мы с Павлухой тигра покормим, дровишек напилим. В два часа я тебя разбужу, пообедаем и на пасеку с тобой пойдем. Пасечник с Николаем яшшик для тигра седни сделают. Седни же помощник к Дубову приедет на лошади, стало быть, завтра сюда на санях пробьемся.
— А Павла хочешь здесь оставить?
— Ну дак чо — конешно. Собак он к срубу привяжет, сам в палатке в спальнике спать будет. Печку ясеневыми поленьями заправил — и спи! Ежели тигра станет подходить — собаки залают. — Савелий вынул из мешка две ракеты, важно потряс ими: — Как станет подходить, одну ракету пустит — и больше уж не захочет тигра сюда вернуться. Да и пора уже ей возврашшаться к другому своему отпрыску, а то и его прозевает скоро.
— Теперь-то уж хоть так, хоть эдак — все одно прозевает, — заметил Евтей, сонно посматривая на рдеющие угли костра.
Только теперь, внимательно приглядевшись к Евтею, Павел заметил, что веки у старика от бессонных ночей припухли, белки глаз красные, лицо уставшее, изможденное.
Сытно поев и напившись чаю, тигроловы, убрав из-под навеса костер, быстро поставили на это место палатку и печку. Внутри палатки все застелили пихтовыми ветками, снаружи, чтобы не поддувало, огребли снегом. После того как разгорелась печь, в палатке стало уютно и тепло. Забравшись в спальный мешок, Евтей тотчас уснул.
С трудом отыскав вдалеке от табора сухую елку, Савелий и Павел, чтобы не мешать спящему, распилили ее на месте, а затем перетаскали чурки к табору. Покончив с дровами, принялись кормить тигра. Срезав прут, Савелий наколол на него кусочек мяса и просунул в щель между бревнами. Оглушительно рявкнув, тигр выбил лапой мясо, и оно упало вниз. Следующий кусок тигр с яростью схватил с прута и тут же проглотил. В глазах его при этом кроме злобы промелькнуло нечто, похожее на удивление. Третий кусок зверь схватил уже с меньшей злобой и, хотя рявкал он так же раздраженно и оглушительно, но уже зарождался в горле его звук, напоминающий довольное урчание.
— Ну во-от, распробовал! — радостно закивал Савелий. — Давай, давай уплетай. — И, нанизывая новый кусок мяса, наставительно сказал Павлу: — Ежели зверь в неволе начал еду принимать — шшитай, полный порядок тогда!
Последующие куски тигр вскоре стал брать вполне мирно: наклоняя голову, снимал кусок с прутика и, как казалось, добродушно, «для порядка» лишь, клокоча горлом, жевал и сердито смотрел на щель, откуда не должно, а просто обязано уже было появиться мясо. Иногда, если мясо соскальзывало с прутика и падало вниз, выпустив когти, цеплял его лапой и, словно бы с брезгливостью, совал в клыкастую пасть. Глаза его при этом нет-нет да прижмуривались от удовольствия.
«Бесподобный зверь! — пристально рассматривая тигриную морду, восхищался Павел. — Сидит в плену, а сколько в нем достоинства! И мясо ест с таким видом, как будто не мы ему, а он нам делает одолжение...»
Павел обернулся и внимательно посмотрел на сидящего на привязи Барсика; пес следил за руками Савелия, нанизывающими на прутик очередной кусок мяса, но, поймав на себе пристальный взгляд человека, ответил ему преданным взглядом и, словно решив, что этого мало, завилял хвостом. «Кто может поручиться за то, что братья наши меньшие не способны иметь о нас, людях, какое-то свое представление? Может, они снисходительны к нам, а мы кичимся перед ними, вознесли себя на высоту, нам не принадлежащую и незаслуженную? Может быть, мы все равны перед лицом природы, и нет ни меньших, ни больших братьев, а есть нечто единое, летящее к единой Истине, к какому-то единому Закону, искать который надо, быть может, не в глубинах мироздания, но рядом с нами и в нас самих?» — И, подумав так, Павел невольно удивился этим невесть откуда нахлынувшим мыслям — никогда прежде он не рассуждал на эту тему так серьезно, как сейчас, наверно, виной тому были глаза тигра — злые, дремучие, загадочные...
Накормив зверя, нажарив шашлыков на обед, тигроловы разбудили разоспавшегося Евтея. Скоро Евтей с Савелием ушли, пообещав вернуться с лошадью если не завтра, то к вечеру второго дня — непременно.
Оставшись один, Калугин переколол чурки, поленья сложил в палатке вокруг печки. Больше делать было нечего. Но Павел решил времени зря не терять. Заправив печь сырыми поленьями, он забрался в спальный мешок и, положив около себя карабин, фонарик и две ракеты, лег спать, полагая, что тигрица вернется к срубу не раньше ночи, а к тому времени он успеет хотя бы немного выспаться. «Хорошо с собаками, — думал он, засыпая. — Начнет тигрица подходить — они залают, разбудят. А как же Евтей без собак обходился? Жутко, наверно, сидеть у костра и ждать ее из темноты?»
Собаки залаяли ночью, залаяли злобно и азартно. Павел, открыв глаза, несколько мгновений неподвижно смотрел в темноту, напряженно прислушиваясь, затем, нашарив рукой карабин, стараясь не производить шума, выбрался из спального мешка, включил фонарь, надел на ноги войлочные чулки, отвинтил колпачок ракеты, вынул из нутра патрона кольцо и с бьющимся сердцем, положив включенный фонарь на спальник, взяв в одну руку ракету, в другую карабин, высунул из палатки голову. Луна уже спряталась. В двух шагах от сруба остервенело лаял Барсик.
— Ну, ладно же, сейчас я тебе устрою джазовый концерт. — Калугин не без робости выскочил из-под навеса, дернул за кольцо, и тотчас в звездное небо с шипеньем стремительно полетела красная ракета. Взлетев на головокружительную высоту и сделавшись красной точкой, она хлопнула и, ослепительно вспыхнув, залила все вокруг мертвенно-розовым дрожащим светом. Не дожидаясь, когда потухнет, Павел стал торопливо стрелять по вершинам деревьев. Горящая в небе ракета, оглушительные выстрелы, многократно усиленные эхом, — все настолько перепугало собак, что они, забыв о тигрице, беспокойно заметались на привязи, пытаясь вырваться и умчаться прочь. Павел, торопливо перезарядив карабин, прислушался. Простояв минут пять в неподвижности и не услышав ни малейшего подозрительного звука, он, выстрелив в темноту еще два раза, вернулся в палатку, зажег свечку и, растопив печь, вновь залез в спальный мешок. Остаток ночи Павел доспал без тревог. А уже в полдень услышал скрип и шум саней, задевавших кусты, понукание возницы. Впереди лошади, выбирая дорогу, с палкой в руке, шел на широких лыжах-голицах Евтей. Савелий, стоя на задке розвальней, навалившись грудью на большой ящик, правил лошадью. Такому быстрому возвращению братьев-тигроловов Павел удивился и обрадовался.
— Как это вы так рано управились? — виновато сказал он подошедшему Евтею. — Я ждал вас не раньше вечера — чай горячий есть, а еду не сварил...
— Ранняя птичка, Павелко, носок утирает, а поздняя — глаза продирает! — Евтей хозяйским глазом оглядел табор: лицо его, разгоряченное ходьбой, выражало довольство. — Ну, как ночь коротал? Гляжу — заспанный, неужто не подходила?
— Подходила один раз, собаки разбудили в полночь. Ну я устроил ей небольшой концерт. Ракету пускал и из карабина бабахал. Убралась.
— А ее самою видал или нет?
Очень хотелось Павлу сказать, что видел и «самою», но в последний момент язык не повернулся солгать.
— Жа-алко. Ну ничо-о, даст бог, не последнего ловишь — увидишь еще!
Укрыв потную лошадь брезентом, бросив ей охапку сена, Лошкаревы сняли с саней ящик, подтащили его торцом вплотную к срубу, затем Савелий поднял шибер — задвижку. Ящик с поднятой задвижкой напоминал гигантскую мышеловку. Павел с интересом следил за происходящим. Савелий принялся осторожно скалывать топором концы торцовых бревен сруба, Евтей другим топором подваживал ему тот угол венца, который давил на участок подруба и мешал Савелию. Таким образом тигроловы обкололи все концы бревен с одного угла сруба и с другого, оставив нетронутыми только нижний и верхний венцы. На каждый удар топора тигр раздраженно рявкал и то и дело кидался на угол. Лошадь, привязанная в стороне, хотя и была, по уверению пасечника, очень смела и не единожды помогала госпромхозовским охотникам выволакивать из тайги кабаньи и медвежьи туши, но, заслышав теперь громоподобный тигриный рык, сразу перестала жевать сено и, всхрапывая ноздрями, задрожала, заозиралась, испуганно приседая.
Обколов концы бревен до такой степени, чтобы каждое бревно могло при усилии выпасть из венца, тигроловы раскидали с верха сруба все лишние валежины, затем Евтей, зайдя к срубу с противоположной от ящика стороны, просунул в щель прутик и принялся дразнить тигра, отвлекая его на себя, и пока тот рявкал да с яростью мочалил клыками торец прутика, Савелий тем временем, чуть отодвинув ящик, с помощью Павла быстро выдернул из сруба надколотые бревна, а в образовавшийся проем вновь придвинул ящик, как придвигают мышеловку к норе.
— Ну вот, одно дело спроворили! — удовлетворенно воскликнул Савелий. — Теперь ишшо уговорить бы его в нову хватеру перейти.
— Неужели это сложно? — удивился Павел. — Я думал, самое трудное позади уже.
— Когда как, Павлуха, когда как. Иной раз, токо откроешь шибер, так он сразу в клетку и переходит, а другой раз приходится целый час его по срубу палкой ширять, покуда он сруб оставит. Ну, сёдни мы ему долго упрямица не дадим. — Савелий кивнул на розвальни. — Сена вон прихватили на этот случай.
Павел хотел спросить у Савелия, при чем тут сено, но решил, что просто не так понял, и спрашивать не стал. Наказав Павлу стоять около ящика и, как только тигр зайдет в него, тотчас опустить шибер, Савелий, вооружившись палкой, подошел к Евтею и принялся, просовывая палку через верхние бревна сруба, тоже дразнить ею тигра. То отбивая палку лапой, то хватая ее пастью, тигр яростно рычал, крутился в срубе, но в черный проем ящика не уходил. Чем-то не нравилась тигру новая квартира. Минут пять промучившись и не добившись толку, Евтей остановил Савелия:
— Хватит, брательник! Вишь как он заупрямился — ажно исхрипелся весь от злости.
— И то верно — ну его к шуту! Павлух! Неси-ко сюда охапку сена, шшас мы ему устроим принудительное выселение из старой хватеры в новую.
Теряясь в догадках, принеся две охапки сена, крайне заинтересованный, Павел с нетерпением стал ждать дальнейших событий. А Лошкаревы между тем принялись проталкивать пучки сена через верхние бревна внутрь сруба. Тигр, не переставая рычать, хватал пастью каждый пучок, но они все прибывали и прибывали, постепенно заполняя своей массой все большее и большее пространство сруба. Когда третья часть сруба оказалась забита сеном, тигру пришлось поневоле перейти в ящик, который Павел немедленно закрыл, а шибер Савелий тут же прибил четырьмя гвоздями, — неровен час, перевернутся розвальни, откроется шибер, выпустит дорогого пленника. Но мало показалось тигроловам и этой предосторожности, — сняв палатку, они набросили ее на ящик и только тогда, когда туго перевязали его крест-накрест веревками, успокоились. Да и тигр, оказавшись в темноте, сразу перестал рявкать и стучать лапами по доскам. Успокоилась и лошадь, перестала вздрагивать и всхрапывать и лишь непрестанно мотала мордой и косила на оглоблю вытаращенные глаза, когда тигроловы при помощи ваг втаскивали ящик на розвальни.
— Ну вот, полдела сделали! — похлопывая лошадь по шее, сказал Евтей и многозначительно посмотрел на Павла.
— Неужели только полдела? — не поверил Павел. — Привезем на пасеку, сообщим на зообазу, приедет машина, заберет тигра — и делу конец! Разве это проблема?
— Вот-вот, самое главное ты и выпустил, — снисходительно закивал Евтей. — Тигру сдал на зообазу и на этом успокоился, а, промежду прочим, тигра должна пройти на зообазе месячный карантин. Ежели она, скажем, подохнет через двадцать девять дней — кукиш с маслом ты получишь за нее! Тигра пропала, и труды твои пропали задарма. Обидно? Вот и будешь ты цельный месяц переживать: подохнет али не подохнет? Да мало и этого! Потом целый год ловить будешь этого тигра во снах — вот ведь какая канитель... — Евтей смотрел на Павла с веселым лукавством, точно готовился разыграть его.
— Это верно, верно, Евтеюшко, — закивал Савелий. — Канительная у нас с тобой работенка, скажу я тебе по совести — хуже некуда... Так что, Павлуха, наперед крепко подумай, прежде чем в нашу тигроловску кумпанию встревать, — подытожил он. — Встрянешь, а потом нас же и ругать зачнешь: дескать, пошто не отговорили, да и пошлешь всю нашу кумпанию куды-нибудь подальше... — Савелий тоже, как и Евтей, смотрел на Павла с улыбкой, ожидая, что ответит он, но Павел, ответив на улыбки улыбкой, дипломатично промолчал.
Наскоро пообедав, тигроловы двинулись в путь. Евтей, ведя на поводке Амура, пошел на лыжах по санному следу впереди лошади, — ею правил Савелий, — а Павел с Барсиком пошли за санями. На склоне сопки пришлось сделать остановку минут на двадцать — за это время Павел с Евтеем принесли к розвальням тигрицын «подарок» — чушечье мясо.
Перевал оказался крутой, в некоторых местах лошадь с большим трудом выволакивала сани, и мужикам приходилось помогать ей. Зато с перевала она стремилась бежать рысью, и пришлось людям висеть на санях и волочиться за ними...
До пасеки добрались уже при лунном свете.
Утром Савелий с помощником пасечника, рыжеволосым разбитным мужичонкой, увезли тигра в деревню, откуда бригадир должен был позвонить на зообазу и вызвать машину, на этой же машине он планировал съездить домой, взять там охотничьи лыжи для всей бригады, узнать домашние новости и сразу вернуться на пасеку, чтобы немедленно приступать к отлову второго тигра.
Именно так все и вышло — к вечеру третьего дня к пасеке подкатила старенькая зообазовская машина; на дверях ее кабины крупными горделивыми буквами было написано: «ДВ зоо-комбинат», а внизу, под надписью, была довольно искусно нарисована оранжевой краской голова тигра. Такая броская необычная надпись, вероятно, действовала на службу ГАИ примерно так же, как действует надпись на воротах «Осторожно, во дворе злая собака!» Савелий привез лыжи, продукты, не забыл и тигриный ящик привезти назад.
Наказав шоферу держать машину на зообазе в готовности и ждать звонка в течение всей недели, тигроловы отпустили его, хотя по распоряжению директора он должен был ждать их здесь на пасеке: отловленного ими тигра нужно было немедленно отвезти на зообазу, а оттуда с той же поспешностью, без карантинного срока отправить самолетом в Москву, в Зооцентр, и затем уже дальше, за границу, по срочному заказу какого-то государства.
— Приспичило имя! — с притворной строгостью ворчал бригадир. — Ишшо отловить сперва надо, а уж потом обешшать. А то наобешшали там, а нам теперь отдувайся за них... — Однако должной строгости у Савелия не получалось, лицо его сияло от удовольствия, и было ему, несомненно, приятно, что там, в Москве, «наобешшались», а ему, Савелию, теперь вот приходится «отдуваться».
— Ничо, Савелко, шибко не расстраивайся, как-нибудь управимся — надо выручать начальство, — польщенно успокаивал брата Евтей. — Специальный заказ — дело нешуточное! Тут тебе и престиж, и политика, и все остальное протчее — надо постараться.
— Знамо дело, постараемся, — с готовностью отзывался Савелий. — Завтра чуть свет выйдем на ее след и айда! Как думашь, Евтеюшко, за неделю-то управимся?
— Кто его знает, — может, и раньше. Может, и управимся, а может, завтра опять снегом все следы засыплет, — осторожничал Евтей.
Улучив время, когда Павел ушел на ключ по воду, Савелий сообщил Николаю и Евтею о том, что директор зверопромхоза за самовольный уход с промыслового участка и за невыполнение производственного плана уволил Павла, и приказ об этом, утвержденный уже и местным комитетом, висит на доске.
— Павлухе-то пока об этом говорить не надобно, — посоветовал он. — А то расстроится парень. Отловим тигра, домой приедем, я тогда сам схожу к Михаилу Григорьевичу да поговорю с ним, может, ишшо уговорю его отменить приказ.
— Не имел права увольнять парня! И ходить тебе никуда не надо, — резко возразил Евтей.
— Ты не кричи! Что ты предлагашь? Парня-то выручать надобно, из-за нас пострадал...
— А ничего я не предлагаю! Еще неизвестно, кто пострадает... Пущай Павел после отлова едет к себе на участок да молча продолжает промысел. К концу сезона он может не токо план свой выполнить, а и перевыполнить его. Вот и останется твой Попич с носом! Пущай попробует уволить охотника, ежели он план свой выполнит... Тут и к прокурору можно обратиться: есть ли такой закон — увольнять охотника, ежели он не токо свой план по пушнине выполнил, но еще и двух тигров государству поймал? Нет такого закону!
— Ну дак ты, Евтеюшко, потом и посоветуй, и посоветуй ему, — обрадованно закивал Савелий.
— А чо ему советовать? Посоветую, конечно, если сам не догадается. Да токо, брательничек, Павелко сам кому хошь посоветует.
Вечером, после ужина, укладываясь спать, Павел не без тревоги спросил:
— Вы, Савелий Макарович, в промхоз не заходили?
— Нет, Павлуха, не заходил — недосуг мне было. А чо там делать, в промхозе? — Савелий настороженно посмотрел на Павла: — Тигра недоловили, хвастать нечем.
— Да это я к слову, просто так спросил. Если, думаю, заходили в промхоз, так новости промхозовские узнали, наверно...
— Нет, Павлуха, не до новостей мне было, даже в бане помыться не успел.
«Значит, не знают о том, что Попич грозился уволить меня, — подумал Павел. — Ну и замечательно! А то непременно стали бы сейчас успокаивать. — Он покосился на Николая. — А этот не упустил бы случая позлорадствовать...»
Было только еще девять часов, но тигроловы решили улечься спать пораньше: ведь завтра надо проснуться задолго до рассвета и быть готовыми опять идти по следу зверя и день, и два, и три — ровно столько, сколько потребуется для завершения многотрудного и опасного тигроловского сезона, существующего на земле исключительно благодаря лишь энтузиазму самих тигроловов — и дай бог, чтобы не для прихоти обществу, но для пользы ему...
* * *
Но поймать второго тигренка не удалось. Напуганная тигрица пять дней без остановки водила свое семипудовое дитя по болотистой уремной низине Гнилого ключа, пытаясь запутать следы, оторваться от двуногих преследователей, и наконец, убедившись в тщетности своих стараний, пошла напролом через свежие леспромхозовские деляны, через воняющие соляром лесовозные дороги, не обращая внимания ни на огромные штабеля леса, ни на грохочущий вой и лязг трелевочных тракторов, ни на визгливую трескотню бензопил. Отчаянно и благополучно прорвавшись сквозь все страшные препятствия, она поднялась на водораздел и спустилась в благостную тишину заповедника.

Посокрушавшись, измотанные тяжкой погоней, но более всего угнетенные неудачей своей, тигроловы на шестой день преследования вынуждены были бросить свежий тигриный след и вернуться на лесовозную дорогу.
А еще через сутки они, где на лесовозах, где на дежурной леспромхозовской машине, где на рейсовом автобусе, добрались до райцентра и предстали пред очи начальника зообазы.
— Все, Томаз Георгиевич, отловились мы: осечка получилась! — едва поздоровавшись с начальником, с ходу выпалил Савелий. — Увела тигренка, увела! В заповедник увела! А ежели других искать — недосуг уже, Новый год через неделю. — Савелий смущенно потупился, потеребил бороду и дальше уж продолжал притухшим виноватым голосом: — Нам ведь, Георгич, тоже свой план выполнять надобно; ежели пушнину не добудем — уволют, по шапке, стало быть, дадут. Да вот и Николаю отпуск уже просрочился — прогул ему закатают, али ишшо чего сделают... Так что, извиняй, Георгич... не обижайся, стало быть. Домой нам ехать пора... Ежели что — мы согласные в конце февраля, после промыслу...
Начальник зообазы — высокий, уже немолодой грузин, прежде работавший начальником орса и всего лишь полгода назад заступивший в новую должность и чувствовавший себя на ней еще не совсем уверенно, умоляюще смотрел на бригадира тигроловов:
— Савелий Мака-арович! Дараго-ой! Виручайте! Такой, понимаешь, знаменитый тигролов — сорок тигров поймал, еще одного как-нибудь поймай! Я на вас недэюсь...
— Так вить домой мы уже собрались, Томаз Георгиевич, нам вить план по пушнине надобно выполнять...
— Виручай, дарагой, виручай! Тигра не поймаем — директор с меня шкуру спустит. Москва слезам нэ верит! Знаешь такую пагаворку?
— А пошто они лицензии такие присылают? Неделя до января осталась! Пошто лицензию на всю зиму не дают? Они думают, тигру поймать — плевое дело?.. Где мы теперь успеем? Пока следы ишшем, тут тебе и срок лицензии пройдет... Вот кабы след на примете был...
— Тибе нужен след! Дарагой! Зачем сразу не сказал? Есть след! Есть след! — обрадовался начальник и, пошарив у себя в нагрудном кармане, вынул оттуда листок бумаги, сунул его почему-то Павлу: — Читай, дарагой! — В телеграмме сообщалось о том, что тринадцатого декабря из Красноармейского района, из села Мельничное, звонил Артемов Ничипор. Велел сказать, что в районе старого брошенного зимовья на устье ключа Благодатного обнаружен свежий след молодого тигра, направление следа — на верховья ключа.
— Вот! — торжествующе сказал начальник. — Разве это не след? Виручай, дарагой, виручай!
— Это бродит, должно, напарник того, чьи кости обглоданы. — Савелий вопросительно посмотрел на брата: — Как думаешь, Евтеюшко, может, рыскнем?
— Время есть, можно рискнуть, только надобно заехать в Мельничное, еще одну собаку выпросить. Наши две собаки могут не удержать такого черта. У Жигайлова надо просить.
— Ну вот, Томаз Георгиевич, стало быть, давайте ответ директору: дескать, ушли тигроловы в тайгу. А там уж, понятное дело, будем стараться, токо пушшай оне там побыстрей распоряжаются, а то уж больно у них там шеи длинные... Пропишите имя: ежели, дескать, будете и впредь так медленно мозгами ворочать да лицензии присылать к шапошному разбору — забидимся тогда не в шутку, откажемся ловить — ей-бо, откажемся! Пушшай сами ловят.
Долго еще Савелий отчитывал неведомых начальников своих, а самый непосредственный его начальник, стоя сейчас перед ним, беспечно и радостно улыбаясь, согласно кивал ему и думал уже о том, из какой ближайшей фермы привезет он на корм тигру теленка или свинью, ведь положено тигру семь килограммов мяса в сутки: «Виручай, дарагой! Виручай! — мысленно умолял он. — Сорок тигров поймал — еще одного поймай как-нибудь. Директору напишу, обязательно напишу!.. Один тигр — семь килограммов, два тигра — четырнадцать килограммов... Виручай, дарагой, виручай!»
* * *
Тигроловам необычайно повезло: еще сегодня утром они выехали из ворот зообазы, и вот уже подходят к благодатненскому зимовью. Удивительно и радостно! Да и как не удивляться? Двести километров от города до Мельничного удалось проехать за полдня. Правда, холодно ехать в открытом кузове, но зато мягко — сена начальник зообазы не пожалел. Подъехали к дому Жигайлова и тут же у калитки встретили хозяина, без трудов уговорили его отдать на время черного пса своего. Жигайлов, старик-пенсионер, однажды оказавший уже тигроловам подобную услугу за десять рублей, потребовал нынче в три раза больше.
Однако промысловики, к удивлению Жигайлова, не стали торговаться, а приняли собаку с радостью, потому что готовы были заплатить и пятьдесят рублей, и, запоздало догадавшись об этом, старик поставил условие:
— Если тигра собачку сожрет или покалечит — заплатите за нее сто рублев!
От Жигайлова поехали они на территорию промхоза в сторожку Хохлова, да узнали по пути, что через час в сторону Благодатного ключа должен ехать на отводы делян леспромхозовский мастер. Вездеход уже стоял около крыльца конторы леспромхоза и готов был отъезжать. Быстро договорившись с водителем и мастером лесоучастка, тигроловы съездили в магазин, закупили продукты, и через полчаса сидели уже в кузове вездехода. Тот путь, который надо было одолевать пешком за два дня, на вездеходе одолели за три часа. Правда, за два километра до устья Благодатного вездеход свернул вправо, на отводы делян, но и тут охотникам подфартило — не пришлось пробивать целик. Лыжня Ничипора Артемова подвернулась — по ней и пошли, а вскоре и след тигра подсекли — он действительно принадлежал молодому тигру и был похож на тот, который тигроловы бросили в верховьях Большой Уссурки. След был четырехдневной давности, и это тоже обрадовало, потому что давало шансы настигнуть зверя у первой давленины. И вот теперь шедший впереди Савелий, увидев избушку, не выдержал напора теснивших его радостных чувств, приостановившись и покачав головой, удивленно сказал:
— Надо же! Солнушко не закатилось, а мы уже стоко дел переделали!
Судя по следам, Ничипор в зимовье не заходил, а, стоя на лыжах, открыл дверь, заглянул внутрь и пошел дальше, — вероятно, очень торопился.
В избушке оставался тот же порядок, какой оставляли тигроловы после своего ухода. Быстро растопив печь приготовленной и оставленной им же самим растопкой, Евтей сказал, обращаясь к Николаю и Павлу:
— Пушай молодые пока дрова впрок заготавливают, а мы с тобой кашеварить заступим, — и с веселым лукавством Евтей подмигнул Савелию.
Спать улеглись, как обычно перед трудным днем, рано. Перед сном Савелий перебрал, прощупал в своем мешке каждую вязку, каждую веревочку. Евтей с Николаем напряженно следили за его руками, и Павел вскоре поймал себя на том же — побывавшие на тигриных лапах вязки и веревки притягивали взор, волновали и тревожили воображение. «Удастся ли настигнуть зверя? И долго ли придется гнаться за ним? А настигнутый — не убьет ли он собак?» Вопросы, вопросы, вопросы — и все тревожные, и все без ответа...
* * *
...Три дня кружил тигр по ключам и распадкам, то и дело натыкаясь на старые леспромхозовские вырубки, пересекая заросшие березняком и ольхой дороги, обходя стороной штабеля леса. Не везло тигру ни на редких кабаньих тропах, ни на частых изюбриных следах.
— Ох и непутевый, балбес! — ругал тигра Савелий. — Ну какого хрена путаться в порубах? Шел бы вон на гору Благодатную: там и чушка держится, и лес некалеченый. Непутевый тигр, непутевый! Чует мое сердце: опять у нас с энтим тигром добром не кончится...
На четвертый день поруба наконец-то кончились, и тигр в самом деле, как хотел того Савелий, повернул к сопке Благодатной и стал подниматься на нее. Вскоре появились свежие кабаньи тропы, тигриный след запетлял по ним. Собаки заволновались, потянулись вверх. Там всюду стоял чистый парковый кедрач. «Если там ловить придется, негде будет рогатину вырубить», — с тревогой подумал Павел, невольно оглядываясь по сторонам, высматривая рогатину. Перехватив взгляд Павла и поняв его, Евтей согласно кивнул и сказал, торопливо сбрасывая котомку:
— Давайте-ка, ребятки, заране рогули вырубим — крепкие да объемистые выбирайте, не дай бог, сломается.
— И то верно, Евтеюшко! — засуетился Савелий. — Там-отко, на горе, некогда будет... Как бы собак не стравить ему, вишь какой охотник — давить уже выучился.
Вырубив крепкие удобные рогатины, тигроловы вновь двинулись по следу. С рогатиной хотя и тяжелей стало идти, но спокойнее.
Кабанья тропа, то разбиваясь на множество следов, то вновь соединяясь, взбиралась все выше и выше. Иногда на крутых местах подбитые сохатиным камусом лыжи пробуксовывали, соскальзывали назад, и тут очень кстати служила опорой рогатина. Смахивая рукавом обильный пот со лба, Павел то и дело с беспокойством оглядывался на Евтея: Барсик давно уже хрипел на поводке, рвался вверх, Амур у Савелия и Валет у Николая делали то же самое.
— Быстрей, быстрей, Павелко, не останавливайся! Как увидишь давленину и свежие следы — стреляй, не дожидаясь команды, — хрипло дыша, подбадривал Евтей. — Да много не стреляй. Тигрицы нет — отбивать некого. Просто страху ему нагнать и чтобы от собак отвлечь, может, не станет их шибко преследовать — растеряется. А мы и подоспеем... Токо, чур, Павелко, вперед бригады ни на шаг не отрываться! С энтим в одиночку не устоять... Ну, давай бог! Ишь как собаки всполошились... Близко уже...
Хоть и ждал Павел этого мгновения, напряженно выискивая глазами давленину, но, увидев ее, все-таки вздрогнул, на мгновение оцепенел и лишь после этого торопливо снял карабин и, обойдя стороной растерзанного кабана-прошлогодка, выискал на снегу выходной тигриный след. Удостоверившись, что он горячий, принялся неторопливо стрелять. Подбежав к Павлу, Евтей вывел рвущегося и повизгивавшего Барсика на тигриный след и, отстегнув ошейник, отпустил его. Тотчас спустили своих собак и Савелий с Николаем.
— Дуй за имя, Павлуха! — услышал Павел за спиной азартный голос Савелия. — Не останавливайся!
Притормаживая рогатиной, Павел стремительно скользил вниз, умело объезжая деревья, удачно проскакивая сквозь заросли кустов. Неожиданно громко и близко внизу залаяли собаки; мощно, раскатисто рявкнул тигр. Павел резко затормозил, остановился в растерянности. Тигроловы, один за другим спустившись к нему, тоже остановились, заглядывая вниз, пытались высмотреть среди деревьев собак. Лай их, дружный и настырный, раздавался совсем недалеко. Но вот опять рявкнул тигр — и сейчас же истошно завизжала жигайловская собака.
— Побьет собак! Быстрей к нему! — всполошился Савелий и ринулся вниз.
Павел, сильно оттолкнувшись, догнал бригадира и, чуть опередив его, стал набирать скорость, но услышал сзади предостерегающий окрик Евтея:
— Помедленней, ребята!! Шибко не разгоняйтесь, на тигру наедете! Снимайте лыжи, мать вашу!! Куды вы прете?!
Чуть притормозив, Павел оглянулся вправо на голос. Евтей с Николаем, попав в полосу кустарников, лихорадочно выпутывались из них. Вот Николай, споткнувшись, упал на бок. Евтей подал ему конец рогатины.
Лишь несколько секунд смотрел Павел на отставших, намереваясь дождаться их, полагая, что и Савелий остановится, но тот, промчавшись мимо, лихо объехав торчащую из-под снега коряжину и упавшую вниз вершиной пушистую ель, выскользнул на чистый склон и вдруг, выронив рогатину, взмахивая руками, точно пытаясь удержаться, перевернулся через голову и зарылся в снегу. «Доазартничался», — подумал Павел, но тотчас похолодел, увидев на фоне зеленой хвои большого оранжевого тигра... Коротко рявкнув, тигр небольшими, но упругими, сильными скачками ринулся вверх, прямо на барахтающегося в снегу человека...
— На помощь!! — неистово закричал Павел, помчавшись тигру наперерез. «Только бы не упасть», — промелькнула мысль, и уж больше он не ощущал себя и ни о чем не мыслил, какая-то новая сила и какой-то новый разум завладели его телом, а он, словно бы отстранившись от себя, подчинялся тому разуму и той силе: не упуская из виду скачущее оранжевое пятно, он мчался ему наперерез.
Выскользнув на чистое место между Савелием и тигром, Калугин торопливо, но без суеты, снял лыжи, карабин, затем сбросил рюкзак и, когда до оскаленной тигриной морды осталось уже не более пяти шагов, выстрелил в воздух, затем второй и третий раз. Тигр на мгновение присел, рявкнул, но не испугался, а, широко распахнув красную пасть, с кошачьим шипеньем пошел на человека грудью. Павел, чуть отступив, бросил в его пасть шапку, но зверь с поразительной ловкостью отбил ее лапой. Продолжая отступать, неловко зажав под мышкой правой руки рогатину и этой же рукой держа взведенный карабин, Павел бросил в тигра рукавицу. Зверь схватил ее пастью, приостановившись, пожевал и, вытолкнув, яростно зарычал, застегал хвостом, прижал уши, готовясь к прыжку.
«Не дать ему прыгнуть. — Павел выстрелил над головой зверя и увидел, как тот, крупно вздрогнув, распрямил уши и вновь с шипеньем двинулся вперед. — Надо время протянуть, сейчас ребята подбегут...» Медленно пятясь, Павел ощупывал пятками склон, чтобы не упасть. В стволе карабина оставался только один патрон, нестерпимо хотел выпустить его в оскаленную звериную пасть... Но Павел знал, что никогда не сделает этого. А раз так — надо отбиваться рогатиной, и держать ее нужно двумя руками. Выстрелив последний патрон, Павел воткнул карабин прикладом в снег и выставил рогатину.
— Держись, держись, родимый!! Не допущай его до себя, не допущай!! — точно издалека услышал он. — Не допуща-а-ай!
Но зверь уже опять прижал уши и, не обращая внимания на наседавших сзади собак, готовился к прыжку.
— Куда, паразит?! Куда?! — испуганно закричал Павел. — Я тебе прыгну!! Я тебе прыгну!! — И с тем же, вероятно, отчаянием, с каким курица-наседка кидается на разъяренного цепного пса, он сделал два шага вперед, резко ткнул концом развилки в оскаленную тигриную пасть.

Тигр сомкнул челюсти, рванул рогатину на себя, Павел качнулся, но устоял на ногах и тоже, с подступившей вдруг злостью, рванул рогатину к себе, пытаясь вырвать ее, но не смог; в это же время справа и слева от него послышался шорох, замелькали ноги, полы шинелок, чья-то рогатина ударила тигра сбоку в шею. Зверь качнулся, но еще две рогатины тотчас опрокинули его на бок в снег. Павел на мгновение растерялся, не зная, куда ткнуть свою рогатину: кругом пыхтели, хрипели, что-то кричали, матерились. Тигр, сбитый на бок, раскидывая лапами снег, поднимал голову и, выплевывая из пасти куски коры и дерева, страшно выпучив от напряжения глаза, пытался упереться задними лапами во что-нибудь, но, не находя опоры, елозил по снегу из стороны в сторону. В это место, в мягкий тигриный пах, изо всех сил и надавил Павел рогатиной.
— Вдавливайте, вдавливайте его поглубже в снег! — звучал голос Евтея. — Крепше шею держи, Николай! Ах ты, держи его... Мать твою!..
— Убери, Евтейка, ногу, ногу, говорю, убери! Шшас он тебя за ногу поймат — вишь, вишь, целит?!
— В снег его глубже, брательник! В снег! Кинь ему в пасть мешок. Где мешок? Мешок где?
На тигриную морду падает мешок, зверь глухо, утробно рыча, ловит его лапами, сжимает челюсти — охотникам только этого и надо: навалившись, они переворачивают чуть расслабившегося тигра на спину и вдавливают его в снег. Держать стало сразу легче. Однако, скоро почуяв обман, тигр отбросил мешок и принялся царапать и отталкивать рогатины. Вновь навалились, предельно напряглись тигроловы.
« Эх, еще бы одного человека!» — подумал Павел.
— Ишшо бы человечка одного! — точно угадав мысли его, воскликнул Савелий. — Подтолкни ему, Николай, мешок к морде, может, ишшо отвлекется?
Несколько раз тигр пытался буйствовать, взрывался, и всякий раз, когда удавалось сдержать и погасить его буйство, Павел удивлялся этому и не без страха ожидал следующего взрыва. Пальцы у него онемели, и он с тревогой подумал о том, чтобы не отморозить их вовсе. В левом кармане его лежали запасные кожаные перчатки; улучив момент, когда тигр опять отвлекся мешком, Павел освободил левую руку, вынул перчатки и, помогая себе зубами, быстро надел их — и вовремя! Тигр ударил лапой подкравшегося к нему Амура, пес, взвизгнув, отлетел в снег, обиженно залаял и стал заходить с другого бока. Нахальство собаки, вероятно, и привело тигра в бешенство. Собрав все силы, он рванулся, оглушительно рявкая. Но устояли тигроловы и на этот раз. Лишь через час или больше зверь перестал вырываться, и Савелий, передав рогатину Николаю, приступил к связыванию лап. Связывал он этого тигра точно так же, как первого, только с большей осторожностью и медленней.
В объемистый мешок тигра удалось запихать только до половины. Недолго думая, Савелий достал из Евтеева мешка двухметровый кусок бязи, обмотал ею голову тигра и грудь его, затем Евтей вырубил еловую жердь, к ней и прикрутили веревками спеленатого зверя. И лишь после этого тигроловы обнаружили, что нет на площадке жигайловского кобеля...
Спустившись вниз, в молодой ельничек, откуда тигр выскочил на Савелия, Евтей обнаружил там растерзанного Валета. Барсик на этот раз не пострадал, у Амура было надорвано ухо, но это ему попало от тигра уже тогда, когда зверь был прижат рогатинами.
— Придется платить Жигайлову сто рублей, — поморщился Савелий.
— Жалко пса, — сказал Евтей, обращаясь к Павлу, разглядывающему свою изодранную тигром шапку. — Ничо-о, Павелко, зашьешь, носить будешь как память — фартовая шапка!.. — Евтей задумчиво оглядел вершины кедров. — Два часа связывали — ишь как кругом вытолкли!.. Сухостоя для нодьи не видно. Придется этого битюга волоком вниз тащить до подошвы. Килограммов сто двадцать — сто пятьдесят в нем будет. Поканителимся мы с ним теперь, ох и поканителимся...
Стащив тигра волоком до подошвы сопки, охотники километра полтора несли его на жерди, на плечах, пока не увидели два сухих, годных для нодьи, кедра. Сруб и табор ладили при свете костра, едва не падая от усталости. Всю ночь тигр рявкал и гулко стучал лапами по бревнам, сотрясая сруб, не давая измотанным людям спокойно спать.
Утром, еще при лунном свете, Павел с Евтеем ушли в поселок и через три дня привезли на леспромхозовском вездеходе большой, сделанный из толстых плах и обитый сверху кровельным железом, ящик. Вместе с ними приехали и добровольные помощники: начальник лесоучастка, солидный седоватый мужчина в шапке из меха выдры, и участковый милиционер, молодой белобрысый парень.
* * *
...Весть о том, что охотники поймали тигра и привезли его в зверопромхоз, облетела весь поселок еще прежде, чем тигр действительно был привезен туда. Поэтому, когда к сторожке Хохлова подъехал вездеход, недостатка в помощниках не было — ящик с тигром буквально облепили, подняли, как пушинку, и поставили под окно сторожки, куда указал Савелий.
Мужики стали просить бригадира показать им тигра.
— Нельзя его шибко нервировать, спокой ему нужен, — неуверенно сопротивлялся Савелий. — Ишшо разольется у него желчь от нервного стрясения, а нам сдать его надобно в полном здравии...
— Да мы одним глазом посмотрим, жалко тебе, что ли? — выступил вперед широкоскулый верзила в замасленной телогрейке и в таких же замасленных ватных штанах. С подчеркнутой небрежностью облокотившись на ящик, он нетерпеливо смотрел на Савелия: — Ну так чо, батя, разрешаешь посмотреть на зверюгу вашу? А то говорят кругом — тигренка поймали, а там, может, и не тигренок вовсе... Полудохлую кошку затолкали туда...
— Ишшо чего! Болташь языком, как трепало мочальное! — рассердился Савелий, но вдруг, помягчев голосом, вкрадчиво сказал: — Не веришь, так открой заслонку, вон под рукой у тебя — посмотри... Токо лицо поближе к решетке придвинь, а то темно там — не разглядишь... — И подмигнул Евтею.
Павел, уже знавший о том, что тигр всегда чрезвычайно раздражается, когда человек слишком близко приближает лицо свое к щели сруба и тем более к решетке, с напряженным любопытством наблюдал за парнем.
— Ну давно бы так, батя! А то нельзя да нельзя. Все можно, если осторожно! — Верзила легко отогнул два больших гвоздя, удерживающих щит, отставил его в сторону и, не раздумывая, присев на корточки, приблизил лицо свое к решетке: — Эй, зверь, зверище, где...
В это же мгновение весь ящик вздрогнул, громыхнул, возле решетки распахнулась красная языкастая пасть и так рявкнула, что даже ожидавший этого Павел вздрогнул. Толпа зевак отшатнулась, а верзила, упав на спину и тут же мгновенно вскочив на четвереньки, по-обезьяньи сделал два больших прыжка в сторону, затем, испуганно оглянувшись, вскочил и, стараясь перекрыть дружный хохот мужиков, смущенно сказал, все еще с опаской поглядывая на решетку:
— Не ожидал я... Думал, маленький... Сказали, тигренок. Ну чо вы гагочете? Сами вот приблизьтесь к нему — посмотрим тогда... — И, махнув рукой, подобрав оброненные рукавицы свои, не оглядываясь, пошел прочь.
— Э-эй, Глотников! Вернись! Еще один разочек поцелуй тигреночка! Ха-ха-ха! Глотников! Ты зачем воздух нам испортил?
Тигроловы довольны, но особенно доволен Савелий: поглаживая бороду, он прямо-таки цветет от удовольствия.
— Ну, теперь ему целый год не дадут житья, — сказал Евтей.
Насмеявшись, мужики подошли к решетке поближе и стали уважительно смотреть на рычащего тигра.
К вечеру охотники ждали грузовую зообазовскую машину, но вместо нее к сторожке подкатил «газик».
— Корреспондент приехал! — посмотрев в окно, сказал Савелий.
В словах его Павел не уловил и тени удивления, но прозвучали они, как ему показалось, чуть-чуть снисходительно и с такой уверенностью, будто корреспондент просто обязан был появиться здесь, если не сегодня, то завтра.
— Молодой или старый? — спросил Евтей.
— Да в летах уже, с пузом, на пузе два аппарата.
— Ну, значит, из краевой газеты, не меньше, — с улыбкой заявил Евтей...
— Ишшо один вышел из кабины, хотя нет — энта шофер... — Савелий, отпрянув от окна, сел к печке и напустил на себя самый беспечный вид, явно переигрывая в этом.
Раздался шорох шагов, дверь без стука распахнулась, и на пороге встал небольшого роста толстый человек в ондатровой шапке, в черном новом полушубке и в новых же, из собачьего меха, унтах.
— Здравствуйте, товарищи тигроловы! — Одутловатое, гладко выбритое лицо корреспондента расплылось в улыбке. — Я к вам от Томаза Георгиевича. Вчера он мне сказал, что вы большого тигра поймали. Прямо из Владивостока сюда к вам прикатил. Томаз Георгиевич велел передать вам, чтобы вы день-два подождали тут — машина поломалась у него и клетку для тигра заказали новую сварить.
— Проходите, садитесь, пожалуйста, — сказал Николай, подставляя корреспонденту свою табуретку.
— Нет-нет, спасибо, у меня очень мало времени. Завтра к утру я уже должен сдать материал в газету. Давайте, пока еще светло, выйдем на улицу, и я там сделаю несколько снимков! А потом я с удовольствием попью с вами чайку, заодно и побеседуем! — Говоря все это, корреспондент не снимал с лица своего дежурной улыбки, и голос его звучал неестественно бодро, и громко, и излишне панибратски.
На улице корреспондент фотографировал тигроловов во всем их походном снаряжении. Савелия, державшего на поводке Амура, он поставил впереди, затем Евтея с Барсиком, а уж потом Николая и Павла.
— А забор на карточке виден будет? — озабоченно спросил Савелий, кивая на забор, возле которого стоял.
— Не беспокойтесь, вместо забора будут деревья! Так, хорошо! А теперь, Савелий Макарович, становитесь вот сюда, я вас отдельно сниму. Сороковой — роковой тигр, об этом надо написать! Это не каждый день происходит.
Корреспондент снимал Савелия с рюкзаком и без рюкзака, с одним лишь карабином и с лыжами на плече, и без лыж. Савелий делал вид, что все это порядком уже ему надоело и он вынужден терпеть, — на самом же деле снимался, как заметил Павел, с большим удовольствием. Отсняв половину пленки, корреспондент попросил открыть заслонку решетки и показать тигра, предусмотрительно отойдя от ящика на несколько шагов. Сфотографировав через решетку морду рычащего тигра и не удовлетворившись этим, он вдруг, осененный какой-то радостной мыслью, торопливо подошел к бригадиру:
— Савелий Макарович! А нельзя ли как-нибудь сделать так, чтобы вы держали тигра за уши? Представляете, какой юбилейный снимок получился бы?! Бригадир тигроловов Савелий Макарович Лошкарев держит рокового тигра за уши! Колоссально!
— Ишшо чего! Этого нельзя, — нахмурился Савелий.
— Ну почему нельзя? А если попробовать? Давайте попробуем!
— Он уже пробовал, — усмехнулся Евтей. — Покажи-ка, Савелко, гражданину корреспонденту отметину.
— Да чо там показывать, ну вот она. — Савелий задрал на левой руке рукав и показал над запястьем большой старый шрам.
— Да-а, крепко он вас укусил, кре-епко! — покачал головой корреспондент и, секунду помолчав, неуверенно предложил: — А может, дырку в ящике пропилить, а когда он голову высунет, вы схватите его? Такой бы снимок на обложку журнала... — Но, увидев, что Савелий и на это предложение собирается ответить отказом, упредил его: — Ну нельзя, так нельзя. Я не в претензии. Хотя жаль, искренне жаль! Такой снимок журналы всего мира обошел бы... Ну тогда не будем терять время, пойдемте чай пить. — Голос корреспондента как-то сразу поблек, чувствовалось, он очень расстроен тем, что не получил здесь того, на что рассчитывал.
По причине ли расстройства, или потому, что кружки охотников были не слишком чисты, он, отказавшись от чаю, тотчас же принялся задавать Савелию вопросы и кратко записывать его ответы. Вначале Савелий отвечал неохотно, односложно, но затем оживился и принялся жестикулировать, рассказывая корреспонденту попутно о том, что того вовсе, должно быть, не интересовало. Терпеливо выслушав Савелия, журналист записал имена и фамилии членов бригады, облегченно вздохнув, спрятал было блокнот под полушубок, но снова выдернул его и обратился к Савелию:
— Да, Савелий Макарович, еще к вам один вопрос. Вот вы уже тридцать лет возглавляете бригаду, глава династии, но все-таки когда-то придется уступить эту должность. Как говорится: «Учитель, воспитай ученика». Кому вы передадите свои знания, свой богатый опыт, кому доверите продолжать свое ремесло? Вот, я вижу, сын ваш, Николай Савельевич, поймал с вами двадцать тигров, значит, ему и продолжать династию? — Корреспондент выжидательно смотрел на смутившегося вдруг Савелия. — Кто продолжатель, кто наследник ваш? — Авторучка корреспондента что-то уже нетерпеливо выводила в блокноте.
Пауза затягивалась. Теперь уже не только корреспондент, но и тигроловы смотрели на бригадира с напряженным интересом. Почувствовав это, Савелий, виновато покосившись на Николая, сокрушенно сказал:
— Не-ет, сын у меня токо помогат, когда в отпуске. У него хлопотная должность в городе. Стал быть, бригадирствовать ему недосуг... — Савелий вновь покосился на сына — тот смотрел на отца и удивленно, и сердито, и сконфуженно. — Да вот, стал быть, пошел сынок у меня по другой стезе, — уверенней продолжал Савелий и перевел взгляд свой на сидящего в углу Павла.
— Так что ж выходит, Савелий Макарович? Учитель, значит, не воспитал ученика, и дело ваше сходит на нет? — разочарованно спросил корреспондент, закрывая блокнот.
— Пошто не воспитал? Ишшо чего! — Савелий измерил корреспондента снисходительным взглядом и, погладив бороду, с искренним убеждением и достоинством сказал: — Не боись, наше тигроловско дело не утухнет! Передадим его, будь покоен, в хорошие настоящие руки! — И, помолчав для вящей значимости момента, кивнул на Павла: — Вон где сидит мой ученик, так и запиши в своей тетрадке — Павлуха Калугин, дескать, продолжатель лошкаревского семейного дела. Вот он вам, настоящий, коренной таежник, настоящий, без подмесу, тигролов!!
— Но ведь он всего двух тигров с вами поймал, и уже продолжатель?
— Да в том дело рази? — оскорбился Савелий. — Два тигра... Да энти два тигра, может, ишшо дороже моих сорока.
— Ого! Это уже интересно! — оживился корреспондент и, расстегнув две верхние пуговицы на полушубке, умостившись за столом поудобней, вновь раскрыл свой блокнот и стал расспрашивать Павла, сколько ему лет, кем работает, где родился и почему он выбрал себе такое опасное ремесло. Ответы молодого тигролова явно не удовлетворяли его. Записав в блокнот необходимые данные и отодвинув его от себя, он, навалившись грудью на стол, решил, видно, вызвать Павла на живую беседу:
— Так, значит, Павел, с детства вы мечтали тигроловом стать? И вот мечта ваша осуществилась... Н-да, это, безусловно, приятно. А вот расскажите, Павел, о своих первых ощущениях, когда вы увидели тигра... Страшно было? Только честно!..
Павел видел, что корреспондент в душе очень хочет получить отрицательный ответ: «Чего, мол, там... Совсем не страшно». Но, не кривя душой, сказал:
— Как же не страшно, конечно, страшно, все-таки тигр, царь зверей...
— Значит, все-таки страшно было? Так, так... Ну а что вы чувствовали в то время, как боролись со своим страхом?
— Как боролся? Очень просто боролся. Есть ведь чувства, пострашнее физического страха...
— Например?
— Например, ответственность, чувство долга.
— Ага, ну понятно, понятно. Павел, и все-таки мне бы очень хотелось знать подробней о ваших ощущениях. Ну вот, к примеру, что вам запомнилось больше всего в этом тигрином походе, что взволновало вас и что сейчас волнует? Ради бога, Павел, без стеснения!
— Да я и не стесняюсь, с чего вы взяли? На ваш вопрос сложно и долго отвечать, да и вряд ли интересно это будет вам...
— Ну что вы, Павел, зря-а! Ей-богу, зря. Мне, как журналисту, любой штрих человеческого характера чрезвычайно важен. Ты уж мне поверь. Если есть у тебя что-то на душе — вот и выскажи, воспользуйся случаем. — Губы корреспондента слегка дрогнули, он смотрел на Павла снисходительно и нетерпеливо.
— Ну хорошо, я воспользуюсь, — вдруг рассердился Павел. — Вот вы спрашиваете: что запомнилось мне в тигрином походе? Отвечаю: люди запомнились! Дела их — хорошие дела и плохие... Трелевочный трактор запомнился, в тайге брошенный! — Павел посмотрел на тигроловов — Евтей и Савелий одобрительно кивали ему. Лицо Николая выражало скуку. Корреспондент тоже кивал одобрительно, но в блокнот ничего не записывал; серые, чуть навыкате глаза его, кроме простого любопытства, больше ничего не выражали. — Многое запомнилось, — тихо продолжал Калугин, обращаясь уже не столько к корреспонденту, сколько к Евтею и Савелию. — Да, многое запомнилось и о многом подумалось... Ну и тигры, конечно, запомнились — красавцы! Великолепные звери! — Павел посмотрел на Евтея, сосредоточенно пощипывающего бороду, чуть помедлив, решительно сказал: — И все-таки не чувство восхищения испытывал я при виде того, как человек держит царя зверей за уши, а чувство вины и чувство тревоги. Тревожно за зверя и тревожно за человека...
Залаяли собаки, с улицы послышались возбужденные детские голоса. Корреспондент встал, торопливо спрятал блокнот, застегиваясь, отступая к двери, с любопытством смотрел на Павла.
— Да, а вы мне понравились, интересный вы человек, интересный! Очень жаль, что мало времени у нас. Но я надеюсь, мы еще с вами встретимся.
Сразу после ухода корреспондента в сторожку пришла целая делегация школьников с просьбой показать «настоящего живого тигра». Пришлось Савелию не только показать его ребятишкам, но и долго рассказывать, как ловили зверя. Наконец ребята ушли, и Савелий ворчал, что замучили его окаянные сорванцы вопросами. Однако лицо его выражало довольство. Вскоре опять залаяли собаки. На этот раз тигра пришли смотреть две женщины, работницы столовой. Потом до самых сумерек приходили учителя, солдат, приехавший на побывку, примчался на «газике» сам директор леспромхоза с женой и сыном, и, наконец, уже в сумерках, к ящику подошел какой-то пьяный мужик и принялся, не обращая внимания на лай собак и грозное тигриное рычание, открывать щит. Савелий, увидевший это в окно, крепко выругавшись, выскочил из сторожки, схватил приникшего к решетке мужика за полу телогрейки и оттащил в сторону. Пьяный оказался Глотниковым — он рвался к тигру на единоборство:
— Сейчас я голову отверну вашей паршивой кошке! Глотников обиду не прощает! Я счас ей рыкало заткну...
Вышедшие из сторожки тигроловы пообещали Глотникову затолкать его в ящик к тигру, и, когда эта угроза не остановила мужика, они перебросили его через забор — это подействовало.
* * *
Ты, отец, не забудь составить ведомость, — напомнил Николай. — А то протянешь резину... Давай составим и сразу отдадим начальнику...
Чтобы не стеснять Лошкаревых своим присутствием при дележе заработка, на который, как по уговору, так и по собственному убеждению, он не имел права, Павел, сказав, что должен отбить матери телеграмму, вышел из сторожки.
— Видал, брательничек, каков Калугин? — кивнул Евтей на дверь: — Думаешь, почему он ушел?
— Да смекаю... Делите, дескать, как хотите, мне вашего не надобно.
— Так, Савелко! Именно так! Смекай...
— Да чего там смекать, дядюшка? Просто корчит из себя бессребреника, а на самом деле идет сейчас на почту, а в душе один вопрос — денежный!
— Ты, племяш, по себе всех не равняй, — строго сказал Евтей.
— Ладно вам, ишшо раздеретесь, — перебил спорящих Савелий. — Давай пиши, Николай, пиши скорей.
Николай принялся писать под диктовку отца.
— Так. Пиши. Ведомость на распределение заработка за двух отловленных тигров. Общая сумма за двух отловленных тигров составляет две тысячи четыреста пятьдесят два рубля. Рубли пиши прописью. Та-ак... Дальше. Бригада тигроловов в составе: бригадир — Лошкарев Савелий Макарович; члены бригады — Лошкарев Евтей Макарович, Лошкарев Николай Савельевич, написал?
— Написал. Итого?
— Нет, не итого! Погоди... — Савелий вопросительно посмотрел на Евтея: — Как с Павлухой поступим, Евтеюшко?
— А это вы промеж себя решайте, брательничек. С Николаем решайте. Как решите, так и будет.
— Ну а ты? Ты-то как думашь?
— А никак я не думаю — чо мне думать? Ты бригадир, ты и думай... — Евтей с нарочитым равнодушием посмотрел в окно.
— Стал быть, тебе все едино? — усмехнулся Савелий. — Ну а ты, сынок, как думашь об энтом деле? Надобно Павла записывать, али, как условились, пушшай остается без пая?
— А мне тоже все равно, отец, как решите, так и будет!
— Ты не психуй, я ведь советуюсь, чтобы не было обиды промеж нас.
— А чего тут советоваться, отец, по-моему, договор дороже денег?
— Так-то оно так, — неуверенно согласился Савелий. — А все ж надобно это дело пересмотреть — неувязка тут, проруха выходит. Человек-то ловил? Ловил! Жизнью своей рисковал, надсажался, тебя же таскаючи... С промхоза его увольняют — через нас, стало быть, пострадал...
— Мы тут ни при чем, отец! Сам он напросился.
— Да я не про то! Не про то совсем! — рассердился Савелий. — Я ведь говорю, что нехорошо обижать человека, а ты мне виноватого скорей отыскивать.
— Ты тоже, отец, не кипятись, дело не только в деньгах, а и в принципе — он ведь знал, на что шел, и сам это условие выдвинул.
— Он-то выдвинул, а нам надобно его задвинуть, как ты энтого не могешь понять? А ишшо образованный...
— Ну так задвигай, что ко мне-то претензии предъявляешь? Я свое мнение сказал.
— Да ну тебя! — досадливо отмахнулся Савелий. — Я ему про Фому, а он мне про Ерему. Ну скажи, Евтеюшко, ты свое мнение — писать или не писать Калугина?
— Я уж тебе сказал, брательничек. — Евтей, нахмурившись, продолжал смотреть в окно. — Как решите вы, так и будет.
— Тьфу! С вами недотолкуешься. Пиши тогда Калугина!
— Ну, как хотите, я свое мнение высказал. — Рука Николая неохотно легла на бумагу. — Написать нетрудно, да только возьмет ли эти деньги сам Калугин? Он ведь самолюбивый и гордый!
— Пиши, пиши, не сумлевайся! — решительно успокоил Савелий. — Откажется не откажется — это его дело, а наша задача — ведомость составить.
— Ежели ото всего сердца да настойчиво предлагать, то и не откажется, — помягчевшим голосом сказал Евтей, одобрительно кивая Савелию. — Кроме того, ежели фамилия Павла будет в лицензии указана, тогда Попич не сможет его уволить.
— Вот и выход нашли! — обрадовался Савелий. — Пиши дальше. Записал Калугина? Теперь две тыщи раздели на четыре части — скоко получается?
— Я уж разделил. Шестьсот тридцать рублей получается.
— Ну вот, стало быть, так. Хорошо! А теперь пиши отдельно, кому сколько мы должны из общей суммы уплатить. Перво-наперво за собаку Жигайлову клади сто рублей. За первый след Юдову пятьдесять рублей...
— Этому можно было бы не платить и за след, — возразил Николай.
— Да, этому я бы тоже не стал платить за след, — охотно поддержал племянника Евтей. — Пятьдесят оплеух ему, или того вернее — штаны спустить да перед всем поселком по заднице.
— Так-то оно так, — почесал затылок Савелий. — А все же за след надобно заплатить — марку фирмы нашей держать надобно...
— Это верно, марку держать надо, и подлеца гладить по голове резона нет... А слушай-ка, Савелко, — взбодрился Евтей, что-то вспомнив: — След-то Юдов у Цезаря за бутылку перекупил, сказывал Еремей Фатьянович, вот и давай эти полста рублей на его имя отложим.
— Ну, это другое дело! — сразу обрадовался Савелий и даже вздохнул облегченно. — Пиши на Цезаря.
— Цезарь — это же кличка, ты что, отец? Нужна настоящая фамилия.
— А шут его знат, какая у него фамилия настояшша? Пиши — Цезарь. Найдут! Так, далее... Пиши ишшо полста рублей за второй след Артемову Ничипору — молодец, вовремя позвонил на зообазу. Теперь на продукты истратили сто рублей. Вот, кажись, все! Шшитай теперь итог, да вычти от каждой фамилии, по скольку останется?
— А что тут считать? Остается каждому по пятьсот тридцать восемь рублей.
— Ну вот и отлично! — облегченно вздохнул Савелий. — Ежели все тигры карантин пройдут, через месяц и получим денежки.
— Подфартило нам здорово, — улыбнулся Евтей, — кажный год бы вот так фартило... А помнишь, Савелко, как мы с тобой за тем трехпалым целый месяц ходили?
И Лошкаревы принялись вспоминать о том, сколько раз им приходилось гоняться за одним тигром по месяцу и более, а, бывало, выходили из тайги ни с чем.
Заслышав шаги Павла, Евтей радостно вскинулся:
— Вы ему пока не сказывайте про то, что в ведомость его включили. Убери, Николай, бумажки со стола, спрячь!
— Убери, убери, — согласно закивал Савелий.
— Ну вот, уже и в дипломатов превратились! Скоро по имени-отчеству начнете его величать, — язвительно сказал Николай, но ведомость все-таки спрятал.
* * *
Загрузив ящик с тигром в машину, укрыв его брезентом, тигроловы пошли в сторожку пить чай. Во время чаепития начальник зообазы подробно расспрашивал Савелия о том, как был пойман этот большой тигр. Затем, задав Павлу несколько вопросов, удовлетворенно покивал, приценивающе оглядел парня, улыбнулся:
— У меня к тебе, Павел Калугин, конфиденциальный разговор. Пойдем-ка на улицу, поможешь мне в одном хорошем деле.
Не поняв заковыристого слова. Савелий привстал из-за стола:
— Может, ишшо помощники нужны, Томаз Георгиевич? Так мы тоже поможем.
— Нет, не-ет, мы сами двое справимся!
Недоуменно пожав плечами, встревоженный Калугин вышел вслед за начальником. «Интересно, зачем я ему потребовался для секретного разговора. Уж не Попич ли что-нибудь наплел про меня?»
Зайдя за машину, начальник зообазы сказал:
— Я тебя, Павел Калугин, знаешь, зачем позвал? Не знаешь? Очень харашо! А теперь слушай миня внимательна. Корреспондент, каторый был тут у вас, сказал, что Савелий Лошкарев сильна хвалил тибя. Говорил, наследник ты. Прадалжатель династии Лошкаревых — так, да? Сичас я беседовал с Лошкаревым Евтеем. Слушай, этот мужик — бальшой галава имеет! Он тоже тибя хвалил.
Пропуская все это мимо ушей, Павел напряженно ждал, когда начальник доберется до сути.
— Я тибя долго не задержу, — продолжал тот, заметив нетерпеливый взгляд парня. — Время — деньги, это я понимаю! Значит, так, абъясняю бистро нашу ситуацию. Но ты ответ давать не тарапись. Семь раз будишь мерить — патом ответишь. Значит, так. В районе вашего села, на Змеиной горе, арганизуется для нашего хозяйства новый заказник. Нужен егерь. Маладой, сознательный, энергичный егерь, этат егерь будит звералов! Этат егерь будит получать задание на отлов диких коз, кабанов... Этат егерь будит палучать лицензии на отлов тигров! Представляешь: егерь палучает лицензии и арганизовывает бригаду? Ти будишь арганизовывать бригаду! Ти сможешь арганизовывать бригаду? Сможешь тигров ловить?
— Смочь-то смогу... — растерянно сказал Павел. — Но вы меня совсем ошарашили, — признался он. — Даже сообразить не могу сразу, что ответить. Ловить тигров я согласен — к этому и стремлюсь, но ловить буду в прежнем составе, разумеется... Еще очень многому надо мне научиться у Лошкаревых.
— Ну, правильна! Правильна! — обрадованно закивал начальник. — Очень правильна размишляешь — учись на здоровье! Значит, егерем согласен работать?
— Тигров ловить согласен, а егерем... Егерем работать — не знаю. Никогда не думал об этом.
— А ты не тарапись думать — я тибе сразу не требую ответить...
— Надо мне сначала охотничий сезон закончить, план по пушнине выполнить...
— Виполняй, дарагой! Виполняй! Мне твое принципиальное согласие иметь нада. Сегодня думай, завтра думай, на этой неделе пазванишь, ладна? Вот и дагаварились! Оклад маленький за егерский служба, сразу предупреждаю, но будишь тигров лавить, коз диких лавить, слушай, миллионером станешь!..
— Хорошо, Томаз Георгиевич, с тиграми у нас вопрос решен, а с егерством я подумаю и после Нового года непременно позвоню. Кажется, рейсовый автобус идет — надо быстрей собираться.
— Ну, я на тибя надеюсь, Калугин, ми с табой далжны сработаться. Я не пойду старожку — душна там. Шоферу скажи: пускай машину заводит. Про лицензии Лошкаревым пака не говори...
— О чем это вы там секретились? — настороженно спросил Савелий вошедшего Павла.
— Егерем предлагает мне быть в новом заказнике.
— А где заказник?
— Прямо за речкой, на Змеиной горе.
— Ну-у, паря, так это вить самы хороши места! И что ж ты ему ответствовал?
— Сказал — подумаю.
— Соглашайся, Павелко, соглашайся! — с жаром стал убеждать Евтей. — В промхозе тебе уже житья от Попича спокойного не будет, за кажным шагом он твоим теперича уследит. И на тигров не пустит.
— И все-таки я подумаю, Евтей Макарович, очень уж должность щекотливая...
Просигналил автобус.
— У тебя, Калугин, совсем неверное понятие о практических вещах... — ворчливо сказал Николай, но не закончил.
— Давайте быстрей выносите вешши, а я поведу собак в автобус, — проговорил Савелий, суетливо одеваясь.
...В автобусе, отвернувшись к окну, Павел думал о предложении начальника зообазы. И так и эдак прикидывал, а выходило одно: согласиться на должность — значит поссориться со многими сельчанами, в том числе и с самым близким другом — Колькой Кузьминым. Ведь на территории будущего заказника многие охотники-любители ставят капканы на колонка и норку, а по осени успешно белкуют и бьют копытного зверя. Пять-шесть из всех охотников имеют и лицензии на отстрел копытных, и договора на добычу пушнины, остальные промышляют самовольно, пользуясь слабым контролем охотинспекции. Да и какой может быть контроль, если все три зверопромхозовских егеря в ноябре-декабре тоже, как и штатные промысловики, охотятся каждый на своем участке, делая инспекторские рейды лишь в конце промысла?.. Оно, конечно, понятно, окладишко у егеря с гулькин нос, а заработать хочется не хуже других — вот и развелось множество браконьеров. Заказник не обрадует и законных и незаконных охотников. Будут лезть в него, и придется отбирать капканы, составлять протоколы... Павел вообразил, как он составит протокол на своего соседа, дядю Васю Плещеева, славного, доброго мужика. Представил, как будет писать протокол на друга своего, и твердо решил отказаться от егерской должности: «Нет, не по мне эта служба, не по мне. Тигров ловить согласен, а егеря поищите себе другого...»
* * *
В большом рабочем поселке Базлаиха пассажиры решили пообедать, но столовая оказалась на ремонте. Двое парней вызвались сбегать в магазин, но и тут не повезло: магазин закрылся и должен был открыться только через сорок минут. Парни принесли с собой две свежие газеты, развернув их и просмотрев, заоглядывались на Савелия. И сейчас же газеты пошли по рукам, и все читавшие их непременно оборачивались и смотрели на бригадира тигроловов. Во взглядах их Павел улавливал кроме простого любопытства еще и уважение, и неподдельный восторг.
«Не иначе, корреспондент уже успел написать о нас», — подумал он и попросил газету у соседа, когда тот закончил читать. На четвертой странице он увидел на снимке Савелия, стоящего с рюкзаком и с рогатиной на плече, вместо забора на заднем плане снимка четко проступали крутые лесистые сопки. Взгляд Савелия был устремлен куда-то вдаль. Справа от снимка крупными буквами с интригующими многоточиями в конце было напечатано: «Сороковой — роковой...»
«Ну-ка, что он тут написал про нас? — заинтересованно подумал Павел и принялся читать: «Кто не знает известного тигролова Савелия Макаровича Лошкарева? Тридцать лет отдал он своему опасному ремеслу, тридцать восемь полосатых хищников прошло через его крепкие богатырские руки, и сам он под стать былинному русскому богатырю. Нет, не оскудела еще наша Земля чудо-богатырями! Свидетельством тому — тридцать восемь уссурийских тигров, находящихся в зоопарках нашей страны и многих стран мира. И, хотя нет на продукции, которую поставляет Лошкарев, почетного Знака качества, однако пользуется она огромным спросом, и мечтающих заполучить в свой зоопарк экземпляр уссурийского красавца очень много. Ведь тигр — краса и гордость уссурийской тайги, лимитированный зверь и строго охраняется законом. Лишь двух-трех в год разрешается отловить без ущерба природе. Вот и в этом году пришел срочный заказ на отлов двух хищников. Савелий Лошкарев не суеверен, но велика сила предрассудков, доставшихся нам от дедов и прадедов. Вспомнил Савелий Макарович о роковой сороковой цифре... Но — разорваны путы предрассудков, и отважный тигролов вместе со своим старшим сыном Николаем, братом Евтеем и молодым двадцатидвухлетним учеником Калугиным отправился на поиски следов в самые глухие непроходимые дебри уссурийской тайги. Найден след полосатого хищника. Началась изнурительная погоня! День и ночь преследуют тигроловы хищника, не давая ему кормиться мясом диких животных. Сжимается круг погони! Гремят в морозном воздухе ружейные выстрелы, отпугивающие тигрицу. И вот зверь в тесном кольце собак. Тигроловы шеренгой, страхуя друг друга, наваливаются на зверя. Летит в оскаленную пасть рукавица. Бригадир Савелий Лошкарев железными руками хватает десятипудовую кошку за уши и прижимает голову ее к земле, остальные хватают ее за лапы и тоже прижимают к земле. Зверь распластан! Недолго длится поединок — спутаны ноги хищника, мгновенно очутился он в прочном мешке. Тут же строится загон-вольер для пойманного тигра...»
В таком же тоне описывалась поимка «рокового» сорокового тигра...
— Ну что там, Павелко, пишут об нас? Дай-ка я почитаю, — потянулся Евтей к газете.
— Да что, Евтей Макарович. Пишут, что мы тигров поймали качественно и в срок... — Павел сложил газету, передал ее нетерпеливо ожидающему Евтею.
Вторая газета была уже в руках Савелия. Павел внимательно посмотрел на него. Глаза бригадира радостно блестели, как у ребенка, получившего долгожданную игрушку; лицо его, заросшее седой бородой, выражало ту же детскую восторженность и значительность момента — он искренне верил в свою исключительность! И Павлу стало жаль его. А Евтей, спокойно, с едва приметной усмешкой читавший газету, еще больше вырос в его глазах и сделался ближе, родней и в то же время гораздо сложней и глубже, чем Павел о нем предполагал... «Ну да, конечно же, — думал Калугин, поглядывая на братьев Лошкаревых и сравнивая их. — И хорошо, что за каждым таким Савелием стоят Евтеи... — И, подумав так, он вспомнил вдруг о том, что промхозовская пасека, на которой Попич со своими влиятельными друзьями организовал «базу отдыха», попадает на территорию будущего заказника... — А что, если егерем заказника вызовется быть прихлебатель Попича, хозяин этой пасеки Панасюк! Ведь получится тогда заказник для проказников!..» Эта мысль устрашила Калугина, он разволновался и твердо решил сегодня же позвонить на зообазу и дать согласие на егерскую должность. Он сознавал, что работа честного егеря хлопотней и опасней тигроловства да и судов-пересудов от друзей и врагов не миновать ему теперь. Но это уже не пугало Павла, другие мысли занимали его. «Закумовались мы! — с горечью подумал он. — Мелкие грешки друг другу прощаем. Ты — мне, я — тебе! Запутались, избарахлились в мелких корыстных услугах, вот и породили большое зло... Попробую воевать с этим злом, сколько сил хватит. Не надейтесь, попичи, на спокойную жизнь, не надейтесь!»
Автобус ликующе и ровно гудел мотором, мчался по широкому старинному тракту к отрогам Сихотэ-Алиня, в самое сердце уссурийской тайги...
Конец первой части
1983
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления