Онлайн чтение книги
Самый одинокий человек
Tin Man
1996 год
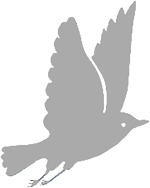
В передней спальне стоит цветная фотография, прислоненная к книгам. На ней трое – женщина и двое мужчин. Стиснутые рамкой, они обнимают друг друга, а остальной мир не в фокусе, словно они не пускают его в свой круг. У них счастливый вид. Подлинно счастливый. Не только потому, что они улыбаются, но и потому, что в глазах – роднящая всех троих легкость, радость. Фотография сделана весной или летом, судя по одежде (футболки, яркие тона, все такое) и, конечно, по освещению.
Один из мужчин с фотографии – тот, что в середине, с растрепанными темными волосами и добрыми глазами – сейчас спит в этой комнате. Его зовут Эллис. Эллис Джадд. Фотография затерялась среди книг и едва заметна, если не знать, где она, и не искать специально. А поскольку Эллис утратил интерес к книгам, у него уже нет причин подходить туда, где стоит фотография, брать ее в руки и вспоминать тот день, летний или весенний.
Будильник зазвенел, как обычно, в пять часов пополудни. Эллис открыл глаза и машинально взглянул на соседнюю подушку. В окно вползали сумерки. Февраль – самый короткий месяц, но тянется бесконечно. Эллис встал и выключил будильник. Вышел из комнаты, пересек лестничную площадку и оказался в ванной. Встал над унитазом и принялся мочиться, опершись рукой о стену. Это было бессознательное движение человека, когда-то нуждавшегося в опоре, – ведь он давно уже крепко стоял на ногах. Он включил душ и подождал, пока от воды пойдет пар.
Он помылся, оделся, спустился вниз и посмотрел на часы. Они спешили на час: он забыл перевести их в октябре прошлого года. Но он знал, что через месяц время переведут обратно и проблема решится сама собой. Зазвонил телефон, как звонил ежедневно в один и тот же назначенный час. Эллис взял трубку и сказал: «Привет, Кэрол. Да, я в порядке. Хорошо. И тебе тоже».
Он зажег конфорку, поставил на нее кастрюльку с двумя яйцами и дождался, пока вода закипит. Он любил яйца. Его отец тоже. Яйца были их нейтральной полосой, почвой для примирения.
Он выкатил велосипед в морозную ночь и поехал по Дивинити-роуд. На углу Каули-роуд он остановился и стал ждать разрыва в плотной череде машин, едущих на восток. Он проделывал этот путь уже тысячи раз, так что мог полностью отключить мозги и двигаться, сливаясь воедино с черной волной. Он свернул в сторону моря огней – автомобильного завода – и подъехал к покрасочному цеху. Ему было сорок пять лет, и каждый вечер он думал о том, куда улетели эти годы.
Он шел вдоль конвейера, и от запаха уайт-спирита перехватывало горло. Он кивал коллегам, с которыми когда-то вместе веселился. Придя в отделение жестянщиков, он открыл свой шкафчик и достал сумку с инструментами. Инструменты Гарви. Все до единого сделаны самим Гарви – так, чтобы сподручней было забраться под вмятину и выправить ее. Как говорили на заводе, он мог выгладить ямочку на подбородке, да так, что человек ничего не заметит. Это Гарви всему научил Эллиса. В первый день он взял брусовку, треснул по снятой ненужной автомобильной двери и велел Эллису выправить вмятину.
Держи ладонь плоско, говорил Гарви. Вот так. Научись чувствовать вмятину. Смотри руками, а не глазами. Двигайся поперек, осторожно. Чувствуй ее. Гладь ее. Ласково. Найди бугорок. И отошел назад, наблюдая.
Эллис взял блок для правки, подложил под вмятину и начал обстукивать лопаткой. Он был создан для этой работы.
«Слушай звук! – покрикивал Гарви. – Привыкни к нему. Если звенит – значит ты нашел то самое место». Закончив, Эллис отступил назад, довольный собой, дверь была гладкая, словно только что с пресса. «Думаешь, готово?» – спросил Гарви. «Ну да», – ответил Эллис. Гарви закрыл глаза, провел руками по шву и сказал: «Нет, не готово».
Потом они стали за работой включать музыку, но не сразу, а лишь когда Эллис научился слышать голос металла. Гарви любил «Аббу». Эллис знал, что ему больше всех нравится блондинка, Агнета как-то там, но никому не сказал. Со временем Эллис начал понимать: Гарви до того одинок и так изголодался по общению, что, выправляя вмятину, гладил ее руками, словно женское тело.
Позже в заводской столовой другие становились у него за спиной, оттопыривали губы и обрисовывали руками в воздухе воображаемые очертания грудей и талии, шепча: «Закрой глаза, Эллис. Чувствуешь этот маленький бугорок? Чувствуешь, Эллис? Чувствуешь?»
Гарви, дурак этакий, послал его к малярам за краской в горошек, но только однажды. Уходя на пенсию, Гарви сказал: «Прими от меня две вещи, Эллис. Во-первых, совет: работай изо всех сил, и тогда останешься тут надолго. И во-вторых, эти инструменты».
Эллис взял инструменты.
Гарви умер через год после выхода на пенсию. Заводские решили, что он задохнулся, оттого что ему стало нечего делать.
– Эллис! – окликнул Билли.
– Чего?
– Я сказал, приятная ночка. – Билли захлопнул дверцу шкафчика.
Эллис взял брусовку и треснул по снятому крылу машины.
– Вот, Билли, – сказал он. – Выправи.
Час ночи. В столовой было людно, пахло жареной картошкой, «пастушьим пирогом» и переваренной зеленью. С кухни доносились звуки радио: Oasis пели «Wonderwall», и подавальщицы подпевали. Подошла очередь Эллиса. Свет резал глаза, Эллис потер их, и Дженис обеспокоенно посмотрела на него. Но он сказал:
– Дженис, пастуший пирог и жареную картошку, пожалуйста.
– Ваши пирог и картошка, – отозвалась она. – Порция для джентльмена.
– Спасибо.
– Пожалуйста, миленький.
Он прошел к столику в дальнем углу и отодвинул себе стул.
– Глинн, можно?
Глинн поднял взгляд:
– Пожалуйста. Как жизнь?
– Ничего. – И он принялся сворачивать самокрутку. – Что читаешь?
– Гарольда Роббинса. Я обложку завернул, потому что сам знаешь, какой тут народ, обязательно начнут нести всякую похабень.
– Хорошая книга?
– Гениальная, – сказал Глинн. – Совершенно непредсказуемые повороты сюжета. Кровавые разборки. Шикарные машины и шикарные женщины. Смотри, вот фото автора. Посмотри на него. Посмотри, какой он стильный. Вот это мужик в моем вкусе.
– Что это за мужик в твоем вкусе? Ты, часом, не голубой? – Это Билли подсел к ним.
– В данном случае это значит, что с таким мужиком я был бы не прочь поотвисать.
– А мы для тебя нехороши?
– Я себе лучше руку отрежу. Ничего личного, Эллис, не обижайся.
– Я не обиделся.
– В семидесятые я был чем-то похож на него, в смысле стиля. Эллис, ты помнишь?
– Типа «Лихорадки субботнего вечера»[1] «Лихорадка субботнего вечера» ( Saturday Night Fever , 1977) – знаменитый музыкальный фильм, этапный для эпохи диско, главную роль исполнил Джон Траволта; саундтрек группы Bee Gees стал в США 15-кратно платиновым, семь месяцев подряд возглавлял чарт «Биллборда» и получил премию «Грэмми» в категории «Альбом года»., да? – сказал Билли.
– Я тебя не слушаю.
– Белый костюм, золотые цепуры?
– Я тебя не слушаю.
– Ну хорошо, хорошо, мир, – сказал Билли.
Глинн потянулся за кетчупом.
– Но все же, – сказал Билли.
– Что – все же? – спросил Глинн.
– Конечно, я вижу по твоей походке, что ты по бабам мастак и пацанчик четкий[2]«I bet you could tell by the way you used your walk / that you were a woman’s man with no time to talk» – видоизмененная цитата из песни Bee Gees «Stayin’Alive» («Оставаться в живых»)..
– Чего это он? – спросил Глинн.
– Без понятия, – тихо ответил Эллис и отодвинул тарелку.
Они вышли в ночь, и он закурил. На улице похолодало. Он посмотрел в небо и решил, что может пойти снег.
– Не стоит так подначивать Глинна, – сказал он Билли.
– Он сам напрашивается, – ответил Билли.
– Ничего подобного. И хватит обзывать его голубым.
– Смотри, Большая Медведица. Видишь?
– Ты слышал, что я сказал?
– Да, слышал.
Они пошли обратно в малярный цех.
– Но ты видел, видел?
– Господи боже мой, – сказал Эллис.
Прогудела сирена, лента конвейера остановилась, и началась суета – люди передавали смену и уходили. Было семь утра, темно, и Эллис попытался вспомнить, когда он последний раз видел солнце. После смены у него было неспокойно на душе. Обычно, когда он так себя чувствовал, то не шел прямо домой, потому что знал – одиночество его достанет. В такие дни он иногда ехал на велосипеде в Шотовер-Вудс или в Уотерперри, просто заполняя часы, накручивая педали, – икры жгло от бесконечных миль. Он смотрел, как утро золотит верхушки деревьев, и слушал птичий хор, теша ухо после заводского лязга. Он старался не слишком задумываться о том, что происходит в природе, – иногда у него получалось, иногда нет. Когда не получалось, по дороге домой он думал о том, что жизнь сложилась совсем не так, как он когда-то ожидал.
На Каули-роуд оранжевые фонари были раскиданы по смоляной темноте и в тумане памяти брезжили призраки давно не существующих лавок. «Беттс», велосипедная мастерская Ломаса, салон Эстеллы, зеленная лавка Мейбл. Если бы Эллису-мальчику сказали, что лавки Мейбл уже не будет тут, когда он вырастет, он бы ни за что не поверил. Ее место занял магазинчик под названием «Второй заход», торгующий всяким хламом. Как правило, он был закрыт.
Эллис проехал мимо старого кинотеатра «Регал», где тридцать лет назад Билли Грэм, проповедник, озарял улыбкой с экрана полторы тысячи своих духовных детей. Торговцы и прохожие собирались у кинотеатра посмотреть, как хлынет из дверей огромная толпа. Пьяницы у паба «Сити-армз» смотрели пристыженно и неловко переминались с ноги на ногу. Компромисс между излишествами и трезвостью. Но ведь и сама Каули-роуд всегда была напряженным швом на стыке востока и запада. Два полюса – имущие и неимущие, о чем бы ни шла речь – вера, деньги, терпимость.
Он проехал по мосту Магдалины и попал в другую страну, где в воздухе висел запах книг. Притормозил, пропуская двух студентов, устало бредущих через дорогу, – рано встали или, наоборот, засиделись? Трудно сказать. Он купил кофе и газету в лавочке у рынка. Доехал, держа руль одной рукой, до тупика в конце Брейзноуз-лейн, прислонил велосипед к стене и выпил кофе. Он смотрел на красноглазых туристов, пытающихся проработать город по максимуму после бессонной ночи в самолете. Прекрасный город у вас тут, сказал один из туристов. Да, ответил он и продолжал пить кофе.
Назавтра снятый с конвейера «Ровер-600» уже ждал его в отсеке. Эллис проверил запись в передаточном журнале и заметки рабочих ночной смены. Опять левое переднее крыло. Эллис достал из кармана белые нитяные перчатки, надел их и расправил пальцы. Кончиками пальцев он провел по линии повреждения и почувствовал неровность – такую незаметную, что даже свет по обе ее стороны падал почти одинаково. Эллис выпрямился и потянулся, расправляя спину.
– Билли, давай ты попробуй, – сказал он.
Билли потянулся к машине. Белые перчатки двинулись в путь, повторяя очертания кузова. Замирая, возвращаясь по своему следу. Вот оно!
– Вот тут, – сказал Билли.
– Точно. – Эллис взял блок для правки и лопатку. Стукнуть пару раз, и хватит. Быстро, легко. Вот так.
Он проверил краску. Идеальный серебристый изгиб. Билли спросил: «Ты всегда хотел этим заниматься?» И Эллис ответил: «Нет», и сам удивился. «А чем тогда?» И он сказал: «Я хотел рисовать».
Заныл гудок, и они вместе вышли на кусачий морозный воздух. Эллис натянул шапку на уши и потуже завязал шарф. Вытащил из кармана перчатки – вместе с ними выпал комок бумажного носового платка, и пришлось за ним гоняться. Билли засмеялся, но не обидно – у него был легкий смех.
– У меня свидание в пятницу, – сказал Билли.
– Куда пойдете?
– В паб, наверно. В городе. Встречаемся возле Мучеников.
– Правда? – сказал Эллис. – Кстати, а где твой велосипед?
– Вон, рядом с твоим. Не знаю, почему я назначил там, просто ничего другого в голову не пришло. И вдруг вот, гляди. – Билли ткнул пальцем в собственный нос. – Прыщ.
– Да его и не видно. Девушка-то хорошая?
– Мне нравится, по правде нравится. Слишком хороша для меня. – И после паузы: – Эллис, а у тебя-то кто-нибудь есть?
И он ответил:
– Нет.
И тогда Билли сказал то, о чем все остальные молчали:
– Терри говорил, у тебя жена умерла.
Он сказал это бережно, прямо, но без стеснения, словно смерть любимого человека – что-то обычное.
– Да, – ответил Эллис.
– А как? – спросил Билли.
– Терри тебе не сказал?
– Сказал, чтобы я не лез не в свое дело. Я могу заткнуться, если хочешь.
– Автомобильная авария. Уже пять лет прошло.
– О черт, – сказал Билли.
Пожалуй, «о черт» – единственные уместные слова, подумал Эллис. Никаких «мои соболезнования» или «это ужасно». Просто «о черт». Билли умело направлял разговор – Эллису давно не случалось так хорошо с кем-нибудь говорить. Билли сказал:
– Я знаю, это ты тогда начал в ночь работать, да? Я никогда не думал, что ты это ради денег. Я знаю, ты не мог спать, да? Я бы на твоем месте, наверно, вообще никогда не смог больше заснуть.
Билли в свои девятнадцать его понимал. Они остановились у ворот, пропуская машины.
– Я иду в Лейс, пива выпить. Хочешь, пойдем вместе?
– Нет.
– Только ты и я. Мне нравится с тобой разговаривать. Ты не такой, как другие.
– Другие тоже люди.
– Элл, ты вообще когда-нибудь ходишь в паб?
– Нет.
– Тогда я буду тебя уговаривать, не отстану. Это будет мой проект.
– Иди, иди уже.
– До завтра, Элл!
Билли скрылся в толпе, направляющейся в микрорайон Блэкберд-Лейс. Эллис забрался на велосипед и медленно поехал домой, на запад. Он и не заметил, как этот мальчишка начал называть его Эллом.
Было восемь утра, и небо над Южным парком уже светлело. Слой изморози лежал на лобовых стеклах машин и птичьих гнездах, и мостовые сверкали. Эллис отпер парадную дверь и вкатил велосипед в прихожую. В доме было холодно и пахло дровяным дымом. Эллис прошел в заднюю комнату и приложил руки к батарее. Отопление было включено, но едва тянуло. Эллис не стал снимать куртку, а сразу пошел к камину, сложил растопку и принялся разводить огонь. Он умел складывать растопку и дрова так, чтобы горело споро. Он разводил огонь, Энни открывала вино, и годы катились мимо. Тринадцать лет, если совсем точно. Тринадцать лет тепла и сока лозы.
Он взял в буфете виски и вернулся к очагу. В тишине грохот завода отступал, оставались только треск огня и стук автомобильных дверок на улице – люди садились в машины и захлопывали за собой дверь, знаменуя наступление нового дня. Это всегда было самое тяжелое время – от безмолвной пустоты внутри он начинал задыхаться, хватая ртом воздух. Вот она, здесь – его жена, тень в дверном проеме на краю поля зрения, отражение в окне. Он запрещал себе искать ее глазами. Виски помогало – помогало пройти мимо нее, не глядя, когда огонь в камине потухал. Но порой она увязывалась за ним наверх, в спальню, и он стал брать бутылку с собой – жена стояла в углу их общей спальни и смотрела, как он раздевается, и когда он уже проваливался в сон, она склонялась над ним и спрашивала что-нибудь вроде: «А ты помнишь, как мы познакомились?»
– Конечно помню, – отвечал он. – Я доставил тебе рождественскую елку.
«И?..»
– И позвонил в дверь, а вокруг меня пахло хвоей и немножко морозом. И я увидел через окно, как приближается твоя тень, и дверь открылась, и там стояла ты – в клетчатой рубашке, джинсах и толстых носках, которые ты носила вместо домашних тапочек. Щеки у тебя были румяные, глаза зеленые, волосы разметались по плечам и в наступающих сумерках казались светлыми, но потом я разглядел в них рыжие оттенки. Ты ела оладью, и в прихожей пахло оладьями, и ты извинилась и облизала пальцы, и я застеснялся своей меховой шапки, так что снял ее, протянул тебе елку и сказал: «Это ваше, я полагаю? Мисс Энн Кливер?» И ты сказала: «Вы правильно полагаете. А теперь разуйтесь и идите за мной». И я послушно снял ботинки и пошел за тобой, и с тех пор ни разу не оглянулся.
Я внес елку в гостиную, где гво́здики гвозди́ки пронзали апельсиновую шкурку. Видно было, что именно здесь ты сидела минуту назад. Ложбинка на тахте была еще теплая, рядом лежали раскрытая книга и отброшенный кардиган, на столике стояла пустая тарелка, в камине медленно догорал огонь.
Я укрепил елку на подставке и помог тебе обмотать основание золотой бумагой. После бумаги настал черед гирлянды, потом – елочных шаров, а после шаров я залез на стул и надел на макушку елки звезду. Слез со стула и вдруг оказался вплотную к тебе. И решил, что это самое лучшее место.
«Тебе что, некуда пойти?» – спросила ты.
«Нет. Только обратно в лавку».
«Больше не нужно разносить елки?»
«Нет, твоя была последняя».
«А что там в лавке?»
«Майкл. Мейбл. И скотч».
«А, я знаю, это такая детская книжка!»[3]Вероятно, имеется в виду детская книга Мейбл Хаббард Фейсон «Скотч-терьер по кличке Проказник» (1940).
Я засмеялся.
«У тебя приятный смех», – сказала ты.
После этого мы замолчали. Ты помнишь? Помнишь, как пристально ты на меня воззрилась? Как я растерялся? Я спросил, что это ты на меня так смотришь.
И ты сказала:
«Думаю, не рискнуть ли с тобой»[4]Видоизмененное название песни «Таке а Chance on Me» («Рискни со мной») группы ABBA ..
И я сказал:
«Да».
На такое только и можно ответить: «Да».
Сумерки переходили во тьму, а мы бежали по Саутфилд-роуд, держась за руки, – один раз остановились в тени, и я почувствовал вкус оладий у тебя на губах и языке. Мы остановились на переходе у Каули-роуд. Витрина лавки Мейбл была вся убрана, а из распахнутой двери гремела музыка: «People Get Ready»[5]«Люди, готовьтесь» (англ.) – песня Кертиса Мейфилда об уходящем на небеса поезде, билетом на который служит вера. Выпущенный в 1965 г. сингл поднялся на 3-е место в ритм-энд-блюз-чарте «Биллборда» и на 14-е место в поп-чарте. группы The Impressions . Ты сжала мне руку и сказала, что это твоя любимая песня. Майкл был один в лавке – он танцевал и подпевал, а в дверях стояла сестра Тереза и смотрела на него. Мы перешли дорогу и встали рядом. Песня кончилась, мы захлопали, и Майкл поклонился. «Майкл, ты придешь в церковь на Рождество? – спросила монахиня. – Нам нужны такие голоса».
Он ответил: «Увы, нет, сестра. Церковь – это не для меня». И спросил: «У вас-то все готово к большому дню?» И она ответила: «Да». И он сказал: «Погодите», и ушел в подсобку. «Вот».
«Омела, – засмеялась монахиня. – Давненько я не стаивала под этой штукой». Она пожелала нам всем счастливого Рождества и ушла.
«А это еще кто?» – спросил Майкл, глядя на тебя. И я сказал: «Это Энн». – «Энни, вообще-то», – поправила ты. И он сказал: «Мисс Энни Вообще-то. Она мне нравится».
То был 1976 год. Тебе было тридцать лет. Мне – двадцать шесть. Никогда бы не подумал, что запомню такие подробности.
Мы втроем уселись в садике за лавкой. Было холодно, но бок о бок со мной сидела ты, и я не мерз. Мейбл вышла поздороваться, и ты встала и сказала: «Мейбл, садитесь тут». А она ответила: «Нет, не сегодня. Я иду в кровать слушать музыку». – «Какую музыку?» – спросила ты. А она ответила: «Тсс» – и ушла в дом.
Мы развели костер на кирпичной вымостке и стали пить пиво и есть печеную картошку. Мы кутались в одеяла, дыхание выходило изо рта облачком, а на небе проступали звезды – хрупкие, как ледяные кристаллы. Наш разговор прервали звуки трубы, и мы втроем вскочили с мест, подпрыгнули у задней стены и повисли на пальцах, выглядывая через верх на пустошь и заросший церковный двор. Мы увидели темный силуэт трубача, облокотившегося о дерево. «Кто это?» – спросила ты. «Декстер Шолендс», – ответил Майкл. «А он кто?» – «Давний воздыхатель Мейбл. Приходит сюда раз в год сыграть ей». – «Это любовь», – сказала ты.
Назавтра будильник зазвенел, как всегда, в пять часов. Эллис резко сел на кровати. Горло сжалось, сердце колотилось. Вся уверенность в себе, какая у него была, испарилась за ночь. Эллис знал, что у него бывает и такое состояние – самое противное, поскольку непредсказуемое. Он поскорей скатился с кровати, пока не обездвижел совсем. Выключил будильник – это, считай, первая победа за день. Следующей будет – почистить зубы. В комнате было холодно. Он посмотрел в окно. Фонари и мрак. Зазвонил телефон, и Эллис не подошел.
Первый порыв снега налетел, когда Эллис уже колесил по Дивинити-роуд. Тело налилось весом – он однажды попытался описать это врачу, но так и не нашел слов. Это было всего лишь чувство, всеобъемлющее ощущение, которое начиналось в груди и тянуло вниз веки. Тело словно отключалось, захлопывалось, руки слабели, и было трудно дышать. Оказавшись внутри заводских ворот, Эллис не смог вспомнить, как доехал.
Со стороны казалось, что он ушел с головой в работу и неразговорчив. Те, кто знал его историю, предупреждали других – подмигивали, указывали на него кивком, словно говоря: «Держитесь подальше, ребята». Даже Билли к нему не приставал. В перерыве он сел у своего шкафчика, вытащил табак и начал сворачивать самокрутку. Билли его остановил: «Элл, ты что делаешь?» Эллис уставился на него. Билли опустил руку ему на плечо: «Гудок был. Обед. Пойдем подзаправимся».
Сидя в столовой, Эллис чувствовал, как у него дергается нога. Во рту пересохло, кругом было слишком шумно, шум окружал его со всех сторон, проникал под кожу, сердце колотилось. Кухонный чад пронизывал все, а перед Эллисом стояла тарелка, полная еды, потому что все уже знали, и Дженис пожалела его и положила ему с верхом, так что рабочие, стоявшие рядом в очереди, начали возмущаться, но она заткнула им рот одним взглядом, она умела так смотреть. А теперь Билли и Глинн зудели не переставая. «Ты читал „Жеребца“?»[6]Роман Джеки Коллинз (1969), бестселлер, впоследствии экранизированный. – «Кто его не читал? Его надо бы в школьную программу включить». – «А ты когда-нибудь делал это на качелях, а, Глинн?» – «Ну, вообще-то, да, болван ты необразованный». – «Да неужели? И где, на детской площадке?»
Шум, проклятый шум. Эллис вскочил из-за стола. Он пришел в себя на улице, падал снег, было слышно, как падает. Смотри в небо, смотри в небо – он посмотрел. Открыл рот, и снежинки стали падать ему на язык. И он успокоился – на улице, один, наедине со снегом. Шум улегся, только далекий уличный гул улетал в небо.
Вышел Билли и увидел, как Эллис смотрит в небо – слезы застыли на лице, не успев упасть. Он хотел сказать Билли: «Я просто пытаюсь удержаться и не развалиться на куски, понимаешь?»
Он хотел это сказать, потому что никогда не мог этого выговорить, ни одному человеку, а Билли как раз был подходящим собеседником. Но не смог. Так что прошел мимо, не глядя, прошел, сделав вид, что его нет, – точно так, как поступил бы отец.
Эллис не вернулся к конвейеру. Сел на велосипед и поехал. Заднее колесо иногда скользило, но главные дороги посыпали песком, и скоро Эллис уже несся прочь, не думая, – тело напрягалось, пытаясь убежать от чего-то никак не выразимого словами. Доехав до Каули-роуд, он увидел, что из витрины прежней лавки Мейбл падает свет, отвлекся и заметил ту машину слишком поздно. Она вылетела с Саутфилд, и все случилось очень быстро, ужас невесомости, Эллис вытянул руку, чтобы смягчить падение, тротуар рванулся навстречу, в запястье что-то треснуло, и из тела вышибло дух тяжелым ударом. Эллис видел удаляющиеся огни машины, слышал ритмичный шорох вертящихся колес велосипеда. Он опустил голову щекой на холодный тротуар и почувствовал, как спадает тяжелый груз. Снова можно дышать.
Из темноты выбежал человек и сказал:
– Я вызвал «скорую».
Он присел на корточки рядом с Эллисом:
– Как ты?
– Замечательно, – ответил Эллис.
– Не садись, лежи, – предупредил мужчина.
Но Эллис все равно сел и оглядел заснеженную улицу.
– Как тебя зовут? Где ты живешь?
Вдалеке послышалась сирена. Звук приближался. Эллис подумал: «Столько шума из-за ерунды. У меня голова ясная как никогда».
В детстве Эллис любил смотреть, как отец бреется. Он садился на унитаз, болтая ногами, и смотрел на отца – снизу вверх, потому что отец был очень большой. В ванной стоял пар, с зеркала капал конденсат, и ни отец, ни Эллис не произносили ни слова. Отец был в майке – солнечные лучи из окна падали ему на плечи и грудь, и кожу пестрили французские королевские лилии, рельеф на стекле. Все вместе выглядело так, словно отца вырезали из лучшего мрамора.
Эллис помнил, как наблюдал за отцом, – тот натягивал кожу на лице так и этак, сбривая щетину в намыленных складках. Звук выходил, как от наждачной бумаги. Иногда отец насвистывал очередной модный шлягер. Тап-тап-тап, пена падала в исходящую паром горячую воду, черные точки прибивались к белому фаянсу раковины и оставались там, как приливной след, когда вода уходила. Эллис помнит, как думал тогда, что отец всемогущ и ничего не боится. Эти большие руки, любящие спарринг, умели двигаться красиво – например, когда отец плескал на щеки и шею сладкий мускусный запах, довершавший его образ.
Однажды, купаясь в этой сладкой завершенности, Эллис потянулся к отцу и обнял его. Он успел ощутить, что отец – его, прежде чем тот словно тисками зажал руки сына, содрал с себя и хлопнул дверью. «Тап-тап-тап» – звуки, что для Эллиса означали любовь, замолкли. Эллису запомнилось, что за миг до этого он был готов отдать все, лишь бы быть похожим на отца, – абсолютно все. Как раз перед тем, как боль запечатлелась в памяти, навеки запретив ему тянуться к отцу.
Эллис не знал, почему вспомнил об этом сейчас, в кровати, с рукой, загипсованной от локтя до запястья. Разве потому, что в больнице медсестра спросила, не известить ли кого-нибудь из его родных.
«Нет, – ответил он. – Мой отец уехал отдыхать в Борнмут со своей женщиной, с Кэрол. У нее очень резкие духи. Поэтому я всегда знаю, когда она побывала в доме. Они думают, я не знаю, а я знаю. Из-за духов, понимаете?»
Он болтал чепуху после наркоза.
А теперь он лежал в кровати у себя дома, глядя в потолок, и думал обо всем, что мог бы сделать раньше – но не сделал, – чтобы сейчас ему было удобнее. Он решил, что первым пунктом в списке идет автоматическая чаеварка. Совершенно безобразное приспособление. Но полезное. Ему очень хотелось выпить чаю. Или кофе. Чего-нибудь горячего, сладкого, но возможно, что это просто последствия шока. Эллис ужасно замерз и натянул футболку, которая лежала у него под подушкой. Он подумал, что комната очень убого выглядит. Все эти дела по благоустройству, которые он начал, но не закончил. Все те, которые он и не начал. Гараж набит дубовыми половыми досками – они там уже пять лет лежат.
В комнату просачивалась музыка от соседей. Марвин Гэй, старомодный соблазнитель. За стенкой жили студенты. Эллис ничего не имел против – своего рода компания. Он сел и потянулся за стаканом воды. Раньше он дружил с соседями, но теперь разучился. Когда-то он постоянно заходил к ним в гости, но то было раньше. Теперь у него в соседях были студенты, а на следующий год их сменят другие студенты, с которыми он опять не познакомится. Он посмотрел на часы. Потянулся к прикроватной тумбочке, вытащил вольтарол и ко-кодамол и принял с остатком воды. Попытался размять пальцы, но они распухли и не гнулись. Рядом с кроватью стояла бутылка виски, но он не помнил, как она сюда попала. Видно, опять домовые шалят.
Звуки музыки за стеной сменились звуками секса. Эллис удивился: ему казалось, что на долю соседей-студентов секс выпадает нечасто. Они изучали статистику, так что, говоря статистически, у них не было шансов по сравнению с теми, кто изучает философию, политику и экономику. Или даже по сравнению с будущими литературоведами и искусствоведами. Во всяком случае, Эллис так думал. Ничего не попишешь, некоторые науки сексуальней других. Кровать соседей колотилась о стену – они наяривали вовсю. Эллис опять лег и начал уплывать в сон под вопли кончающей за стеной девушки.
Когда он снова проснулся, на часах было семь. Возможно, утра, хотя скорее всего – вечера. В мире царила тишина. За Эллисом никто не присматривал. Он скатился с кровати и нетвердо встал на ноги. Тело болело от ушибов – по бедру расползалась лиловая тень синяка. Он поплелся в ванную.
Вернувшись, он налил себе чуточку виски в стакан из-под воды. Подошел к окну и раздвинул занавески. Южный парк был припорошен белым, улицы пусты. Он пил виски, прислонясь к книжному шкафу. На глаза попалась фотография их троих – Майкла, его и Энни. Энни обожала книги. На шестую годовщину свадьбы он сделал ей сюрприз. Завязал ей глаза и повел с работы, она работала в библиотеке, в ее новую собственную книжную лавку в Сент-Клементс. Там снял с нее повязку и вручил ей два медных ключа. В лавке, конечно, уже ждал Майкл с шампанским. «Как мне назвать магазин?» – спросила она, когда пробка вылетела и поскакала по полу. «Энни и Компания», – предложили они, изо всех сил стараясь, чтобы это не прозвучало чересчур отрепетированно.
Эллис отодвинул засовы и широко распахнул окно. Вздрогнул, не готовый к наступившему холоду. Он встал на колени и выставил руку наружу. Сжал пальцы в кулак, разжал. Сжал, разжал. Прилежно выполнил все, что велела медсестра. Потом вдруг почувствовал усталость, но кровать была очень далеко. Он дотянулся до стеганого одеяла, подтащил его к себе, завернулся и отключился прямо на полу.
Проснулся он оттого, что в комнате было жарко. Он провертелся всю ночь, обуреваемый дурными мыслями, и в конце концов забылся сном, прижавшись к батарее. Он понятия не имел, какой сегодня день, но вдруг вспомнил телефонный разговор с Кэрол и обещание сегодня же проверить трубы в их доме. Он сел и понюхал подмышки. Футболка пахла неприятно, и он встал, дошел до ванны и пустил воду. Боль в руке пульсировала уже не так сильно. Повинуясь указаниям медсестры, он замотал гипс полиэтиленовым пакетом.
Он вышел в сад и вдохнул приятный, хрусткий морозный воздух. Синева неба вытеснила вчерашнюю серость, и слабые лучи зимнего солнца на миг поманили обещанием новой весны, уже начиная превращать снег в подтаявшую кашу. Эллис прислонился спиной к стене кухни и подставил лицо лучам.
– Эллис, ты живой?
Он открыл глаза. Странно, что юноша, стоящий по ту сторону забора, знает его имя.
– Да вроде.
– Что случилось?
– Упал с велосипеда, – улыбнулся Эллис.
– Черт, – сказал студент. – Погоди.
Он скрылся в доме и вышел с исходящей паром кружкой в руке.
– Вот, держи, – произнес он. – Кофе.
И протянул кружку через забор.
Эллис не знал, что сказать. В голове слегка мутилось из-за таблеток и сна, но дело было не в том – его сбил с толку сам поступок, доброта, от которой у него слова застряли в горле. В конце концов он выдавил:
– Спасибо. Я забыл, как тебя…
– Джейми.
– Да, точно. Джейми. Конечно. Извини.
– В общем, пей на здоровье. Я пошел в дом. Если тебе что-нибудь нужно будет, скажи нам.
И он исчез. Эллис сел на скамейку. Кофе был хороший, не растворимый. Настоящий, крепкий, от него даже голод прошел. Надо бы сходить в магазин. Эллис не помнил, когда в последний раз ел что-нибудь посолидней тоста. Он пил кофе и оглядывал сад. Когда-то здесь был настоящий рай. Энни все продумала до мелочей и превратила сад в палитру ярких красок, сменяющихся круглый год. Приносила домой книги по садоводству и сидела над ними за полночь. Рисовала эскизы. Она располовинила газон и посадила такие цветы и кусты, что Эллис даже названий не мог выговорить. Высокие травы струились на ветру, как вода, а вокруг скамьи каждое лето плескалась радость настурций. Настурции – неубиваемые цветы, сказала она, но Эллису и их удалось убить. Все хрупкие, блестящие идеи засохли и рассыпались пылью в тени его пренебрежения. Лишь самые упорные остались цвести среди перепутанных колючих плетей. Жимолость, камелии, все они где-то там – из зарослей виднелись алые купы цветов, как фонари. Сорняки обступили Эллиса, выстроились на бордюрах вдоль дорожки, у задней двери и стены кухни. Он наклонился и дернул – корни вышли из почвы удивительно легко.
Из носа потекло теплое – уж не простуда ли у него начинается? Он поискал в карманах платок, но пришлось обойтись подолом рубашки. Поглядев на пятно, он увидел, что оно красное. Он подставил ладонь ковшиком под подбородок, кое-как ловя текущую кровь. Вернулся на кухню, оторвал бумажных полотенец и крепко прижал комок к носу. Сел на холодные плитки пола и прислонился спиной к холодильнику. Потянувшись за следующей порцией полотенец, он представил себе, что эта рука не его, а жены. Он закрыл глаза. Ощутил ее руку в своей, мягкость ее губ, за которыми тянется по его коже мерцающий след.
«Ты как-то отдалился в последнее время».
– Я идиот.
«Это точно. – Она засмеялась. – Какая муха тебя укусила?»
– Я застрял.
«До сих пор? Ты столько всего собирался сделать».
– Я тоскую по тебе.
«Да ладно. Это не мешает тебе заняться своими планами. Дело не во мне. Ты же это знаешь, правда, Эллис? Элл? Куда ты делся?»
– Я здесь, – сказал он.
«Ты все время куда-то пропадаешь. С тобой стало тяжело общаться в последнее время».
– Извини.
«Я сказала, что дело не во мне».
– Я знаю.
«Так иди и найди его».
– Энни?
Она исчезла, и он еще долго не открывал глаза. Он ощущал холод вокруг, холодные плиты пола. Он слышал пение дроздов и упорное жужжание холодильника. Открыл глаза и отнял от носа компресс. Кровь уже перестала течь. Он встал, шатаясь, и ощутил вокруг себя такое огромное пространство, что чуть не задохнулся.
После обеда снег почти сошел, но Эллис все равно держался главных улиц, потому что их посыпали песком. У Каули-роуд он дождался просвета между машинами и перешел дорогу. Он оглядывался в поисках своего велосипеда, но нигде его не видел. Неужели кто-то его присвоил, барахло такое? Эллис заплатил за этот велосипед пятьдесят фунтов десять лет назад, и даже тогда все говорили, что это грабеж. Давно пора было его поменять, подумал Эллис. Боль в руке поддержала эту внезапную решимость.
Он вспомнил про свет в бывшей лавке Мейбл в ночь несчастного случая и повернул назад, подергать дверь, вдруг там открыто. Дверь, конечно, была заперта, и никаких признаков жизни. Сквозь мутные разводы на стекле он вгляделся во тьму обшарпанной лавки, забитой хламом. Ему не верилось, что это – та самая лавка Мейбл, которую он помнил с детства. Раньше блеклая зеленая занавеска отделяла торговое пространство от жилого. Справа от занавески стоял стол. На столе – кассовый аппарат, проигрыватель и две стопки пластинок. Витрину украшали мешки овощей и ящики фруктов. Посреди лавки, напротив двери – кресло, которое, когда в него садились, пахло мандаринами. Как им троим удавалось перемещаться тут с легкостью, не задевая друг друга?
Мейбл пригласила его составить компанию, когда ее внук Майкл приехал в Оксфорд после смерти отца. Чтобы у Майкла был товарищ-ровесник. Эллис помнил, как стоял на том же месте, что и сейчас. Он и Мейбл – группа встречающих. Оба нервничали и молчали. На улицах лежала снежная тишина.
Мейбл потом много лет говорила, что Майкл приехал со снегом – по-другому она не могла запомнить тот год, когда внук поселился у нее. Январь шестьдесят третьего, подумал Эллис. Нам было по двенадцать лет.
Они смотрели, как мини-такси мистера Хана остановилось перед лавкой. Мистер Хан вылез из машины, воздел обе руки к небу и сказал:
– О миссис Райт! Какое чудо – снег!
А Мейбл ответила:
– Мистер Хан, вы простудитесь и заболеете. Вы не привыкли к снегу. А теперь скажите, не забыли ли вы про моего внука?
– Конечно нет! – Он обежал вокруг машины, открыл пассажирскую дверь. – Один обретенный внук и два полных чемодана книг!
– Входите, входите! – воскликнула Мейбл, и они втроем сгрудились у маленького электрического обогревателя, проигрывающего битву с ночным морозом. Мистер Хан с двумя чемоданами прошел лавку насквозь и исчез в задней части – его шаги тяжело отдавались на ступенях и лестничной площадке над головой. Мейбл познакомила мальчиков, они официально пожали друг другу руки и поздоровались, после чего их сковала неловкость. Эллис заметил вихор в темных волосах Майкла и шрам над верхней губой – как он позже узнал, результат падения на угол стола; при неудачном свете шрам мог превратить улыбку Майкла в неуместную ухмылку – с годами эта странная черта становилась все ярче.
Эллис подошел к окну. За спиной тихо тикали часы, желтый прямоугольник света из итальянского кафе падал на белую мостовую. Он услышал голос Мейбл: «Ты, наверно, голодный», и ответ Майкла: «Нет, вовсе нет». Майкл подошел и встал рядом с Эллисом. Они поглядели друг на друга в отражении, в стекле: снег падал у них за глазами. Они стали смотреть, как медленно и осторожно идет через улицу монахиня к соседней церкви Иоанна и Марии. Вернулся мистер Хан. Он показал пальцем:
– Смотрите, пингвин!
И они засмеялись.
Позже, в комнате Майкла, Эллис спросил:
– А что, они правда оба полны книг?
– Нет, только один, – ответил Майкл, открывая чемодан.
– Я не читаю книг, – сказал Эллис.
– А это тогда что такое? – Майкл показал на черную книжку в руках у Эллиса.
– Мой альбом для зарисовок. Я его всюду с собой ношу.
– Можно посмотреть?
– Конечно. – Эллис протянул ему альбом.
Майкл перелистал страницы, подытоживая кивком каждый рисунок. Вдруг он остановился.
– А это кто? – Он открыл страницу с портретом женщины.
– Мама.
– Она правда так выглядит?
– Да.
– Она очень красивая.
– Правда?
– А разве ты сам не видишь?
– Это же мама.
– А моя ушла.
– Почему?
Он пожал плечами:
– Просто взяла и ушла.
– Ты думаешь, она вернется?
– Скорее всего, она уже просто не знает, где я. – Он вернул Эллису альбом. – Можешь нарисовать меня, если хочешь.
– Хорошо. Прямо сейчас?
– Нет. Через пару дней. Нарисуешь меня так, чтобы я выглядел интересно. Чтоб был похож на поэта.
Эллис отошел от лавки. По улице медленно приближался автобус. Эллис перешел дорогу и поднял руку. Он сел в одиночестве в задней части автобуса и закрыл глаза. У него вдруг закружилась голова от воспоминаний и лекарств.
Он редко заходил в дом отца, когда там никого не было. Правду сказать, он редко заходил и когда отец был дома. Эллис делал все, чтобы избежать безмолвного взаимопонимания, от которого обоим делалось неловко. Он вылез из автобуса раньше своей остановки и остаток пути прошел пешком под небом, снова затянутым тучами. Что такое в этих улицах каждый раз повергает его в состояние детского страха?
День почти померк к тому времени, как Эллис дошел до отцовской двери. Его охватило зловещее предчувствие. Он вставил ключ в замок. Когда он оказался в доме, уличный шум стал тише, серый свет потемнел – как будто на дворе уже вечер. Эллису было не по себе – он робел, словно оказавшись наедине с прошедшими годами.
В доме было тепло – собственно, это все, что хотела знать Кэрол: оставили ли они отопление включенным, чтобы дом не выстыл в надвигающихся морозах. Можно уходить. Но он не ушел. Прошлое взяло его в плен и против воли втянуло в заднюю комнату, которая почти не изменилась со дней его юности.
В комнате все еще пахло ужином. Ростбиф. Они всегда едят ростбиф в ночь перед отъездом – мало ли как будут кормить в гостинице. Типичная для отца нить рассуждений. Эллис огляделся. Стол, комод – мрачная темная дубовая громада, – зеркало. Почти все как раньше. Разве что кресла обили заново; но содрать новую бордово-синюю обивку – и прежний унылый узор откроется снова. Эллис раздвинул занавески и выглянул в сад. Среди камней рокария кое-где лежали белые пятна снега. Задумчивые фиолетовые крокусы. Вдали в ложных сумерках виден автомобильный завод. Эллис заметил, что ковер в комнате новый, но общая цветовая гамма – оттенки бурого – не изменилась. Может быть, Кэрол настояла. Сказала: «Либо старый ковер, либо я». Может, она такая женщина, что готова настаивать на своем, не боясь репрессий. Он остановился у стены напротив двери. Здесь когда-то висели «Подсолнухи», картина его матери.
Бывало, она вдруг останавливалась у картины, внезапно прерывая речь или жест в присутствии этого желтого цвета. Картина была ее утешением. Источником вдохновения. Исповедальней.
Однажды, вскоре после того, как Майкл переехал в Оксфорд, Эллис привел его домой – то была первая встреча Майкла и Доры, матери Эллиса. Он помнил, как заворожены они были друг другом, как почти сразу погрузились в разговор, как ловко Майкл вдвинул ее на пустующее место своей собственной матери.
Он помнил, как Майкл остановился перед «Подсолнухами», разинув рот, и спросил:
– Миссис Джадд, это оригинал?
– Нет! – воскликнула мать. – Боже милостивый, конечно нет. И очень жаль! Нет. Я выиграла эту картину в лотерею.
– Я просто хотел сказать, что, будь это оригинал, он, возможно, стоил бы значительную сумму.
Мать уставилась на Майкла:
– Какой ты смешной.
Она принесла сэндвичи из кухни, поставила блюдо перед ними и спросила:
– А ты знаешь, кто нарисовал эту картину?
– Ван Гог, – ответил Майкл.
Дора посмотрела на сына и засмеялась:
– Это ты ему сказал.
– Я не говорил! – запротестовал он.
– Он не говорил, – подтвердил Майкл. – Я много знаю.
– Ешьте, – сказала она, и мальчики потянулись к сэндвичам.
– Он отрезал себе ухо, – сказал Майкл.
– Верно, – подтвердила Дора.
– Бритвой, – сказал Майкл.
– Зачем он это сделал? – спросил Эллис.
– Кто знает, – ответила его мать.
– Сумасшедший был, – сказал Майкл.
– Не может быть! – отозвался Эллис.
– Я бы себе отрезал что-нибудь такое, что не на виду, – сказал Майкл. – Палец на ноге, например.
– Ладно, ладно, – вмешалась Дора. – Хватит уже. Майкл, а ты знаешь, где жил Ван Гог?
– Да, в Голландии. Как Вермеер.
– Видишь, он и правда много знает, – сказал Эллис.
– Правильно. В Голландии. И цвета, которые он там видел, – земляные, темные, ну знаешь, серый и коричневый. И свет там был, как тут, – плоский, невдохновляющий. И Ван Гог написал своему брату Тео, что хочет поехать на юг, во Францию, в Прованс, чтобы увидеть нечто иное, найти иной способ писать картины. Стать лучше как художник. Я люблю представлять себе, каково ему было сойти с поезда на вокзале в Арле и сразу погрузиться в этот интенсивный желтый свет. Это его изменило. Разве могло быть иначе? Разве этот свет может не изменить человека?
– Миссис Джадд, а вы хотели бы поехать на юг? – спросил Майкл.
И мать Эллиса засмеялась и ответила:
– Я бы куда угодно согласилась уехать!
– А где это – Арль? – спросил Эллис.
– Давайте посмотрим. – Мать подошла к комоду и вытащила оттуда атлас.
Тяжелые страницы раскрылись на Северной Америке, и в воздух поднялось облако пыли. Эллис подался вперед, глядя, как мелькают океаны, страны и континенты. Мать притормозила у Европы и остановилась на Париже.
– Вот он, – сказала она. – Возле Авиньона. Сен-Реми и Арль. Там он писал. Он искал свет и солнце и нашел то и другое. И пошел по намеченному пути. Писал основными цветами и их дополнительными.
– Что такое дополнительный цвет?
– Дополнительные цвета – это те, которые помогают основному цвету выступать ярче. Как синий и оранжевый, – произнесла мать, словно цитируя по книге.
– Как мы с Эллисом, – сказал Майкл.
– Да, – улыбнулась она. – Как вы двое. А что такое основные цвета?
– Это желтый, синий и красный, – сказал Эллис.
– Верно, – ответила Дора.
– А составные – оранжевый, зеленый и фиолетовый, – добавил Майкл.
– В точку! – воскликнула Дора. – Кто хочет пирога?
– Мы еще не дошли до «Подсолнухов», – сказал Майкл.
– Нет, не дошли. Ты прав. Ну вот, значит, Винсент Ван Гог надеялся устроить художественную мастерскую там, на юге, потому что ему хотелось иметь друзей и окружить себя единомышленниками.
– Наверно, ему было одиноко, – сказал Майкл. – С его ухом и всей этой темнотой.
– Я тоже так думаю, – согласилась Дора. – Был тысяча восемьсот восемьдесят восьмой год, и Ван Гог ждал приезда другого художника, Поля Гогена. Говорят, весьма возможно, что Ван Гог написал «Подсолнухи», чтобы украсить ими комнату Гогена. Он создал много вариаций, не только эту. Но он молодец, что придумал такое, верно? Кое-кто говорит, что это неправда, но мне хочется думать, что правда. Что он нарисовал эти цветы в знак дружбы и гостеприимства. Мужчины и мальчики должны уметь создавать прекрасное. Всегда помните об этом.
И она скрылась на кухне.
Они слушали, как она перекладывает пирог на тарелку, открывает ящик с приборами, изливая свое счастье в песне.
– А посмотрите, как он писал! – воскликнула Дора, выброшенная из кухни в комнату новой мыслью. – Посмотрите на мазки. Их видно. Густые, мощные. Тот, кто сделал эту копию, скопировал и его стиль, потому что Ван Гог любил писать быстро, словно в припадке. И когда все сходится воедино – свет, цвет, страсть, – то…
В замке повернулся ключ, и она умолкла. Отец Эллиса прошествовал мимо них на кухню. Он ничего не говорил, только лязгал. Трах – поставил чайник на плиту. Брякали чашки, открывались и с грохотом закрывались ящики.
– Я ухожу на вечер, – сказал отец.
– Хорошо, – ответила Дора и проследила взглядом, как он вышел из комнаты с чашкой чаю в руке.
– И когда все сходится воедино, то… что? – спросил Эллис.
– Возникает жизнь, – ответила мать.
В следующее воскресенье снег шел сильный и задержался надолго, и мать повезла их в Брилл кататься на санках. Это первое из многих воспоминаний Эллиса о том, как Майкл искал внимания Доры в самом начале знакомства, как впитывал каждое ее слово, будто слова – зацепки на отвесном утесе. Он сказал, что в машине ему обязательно надо сидеть впереди, потому что его укачивает, и всю дорогу хвалил манеру вождения Доры, ее стиль, возвращал разговор к «Подсолнухам» и югу, цвету и свету. Эллис точно знал, что умей Майкл переключать передачи, он бы и это делал для Доры.
Мать вылезла из машины и застегнула пальто.
– Когда будете на вершине, не забудьте осмотреться. Смотрите так внимательно, словно вы художники и собираетесь все это изобразить. Может быть, вы никогда в жизни больше не увидите такого снега. Постарайтесь заметить, как он изменяет пейзаж. Постарайтесь заметить, как он изменяет вас.
– Обязательно, – сказал Майкл и целеустремленно двинулся вперед. Эллис посмотрел на мать и улыбнулся.
По сугробам, крутым склонам, пологим откосам они дотащили санки до мельницы. Оттуда открывался вид на окружающие холмы и фермы, прикрытые мехом горностая. Вдали мальчики увидели Дору. В красном пальто, укутанная теплым шарфом, она стояла, прислонившись к капоту машины – для тепла. Изо рта вылетало облачко. Майкл поднял руку.
– Кажется, она меня не видит, – сказал он.
– Видит, – ответил Эллис, пристраивая санки на самом краю склона.
Майкл снова помахал. Наконец Дора махнула рукой в ответ.
– Ну давай, поехали, – сказал Эллис.
– Сейчас, я только последний раз осмотрюсь.
Эллис сел впереди и крепко схватился за веревку. Ноги он поставил на полозья. Он почувствовал, как Майкл взгромоздился на санки у него за спиной. Почувствовал его руки у себя на талии.
– Готов?
– Готов, – сказал Майкл.
И они стали отталкиваться ногами, пододвигая санки вперед, пока сила тяжести не утянула их вниз, наращивая скорость и швыряя на неожиданных ухабах. Майкл крепко обхватил Эллиса за талию и визжал ему в ухо, они неслись вниз по склону, деревья слились в расплывчатую полосу, они пролетали навстречу людям, карабкающимся в гору, и вдруг полозья перестали касаться земли, остался лишь воздух и полет, и они двое, и их оторвало друг от друга, от веревки и деревяшек, и они грохнулись на землю, ошарашенные и оглушенные, в суматохе снега, неба и смеха, и притормозили только тогда, когда земля стала плоской, снова сдвинула их вместе и остановила.
Вскоре после своего четырнадцатого дня рождения Эллис пришел домой из школы и увидел, что мать тихо сидит перед своей картиной. Словно в церкви, когда люди стоят на коленях перед иконами, надеясь, что их молитвы будут услышаны. Он помнил, что не окликнул мать, испугавшись ее позы, устремленности в одну точку. Он пошел к себе наверх и всячески постарался выкинуть увиденное из головы.
Однако после этого он не мог не наблюдать за ней. Возвращаясь домой с покупками, она застывала, переводя дух, на крутых улицах, по которым раньше мчалась вихрем. Раньше она ужинала с аппетитом, а теперь лишь ковыряла еду вилкой, затем отправляла в холодильник, а позже – в мусорное ведро. Однажды в субботу, когда отец был на заседании книжного клуба, а Эллис делал уроки у себя в комнате, он услышал грохот посуды и побежал вниз, на кухню. Мать неподвижно лежала на полу, но, когда он бросился к ней, даже не подобрав сначала осколков, она схватила его за руку и сказала что-то странное:
– Ты ведь останешься в школе до восемнадцати лет, правда? И не перестанешь рисовать? Эллис? Посмотри на меня. Ты ведь…
– Да, да, – сказал он. – Да.
В ту ночь он попытался понять, что не так, по своим рисункам – старым и новым. Он сравнил портреты матери, сделанные год назад, с недавними, и разница бросилась ему в глаза – ведь он так хорошо знал ее лицо. Глаза на новых рисунках провалились, и свет, исходящий из них, был закатным, а не рассветным. Она похудела, виски запали, нос обозначился четче. Но сильней всего это проявлялось в ее прикосновениях и взгляде, потому что когда она видела или трогала его, то никак не хотела отпускать.
Назавтра он встал рано и отправился прямиком к Мейбл. Она мыла витрину и удивилась, что он пришел так рано:
– Майкл еще не выходил.
– Кажется, моя мама заболела, – сказал он.
Мейбл бросила витрину недомытой и отвезла его домой. Дверь открыла Дора, и Мейбл сказала ей:
– Он знает.
Отец пропадал из дома вечерами, и это никого не удивляло. Он сбегал от тяжелых ночей жены, бросая ее на попечение сына. Мейбл научила Эллиса азам готовки и уборки и составила для него меню с учетом остатков, которые шли в ирландское рагу. После школы Майкл шел вместе с Эллисом к нему домой, и они разводили в камине огонь, чтобы Дора не мерзла, и развлекали ее рассказами.
– Послушайте, – говорил Майкл, – вчера в лавку ворвалась миссис Копси и сказала (тут он начинал изображать миссис Копси): «Господи, миссис Райт, что это у вас такое лежит рядом с цветной капустой?» Мейбл ответила: «Это окра. Миссис Хан просила добавить ее к ассортименту». Миссис Копси: «Но у них есть своя лавка рядом с „Коопом“». Мейбл: «Но миссис Хан предпочитает покупать у меня». Миссис Копси: «Может, и так. Но знаете что, миссис Райт, если будете продавать мусор, на него слетятся мухи».
– Да не может быть! – воскликнула мать Эллиса.
– Еще как может. А потом она сказала: «Эти люди просто не умеют жить в Англии». А Мейбл ответила: «Так они же не англичане. И потом, двадцать лет назад вы ровно то же самое говорили про валлийцев. Доброго вам дня, миссис Копси, берегитесь мух!»
Майкл взял Дору за руку, и они принялись хохотать. Эллис запомнил, как благодарен был Майклу: он умел позаботиться о Доре естественно и ненавязчиво, как у самого Эллиса никогда не получалось. Он все время был начеку – не окажется ли прощание последним.
Болезнь быстро прогрессировала, и Эллис и Майкл всегда были готовы в краткие минуты ясности между пилюлями с морфином отвлечь мать какой-нибудь идеей…
– Я вот думал про цвет и свет, – говорил Майкл. – И подумал: может быть, это все, что в нас есть. Цвет и свет.
– Смотри, Дора. Эллис меня нарисовал. – Он показывал ей альбом. Дора тянулась к сыну, брала его за руку и говорила, какой он молодец, что так хорошо рисует.
– Не бросай, ладно? Обещай мне.
– Обещаю.
– Майкл, заставь его пообещать.
– Заставлю.
Через два месяца после того, как у Эллиса появились подозрения, мать забрали в больницу. Покидая дом, она сказала:
– Эллис, до свидания. Пожалуйста, не забывай мыться. И не забывай есть.
Больше он ее не видел.
Пустота в доме действовала на нервы. Ему никак не удавалось стряхнуть внезапный ужас, который охватывал его, когда занавески были задернуты. Иногда он чуял запах духов, которые не принадлежали матери, и от этого запаха его тошнило. В конце концов он собрал вещи и перебрался к Мейбл. Он так и не понял, заметил ли отец его исчезновение.
Работа в лавке по выходным отвлекала Эллиса и помогла восстановить аппетит. Но главным чудом было то, что о нем снова заботились. Он перестал сутулиться. Это было видно со стороны.
Они с Майклом были в лавке в тот день, когда Мейбл вернулась из больницы и сказала, что Дора умерла. Майкл убежал к себе, наверх, и Эллис хотел пойти за ним, но ноги не двигались – его на миг парализовало, и это был конец детства.
– Эллис? – окликнула Мейбл.
Он не мог говорить, не мог плакать. Он стоял, уставившись в пол, и пытался вспомнить, какого цвета были у матери глаза – искал опору хоть в чем-то. Но не мог. Лишь позже Майкл сказал ему, что глаза у нее были зеленые.
В день похорон они молча стояли у обеденного стола, готовя сэндвичи. Эллис мазал хлеб маслом, Мейбл клала начинку, Майкл резал. Единственный звук в комнате исходил от отца, который чистил свои рабочие ботинки. Гневный скрежет щетины по коже. Шорох тряпочки, которой отец наводил блеск, на фоне тиканья часов. Шум подъезжающего к дому катафалка.
В часовне Роуз-Хилл Эллис сидел на первом ряду, возле отца. Орган звучал слишком громко, а гроб матери казался чересчур маленьким. Эллис уловил тот самый запах духов, который иногда обнаруживал дома. Он повернулся – прямо позади него сидела женщина, крашеная блондинка с доброй улыбкой, она склонилась к нему и шепнула: «Не забывай, Эллис, ты нужен папе». Это заявление потрясло его не меньше, чем смерть матери. Он встал – так бессознательно, что сам удивился. Много лет спустя он решил, что в тот день, выбираясь из церкви под чужими взглядами и шепотками, израсходовал запас смелости, отпущенный ему на всю жизнь.
Он тормознул машину – водитель согласился подвезти его до реки, а потом сказал: «Гляди веселей, парень, ты будто с похорон едешь». Эллис ответил, что в самом деле едет с похорон и что хоронили его мать. «Господи Исусе», – воскликнул шофер и больше ничего не говорил. Довез его до шлюза в Иффли и сунул пятерку. Эллис спросил, зачем это, и водитель ответил: «Не знаю, бери и все».
Эллис перешел реку и пошел по бечевой тропе к купальням Лонг-Бриджес – их с Майклом любимому месту. Деревья уже сбросили осенний наряд, и должно было похолодать, но теплый не по сезону ветерок следовал за Эллисом до самого моста Доннингтон, собирая гусей и сбивая их в стаю для отлета.
У купален не было ни души. Эллис сел у ступенек, ведущих в воду. Крики уток, гудки поезда, плеск весел по воде: жизнь продолжалась. Эллис стал думать о том, когда опять станет жарко. Через час Майкл окликнул его с моста и помчался к нему. Когда Майкл приблизился, Эллис спросил:
– Как мы теперь будем жить – без нее?
– Мы будем держаться и не сдадимся, – ответил Майкл. Он встал на колени рядом с Эллисом и поцеловал его. Это был их первый поцелуй. Что-то хорошее среди ужасного дня.
Они сидели молча, не говоря ни о смерти, ни о поцелуе, ни о том, как теперь изменится их жизнь. Они глядели на быстролетные оттенки солнечного света, и густые тени подслушивали их скорбь, а живая птичья песня постепенно затихала, превращаясь в невообразимую тишину.
Эллис сам не знал, что подтолкнуло его посмотреть наверх, но он поднял взгляд и увидел отца, который следил за ними с моста. Эллис понятия не имел, как давно отец там стоял, но в животе завязался узел страха. Конечно, отец не видел их поцелуя, но они сидели недвусмысленно близко друг к другу. Колено к колену, рука к руке, пальцы сплетены – невидимо для зрителей, во всяком случае, так казалось Эллису. Отец, не двигаясь с места, крикнул:
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления