Онлайн чтение книги
Убежище, или Повесть иных времен
1 - 1


ISBN 5-86218-170-9 © Научно-издательский центр «Ладомир», 2000.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Имя Софии Ли, чьи произведения в конце XVIII в. пользовались немалой
популярностью у английской читающей публики и были благосклонно встречены литературной
критикой, сейчас забыто всеми, кроме узкого круга специалистов. И забыто незаслуженно.
Даже если бы ею был написан лишь один роман «Убежище, или Повесть иных времен»
(1785), уже это давало бы ей неоспоримое право на заметное и достойное место в истории
английской литературы.
В не меньшей степени, чем ее старшие современники — Гораций Уолпол или Клара
Рив, София Ли способствовала формированию жанра готического романа. Ее влияние
ощутимо в творчестве писательницы, ставшей признанным классиком этого жанра, Анны
Рэдклифф. Но этим не исчерпывается значительность творчества Софии Ли. В
английской литературе ею создана новая для того времени разновидность готического романа, в
котором столь привлекательные для ее современников мрачно-живописные приметы
средневековья соединялись с галантно-мелодраматической любовной историей,
отнесенной к исторически конкретному времени — достаточно отдаленному, чтобы обрести
романтический колорит, но при этом достаточно знакомому читателям, чтобы вызвать у
них ощущение достоверности описываемых событий.
О мгновенной популярности жанра говорит поток историко-готических повествований,
хлынувший на английский книжный рынок тотчас после появления романа «Убежище» и
не иссякавший на протяжении по меньшей мере четверти века.
Сумрачно-таинственный готический антураж этих романов — уединенные замки и
старинные аббатства, величавые статуи предков, являющиеся взору героя под громовые
раскаты и сходящие с пьедестала, чтобы покарать злодеев, — несомненно, ведет свое начало
от «Отранто», замка, который построил Уолпол. Но столь же несомненно — в мотивах и
сюжетных ходах, в самом обращении к событиям минувших веков — влияние романа
Софии Ли на такие произведения, как «Вильгельм Нормандский. Исторический роман»,
анонимно опубликованный в 1787 г., «Роза де Монмориен» А. Хилдич (1787), «Монмут»
А. М. Маккензи (1790), «Уильям Уоллес, или Герой гор» Г. Сиддона (1791), «Царственные
пленники», роман, написанный молочницей из Бристоля Анной Иерсли в 1795 г., «Планта-
генет, или Тайны Анжуйского дома» А. Милликин (1802), «Англосаксы, или Двор Этель-
вальда» Л. Армстронг (1806), «Таинственный пират, или Времена королевы Бесс» Ф. Лато-
ма (1806), и множество других, известных в свое время, но ныне забытых.
Английский исследователь М. Саммерс указывает на «ценные сведения», почерпнутые
Вальтером Скоттом у С. Ли для романа «Кенильворт», и усматривает в его творчестве
приметы слияния, развития и гениального преобразования достижений Горация Уолпола
и Софии Ли.
О жизнестойкости жанра, основы которого были заложены творчеством Софии Ли,
свидетельствует один из популярнейших видов массовой литературы — любовно-историче-
ский роман, обильно представленный во второй половине XX в. произведениями
Маргарет Ирвин, Маргарет Кэмпбел Барнс, Ани Ситон, Виктории Холт, Элизабет Гудж, Джор-
джетт Хейер.
В романе «Убежище, или Повесть иных времен» С. Ли использует прием, уже
известный по уолполовскому «Замку Отранто» и «Старому английскому барону» Клары Рив, —
прием «найденного манускрипта». В «Предуведомлении» к повествованию она
выговаривает себе право «приблизить язык автора к современному, так как в противном случае он
был бы часто непонятен». Не только язык, осовремененный ею, но и нравы, образ мыслей
и строй чувств ее героев, несомненно, принадлежат не елизаветинским временам, а
XVIII в., несут на себе печать жизненного опыта писательницы, социально-культурного
слоя, к которому она принадлежала, литературных влияний, которые испытала.
София Ли (1750 — 1824) была старшей из пяти дочерей Джона Ли, известного актера,
члена труппы Дэвида Гаррика, много путешествовавшего по стране, прежде чем
обосноваться в конце 70-х годов в Бате, курортном городе с древней историей, ставшем в
XVIII в. одним из центров светской и культурной жизни Англии. Рано лишившись матери,
София с юных лет приняла на себя обязанности хозяйки дома и воспитательницы сестер.
В фешенебельном Бате семейство Ли и особенно старшая мисс Ли пользовались
чрезвычайным уважением, а вскоре к Софии пришел и литературный успех: в 1780 г. состоялось
первое представление ее комедии «Непредвиденное стечение обстоятельств». Сюжет в
значительной степени опирался на драму Дени Дидро «Отец семейства» (1758), хотя в
предисловии София Ли утверждает, что познакомилась с произведением Дидро, когда ее
собственная пьеса была уже написана, и что, восхищенная «Отцом семейства», она была
скорее довольна, чем удручена «случайными совпадениями в сюжете», и лишь
постаралась придать своему произведению юмористический характер, отсутствующий в драме
Дидро.
Пьеса имела не только театральный и литературный (она выдержала несколько
изданий), но и финансовый успех, что позволило Софии Ли открыть в Бате весьма
престижное «Учебное заведение для молодых девиц». Полагают, что одной из учениц этого
заведения была Анна Уорд (в замужестве Анна Рэдклифф).
В 1783 г. вышел в свет первый том романа «Убежище», самого значительного
произведения Софии Ли, а к 1785 г. роман был завершен. Книгу высоко оценили современники, в
их числе драматург Ричард Шеридан и ставшая впоследствии прославленной
романисткой Анна Рэдклифф.
Многое в романе С. Ли было ново и непривычно. В нем присутствовали непременные
атрибуты готического романа: полуподземное убежище, выстроенное на монастырских
руинах, потайные двери, портреты, обладающие непостижимой властью над
воображением юных героинь, трагические семейные тайны, общая гнетущая атмосфера страха. Но, в отличие от своих предшественников, София Ли не включает в сюжет романа
таинственных явлений и фантастических событий — ни в виде бесхитростно-прямолинейного
изображения, как в «Замке Отранто», ни в виде смутных намеков, предполагающих
возможность рационального истолкования, как в «Старом английском бароне». Более того,
мрачный потенциал готического антуража остается нереализованным в сознании и чувствах ее
героинь, чье здравомыслие неподвластно мистическому ужасу. Тайное Убежище, где
проходят их детство и юность, не смущает их душевного спокойствия ни темными
подземными коридорами, ни потайным входом через дверь, скрытую в основании гробницы, ни
тем, что один из его покоев со временем становится усыпальницей для их опекунши и
воспитательницы, миссис Марлоу. Когда, после трагической гибели Лейстера, Мортимер
обманом увозит Матильду из Франции, она на протяжении всего пути не расстается с
гробом, в котором покоится тело ее мужа. Эллинор спасается из-под власти Арлингтонов,
вынесенная из их дома в гробу, без колебания заняв в нем место умершей служанки. В
романе есть эпизод, когда королева Елизавета, терзаемая тоской и раскаянием после казни
Эссекса, принимает за привидение явившуюся перед ней безумную Эллинор, которую
давно считает умершей. Но этот традиционно-готический эпизод представлен в пересказе
леди Пемброк, чьи объяснения предшествующих обстоятельств заранее лишают его
внезапности и непостижимости и тем самым фантастичности.
Необычным для готического романа было и отсутствие счастливой развязки с
непременным конечным торжеством добродетельных героев и посрамлением и наказанием
злодеев. София Ли предпочла мрачно-величавое свершение судьбы, неотвратимо
преследующей женщин трех поколений «блистательно несчастного рода Стюартов».
Соединение трагических образов героинь романа с этим именем, окруженным
ореолом мученичества, включение в перипетии сюжета известных исторических событий и
эпизодов (таких, к примеру, как история Марии Стюарт, поражение Непобедимой
Армады, война в Ирландии, неудавшийся мятеж и казнь графа Эссекса), изображение наряду с
вымышленными персонажами многих известных лиц елизаветинской эпохи — все это
явилось новаторством, имевшим характер литературной сенсации.
Литературные критики, откликнувшиеся на появление романа, не были единодушны в
своих оценках этой его особенности. Их мнения разошлись и в том, насколько автор
владеет историческим материалом, включенным в роман, и в том, насколько уместно такое
сочетание вымысла и исторических фактов. В рецензии на первый том романа,
помещенной в мартовском номере журнала «Критическое обозрение» за 1783 г., отмечалось, что
«автор пренебрегает своеобразием нравов того времени». В 1786 г. после выхода в свет
всех трех томов романа «Джентльменз мэгэзин» откликнулся на это событие
восторженной рецензией: «Автор, по-видимому, хорошо знаком с описываемыми временами. Правда
характеров строго соблюдена, ибо своеобразные качества Елизаветы и Иакова
представлены с не меньшей точностью, чем у Юма или Робертсона. Воображение поистине
переносит нас в иные времена, и мы оказываемся в окружении елизаветинского двора». Критик в
«Ежемесячном обозрении» (1786) указывал на то, что в романе «вымысел слишком щедро
используется для того, чтобы облагородить и украсить некоторые известные и
выдающиеся факты английской истории». В том же 1786 г. журнал «Джентльменз мэгэзин» писал:
«Хотя Лейстер, Эссекс и Сидней для нас интереснее, чем безжизненные персонажи,
порхающие по страницам наших современных романов, мы не можем вполне одобрить
манеру переплетать вымышленные события с исторической правдой». Другая рецензия
завершалась недвусмысленным выражением разочарования: «То, что мы считали
романтическим вымыслом, оказалось всего-навсего английской историей».
При разноречивости оценок критиков объединяет то, что выбор автором конкретного
исторического периода как времени действия своего романа и включение исторических
лиц и эпизодов в канву произведения они рассматривают как фактор новый и
определяющий жанровое своеобразие романа.
Познания Софии Ли в области английской истории не отличались ни полнотой, ни
точностью. В своем романе она меняет последовательность известных исторических
событий и факты биографий видных фигур елизаветинской эпохи, изображенных в нем. Так,
казнь Марии Стюарт совершается в романе после, а не за год до похода Непобедимой
Армады, якобы отправленной католическими силами Европы для спасения шотландской
королевы-католички. Обстоятельства жизни и гибели возлюбленного героини романа,
Матильды, существенным образом отличаются от обстоятельств жизни и смерти
исторического графа Лейстера. Само же лежащее в основе сюжета допущение о существовании
двух дочерей Марии Стюарт, рожденных ею в тайном браке с герцогом Норфолком во
время ее заточения, по-видимому, отражает — весьма неточно — тот факт, что накануне
своего отречения и пленения Елизаветой Мария потеряла в результате выкидыша двух
детей-близнецов, отцом которых был ее третий муж, граф Ботвелл.
В основе превратностей судеб героев, мотивов их поступков, в том числе и поступков,
определяющих ход исторических событий, лежит любовь. Из-за неразделенной любви к
Матильде отправляется во Фландрию и погибает под Цютфеном сэр Филипп Сидней. Из-
за любви к Эллинор, оказавшейся в плену у предводителя ирландских повстанцев Тайро-
на (также сраженного любовью к ней), терпит военные неудачи в Ирландии граф Эссекс.
Королевская немилость, которая приводит Эссекса к попытке мятежа, стоившей ему
жизни, вызвана его тайными переговорами с шотландским королем Иаковом, которому
Эссекс обещает содействие в наследовании английского престола в обмен на освобождение
своей возлюбленной, насильно удерживаемой в замке лэрда Дорнока.
Еще до публикации «Убежища» София Ли познакомилась с романом французского
писателя Франсуа-Тома де Бакуляра д'Арно «Уорбек» (1774), перевод которого она
сделала в 1786 г., через год после выхода собственного романа. Бакуляр д'Арно обращается в
«Уорбеке» к английской истории времени правления Генриха VII. Герой романа, Питер
Уорбек, внебрачный сын Эдуарда IV, выступает претендентом на английский престол, но
собранное им в Ирландии войско терпит поражение, так как перед решающей битвой
преданный влюбленный в Уорбеке берет верх над полководцем — узнав об опасности,
грозящей его жене Кэтрин, он устремляется к ней на помощь, покидая войско и обрекая его на
разгром. После многочисленных невзгод ему удается бежать из Тауэра и вместе с Кэтрин
найти на время убежище в мрачной пещере, где они чувствуют себя счастливыми вдали
от жестокого мира. Роман заканчивается трагически — пленением и смертью на плахе
Уорбека и гибелью Кэтрин от рук убийц, подосланных Генрихом.
В романе Софии Ли нетрудно обнаружить черты сходства с произведением
французского писателя. Это и тема внебрачных или непризнанных королевских детей, и описание
тайного убежища, уединенного и мрачного, но — хотя и на короткое время — счастливого.
Но прежде всего сходство заключается в изображении исторических событий как
следствия любовных радостей и невзгод героев. Эта характерная особенность французских
романов середины XVIII в. («Уорбек» Бакуляра д'Арно, «Английский философ, или
История г-на Кливленда, побочного сына Кромвеля, им самим написанная» Антуана Прево)
оказала заметное влияние на Софию Ли, прекрасно владевшую французским языком, о
чем свидетельствуют ее переводы, и хорошо знакомую с современной ей французской
литературой.
Сумрачный готический колорит романа «Убежище» восходит к традиции, начатой
произведениями Горация Уолпола и Клары Рив. Изображение исторических событий
(какова бы ни была степень его достоверности и точности), призванное служить усилению
драматизма любовных коллизий, несет на себе следы влияния французских романистов
второй половины XVin в. Но пристальное внимание к жизни человеческого сердца, к
оттенкам чувств и глубинным мотивам поступков, склонность рассматривать характеры и
события более чем с одной точки зрения — все это сближает творчество Софии Ли с
романами Самуэля Ричардсона. Близка к ричардсоновским эпистолярным романам и сама
форма повествования: история двух тайнорожденных дочерей Марии Стюарт рассказана
одной из них, Матильдой, в записках, которые она по просьбе своей молодой подруги,
Аделаиды Мари де Монморанс, пишет на пороге приближающейся смерти. В
воспоминания Матильды включены (составляя более трети романа) записки ее сестры Эллинор
вместе с письмами Эллинор к своей подруге и поверенной, леди Пемброк, которая, дополнив
их некоторыми пояснениями и комментариями, передает Матильде, вернувшейся в
Англию после долгих лет отсутствия. Таким образом, не только выстраивается параллельное
повествование о том, как сложились судьбы разлученных силою обстоятельств сестер, не
только события — неведомые или непонятные в рассказе одной — описываются и
объясняются в рассказе другой, но и выявляется пристрастность и небесспорность их суждений об
участниках этих событий.
Лорд Лейстер, в котором Матильда видит воплощение мужества, благородства,
великодушия и самоотверженности, в записках Эллинор предстает как честолюбец и эгоист,
«безудержный в своих замыслах, нерешительный и коварный в поступках, тиранический
в достижении своих целей». Дополнение же леди Пемброк к этим запискам позволяет
различить в характере возлюбленного Эллинор, графа Эссекса, свойства, оставшиеся
неизвестными самой Эллинор и приведшие его к трагическому концу: роковыми для него
становятся не столько гордость и благородная доверчивость, сколько честолюбие и
легковерие, порожденное тщеславием и самомнением. Прием параллельных повествований от
первого лица, имеющих сюжетные точки соприкосновения, способствует, как и в
эпистолярных романах Ричардсона, более разносторонней оценке описываемых событий, более
глубокому проникновению в мотивы поступков персонажей, а образы самих персонажей
лишает одномерности, свойственной готическому роману.
Влиянию Ричардсона в значительной степени обязана София Ли и откровенной дидак-
тичностью своего произведения.
Как известно, замысел первого романа Ричардсона «Памела, или Вознагражденная
добродетель. Ряд частных писем молодой особы к ее родителям, публикуемых с целью
укрепления принципов добродетели в умах представителей обоего пола» возник у писателя при
составлении заказанного ему книготорговцами Письмовника, которому не только
надлежало дать образцы писем на разные случаи для людей малограмотных, но и наставить
их в том, «как мыслить и действовать справедливо и осмотрительно в общеизвестных
Обстоятельствах Человеческой жизни». Из несостоявшегося Письмовника родился роман о
молодой служанке, чья несокрушимая добродетель восторжествовала над недостойными
домогательствами ее господина. Не подвергая сомнению незыблемость социальных основ
общества, Ричардсон стремился к исправлению его нравов — и тем самым к достижению
справедливости, при которой благочестивая скромность и бескомпромиссная
добродетельность одних может успешно противостоять произволу и безответственности других.
Воздействие Самуэля Ричардсона на последующую литературу было широко,
длительно и многообразно. Авторы готических романов признавали его с тем большей
благодарной готовностью, что жанр этот, при всей его популярности, в их глазах неизменно
нуждался в утверждении и обосновании своего raison d'etre, в подкреплении его почтенными
авторитетами. Клара Рив, как явствует из ее предисловия к «Старому английскому
барону», видела задачу художественного вымысла в том, чтобы, «во-первых, завладеть
вниманием читателя, а во-вторых, направить это внимание к какой-нибудь полезной (курсив
мой. — И. П.) или, по крайней мере, невинной цели. И счастлив писатель, который — как
Ричардсон! — достигает обеих этих целей». При этом очевидно, что «полезной», то есть
нравоучительной, воспитательной, цели литературы отдается несомненное предпочтение
перед развлекательной.
В романе Софии Ли его назидательная направленность заявлена с первых строк. Геро-
иня-повествовательница предлагает будущим читателям историю своей жизни, являющую
собой беспрерывную череду бедствий, утрат и страданий, как религиозно-нравственный
урок стойкости и терпения: «...пусть научится человек, сетующий на малые невзгоды, быть
справедливым к своему Создателю и к себе самому, вследствие неизбежного сравнения».
Воспитанные в уединенном Убежище наставлениями и примером безупречной миссис
Марлоу, юные героини романа вступают в мир, где тайна их происхождения обрекает
девушек на жизнь, исполненную опасностей, гонений, трагических потерь и рухнувших
надежд. Ударам судьбы они могут противопоставить лишь нравственную стойкость,
завещанную им воспитательницей: «...прежде чем совершить важный шаг, обратись к сердцу
своему в одиночестве. Бог поместил в каждом сердце непогрешимого советчика, и если
мы не слышим его спокойного, тихого голоса, то потому лишь, что шум мирской
заглушает его». В том же сознании непререкаемости нравственного долга воспитывает Матильда
свою дочь Марию. Становясь жертвой предательства, жестокости, клеветы, героиня
Софии Ли ищет опору в «радости и гордости ничем не запятнанной добродетели».
Нравоучительный характер произведения был с одобрением отмечен критикой, а
многочисленные моральные сентенции оценены как «справедливые, уместные и
высоконравственные».
Нравственный климат, в котором существуют героини романа, складывается из
почтения к традиционной морали и известной терпимости к отклонениям от ее норм, если эти
отклонения, явившись следствием житейской неопытности, оплачены последующими
страданиями. Таково отношение миссис Марлоу к печальной истории своей матери и
трагической судьбе Марии Стюарт. Привитая ею воспитанницам способность «сострадать не
подражая» сообщает им широту взглядов, позволяющую Матильде по достоинству
оценить благородство Ананы, темнокожей фаворитки ямайского губернатора, ставшей
покровительницей ее маленькой дочери: «Я решила, что недостойно было бы пожертвовать
долгом благодарности и расположения в угоду людскому мнению, и, помня, что ее
неискушенный ум не знал иных брачных уз, чем постоянство, в котором она, возможно, не
уступала мне, я решила терпеливо взращивать в ее душе добродетели, свойственные ее дикой,
но здоровой природе...»
Появление в романе образа Ананы не связано с присущим просветительскому идеалу
культом «благородного дикаря», противопоставленного порочной западной цивилизации.
В природных достоинствах Ананы Матильда видит лишь залог ее будущего приобщения
к христианской вере и благопристойного существования, чему готова благосклонно
способствовать.
Образ мыслей и круг понятий, сообщаемые Софией Ли героиням романа, не
соответствуют избранному для них историческому окружению и времени — они целиком
принадлежат автору и XVIII в. Таковы печальные наблюдения о том, как, теснимая
коммерческим интересом, исчезает из мира красота, как уныло преображаются места, дорогие
по воспоминаниям. Матильда, посетив после долгого отсутствия замок Кенильворт,
прежде принадлежавший ее мужу, обнаруживает в некогда прекрасных залах ткацкие
мастерские, устроенные там новым владельцем. Муж Эллинор, лорд Арлингтон, по
совету предприимчивого управляющего, разрушает старинное Убежище, где прошли детство
и юность сестер, с тем чтобы использовать камень для строительства мануфактуры, а
вырубив и продав окружающий лес, окупить строительные расходы. Таковы и
представления о социальном долге, побуждающие Эллинор искать прибежища от тоски и скорби
заботах благотворительности, собирая в своем поместье болезненных и слабых детей,
для которых непосилен крестьянский труд, и обучая их «ткать гобелены, плести
кружева, читать, писать, играть на музыкальных инструментах — сообразно их полу и
возрасту».
В духе раннего сентиментализма Руссо лицемерие и жестокость света, воплощением
которого в романе является елизаветинский двор, противопоставлены достойному и
добродетельному существованию скромных сельских жителей. Расставаясь со своей
преданной служанкой Алисией, Эллинор сравнивает свое бедственное настоящее и ненадежное
будущее с простой и ясной жизнью этой девушки: «...в ее отсутствие мне будет утешением
мысль, что она счастлива: милостью Небес ей дарованы родители, состарившиеся в покое
и добродетели, возлюбленный, незнакомый с коварством и честолюбием, и чистая душа,
исполненная благодарности за эти сокровища, которым нет цены».
Однако в романе Софии Ли апология пасторального уединения, облагороженного
учеными занятиями и искусствами, вдали от интриг и произвола власть имущих, восходит не
столько к Руссо, сколько к Шекспиру. Эпиграфом к роману взяты слова Старого Герцога
из шекспировской комедии «Как вам это понравится», герои которой скрываются от
гонений в Арденнском лесу, где все равны и свободны перед лицом природы.
Побуждая Эссекса покинуть королевский двор и, отказавшись навсегда от
честолюбивых устремлений, обрести покой в счастливом уединении, Эллинор завершает свой
призыв словами шекспировского героя:

Шекспировские строки героини «Убежища» цитируют неоднократно (хотя и не всегда
хронологически оправданно). В ряде эпизодов романа ощутимо присутствуют
шекспировские реминисценции — в странствиях Эллинор в пажеском платье вслед за своим
возлюбленным, в любви к ней молоденькой Фиби, обманутой ее мужским нарядом, в появлении
и речах безумной Эллинор перед королевой. Само изображение безумия (в письмах
Эллинор) как обретения некоего скорбно-поэтического ясновидения позволяет
предположить родство образа с шекспировскими безумцами Офелией и Лиром.
Пиетет Софии Ли к Шекспиру тем более велик, что по рождению и склонностям
она — человек театра. Дочь актера, хорошо знакомая с законами сцены, она начала свой
литературный путь как драматург, обращалась к этому жанру и впоследствии.
Ее проза несет на себе отпечаток театральности, выражающейся во внимании к позе и
жесту, в детальном, профессионально точном описании костюма, когда оно приобретает
особое значение для сюжета, в экономной и меткой афористичности некоторых
характеристик, в особом ритмическом рисунке концовок глав, которые напоминают «реплики на
уход». В наиболее драматичных, эмоционально насыщенных эпизодах писательница,
приостанавливая на миг стремительно развивающееся действие, выстраивает мгновенную
выразительную «мизансцену»: таковы изображения Роз Сесил перед ее самоубийством,
Эллинор, встающей между шпагами Эссекса и Арлингтона, обморока Марии в момент
первой встречи ее и Матильды с принцем Генрихом.
Именно прозе Софии Ли присуще качество, которое традиционно считается
новшеством, привнесенным в готический роман Анной Рэдклифф: изображение пейзажа и
природных явлений, гармонирующих с душевным состоянием героев. В романе Софии Ли
это и описание увитых зеленью монастырских руин вокруг Убежища, куда сестры, втайне
от опекуна, через подземный ход выбираются для своих одиноких прогулок; это и
картина бурной грозовой ночи, усиливающей ужас Эллинор, которая на протяжении
нескольких ночных часов становится жертвой королевского гнева, нападения разбойников и
безжалостного заточения под стражу в доме Сесила. Идиллический пейзаж,
сопровождающий Эллинор на пути в Камберленд, где она надеется воссоединиться с возлюбленным,
составляет драматический контраст с ожидающим ее ударом судьбы — известием о казни
Эссекса.
В романе «Убежище» впервые и мимоходом, во второстепенном эпизоде, использован
прием прозаически-обыденного объяснения зловещих и устрашающих обстоятельств: то,
что в разбойничьем притоне Матильда в ужасе принимает за орудия изощренных пыток,
оказывается лишь принадлежностями ремесла фальшивомонетчиков. Позднее, в
творчестве Анны Рэдклифф (в частности, в романе «Тайны замка Удольфо»), этот прием
становится одной из стилеобразующих особенностей готического жанра.
После «Убежища» София Ли более не обращалась к жанру готического романа (если
не считать перевод-адапцию «Уорбека»). В 1787 г. ею была написана баллада в сто
пятьдесят шесть строф — «Рассказ отшельника, записанный его собственной рукой и найденный
в его келье», посвященная сражениям на шотландской границе, — произведение, не
обладавшее сколько-нибудь значительными литературными достоинствами.
В апреле 1796 г. в театре Друри Лейн при участии знаменитых актеров, Сары Сиддонс
и Джона Кембла, с большим успехом была поставлена новая пьеса Софии Ли —
написанная белым стихом пятиактная трагедия «Альмейда, королева Гранады», действие которой
происходит в Испании времен мавританского владычества.
Годом позже вышел в свет первый из пяти томов «Кентерберийских рассказов», напи-
санных Софией Ли вместе с сестрой Харриет. «Кентерберийские рассказы» издавались с
1797 по 1803 г. Софией было написано предисловие к первому тому, где говорилось о семи
пассажирах почтовой кареты, которые на пути из Дувра в Лондон задержаны снегопадом
в гостинице и, чтобы скоротать вынужденное ожидание, берутся каждый «рассказать
самую примечательную историю, которую когда-либо знал или слышал». Рассказы,
включенные в первый том, были написаны Харриет. Второй том целиком принадлежит
Софии, третий том составлен из рассказов обеих сестер, автор двух последних томов —
Харриет Ли. В предисловии к первому тому представлены портреты
путешественников-рассказчиков, но, в отличие от чосеровских «Кентерберийских рассказов», сочинения, в честь
которого сборник получил свое название, стиль и характер рассказов не
индивидуализированы сообразно с личностью рассказчиков. «Кентерберийские рассказы» сестер Ли
относятся скорее к жанру романтического повествования, нежели к готическому жанру.
В 1804 г. София Ли издает сентиментальный роман в письмах «Жизнь влюбленного»,
задуманный и написанный ею в юности, когда, как пишет она в предисловии,
«воображение берет верх над разумом, а сердце порой подчиняет себе обоих». История Сесилии Ри-
верс, пытающейся зарабатывать на жизнь трудом гувернантки, любимой аристократом
лордом Уэстбери, становящейся его женой после того, как он овдовел, умирающей и
горько оплакиваемой всеми, кто ее знал, несмотря на значительные литературные
достоинства, успеха не имела.
Последним произведением Софии Ли стала комедия «Свидание», поставленная в
1807 г. в театре Друри Лейн, потерпевшая провал и, вследствие этого, оставшаяся
ненапечатанной.
Творчество Софии Ли внесло заметный вклад в последующее развитие английского
романа. Ее историко-готическое повествование, «обживая» средневековые декорации и
соприкасаясь с событиями минувших эпох, способствовало зарождению жанра
исторического романа. Ее темы, сюжеты и арсенал изобразительных средств раскрыли новые
возможности готического романа и получили развитие в творчестве романистов следующей
эпохи, чья слава затмила недолгую известность, доставшуюся в удел Софии Ли.
И. Проценко
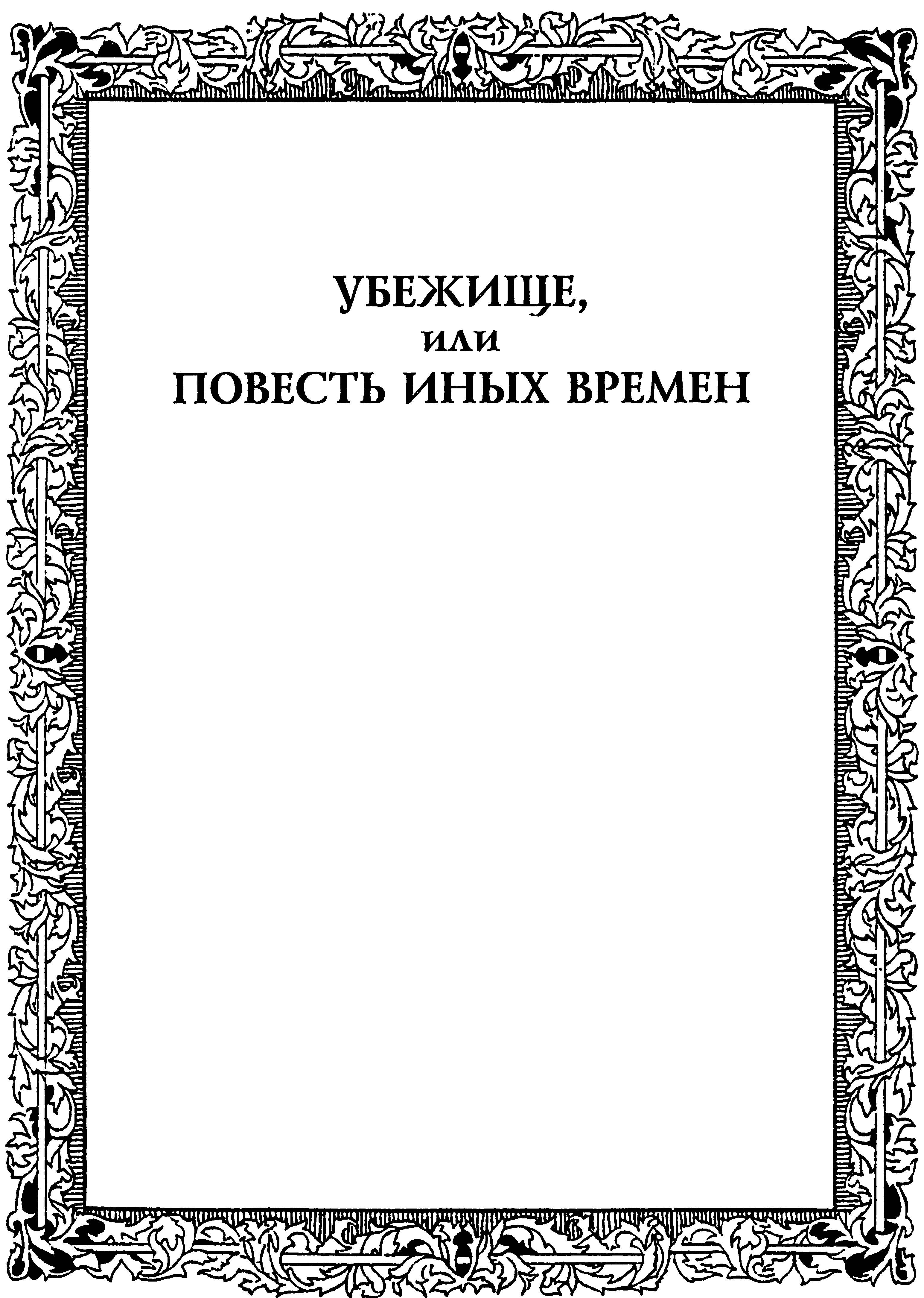
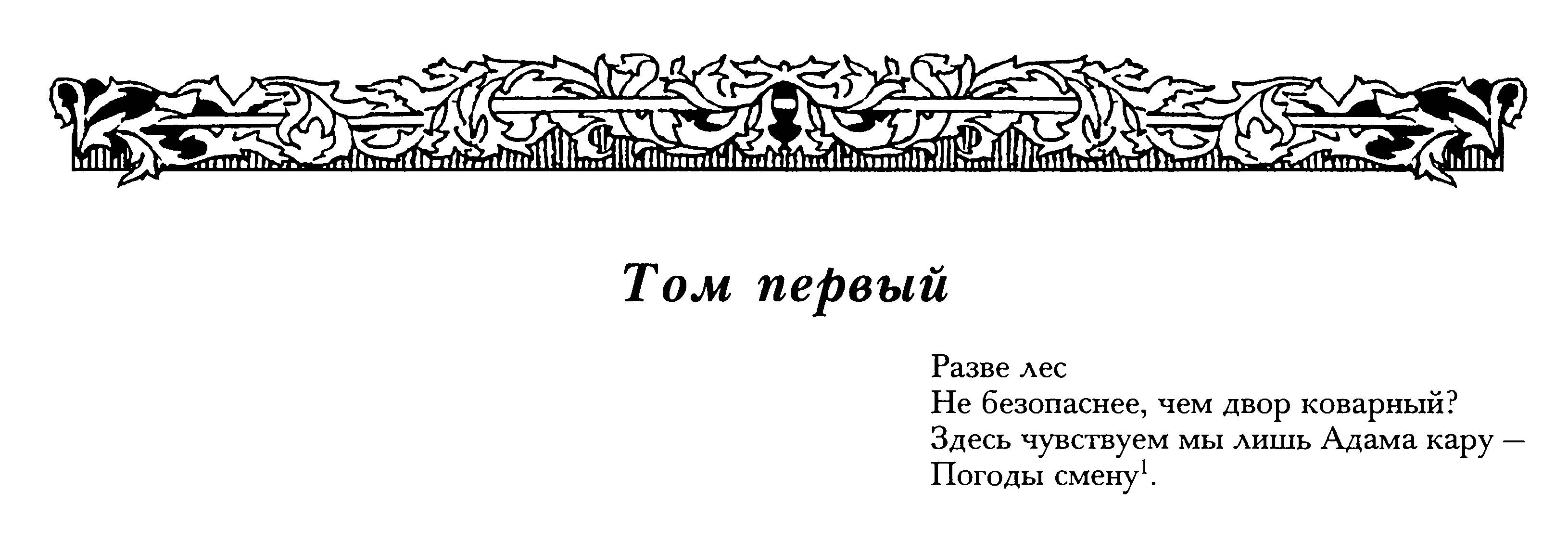 .
.
Сэр,
Сэру Джону Элиоту, баронету
я нанесла бы оскорбление сердцу, которое самую большую радость
находит в том, чтобы делать добро, если бы просила официального
разрешения на то, чтобы во всеуслышание объявить его
достоинства, что и побуждает меня удивить Вас этим обращением. Время
и расстояние могли изгладить автора из Вашей памяти, но ни
то, ни другое не сотрут в ее памяти благодарность к человеку,
который, соединяя сочувственный интерес с ученостью и
великодушием - с этими двумя качествами, стал для страдальцев вторьии
Провидением. В долгу перед Вами за все Ваши дружеские усилия,
пока сердце мое не охладеет, как те, которые даже Ваше искусство
не в силах спасти, навсегда остаюсь, сэр,
Ваша благодарная и покорная слуга София Ли.
ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ
Поскольку я не располагаю позволением обнародовать обстоятельства,
предоставившие в мое распоряжение старинный манускрипт, из которого
извлечена следующая далее повесть, только простота ее и может служить
ручательством за ее подлинность. Я не приношу извинений за то, что приблизила
язык автора к современному, так как в противном случае он был бы часто
непонятен. Удивительное совпадение событий сообщает повествованию по
меньшей мере вероятность, а царствование Елизаветы было временем
романтическим. Если эта Дама — не порождение фантазии, то ее судьба не знает себе
равных; род, к которому она принадлежала, именитый историк определил
как блистательно несчастный.
Персонажи, вплетенные в ткань повествования, в целом не противоречат
исторической правде, а если любовь или дружеские чувства затеняют
недостаток или ярче освещают достоинства, то лишь разумно будет снизойти к
слабости, свойственной всем в каждом особом случае. История, подобно
живописи, увековечивает лишь выдающиеся свойства ума, тогда как лучшие и
худшие поступки властителей проистекают из пристрастий и предубеждений,
которые живут в их сердцах и уносятся ими в могилу.
Разрушительное действие времени оставило в повествовании пробелы,
которые порой лишь увеличивают его занимательность. Нерушимое почтение к
правде не позволяет мне заполнить эти пробелы даже там, где они наносят
ущерб повествованию. Сердцам представителей обоего пола, которых
природа наделила восприимчивостью, а жизненный опыт — утонченностью,
смиренно предлагаю это повествование, уверенная, что они найдут его достойным
своего внимания.
София Ли
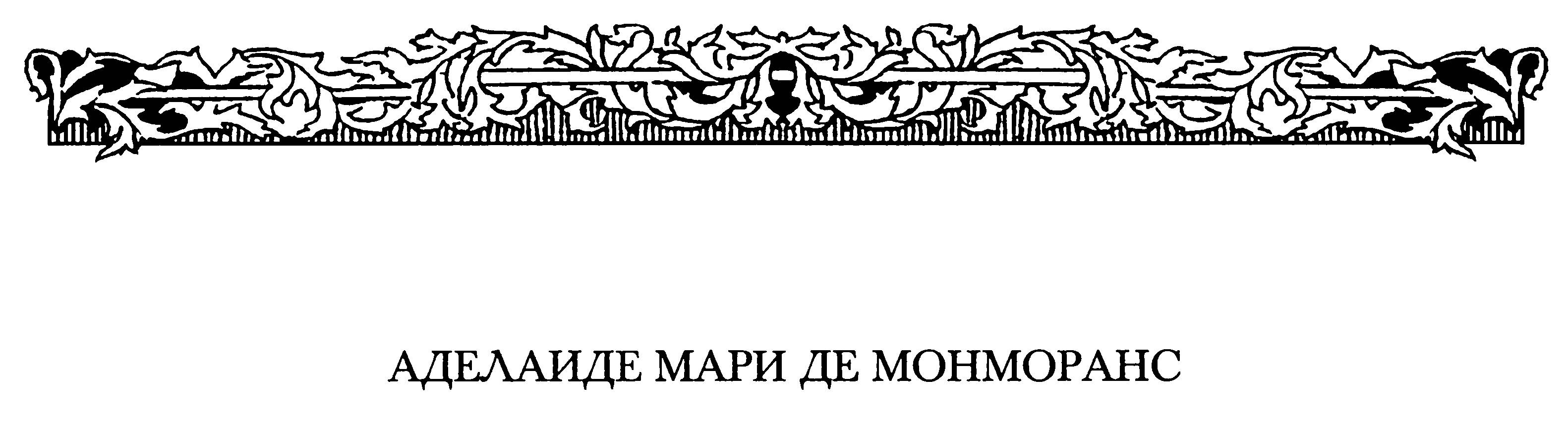
Долгий и скорбный жизненный путь прошла я, и теперь, когда
сокрушено мое сердце многими горестями и иссякли в глазах
слезы, чтобы оплакать их, все мои помыслы обращены к
могиле, на краю которой я стою. Зачем же требовать, безмерно
великодушный друг мой, чтобы вновь я пережила свои
несчастья? Такова была особенность судьбы моей, что, хотя познала я
и в муках утратила все те привязанности и надежды, кои
возвышают и украшают род человеческий, едва мое немощное
тело скроется во прахе, из которого вышло, как не останется
следов моего существования — разве что в уязвленной совести тех,
кто наметил меня как одинокую жертву, осужденную страдать за
преступления предков, ибо поистине не могла я сама заслужить столь плачевного
жребия в жизни, что прожила, и в смерти, что мне предстоит.
Увы! Ваша благосклонная привязанность требует моих воспоминаний, кои
вызовут к жизни печальные образы, схороненные в груди моей, и вновь
откроют кровоточащие раны моего сердца. Однако безграничное несчастье
таит в себе нравственный урок, и если эти страницы станут достоянием
читателей, то пусть научится человек, сетующий на малые невзгоды, быть
справедливее к своему Создателю и к себе самому, вследствие неизбежного
сравнения. Но не притязаю ли я дерзко на чрезмерную значительность, поучая
таким образом? Увы, докучность — дорого оплаченное право несчастных.
Моя жизнь началась событием столь невероятным, что лишь изложенные
далее обстоятельства могут склонить читателя к доверию. С той поры, как
обрела способность размышлять, помню я себя и сестру, одного со мною
возраста, в некоем жилище в обществе дамы и служанки, постарше ее. Каждый
день мы получали все необходимое для нашего существования и развития,
приносимое словно бы невидимой рукой, ибо редко случалось, чтобы я не ви-
дела рядом кого-нибудь из тех немногих лиц, что меня привычно окружали.
Наше Убежище нельзя было назвать пещерой, так как в нем было много
комнат, а каменные стены его явно были сложены человеческими руками, однако
каждая комната существовала особо, отделенная от других сводчатыми
переходами со множеством ступеней, а свет проникал сквозь окна с цветными
стеклами, так высоко расположенные, что мы не могли смотреть из них на
внешний мир, и такие тусклые, что солнечные лучи оказались для нас новы и
непривычны, когда мы покинули свое уединение. Эти подробности мы стали
замечать лишь по мере того, как созревал наш разум; поначалу же мы, в силу
привычки и неведения, довольствовались существующим, нимало не
задумываясь над тем, что нас окружало. Упомянутая мною дама звала нас своими
детьми и ласкала обеих с родительской нежностью. Она была щедро
наделена тихим очарованием, и неудивительно, что мы, не имея иного предмета
поклонения, любили ее всей душой. По утрам мы сходились в одной из комнат,
больше прочих, где некий в высшей степени достойный господин служил
молебен, всякий раз заключая его рассуждением о том, сколь благодетельно
затворничество. От него мы узнали, что существует страшное и обширное
место, именуемое миром, где горстка спесивых людей помыкает миллионами
обездоленных, направляемая несколькими людьми, хитроумными и ловкими;
что Провидение милостиво оградило нас от тех и от других; что
благодарность наша должна быть безмерна. Молодые сердца бывают исполнены
неясных порывов и слишком подвластны возвышенным и восторженным
впечатлениям. С течением времени незаметно росло влияние на нас этого человека;
мы видели в нем существо высшего порядка, чему немало способствовала и
его наружность. Вообразите высокую сильную фигуру в черном одеянии,
властную строгость обращения. Черты его были отмечены следами многих скор-
бей и печатью преждевременной старости, неизменно привлекавшей к себе
внимание. Пламенный и благородный взор, изящное достоинство, с каким он
встречал старость, покоряющее сердца торжественное звучание его голоса:
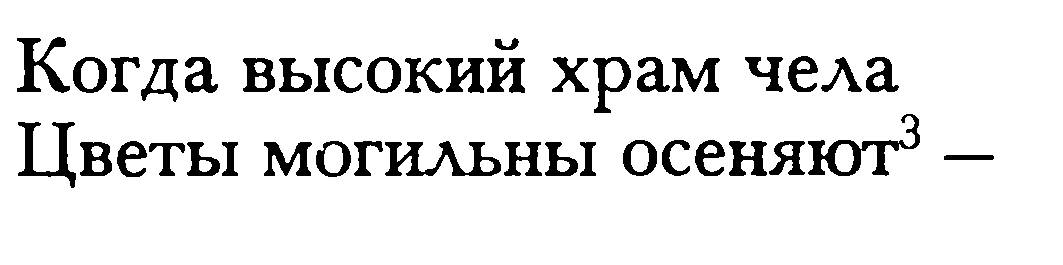
все это делало безграничным авторитет отца Энтони, как мы называли его
вслед за матушкой, которой, как мы понимали, он доводился братом. Он
обыкновенно обедал вместе с нами и затем исчезал до утра таким образом,
что мы не знали ни как, ни куда он уходит. В его отсутствие мы занимались
мелкими полезными делами или проводили время в беседах с нашей
матушкой, которая все свои силы отдавала единственной задаче — развивать и
воспитывать наши юные умы, ибо мира мы были научены страшиться. Она была
нашим миром, и вся нежная привязанность, на которую, как показало время,
так щедро мое сердце, была отдана ей и моей сестре. Годы и печали
сообщили усталую утонченность ее безупречно правильным чертам, в
нежно-гармоничном облике красота и элегантность, отвечающие самому требовательному
вкусу, соединялись с женской беспомощностью, которая, если она
неподдельна, чарует неотразимо. Нрав у нее был спокойный и ровный, а ум обогащен
обширными познаниями, которые она неустанно расширяла ежедневными
занятиями. От природы склонная к серьезным размышлениям и разделяя с ней
любовь к ее занятиям, я обычно проводила рядом с нею те часы, которые Эл-
линор отдавала своим игрушкам и Алисе, чья память хранила множество
чудесных сказок, столь милых детям. По мере того, как день ото дня ширился
круг наших мыслей, мы стали все чаще задумываться над своим
происхождением и своей затворнической жизнью. Мы знали, что отец Энтони постоянно
исчезает, но как и куда — было для нас непостижимо, ибо во всех своих
поисках мы не нашли ни одной двери, кроме той, что была общей для всей семьи
и отделяла нас от мира. Эллинор, чье живое воображение питалось
невероятными историями, выдумала, будто все мы находимся во власти некоего
великана; впрочем, ее неприязнь к отцу Энтони была так сильна, что временами
она высказывала опасение, не колдун ли он и не съест ли он нас в один
прекрасный день. Я имела на этот счет совершенно иное мнение: наше Убежище
казалось мне зачарованным кругом, обороняющим нас от злых людей, а отец
Энтони — нашим добрым гением. Часто мы, сговорившись, подступали с
расспросами к Алисе, но она, хотя и была, как водится у старых нянюшек,
привязана к нам обеим, а в особенности к Эллин, не поддавалась на те маленькие
хитрости, что диктует детям сама природа. Пытались мы время от времени
расспрашивать и матушку, но, смущенные ее серьезностью, всякий раз
отказывались от тщетных попыток.
Раз она исчезла на две недели, предоставив нас самим себе в месте
поистине безрадостном. Часть этого времени мы провели в новых поисках двери,
остальное — в ребяческих жалобах на матушкино отсутствие. Алиса, впрочем,
заверила нас, что оно будет лишь временным. Неукоснительно исполняя свой
долг, она всякий раз запирала наше жилище после обеда; несомненно, именно
в это время приходили в Убежище и покидали его все, кто имел в том
надобность. Так как я оказалась лишена своего обычного прибежища — книг, мы,
дабы скоротать, хоть отчасти, печальный досуг, условились поочередно
сочинять истории по многочисленным портретам в полный рост, украшавшим
парадный покой. Эллинор тут же придумала забавную историю о старике с
портрета, очень насмешившую нас обеих. Я обратила взгляд к следующей
картине, чтобы собраться с мыслями для рассказа. Там был изображен мужчина
благородной наружности в одеянии, название которого мне в то время было
неизвестно, но, как я узнала впоследствии, называемом латами. Шлем его
был в руках у пажа, и светло-каштановые кудри ниспадали на плечи. Его
окружало множество символов воинской доблести, а глаза, устремленные, как
мне казалось, прямо на меня, излучали тихую ласку. Чувство благоговения,
соединенного с небывалой нежностью, внезапно заполнило мою душу; язык
тщетно пытался выразить некую смутную мысль, и я склонилась головой на
плечо сестры. Моя милая сестра быстро обернулась ко мне, и светлый взор ее
был тот же, что на портрете. Все пристальнее я вглядывалась в нее и находи-
ла в ее чертах все большее сходство с человеком на портрете: когда она
хмурила брови, в ней было его достоинство, когда улыбалась — его нежность.
Благоговейный страх, преодолеть который я была не в силах, не позволял
мне сочинить историю об этом человеке, и я обратилась к следующей
картине. То был портрет молодой дамы в трауре. Черты ее выражали «глубокую
скорбь, а складки черного покрывала наполовину скрывали корону, над
которой она склонилась в горе. Если первый портрет вызывал благоговение, то
этот порождал в душе множество разнообразных чувств — трогательных и
нежных. Глаза наши невольно наполнились слезами, и, зарыдав, мы
бросились друг другу в объятия.
— Ах, кто же это может быть? — плача вопрошали мы в один голос. —
Отчего так трепещут наши сердца перед безжизненными холстами? Все, что мы
видим, несомненно, лишь часть некой великой тайны, так когда же, когда
настанет день, в который всему суждено разъясниться?
Рука об руку мы шли вдоль стен, обмениваясь мыслями о каждом
портрете, но ни один из них не заинтересовал нас так, как те два. Нам не
наскучивало разглядывать и обсуждать их: молодое сердце часто бывает всецело
поглощено какой-нибудь излюбленной мыслью посреди света и блеска огромного
мира — надо ли удивляться, что наши сердца так сосредоточились на одном,
заживо погребенные в столь тесных пределах? Не знаю почему, но мы жили в
присутствии этих двух портретов так, словно они понимали нас, и краснели
перед ними за малейшую провинность. Как только вернулась наша матушка,
мы тотчас кинулись к ней в объятия и, прерывая ее нежные ласки, засыпали
ее вопросами об этих портретах. Она посмотрела на нас, пораженная, глаза
ее наполнились слезами, и она попросила оставить ее одну и дать ей
собраться с мыслями. Вскоре она призвала к себе Алису и в беседе с ней,
по-видимому, почерпнула спокойствие, но тщательно избегала расспросов, стараясь
разнообразить наш досуг музыкой, рисованием, поэзией, географией и другими
изящными и поучительными занятиями. Стоило нам малейшим намеком
коснуться тайны нашего Убежища, она неизменно говорила:
— Подождите, милые мои девочки, подождите назначенного часа. Увы! За
ним может прийти час, когда вы пожалеете о былом неведении.
Осененные неясной печалью, шли годы, пока мы не подросли.
Простите, если я слишком долго задерживаюсь на этих воспоминаниях: их
немного, и они — единственное в моей жизни, на чем сердце позволяет памяти
остановиться. Поистине мы рождаемся на свет, чтобы создавать собственные
несчастья! Мы пускаемся в путь от порога юности, отважно и нетерпеливо, не
ведая о тех высотах и глубинах, что надлежит нам одолевать вопреки
враждебным стихиям, сгибаясь под гнетом самого тяжкого бремени — своей
неудовлетворенной души. Как часто с тех пор оплакивала я миг, когда
покинула Убежище, а ведь тогда я жила надеждой на этот мир! Всегда
заблуждаться — слабость рода человеческого, всегда оплакивать свои заблуждения —
наказание за них. Увы! Если бы мудрость можно было обрести без жизненного
опыта, как было бы счастливо человечество!
Отец Энтони со временем снискал наше расположение тем, что постоянно
выражал неудовольствие нашей жизнью взаперти. Он считал, что
затворничество ограничивает наш кругозор и не способствует успехам в учении.
Мы вторили его совету своими беспрестанными мольбами. Наша матушка,
которая как никто умела убеждать, не оставалась глуха к доводам других.
— Ах, дети мои, — не раз повторяла она, — на горе себе желаете вы
покинуть дом, о котором станете вспоминать с любовью, исполненной сожалений.
Возвращение в него было бы тщетно: вы утратите вкус к радостям,
оставляемым здесь, не обретя, быть может, ничего взамен. Однако храни меня Бог от
себялюбивой слабости порицать вас, даже для вашего блага. Вы увидите этот
хваленый мир. И пусть он всегда радует вас так, как порадует по первому
взгляду!
В бурном юношеском восторге мы кинулись обнимать ее, потом друг
друга.
— Наконец мы уйдем отсюда! — ликовали мы. — Наконец мы увидим много
людей — таких же, как мы!
— О чем вы говорите, дети? — воскликнула она. — Ах, как мало увидите вы
людей таких, как вы!
На следующий день назначено было наше освобождение. Не менее
пятидесяти раз мы складывали и перекладывали свое небольшое имущество,
единственно чтобы занять время до установленного часа. Когда он настал, мы были
призваны к нашему единственному другу. Она расхаживала взад и вперед по
комнате, по-видимому взволнованная некой тайной.
— Матушка! — воскликнула я. — Неужели вы горюете оттого, что мы будем
счастливы?
— Ах нет, Матильда! Я горюю оттого, что вы сейчас, как я думаю,
расстаетесь со счастьем. В этом счастливом уединении я могла заменить всех
утраченных близких вам, детям, которых удочерило мое сердце; я стояла между
вами и судьбой, равно благородной, мрачной и печальной. Увы, зачем
заставляете вы меня расстаться с вами и с вашей тайной? Зачем
вынуждаете сказать, что вы не должны более называть меня иначе, чем миссис
Марлоу?
— Никогда более не звать вас матушкой? — прошептала я со вздохом. —
Кто же тогда наши родители?
— У вас нет отца. Имя того, кто подарил вам жизнь, покоится в этой
груди.
— А наша мать...
— Жива, но не для вас. И более ни о чем меня не спрашивай: пусть то, что
ты узнала, научит тебя страшиться знания. Когда время того потребует, я
открою вам всю вашу историю. А теперь перестаньте плакать, мои чудные, мои
любимые девочки: я лишь не зовусь более вашей матерью, но сама я остаюсь
прежней. Всем, кто будет видеть нас, известно, что я никогда не была
замужем, — это и заставляет меня открыться вам. Но я смею верить, люди будут
полагаться на то, как поведу себя я, и примут вас под любым именем, которое
я вам дам. Причины, о которых вы узнаете позже, побуждают меня
неизменно держать в тайне Убежище, где только и могла я скрывать вас — обещайте
же мне обе никогда и никому не доверять этой тайны.
Пораженные торжественной сценой, мы чувствовали, как покидает нас
желание свободы: сами себе мы казались звеньями, выпавшими из единой
цепи творения. Между тем беспокойное воображение наше стремилось до
конца проникнуть в тайну, предчувствие которой заставляло нас лить слезы.
«Она жива, но не для вас». Слова эти эхом отдавались в моем сердце, когда
беззаботная радость порхала вокруг меня, и страх перед будущим своим
холодным дыханием губил восторг настоящего.
Мы дали обещание, о котором она просила, после чего она завязала нам
глаза, взяла за руку меня, а Алиса — мою сестру, и нас несколько минут вели
по многочисленным холодным переходам. Когда повязки с глаз были сняты,
мы увидели, что стоим под сенью величественной сводчатой колоннады. Мы
выбежали в сад, который она окаймляла, и как ярко было впечатление от
того, что предстало нашим глазам! Роскошный дом венчал вершину холма, а
вокруг раскинулась богатая и плодородная долина с разбросанными по ней
рощами и селениями, то полускрытыми густой зеленью, то теснящимися на
виду; между ними протекала река,
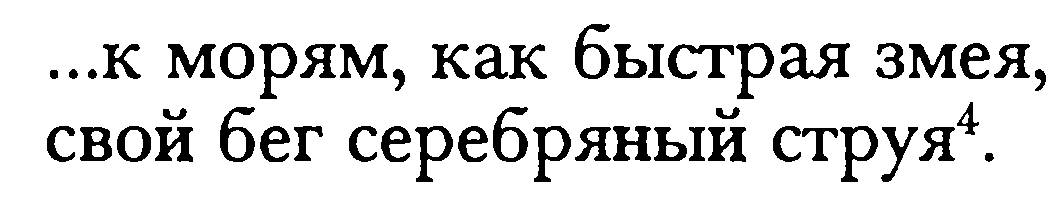
Солнце садилось среди клубящихся волн золота и пурпура, и мы не в силах
были отвести глаз от его слепящего блеска. Хотя мы часто читали и слышали
о лучезарном светиле, только Творец мог явить его нам во всей славе.
Воображение может превзойти чудеса искусства, но чудеса природы оставляют
воображение далеко позади.
Миссис Марлоу провела нас через Аббатство, которое правильнее было
бы назвать дворцом. Его возвели на руинах старого аббатства, разрушенного
во времена Реформации, и оно по-прежнему называлось именем Святого
Винсента. Его отличали готическое великолепие и изящество, и нам радостно
было узнать, что в миссис Марлоу, сестре нынешнего владельца, лорда Скрупа,
все слуги видели хозяйку. Нам были отведены роскошные покои в ее
апартаментах, и чары нового для нас мира, соединяясь с печальными раздумьями,
равно тревожили наш покой. Восход солнца, чей первый луч золотил наши
окна, пробудил нас. Когда я останавливаюсь на этих мелочах, время словно
замирает и прошедшее живо представляется мне. Тяжелые капли росы, эти
алмазы, которыми природа убирает себя, сверкающие в лучах, что скользят
по траве; различные животные, чье каждодневное существование словно
порождается присутствием светила; утренний хор пернатых созданий — все это
сливалось воедино, пробуждая в наших сердцах благодарность и покорность
воле Творца.
— Прими, о Господи, — восклицали мы, — благоговейную любовь двух сер-
дец, у которых только Ты и есть во всей безграничной вселенной. Удостой
своим благословением наше желание творить добро и дай нам на это силы, а
если лишь печаль коснется сердец наших, освяти ее смирением — с тем
чтобы, когда настанет для нас срок предстать перед вечностью, надежда могла
стать нам проводником!
Мы наблюдали с восторгом за резвыми оленями и, желая поиграть с ними,
тихонько пробрались в парк из комнаты миссис Марлоу коридором, который
она нам указала накануне. Каково же было наше удивление, когда мы
увидели, что создания, с которыми мы мечтали сблизиться, оказались крупными и
грозными животными, и, не убеги от нас они, нам пришлось бы спасаться
бегством от них; что каждая птичка страшится своего природного защитника;
что люди ведут постоянную войну со всеми, даже с себе подобными!
Может быть, я утомительно долго останавливаюсь на этих ребяческих
впечатлениях, но они, мне кажется, доставляют чистейшие радости нам в нашей
жизни.
Миссис Марлоу наняла для нас наставников во всех науках и искусствах —
лучших, каких можно было найти в этой удаленной от столицы местности. Ее
собственный пример сообщил нашим манерам ту элегантную утонченность,
что не достигается никакими нравоучениями. В силу своего положения мы
были чрезвычайно далеки от общества и без труда поняли, что именно
таково было желание миссис Марлоу, так как она часто выражала беспокойство
по поводу возвращения лорда Скрупа, который, как я поняла, был отправлен
в Гаагу в качестве посла королевы Елизаветы. Раз в неделю наши наставники,
слуги и крестьяне, населявшие поместье, сходились в часовню Сент-Винсент-
ского Аббатства, и это были наши единственные появления на людях. По
воскресным вечерам мы посещали келью отца Энтони, представлявшую собой
хижину, выстроенную для него лордом Скрупом (с которым он состоял в том
же родстве, что и миссис Марлоу) на краю большого леса, который
примыкал к господскому дому сзади. Здесь, пока нас потчевали простым
угощением, которому сама новизна придавала прелесть, разум наш развивался в
беседах о всевозможных возвышенных и поучительных предметах. Когда дела
благотворительности призывали миссис Марлоу, она всякий раз брала нас с
собой и раздавала милостыню исключительно нашими руками, при этом
побуждая нас добавлять понемногу от себя, соразмерно с нашими средствами.
Юность редко грешит скупостью, по крайней мере, насколько могу судить я
по склонности собственного сердца: самой большой радостью было для меня
получая — отдавать. И трудно представить себе, чтобы Милосердие могло
низойти на землю в более прелестном обличий, нежели миссис Марлоу. Когда
бедняк рассказывал ей о своих невзгодах, взор ее выражал нежную заботу,
которую редко можно увидеть и невозможно описать, а самое ее появление
приносило страдальцу такую радость, словно перед ним зримо предстал его
ангел-хранитель.
Так прошло три года, прежде чем вернулся лорд Скруп. Когда же он
вернулся, то сразу погрузился в политику, так что для нас единственным напоми-
нанием о его возвращении были разнообразные подарки, постоянно
присылаемые им из Лондона.
По-прежнему печальные слова «Ваша мать жива, но не для вас» звучали
порой в наших сердцах, по-прежнему мы желали отыскать наше былое
Убежище и с этой целью бродили по Сент-Винсентскому Аббатству с тем же
любопытством, с каким некогда бродили по Убежищу. Чем более мы об этом
раздумывали, тем более утверждались в мысли, что оно должно быть где-то
поблизости, но почтение, которое нам внушили торжественные
предостережения миссис Марлоу, налагало печать на наши уста, не давая расспрашивать
слуг, а бродить без присмотра нам не дозволялось.
Миссис Марлоу справедливо полагала в счастии достойнейшую цель
знания и не жалела усилий на то, чтобы убедить нас, что нет на свете судьбы
желаннее той, что уготована нам.
— Здесь, — говорила она, — вы равно свободны от тягот высокой и низкой
доли, здесь мир и невинность покоят ваши сердца и розами цветут на ваших
щеках. Да будет вам дано встретить тот час, коего никто не избежит, так же
не ведая и не возбуждая зависти, как сейчас. Ах, как непохоже это на грехи и
горести придворной жизни! Там нет порока более губительного для вас, чем
искренность, нет большего достоинства, чем лицемерие. Любовь и дружба
там не ведомы, а их имена лишь используют как ловушку для неосторожных.
Женщинам красота несет погибель, отсутствие красоты — оскорбительное
небрежение. Людские дары подменяют Божий дар, деньги признаются
единственным достоинством. Ах, неустанно, милые мои девочки, благодарите
Провидение за то, что вы далеки от всего этого!
Сознаться ли в своем тщеславии? Глядя в зеркало, я не верила, что
оказалась бы в небрежении даже при дворе. Я не имела перед глазами образца
для справедливого сравнения: крестьянки, которых мы видели, изнуренные
повседневными трудами, сохраняли в своей наружности лишь те следы
очарования, которые позволяли судить, каковы бы они были, живя в довольстве
и холе. Белизной кожи и тонкостью черт я могла сравниться только с
сестрой. Даже наши платья, хотя они часто были лишь из более тонкого
камлота, чем у них, так отличались покроем, что казались сшитыми совсем из
иных тканей.
Как ни склонны были мы использовать во благо советы той, что была для
нас более чем матерью, Небо не сулило нам счастья. Гром грянул внезапно
над нашими головами. Миссис Марлоу, единственная наша привязанность на
земле, более всех любимая, была сражена болезнью, тем более опасной, что
поначалу она не проявлялась бурно и потому не сразу была замечена.
Невозможно описать наше горе. Четырнадцать дней и ночей мы провели, стоя на
коленях по обеим сторонам ее постели, воссылая слезы и мольбы ко
Всевышнему. Из любви к нам она боролась с недугом, и он, оставив ее изможденной
и слабой, начал наконец отступать, но, несмотря на все усилия врачебного ис-
кусства, так и не был побежден вполне. Не успели мы опомниться от этого
несчастья, как гонец из Лондона доставил миссис Марлоу пакет, по поводу
которого она спешно призвала к себе отца Энтони. Некоторое время они
совещались, а потом послали Алису за нами.
— Дети мои, — сказала миссис Марлоу слабым голосом, — непредвиденные
обстоятельства вынуждают нас вновь удалиться в Убежище. Там сейчас идут
приготовления, чтобы принять нас. Вы уже в таких летах, что можете сами
судить о том, насколько важно скрыть его, и я не буду более окружать его
тайной. Но зачем же так унывать из-за временного ограничения? Если я, ради
вас, готова к тому, чтобы меня отнесли туда, как труп в усыпальницу, не
будете же вы столь невеликодушны, чтобы предаваться эгоистичным сетованиям?
Мгновенно устыженные этим благородным порицанием, мы собрали в
безмолвном смятении и горе свои платья и украшения и вернулись в ее комнату,
где нашли отца Энтони, старого слугу по имени Джеймс, Алису и
домоправительницу, которая, предварительно отослав прочих слуг, повела нас в
кладовую в нижнем этаже. Там она открыла шкаф, отвела в сторону его заднюю
стенку, и мы оказались в чулане, освещенном лишь нашими факелами. Затем
она подняла плотно пригнанную плиту пола, за которой открылись два узких
лестничных марша. По ним мы сошли вниз, расставшись с ней и надежно
запершись изнутри. Мы миновали несколько подземных переходов,
выстроенных на арочных опорах и предохраняемых от сырости с помощью воздуха,
который поступал через полые статуи, украшавшие сад, и наконец достигли
своей тюрьмы. Судите же, как я поразилась, обнаружив, что столь долго
разыскиваемый нами вход был дверью в точный размер того портрета, что
некогда пробудил во мне такие странные чувства, и закрывалась эта дверь с
помощью едва различимой пружины. Отец Энтони остановил готовое сорваться
с моих уст восклицание и тотчас направил меня к миссис Марлоу, чьи
бледность и недвижность, вызванные утомительным переходом, сделали еще
ужаснее эту тягостную минуту. Душевное ли смятение способствовало ее
недугу, был ли он изначально неисцелим — не знаю, но с момента нашего
возвращения в Убежище я чувствовала, в безмолвном горе, что она никогда не
выйдет отсюда живой. В этом заточении, лишенная свежего воздуха,
врачебной помощи и совета, она дала нам последнее подтверждение своей
великодушной привязанности, решительно отвергая наши мольбы.
— Уйдем из этого мрачного места, — говорила я, — хотя бы в хижину.
Зачем отягчать нашу потерю жестоким сознанием, что мы сами причастны к
этому несчастью? О, что может страшить нас более утраты той, кого мы
любим?
— Почему, почему, дети мои, — возражала она, — такой горечью наполняет
вас общий для всех удел? Мне ли, добровольно проведшей юность в
гробнице, страшиться оставить в ней свой прах? Вы знаете, что я не колеблюсь в
своем решении, к тому же, я думаю, когда Господь призывает нас, человеку не
уклониться от своего часа, как бы он того ни желал, как бы мудр он ни был.
Будь я взята от вас раньше, беда поистине могла быть тяжела для всех, но те-
перь, когда я передала вам знание жизни, остался лишь этот последний урок,
и тогда долг мой будет исполнен. Вы теперь можете судить обо всем сами;
полагайтесь на Бога, и Он вас не оставит.
— Увы! — отвечала я, обливаясь слезами. — Только в ваших глазах
находили мы подтверждение тому, что поступаем правильно. Как отличим мы
добро от зла, когда эти дорогие нам глаза закроются?
— Помни одно, Матильда, — торжественно промолвила она, — прежде чем
совершить важный шаг, обратись к сердцу своему в одиночестве. Бог
поместил в каждом сердце непогрешимого советчика, и если мы не слышим его
спокойного, тихого голоса, то потому лишь, что шум мирской заглушает его.
Тогда мы встретимся вновь и не расстанемся более; тогда пред Высшим
Судом скажу я с радостью: «Эти сокровища, о Господи, доверил ты моей заботе
незапятнанными — взгляни, такими же я возвращаю их».
С этими словами она приподнялась на своем ложе и прижала к сердцу
мою руку и руку сестры. Из глаз ее, обращенных к Творцу, струилось сияние.
Никогда я не видела такого одухотворенного лица: казалось, душа ее в этот
миг рвалась из своей прекрасной оболочки, чтобы влиться в сонм
сестер-ангелов.
— Матильда и Эллинор, — вновь заговорила она, — более драгоценные для
меня, чем дети, помните ли, что я некогда отклонила ваши вопросы, сказав,
что открою вам тайну вашего происхождения, когда час для того настанет.
Он настал. Увы! Тысячи мыслей вскоре встанут между вами и вашей
привязанностью к той, что нынче так мучительно тревожится о вас.
В безмолвной печали мы целовали ее руки.
— Разумеется, — продолжала она, — мой брат мог бы поведать вам вашу
историю, но есть в ней подробности, рассказ о которых требует женской
мягкости, дабы научить вас сострадать, не подражая. Из этого рассказа вы вполне
узнаете, что побудило меня к уединению и какими средствами оно было
достигнуто.
Вам уже известно, что я сестра нынешнего лорда Скрупа, но вам
неизвестно, что появлением на свет я обязана неразумному религиозному рвению
своей матери. Воспитанная в папизме, она, когда в душе ее зародилась любовь к
лорду Скрупу, задумала обратить его в католицизм. Она, как я часто
слышала, была хороша собой, а он — молод; он притворился, что сочувственно
относится к ее усилиям, и она удвоила старания. Она верила, что сердцем ее
движет лишь любовь к Богу, но лорд Скруп воспользовался этими моментами, и
она с опозданием поняла, что ради спасения его души погубила свою. Ее
родные, поощрявшие ее тем более, что отец мой, при его богатстве, был
превосходной партией, разгневанные за совершенную ею ошибку, вину за которую
им по справедливости следовало возложить на себя, заточили ее в четырех
стенах и обращались с ней крайне сурово.
В этой ужасной обстановке она разрешилась мною. Родные тотчас отняли
меня у нее, завернули в жалкие лохмотья и вместе с письмом, полным
ожесточенных угроз и попреков, отослали к моему отцу. Отнюдь не проявив того
безразличия к своим детям, что так свойственно большинству молодых
людей, он принял меня как первый дар Небес и, поручив надлежащим заботам,
сделал лицом не менее значительным, чем законная дочь и наследница его
поместий.
Между тем моя мать пребывала в полном неведении о судьбе своего
ребенка. Несчастная до глубины души, постоянно попрекаемая за бесчестье,
которое навлекла на семью, она решилась бежать к лорду Скрупу. Побег удался,
и в его доме она обрела сокровище, о котором не смела и мечтать, — свое
дитя. Но так как она не достигла совершеннолетия, родные, обнаружив, где она
скрывается, вновь вырвали ее из объятий моего отца, и я лишилась матери, не
успев почувствовать ее присутствия. Как часто мой отец раскаивался в том
зле, что причинил ей! Оно тяготило его всю жизнь и страшно терзало перед
смертью. Тщетно он пытался отыскать ее — с того часа они более не
встречались. Спустя несколько лет он женился, и жена родила ему сына —
нынешнего лорда Скрупа. Это обстоятельство не только не умалило его любви ко мне,
но, напротив, сделало меня еще дороже для него: он помнил, что у меня нет
иного состояния, кроме его щедрот, и нет иных притязаний, кроме права на
его любовь. Леди Скруп, не родив более ни одного ребенка, стала смотреть
на меня как на свою дочь, и несчастные обстоятельства моего рождения были
почти забыты. В такой обстановке я росла, ласкаемая всеми его друзьями,
хвалимая несравненно больше, чем того заслуживала, ибо с той поры, как
брат мой достаточно повзрослел, чтобы появляться в свете, отец сменил
Сент-Винсентское Аббатство на жизнь при дворе. Здесь мне представилось
множество партий, из которых отец просил меня сделать выбор. Я, однако,
никому не отдавала предпочтения, и, сознавая, что сердце мое слишком
нежно, чтобы в нем однажды не зародилась любовь, я до той поры желала
избежать всяческих предложений. В эти дни меня постигло несчастье — я
потеряла отца. В последние дни болезни он был в беспамятстве и не мог сделать
необходимых распоряжений, касающихся меня, но в бреду беспрестанно
поминал меня и мою матушку. Перенести утрату мне помогли великодушие и
нежность, которые проявили ко мне мой брат и вдовствующая леди Скруп.
Однако я заметила, как быстро редела свита моих поклонников; как вдруг
появился тот, кто в моих глазах стоил утраты тысячи других. Это был молодой
человек из Вест-Индии со значительным состоянием, привлекательной
наружностью и неиспорченным сердцем. Когда я говорю, что любила его, слова
звучат холодно — позже вы узнаете, как сильно я его любила. Мистер Колвилл —
так его звали — характером был столь схож с молодым лордом Скрупом, что
тот был к нему особенно благосклонен. Великодушием своего поведения и
искренностью любви он доказал, что ни печальные обстоятельства моего
рождения, ни отсутствие состояния не умаляют его чувства ко мне — скорее,
напротив, делают его еще более пылким. Его состояние было независимо, а я не
желала ничего, помимо самых скромных средств к существованию. День
свадьбы был назначен и наступил, к нашей обоюдной радости. Я венчалась в
присутствии лорда и вдовствующей леди Скруп, осыпавших меня щедрыми
дарами. Сердца наши были исполнены веселья, и многочисленное общество,
собравшееся по этому радостному поводу, находило для себя все новые
развлечения. Сидя после обеда во главе стола, я пела, когда вошел слуга и что-то
прошептал моему мужу. Тот поднялся и вышел. Я неотрывно следовала за
ним взглядом, и так как он не затворил дверь, то в большом зеркале
напротив я видела, как он принял от человека пакет с письмами. Он подождал,
держа их в руке, пока я допела, потом стал читать. Через несколько мгновений я
вдруг увидела, как сильно задрожала его рука. Потом дрожь прекратилась, и
он, потеряв сознание, рухнул на пол. В смятении я бросилась к нему — он был
холоден и недвижим. Я подняла бумаги, но, не прочтя и половины, так же,
как и он, потеряла сознание.
(В этом месте рассказа миссис Марлоу охватило такое волнение, что она
не в силах была продолжать. Наконец справившись с собой, она воздела руки
и с глазами, полными слез, заговорила вновь.)
— Не допусти, о Господи, чтобы я, пережив ту минуту, теперь сломилась
под тяжестью воспоминания о ней. Я сокращу свой рассказ, опустив
подробности сцены, по сей день терзающей мое сердце. Письма были от его матери.
Она писала, что его отъезд в Англию был облегчен для нее тем, что давал ей
давно желаемую возможность открыть ему тайну, которую стыд долго
заставлял скрывать. И далее она поведала о событиях своей жизни, и рассказ этот
решил нашу судьбу и убедил меня, что мы дети одних родителей. Ужасное
открытие! Я опущу те подробности, что вам уже известны. Упомяну лишь,
что, вынудив мою мать покинуть дом лорда Скрупа, деспотическая родня
отправила ее под присмотром дяди в Вест-Индию, где у него было имение. Во
время путешествия она обнаружила, что вновь готовится стать матерью. Ее
родич, крайне этим раздосадованный, всячески склонял ее выйти замуж за
мистера Колвилла (дворянина, чье имение граничило с его собственным и
который был пассажиром на том же корабле), скрыв от него подробности
своего положения. Притесняемая и измученная, она приняла решение при первой
же возможности во всем открыться мистеру Колвиллу. Его неотступное
ухаживание вскоре предоставило ей такую возможность, которой она и
воспользовалась без промедления. Мистер Колвилл, как только оправился от
изумления, тотчас заверил ее, что она никогда не раскается в том великодушии, с
каким положилась на его честь и которое он особенно оценил в сравнении с
низким обманом, задуманным его другом. Он признался, что сердечно
расположен к ней и, если только она не станет питать необоснованных надежд заоо-
лучить его состояние, готов немедленно жениться на ней, не претендуя ни на
какие права, даваемые браком, кроме права освободить ее от тирании семьи
и в дальнейшем обеспечить ее ребенка так, как обеспечил бы своего
собственного. Измученная суровым обращением с нею тех, кому прежде всего
надлежало щадить ее, понимая, что незнакомый человек, который мог говорить с
нею столь великодушно, способен одарить ее счастьем — большим, чем
теперь она осмеливалась бы ожидать, моя мать попросила дать ей время
обдумать его предложение, и это время было ей предоставлено. В последовавшие
за тем дни она пришла к решению обрести возможность удержать при себе
хотя бы одного из своих детей, согласившись на предложение мистера Кол-
вилла. Их обвенчал на корабле святой отец, который, по желанию мистера
Колвилла, объявил, что поженил их еще два месяца тому назад в Лондоне, но
скрывал это по причинам, касающимся друзей молодой особы. Ее дядя, не
подозревавший об их чистосердечном объяснении, был поражен тем, что ей
удалось вынудить у мистера Колвилла согласие на это, но так как власть его над
племянницей окончилась, когда она исполнила его волю, он выразил
чрезвычайное удовлетворение и предложил новобрачным дорогие подарки. Мистер
Колвилл, чье прямодушие было возмущено его низостью, с презрением
отверг эту жалкую компенсацию за обман, который мог оказаться роковым для
его счастья и благополучия, а также не оставил у своего бывшего друга
сомнений в том, что осведомлен о его замысле. Изобразив в ярких красках всю
постыдность его поведения, мистер Колвилл по прибытии на Ямайку тотчас
увез молодую жену в свое имение, не снизойдя до того, чтобы проститься с ее
родственником.
«Здесь, сын мой, — продолжала она свой рассказ, — я подарила тебе жизнь,
и здесь я впервые познала счастье. Добротой и щедростью, которые мистер
Колвилл проявлял к тебе, и вниманием, которым неустанно окружал меня,
он заслужил и обрел мою любовь. Казалось, искренность моего поведения
искупила мои ошибки, и могу сказать не кривя душой, что всякий раз, видя, как
он ласкает тебя, я страстно жалела о том, что тебе не принадлежит по праву
то имя, которое ты носил по его доброте. Ты рос, а я так никогда более и не
слыхала о твоем настоящем отце и, не желая ранить сердце мужа, обходила
эту тему молчанием и словно не вспоминала о том, что такой человек когда-
либо существовал. Не могу сказать, что я никогда о нем не думала: природа
научила тебя напоминать мне о твоем отце тысячью безыскусных жестов. Со
временем я подарила тебе двух сестер и брата, чья судьба тебе, без сомнения,
памятна. Всю их жизнь между мистером Колвиллом и мною продолжалась
молчаливая борьба великодуший: я всегда стремилась убедить его, что тебе,
хотя ты и старший, принадлежит лишь справедливая доля моей любви, а он,
не менее ревностно, старался показать мне, что собственные дети не
заставляют его забыть обещания, касающегося тебя. Небо, однако, призвало их к себе.
Между мною и тобой мистер Колвилл поделил состояние, доставшееся нам
ценой этой страшной потери, и хотя ты уплатил дань сыновней
благодарности над его могилой, помни, что она недостаточна, что ты обязан ему всем и
навсегда перед ним в долгу. Твоя юность и та радость, которую испытывал
мистер Колвилл, называя себя твоим отцом, не позволяли мне посвятить тебя
в тайну, столь унизительную для меня и тягостную для него. Однако,
сознавая, что это необходимо, я после его смерти сотни раз решалась на признание
и сотни же раз отказывалась от своего решения. Наконец, мое милое дитя, ты
облегчил мою задачу, решив посетить Англию, и я перенесла твой отъезд с
меньшими сожалениями, ибо надеялась, что там ты обретешь своего
родителя, который имеет на тебя те же права, что и я, и который, я уверена, с гордо-
стью признает тебя своим сыном. Итак, ступай, мой милый Энтони, к лорду
Скрупу, покажи это письмо и скажи ему, ибо я не боюсь сказать это даже
тебе, что я посылаю к нему сына, достойного более благородного имени, чем то,
которое досталось тебе вследствие слабости твоей матери. Скажи ему, что я
не хочу допустить, чтобы он взял на себя обеспечение твоей сестры Гертруды,
так как состояние, которым я владею, уже отказано ей, если она будет жива.
Сделай все, милый мой Энтони, чтобы возместить ей потерю матери, ибо, чтя
память моего мужа, я никогда не увижусь с отцом своих детей: это место
станет моей могилой, здесь, пока жизнь моя не угасла, буду я благословлять
моих дорогих детей и молиться, чтобы на их головы не пали грехи родителей».
— Тщетное желание! — сказала миссис Марлоу. — Удар уже был нанесен.
Представьте себе, милые мои девочки, что ощутила я, читая выражения
столь нежных чувств и понимая, что слова написаны рукой моей матушки!
Нас поместили в разных покоях. Мистер Колвилл, более не муж мой, был
достаточно силен телом, чтобы перенести катастрофу, но дух его надломился
под ее тяжестью. Он впал в глубокую меланхолию и затворился от мира. Я
же, по милости Небес, была в забытьи, сраженная жестокой лихорадкой.
Жизнь моя оставалась в опасности несколько недель, и за это время он
принял решение, которое мое выздоровление дало ему возможность
осуществить. Так как нам обоим недостало мужества встретиться, он сообщил мне
письмом, что ждет лишь моего согласия, чтобы вернуться в свою страну,
распорядиться имением и деньги от продажи его отдать в монастырь, где сам он
намерен принять монашеский обет. Он убеждал меня стойко перенести
несчастье, которое, как явственно было для меня из его письма, сам он вынести не
мог. Сделанный им печальный выбор был также и моим выбором — я
написала ему об этом и умоляла навсегда скрыть от нашей матери роковое
последствие ее умолчания, уверить ее, что мы оба счастливы. Неисполнимая просьба!
Даже если Небеса не лишили бы ее навсегда возможности свидеться с ним,
как мог бы он скрывать столь невыносимую муку? Такая глубокая рана
кровоточит при малейшем прикосновении.
Я пришла в себя, но то отвращение, которое вследствие всякого
разочарования (тем более столь глубокого) завладевает юными умами, делало все, что
меня окружало, непереносимым. Во всей моей жизни для меня существовали
лишь те часы, что я прожила в столь сладостном обмане. Еще до того, как я
покинула свою комнату, был решен брак между лордом Скрупом и леди
Матильдой Говард. Союз милорда с первой по знатности и красоте дамой
Англии был великой радостью для всех, кто любил его. Не имея физических, а
тем более душевных сил принимать участие в торжествах, я удалилась,
сославшись на нездоровье, в Аббатство. Смерть вдовствующей леди Скруп, в
самый разгар празднеств, тотчас положила им конец. Лорд Скруп привез
молодую жену в поместье на время траура. Новобрачная, приветливая и
очаровательная, возымела ко мне дружеские чувства, которые, как это нередко
бывает у благородных душ, возможно, черпали свою силу в постигших меня
несчастьях. Исполненная очарования, каким украшает себя подлинное величие,
леди Скруп обладала прелестной простотой деревенской девушки с сердцем
чувствительным и деликатным и красотой, достойной ее ума. Милорд
боготворил жену, и при ее высокородности и чарах Сент-Винсентское Аббатство
перестало быть, в моих глазах, местом уединения.
Вскоре я получила от брата письмо, в котором он сообщал, что по приезде
на Ямайку узнал о смерти матери во время своего отсутствия; вместе с этим
известием ему были представлены счета на большую сумму, составившую
половину той, за которую он, полагаясь на мое согласие, продал имение. В
самом имени, в самой мысли о матери, пусть никогда не виданной, есть нечто
столь нежное, что среди всех моих несчастий потеря ее поразила меня
чрезвычайно. Сердце мое не находило покоя. Прежде память о том, что удар,
постигший меня, нанесен, хотя и безвинно, ею, придавала мне некоторое
мужество, о котором я не подозревала, пока не утратила его. Есть радость для
утонченных натур в том, чтобы чем-то жертвовать для любимых друзей.
Молчание, которое мы хранили, чтобы оберечь ее от сердечной боли,
уменьшало мою боль — теперь же она возвратилась с новой силой. Добрая леди
Скруп делала все, чтобы смягчить эту боль. Не жалея усилий, она
удерживала меня от задуманного мною ухода в монастырь. При том влиянии, которое
она имела на мужа, ее желания были его желаниями, и он неизменно
присоединял свой голос к ее увещеваниям. Я была в неоплатном долгу перед семьей
лорда Скрупа, высоко чтила его супругу и имела в душе ту склонность к
самопожертвованию, о которой уже упоминала, и потому не могла отказать им.
За такую доброту никакая благодарность не была чрезмерной. Моя невестка,
которая не только не отвергала это родство, но похвалялась им,
пренебрегала, чтобы угодить мне, увеселениями, естественными для ее возраста и
беззаботности, словно она облекла меня властью, словно моя, а не ее воля
управляла семьей. Гости наши постепенно разъехались, и только ее брат, молодой
герцог Норфолк, да еще несколько родственников оставались в поместье.
Дабы убедить моего брата Энтони, что никогда непостоянство не сотрет в
моей памяти те нежные узы, что некогда связывали нас, узы, которые ни
время, ни разум не смогут окончательно разорвать, я изложила ему мотивы
своего поведения и заверила его, что, коль скоро мне не суждено принадлежать
ему, я никогда не буду принадлежать другому. Леди Скруп, не сумев
уговорить меня возвратиться в Лондон, отправилась без меня, прежде добившись
обещания, что я откажусь от мысли о монастыре. Не прошло и трех месяцев
после ее отъезда из Аббатства, как она, к неизреченной радости мужа,
подарила жизнь нынешнему лорду Скрупу5. Желая в меру сил своих
отблагодарить за все благодеяния, полученные мною от лорда Скрупа и его покойной
матери, я разделила свое состояние и половину просила принять как подарок
молодому наследнику. Великодушная Матильда пыталась отказаться, но ее
супруг, лучше зная цену деньгам, принял дар. Матильда дружески пеняла
мне за этот поступок с шутливым неудовольствием, которое друзья умеют
делать столь приятным: она твердила, что перестанет любить меня, потому что
люди теперь могут счесть ее любовь корыстной.
В ее отсутствие я проводила долгие часы, осматривая руины, которыми
изобилует это место. Мрачное великолепие этих разрушенных произведений
искусства было ближе моей опечаленной душе, чем более нежные и
разнообразные картины природы. Несомненно, именно любовь, которую я возымела
к этим местам, побудила домоправительницу показать мне Убежище. Она
жила в семье с незапамятных времен и знала эту тайну. Как часто я бродила
в этих разрушенных переходах, не подозревая, что здесь могут находиться
пригодные для жилья покои! Я объясню вам, мои милые дети, их
расположение и устройство. Некогда это был женский монастырь, населенный
монахинями ордена Святой Уинифриды, но покинутый ими еще до упразднения
монастырей, так как обветшал и разрушился. В таком состоянии он пребывал
долгие годы. Окрестные жители обходили его стороной, и лишь
путешественники, из любопытства или волею случая попавшие в эти места, посещали и
осматривали его. Когда же Реформация, при Генрихе, лишила монастыри их
обширных владений, предок лорда Скрупа приобрел у короля эти земли. Он
разрушил аббатство, чтобы возвести на его месте более величественное
строение, и обнаружил тайный ход от него к женскому монастырю. Ход, о котором
знали лишь немногие, был завален, а руины монастыря оставлены как
дополнение к окружающему пейзажу, и потом о ходе почти не вспоминали, пока
случай не повысил его ценность. Нужно ли говорить, что вельможа, столь
щедро пожалованный королем, исповедовал протестантскую веру? Но не в
силах забыть и той веры, в которой был воспитан, он давал в своем доме приют
многим святым отцам, оставшимся без средств к существованию. Когда это
обстоятельство стало известно, вельможа обнаружил, что его мирское
благополучие требует удалить их из дому, и тут на память ему пришел тайный ход.
Когда святые отцы по его желанию осторожно разобрали камни, оказалось,
что ход имеет высокие своды, хорошо вымощен и защищен от сырости. Он
заканчивался комнатой, которая прежде была, по их предположениям,
трапезной и сохранилась неповрежденной, в нее было снесено постепенно все
необходимое для жизни, и туда удалились беглецы. Пищу им доставляли из
Аббатства. Оказавшись запертыми в таких тесных пределах, лишенные иных
занятий, они принялись за подземные работы и со временем выстроили еще два
хода из Убежища: один заканчивался в Пещере Отшельника, где жил
старейший из них, другой — среди развалин. Таким образом они защитили себя от
нашествия, вернее, подготовили возможности для побега на случай, если
будут обнаружены. Обследуя развалины, они нашли несколько помещений,
наглухо заваленных, но не разрушенных, и среди них выбрали те, в которых
потом жили мы. Они предпочли сохранить помещения раздельными, чтобы не
возбудить подозрений. Так, через несколько лет, у каждого из монахов была
своя келья, и среди развалин спрятался монастырь. С течением времени
суровость правительства несколько смягчилась, и некоторые из монахов
отважились вернуться в мир. Из тех восьми, что некогда нашли здесь приют, только
двое окончили в нем свои дни. Хорошо понимая, сколь ценным может
оказаться такое Убежище, лорд Скруп хранил его в тайне после того, как оно
было покинуто обитателями. Знали о нем лишь двое преданных слуг. И пока
домоправительница не поведала мне эту историю, я и не догадывалась о
существовании такого места.
Рассказ показался мне почти невероятным — развалины монастыря были
по меньшей мере в полумиле от дома, откуда в те дни открывался вид на них.
Возделываемых земель с каждым днем становилось все меньше, и вскоре лес,
кроме небольшой части его со стороны Пещеры Отшельника, стал безлюден
и даже непроходим. Мне не терпелось тщательно обследовать все секреты
этого романтического места.
Домоправительница с готовностью удовлетворила мое любопытство. По ее
зову явился старый слуга, знавший о подземных помещениях, и с факелом
повел меня через лабиринт. Сводчатый потолок, который благодаря каким-то
строительным ухищрениям был совершенно не тронут сыростью, эхом
отзывался на наши шаги. Мрачность этих мест отвечала моему образу мыслей и
подсказала мне план, который я сочла чрезвычайно удачным. Комнаты,
удаленные одна от другой, голые стены, отверстия в потолке для доступа воздуха
не нравились мне, но поскольку моя привязанность к лорду и леди Скруп не
позволяла мне удалиться в монастырь, я решила сделать это место
пригодным для жилья и скрываться там всякий раз, как веселье владельцев и гостей
Сент-Винсентского Аббатства станет тяготить меня. Я трижды посетила это
место, и с каждым разом желание мое возрастало. Я побеседовала со
стариком слугой, и он, за предложенное мною значительное вознаграждение,
согласился, с помощью своего сына, каменщика, превратить это место в
удобное жилище. Я не склонна была посвящать еще одного человека в тайну
Убежища, но оказалось, что Джеймс, сын старика, уже знает о ней. Они тут же
начали сносить орудия своего труда в пещеру, которая была перестроена и
сделана фасадом жилища. За три месяца оно стало таким, каково сейчас. В
то время я не могла предвидеть, как полезно оно окажется для моих друзей.
Восхищенные устройством моего жилья, домоправительница и моя служанка
Алиса под моим руководством собрали все необходимые мне вещи в темном
чулане, откуда мужчины перенесли их.
Ко времени возвращения лорда Скрупа жилище мое было проветрено,
книги и одежда снесены туда, и, передавая заботу о семье в руки доброй моей
невестки, я сообщила ей о своем намерении уединиться. Она была до
крайности удивлена тем, каким удобным мы сделали это заброшенное место, и,
опасаясь противиться принятому мною решению, чтобы это не показалось
стеснением моей свободы, смирилась с этой прихотью. Я удалилась туда в
сопровождении Алисы и Джеймса, которые поселились в пещере, чтобы оградить
Убежище от непрошеного вторжения и доставлять в него все необходимое.
Это одиночество, столь согласное с моей душевной печалью, было мне
невыразимо приятно: оно имело все преимущества жизни в монастыре без
обязательства оставаться там навсегда, а именно это условие, пожалуй, более всего
и отвращает от ухода в монастырь. Мой брат Энтони (с которым я постоянно
переписывалась), очарованный описанием этого места, созданного для тех,
чье сердце не в ладу с жизнью, заверил меня, что вместо того, чтобы заточить
себя в монастырь, к чему, как он понял, у него нет призвания, он, как только
привыкнет видеть во мне лишь сестру, приедет и сделает пещеру своим
жилищем.
Я прожила в своем уединении два месяца, когда приехал гонец из Лондона
с повелением лорду Скрупу явиться ко двору. Причина не могла остаться
тайной. Мария Шотландская7, несчастная красавица королева, взятая под стражу
своими подданными как соучастница убийства мужа, нашла способ бежать и
теперь умоляла о защите Елизавету. При зависти и ненависти, издавна
питаемыми королевой Англии к женщине, столь превосходящей ее именно в тех
качествах, которые сама Елизавета ценила более всех, этот шаг Марии можно
объяснить лишь тяжестью ее положения. Но разве само это положение не
обязывало отнестись к ней по-королевски? Ко многим благородным качествам
Елизаветы примешиваются раздражительность, капризы, гордыня и
безмерное тщеславие. Торжествуя над соперницей, оказавшейся у нее в руках,
грозная вдвойне, вместо того чтобы предложить ей убежище, достойное королевы,
до тех пор, пока она, доказав свою невиновность, не вернет себе корону,
Елизавета тотчас дала королеве Шотландии почувствовать свою власть,
отказавшись от всех пламенных изъявлений уважения и дружбы, которыми до той
поры были полны ее письма (скорее всего, скрывая чувства прямо
противоположные), и настояв, чтобы она согласилась быть судимой на основании
законов, с которыми не была знакома, которым никогда не была подвластна.
Именно для того, чтобы поставить Марии эти суровые условия, королева и
призвала лорда Скрупа. Елизавета отрядила его в сопровождении герцога
Норфолка8 и еще нескольких лордов, членов комиссии, выслушать, что
может сказать Мария в свое оправдание, и проверить истинность ее показаний.
Всеми оставленная — нет, хуже — почти всеми преданная, королева
Шотландии слишком поздно поняла, как мало можно полагаться на посулы
великих мира сего. Она оказалась в положении худшем, чем была бы в своей
стране, судимая по законам, по которым правила сама. Жестокая судьба
принудила ее склониться перед женщиной, равной ей по статусу, стать добровольной
пленницей правительства, против которого она ни в чем не была виновна, над
которым ей, быть может, суждено было главенствовать; судьба принудила ее,
как преступницу, оправдываться перед людьми, которым, если даже они
сумеют уклониться от осуждения, соображения политики не позволят признать ее
невиновной и вернуть ей свободу. Королева Англии уже окружила ее людьми,
столь пристально следящими за каждым ее шагом, что лишь по названию они
не были тюремщиками. Против всех страхов и унижений единственным ее
оружием было смирение. Несмотря на свою молодость, она уже научилась
смиряться с достоинством и побуждать к великодушию тем, что словно бы не
сомневалась в том, что его встретит. Поэтому она подчинилась
волеизъявлению королевы с полным самообладанием, предала себя в руки лорда Скрупа и
согласилась отложить свидание с сестрой своей Елизаветой до той поры, пока
не сможет с честью предстать перед нею оправданной.
Это великое событие приковало к себе внимание всей Европы. Мнения
были различны, но никогда еще Мария не была в глазах Елизаветы опаснее, чем
сейчас, находясь в ее власти. Все порицали ее за ошибки, но жалели за
молодость, и многие из ее ошибок относили на счет неопытности и пробелов в
воспитании. Ее редкостная красота, приветливость, изящество манер и речи
удостаивались похвалы всех, кто ее видел, и тех, кто не слушал рассказы о ней с
жадным любопытством и не передавал с преувеличениями. Каждое слово,
сказанное в похвалу ей, было для Елизаветы как острый нож, и в ее глазах
величайшими преступлениями несчастной Марии были те дары, которыми
наделила ее природа.
Леди Скруп в юности провела несколько лет при французском дворе.
Мария была приветлива и дружелюбна и всей душой привязалась к тому, кто
удостоился ее благосклонности. Дружба, которую она питала к леди
Матильде, сделала их расставание еще более горьким для обеих, если бы по смерти
Франциска Второго Мария не оказалась чужой во Франции и не была
вынуждена, с бесконечным сожалением, покинуть королевство, где была воспитана,
и принять власть в другом, раздираемом внутренними смутами, не ведающем
той мягкости нравов, которая придает очарование обществу и которая
чрезвычайно украшала собою французский двор, до той поры возглавляемый ею.
Беды, которые обрушились на нее, едва она оказалась в Шотландии, не
оставили ей времени как-нибудь отличить тех, кого она прежде удостоила
своим вниманием. Леди Скруп, однако, навсегда сохранила привязанность к ней,
порожденную скорее сочувствием, нежели благодарностью. Нынешнее
горестное положение королевы, о котором она много слышала от мужа, волновало
ее до глубины души. Она обвиняла Елизавету в низости и несправедливости
и, не сомневаясь в невиновности Марии, горячо желала облегчить ее
заточение и убедить ее в том, что не все друзья отвернулись от нее в несчастии.
Чувства ее были столь пылко-великодушны, что не могли оставить меня
безучастной. Я, незаметно для себя, оказалась причастна к тому, что так близко
затрагивало интересы моей невестки, и стала порицать такое обращение с
королевой, которую, при более счастливых для нее обстоятельствах, я бы,
несомненно, осуждала.
Лорд Скруп, уступая неустанным просьбам жены, представил на
рассмотрение Елизаветы недопустимость того, что при королеве Шотландии нет ни
одной высокородной дамы и отсутствует свита, которую любой замок,
избранный ею в качестве убежища, должен ей предоставить, независимо от
того, виновна она или нет. Вдобавок он намекнул на ошибочность суровых мер,
которые могут привлечь внимание простонародья и, возбудив в нем жалость,
ослабить его преданность трону.
Этот последний довод значил для королевы несравненно больше, чем
первый, ибо сердце ее было скорей доступно соображениям политики, нежели
деликатности. Все же она назначила леди Скруп состоять при Марии и
отдала распоряжение о более подобающем ее сану обращении с ней.
Довольная тем, что добилась своего, оставаясь при этом в тени, леди
Скруп не стала медлить с отъездом, но, не желая расставаться со мной,
использовала все мыслимые доводы и все свое влияние, чтобы убедить меня
ехать вместе с нею. Она говорила, что не имеет намерения вовлекать меня в
веселые затеи, что поручение, данное ей, вполне отвечает меланхолическому
направлению моих мыслей. Мое желание увидеть Марию, в соединении с ее
доводами, побудило меня согласиться.
Замок Болтон, куда Марию преггроводили по приказу королевы, был
неприступной крепостью на границе Йоркшира — без мебели и удобств,
подобающих царственной гостье, и сразу показал ей, на какое горестное заточение
она обречена. Напрасно лорд Скруп, по доброте души, пытался скрыть от
Марии судьбу, ей уготованную: она предалась безутешной скорби, которая
возросла от известия о смерти Ботвелла, скрывавшегося в Норвегии.
В Дерби нас встретил герцог Норфолк, которого страстное желание
видеть королеву Шотландии побудило присоединиться к нам. Этот вельможа, в
полном расцвете сил, обладал привлекательной наружностью и покорял
пылким, живым нравом. Не имея в Англии равных себе в знатности, он давно
вознамерился сочетаться браком с Марией, и смерть Ботвелла возродила его
утраченные было надежды. Я поражена была явной переменой в нем и не
сразу поняла, что вызывает у него то нетерпеливую досаду, то глубокую
задумчивость, но удовольствие, с которым он слушал хвалебные речи сестры о
королеве, нежность, которая светилась в его глазах, когда он рассказывал о
событиях, открывшихся из писем Марии к Ботвеллу, показали мне, что
честолюбие зажгло в душе его пламя, ошибочно принятое им за любовь.
Мы приехали в Болтон. Мария не была предуведомлена до той самой
минуты, когда леди Скруп предстала перед ней, что Елизавета послала ей друга,
всей душой желающего скрасить ее заточение. Я могла бы описать вам
королеву Шотландии, милые мои дети, если бы природа не позаботилась создать
портрет более верный, чем тот, что смогу написать я. Взгляни в зеркало,
Матильда, и ты увидишь перед собой ее образ.
Я не смогла сдержать своего изумления.
— О Боже! — воскликнула я. — Возможно ли, что, оплакивая судьбу
несчастной королевы, я лила слезы о матери!
— Еще немного времени, и я объясню все, — сказала миссис Марлоу. —
Королева была в расцвете юности, и печаль, осенявшая ее черты, сообщала им
неотразимую привлекательность. Утонченное достоинство и мягкая
женственность соединялись в ней с выражением невинности и природной
скромности. Если я и прежде склонна была жалеть ее, то как же возросло это чувство
теперь! Совершенные ею ошибки, казалось, были искуплены перенесенными
несчастиями. Трудно представить что-нибудь более трогательное, чем ее
встреча с леди Скруп, которая лишь слезами могла выразить свою боль за
нее!
Как должна была сцена, столь опечалившая меня, подействовать на
сердце, готовое любить ее! Герцогу открылась страсть более сильная, чем
честолюбие. Не корона Марии владела теперь его помыслами — лишь ее саму же-
лал он, оплакивая то зло, которое навлекла на нее корона и от которого ей
было не спастись, даже отказавшись от короны. Любовь сообщала ему
душевную тонкость, и человек, дерзавший домогаться Марии в дни ее покоя и
благополучия, сейчас, когда она была в несчастии, не осмеливался поднять на
нее взор, сказать о своей любви, оскорбить ее состраданием.
Леди Скруп, при ее чуткости, тотчас заметила перемену, совершившуюся
в брате, но, далекая от дурных предчувствий, льстила себя надеждой, что ему
суждено восстановить королеву в правах и в ее благодарности и
расположении обрести награду, отвечающую его заслугам.
Стремясь скрасить тягостный досуг, леди Скруп изобретала всяческие
увеселения, в которых никто не участвовал, но которыми все, отдавая должное
ее усилиям, были, казалось, довольны. Молчаливая печаль герцога
Норфолка привлекла королеву, которая усмотрела в ней деликатное сочувствие
своему несчастию и проявила к герцогу внимание, слишком лестное, чтобы
остаться незамеченным. Он был покорен уважением, которого скорее желал,
чем ожидал от нее. Его сердечный пыл наконец нашел слова, и Марии
открылось, что, пытаясь заручиться дружбой герцога, она обрела его любовь.
Соблюдая лишь собственные интересы, она, возможно, поощрила бы это
чувство, но помня, какое несчастье может навлечь на него, она умоляла герцога
отречься от всяких мыслей о страсти, потворствовать которой было бы
жестоко, и видеть в ней лишь несчастного друга. Она признала себя в долгу перед
ним за интерес к ее судьбе и усилия, предпринятые ради нее.
В первом безумии любви ничто не кажется невозможным, и даже такой
сдержанный ответ лишь разжег в нем пламя надежды, которое призван был
навсегда погасить. В голове его рождалась тысяча планов, он посвятил в свои
заботы сестру, и каждый час его жизни был отдан теперь избавлению
королевы. Но так как его пребывание в замке невозможно было держать в тайне, а
он опасался привлечь внимание Елизаветы еще до того, как замыслы его
будут готовы к осуществлению, он доверил сестре просить за него о том, о чем
не осмеливался просить сам: ей более приличествовало убедить королеву, что
мудрым шагом было бы связать свою судьбу с судьбою герцога.
В этом опасном стечении обстоятельств, на беду себе, Мария вновь
послушалась пристрастного совета своего сердца, которое побуждало ее уступить
столь благородному, столь достойному возлюбленному. Ей передалось его
безумие, и она с такой же легкостью уверовала в осуществимость его фантазий.
Обширные поместья Норфолка, его многочисленные вассалы и, более всего,
его широко разветвленные связи среди знати давали ей надежду
вознаградить его со всей щедростью, а, по ее мнению, великодушие требовало, чтобы
награда опережала заслугу, а не следовала за нею.
Роковое заблуждение пристрастного ума! О Мария, слишком нежная
сердцем! Отчего все прежние несчастья твоей жизни, проистекавшие из любви, не
стали твоими наставниками? Отчего не научили они тебя избегать этой
ошибки, которая усугубляет всякое несчастье, наполняет новыми страданиями
бесконечно долгое заточение?
Герцог, не осмеливаясь вовлекать шурина в предприятие, прямо
противоречащее его поручению, посвятил в свои намерения только сестру. К такому
ходатаю, пылкому и милому ее сердцу, королева Шотландии не могла не
прислушаться и, под влиянием ее убеждений, согласилась сочетаться браком с
герцогом. Их венчали в присутствии леди Скруп, моем, сэра Артура Форрес-
тера и двух секретарей герцога.
Мария была средоточием всех его помыслов и желаний, и ее тюрьма стала
для него дворцом. Его страсть, которая, казалось, не может быть сильнее,
росла не по дням, а по часам. Власть, которую Мария дала ему над собой,
нежность, которую она питала к нему, делали разлуку немыслимой, но леди
Скруп с тревогой следила за бурным развитием этой страсти, ею
поощренной. Она хорошо знала крутой нрав Елизаветы и предвидела ее гнев, если
этот шаг откроется, но так же хорошо она знала, что соображения
собственной безопасности не побудят ее брата покинуть Болтон. Поэтому она стала
внушать ему, что он проявляет неблагодарность к прекрасной королеве
Шотландии, продлевая заточение, которому должен стремиться положить конец,
и спрашивала, какие надежды может связывать Мария с мужем, который
уже сейчас ставит свои прихоти выше ее свободы, счастья и славы.
Упреки были слишком справедливы, чтобы оскорбить герцога. Ропща на
судьбу, он подчинился жестокой необходимости. Мария, словно
предчувствуя, что это последние счастливые часы в ее жизни, всячески пыталась
отсрочить его отъезд, но, побуждаемый великодушием ее привязанности к еще
большему великодушию, он простился с прелестной женой, которую ему не
суждено было больше увидеть, и отправился в Лондон, где рассчитывал
найти у всех своих друзей поддержку браку, который никто теперь не мог
предотвратить. Он полагал себя фигурой столь значительной, что королева, как
казалось ему, вынуждена будет дать согласие на этот брак, нравится он ей
или нет. Надо сказать, это был единственно возможный образ действий, ибо
предполагать, что Елизавета настолько уступчива, чтобы добровольно
соединить свою соперницу и наследницу с первым среди своих подданных, было
бы непростительной слепотой.
Судьба, однако, готовила иное и лишь улыбалась до поры, чтобы тем
тяжелее пал ее удар. Все знатные лорды двора Елизаветы, с сожалением
смотревшие на заточение Марии, охотно присоединились к замыслам Норфолка.
Его письма были полны самых радужных надежд, и королева, в то время
ожидавшая ребенка, послала ему известие об этом. Эта весть прибавила ему
радости, и он пообещал, что еще до того, как придет ей срок разрешиться от
бремени, все знатные дворяне Англии распахнут перед нею ворота ее
тюрьмы. Графы Бедфорд, Пемброк, Арундел, Дерби, Шрусбери, Саутгемптон,
Нортумберленд, Уэстморленд и Суссекс приняли в его замысле самое
горячее участие, и одних только их имен было довольно, чтобы склонить многих
к тому же. Но вельможа, на которого он рассчитывал более всего, был граф
Лейстер, чье влияние на королеву было хорошо известно, именно он взял на
себя все открыть Елизавете, когда в этом возникнет настоятельная необходи-
мость. Между тем Норфолк делал все возможное, чтобы помешать Регенту
Шотландии выдвинуть перед королевой обвинения против Марии, и его
искусные усилия не пропали даром. Мэррей, вступив в Англию с этой
единственной целью, внезапно возвратился, ничего не предприняв и тем разрушив
все планы английского двора. Но Елизавета, еще сильнее опасаясь
какого-нибудь заговора с целью освобождения Марии, перевела ее в Татбери и
приставила к ней стражем, кроме лорда Скрупа, графа Шрусбери.
Невестка моя последовала за нею, я также не могла покинуть ее при таких
обстоятельствах. По тому, что нам стало известно от герцога, мы надеялись,
что граф Шрусбери склонен будет относиться к ней благожелательно, но то
ли он предвидел, чем кончится этот незадачливый сговор, то ли обманул
Норфолка, но он строго следил за каждым шагом королевы, вынуждаемый
своим положением не покидать комнат.
Герцог, ободренный отъездом Мэррея, поручил нескольким друзьям в
Шотландии осторожно выяснить, как отнесется этот вельможа к его браку.
Те неосмотрительно открыли ему больше, чем предполагалось, и Мэррей,
взбешенный тем, что был обманут герцогом, послал известие о заговоре
Елизавете. Письмо было доставлено ей, когда она навещала больного лорда Лей-
стера, и так как она открыла фавориту причину охватившего ее волнения, он,
пока королева совещалась с Сесилом, послал предупредить Норфолка,
чтобы тот скрылся, ибо Елизавета, по всей видимости, намерена заключить его в
Тауэр.
Ошеломленный тем, что все внезапно открылось, герцог поспешно выехал
в свое поместье в Норфолке, но, рассудив по дороге, что его стремительный
отъезд свидетельствует против него сильнее, чем обвинения врагов, он тут же
вернулся, но был встречен несколькими офицерами, посланными вдогонку, и
препровожден в Бэрнхем.
Его секретарь был послан в Татбери с известием обо всем, что случилось.
Известие поразило королеву в самое сердце и тем сильнее, что она надеялась
к этому времени уже быть на свободе. Она ежечасно пребывала в ожидании
события, которое должно было обнародовать ее брак или покрыть ее
позором. В эту трудную минуту леди Скруп предложила единственно возможный
выход: тотчас после рождения ребенка отослать его из замка с секретарем
герцога, скрыть причину ее нездоровья и подождать более благоприятного
момента для объявления о ее замужестве. Только так можно было не
повредить безопасности герцога и ее чести. Чтобы подготовить все
заблаговременно, я рассталась с королевой, якобы возвращаясь в Сент-Винсентское
Аббатство. Поселившись со своей служанкой в специально нанятом уединенном
доме, я ожидала, когда мне передадут рожденное королевой дитя, чтобы
отвезти его в Убежище, где оно останется на моем попечении до тех пор, пока не
прояснится судьба его родителей.
Печальный момент был ускорен еще более печальным событием. Ботвелл,
которого считали умершим, сумел переслать королеве письмо, где сообщал,
что известие о его смерти распространили, чтобы умиротворить шотландцев,
которые иначе не оставили бы его в покое; что он дожидается в Дании, когда
смута в ее королевстве поможет ему собрать сильную партию и сделать
попытку освободить ее. Марии, при первом же взгляде на знакомый почерк,
открылся весь ужас ее судьбы. С нею случились страшные судороги, за
которыми последовали родовые муки. Она родила двух девочек. Вы, милые мои
дети, плод этого рокового брака. Вы, едва мать успела прижать вас к своей
груди, были отторгнуты от нее — боюсь, что навсегда.
Верный секретарь с нежнейшей заботой доставил вас ко мне. Когда я
услышала его печальный рассказ — о, как болела моя душа о несчастной
королеве! Я поклялась, что вы будете моими детьми, ибо вы — дети несчастья, и
никогда, никогда я не нарушила этой клятвы. В несчастье родительская
доброта завоевала мне вашу любовь, судьба дала мне вас в утешение за всю ее
суровость. Только благодаря вам живы в моем сердце нежнейшие природные
побуждения. Вы были ангелами в младенческие годы, подрастая, стали
радостью моих дней и украшением моего одиночества.
Помня о великой ответственности, возложенной на меня, я постаралась со
всей поспешностью оставить это опасное место. Я благополучно довезла вас
сюда с помощью Алисы после того, как окрестила Матильдой старшую из вас
(старшую на несколько минут) в честь леди Скруп и Эллинор — младшую — в
честь матери герцога.
Вернемся к королеве Шотландии. Она долгое время не могла оправиться
от болезни и отчаяния, но герцог нашел способ известить ее, что это
несчастье недолго будет разделять их. Он подал прошение Папе Римскому об
аннулировании брака Марии с Ботвеллом, и Папа, надеясь на значительную
выгоду от предполагаемого союза, по-видимому, склонялся к тому, чтобы
удовлетворить эту просьбу, но выдвинутые им условия были столь тяжелы, что
герцог утратил надежду.
Между тем Елизавета, узнав, что Ботвелл жив и тем самым ставит между
герцогом и Марией неодолимую преграду, и надеясь, что слабое здоровье
Марии избавит ее от постоянных опасений, освободила Норфолка по
ходатайству его неизменного друга лорда Лейстера, оставив королеву Шотландии в
презрительном небрежении. Сознавая всю опрометчивость своего прежнего
поведения, герцог решил впредь избегать этой ошибки и не пытался
свидеться с кородевой Шотландии, а предавался охоте и развлечениям в Кеннинг-
Холле, пока шпионы Елизаветы, убедившись, что он оставил былые
намерения, не прекратили слежки за ним. Герцог объезжал поместья своих друзей
якобы ради развлечения, на деле же — чтобы удостовериться в их
преданности и, словно случайно, доехать до Сент-Винсентского Аббатства и обнять
дочерей, детей своей любви. Вам сравнялся год, когда я в ночи привела герцога
в это Убежище. Заточение и несчастная участь его жены поразили его с
тысячекратной силой, когда он узрел детей, отторгнутых от ее груди, словно они
рождены в позоре, и скрытых в уединении, вдали от людских глаз. Видеть и
знать, что он бессилен был это предотвратить, было для него душевной
мукой. Он провел ночь, глядя на вас, препоручая вас покровительству Небес, об-
ращая тысячи молчаливых укоров к своей судьбе и обдумывая тысячи
решений, которые, сократив его жизнь, навлекли на вас то зло, что он пытался
исправить. Когда же настала пора вернуться в отведенные ему покои, он снова
взял вас обеих на руки и, со слезами родительской любви, многократно
благословил. Затем он передал вас мне и, пока я укачивала Эллинор, сидел,
глубоко задумавшись. Выйдя внезапно из своей задумчивости, он подошел, стал
рядом со мной и, взяв меня за руку, сказал:
«Я все еще надеюсь, моя дорогая миссис Марлоу, что сумею дать этим
младенцам жизнь, достойную дочерей прелестнейшей и добрейшей из
повелительниц. До тех пор я поручаю их вам как драгоценнейшее из сокровищ.
Научите их ценить смиренную долю, и они украсят собой долю высокую.
Сохраните от них тайну их рождения до той поры, пока они не научатся
понимать тщету знатности. Но если мне никогда не суждено востребовать их, если
несчастья их родителей окончатся лишь вместе с жизнью, поступайте
сообразно той священной обязанности, которую я возложил на вас и мою сестру.
Пусть никогда не узнают они жизни при дворе Елизаветы, но невинно и
счастливо окончат свои дни в том уединении, где расцветали».
— Тени благородного Говарда и прелестной Марии, я исполнила ваши
заветы! — воскликнула миссис Марлоу, с живостью оборотясь к портретам, о
которых я с таким почтением поминала. — Ваши слова я всегда хранила в
памяти, и заботы мои были не напрасны.
— Увы, сударыня! — отозвались мы, благоговейно преклоняя колени. —
Неужели прекрасные лица на этих портретах — лица наших родителей? О,
нежный, несчастный отец, неужели мы никогда не свидимся с тобой? Неужели
никогда более ты не примешь нас в свои объятия после того, как обнял
младенцев, не ведающих о своем счастье? А ты, дорогая матушка, в горе и муках
произведшая нас на свет, — неужели не суждено нам посвятить наши жизни
тому, чтобы радовать и покоить твою, а потом излить нашу печаль на твоей
могиле?
— Вы прерываете и огорчаете меня, дети, — заметила нам миссис
Марлоу. — Дайте мне окончить мою печальную повесть. Увы, времени на
сетования у вас будет довольно.
Герцог уехал на другой день. Прошло немного времени, и Елизавета,
назначив лорда Хантингдона и лорда Херефорда на место лорда Скрупа,
лишила королеву Шотландии ее последнего утешения, когда леди Скруп должна
была последовать за мужем.
Герцог, видя, что половинчатые меры успеха не приносят, решился на шаг,
который счел единственно верным: он вступил в сношения с неким купцом по
имени Ридольфо, с тем чтобы через него условиться с герцогом Альбой о
высадке десяти тысяч солдат в Харвиче, откуда они должны были дойти до
Лондона и устрашить Елизавету. Герцог Альба дал свое согласие, и даже
Папа, устыдившись наконец своего безразличия, принял участие в
освобождении Марии. Приготовления были закончены, друзья Норфолка в Англии
лишь ожидали знака, чтобы присоединиться к нему, когда все рухнуло из-за
одной из тех ничтожных случайностей, что губят искуснейшие планы. Чтобы
содействовать междоусобицам в Шотландии, которые, отвлекая внимание
Мэррея, не позволяли бы ему вмешаться в заговор, герцог неоднократно
посылал туда крупные суммы для раздачи сторонникам королевы; теперь же,
когда наступил решительный момент, он приготовил большой мешок золота,
который, вместе с письмом, имел несчастье доверить человеку, совершенно
не причастному к заговору. Посланец, собираясь в дорогу, случайно порвал
мешок и, ошеломленный содержимым, поведал об этом брату, служившему у
Лорда Бэрли. Тот, в надежде вместе с ним присвоить золото и полагая, что в
письме содержится какая-то тайна, убедил его пойти с этим письмом к своему
господину. Посланец согласился, и лорд Бэрли, легко разгадав заговор, хотя
и не догадываясь о его истинных размерах, сообщил о нем королеве,
вследствие чего герцога арестовали, подняв ночью с постели, и всех его слуг
заключили в тюрьму.
Этот роковой удар сокрушил все надежды. Слуги предали его, и все
письма, написанные и полученные им в связи с заговором, многие из которых он в
свое время приказал сжечь, были теперь предъявлены ему. Сама его
щедрость оказалась преступной, и некоторая сумма, посланная им графине
Нортумберленд, которая бедствовала в изгнании вместе с мужем, стала одним из
пунктов обвинения. Он был осужден и выслушал приговор с мужеством, до
слез потрясшим лорда Шрусбери, который его оглашал.
Леди Скруп, вне себя от отчаяния, бросилась в ноги королеве, моля ее за
брата, но смогла добиться лишь отсрочки казни: Бэрли сумел внушить
Елизавете, что герцог посягал на ее жизнь, и, хотя на суде тому не возникло ни
малейшего подтверждения, ничто не могло разубедить ее.
Но каково же было положение королевы Шотландии сейчас, когда таким
образом замкнулся круг ее несчастий? Изгнанница из своей страны, пленница
в чужой, жена — без права на это имя, мать — не известная своим детям.
Судьбу ее завершил смертный приговор, вынесенный ее мужу, и с мучительной
болью она сознавала, что это она занесла над ним топор, который никакие
слезы не помогут ей отвратить. В отчаянии она умоляла леди Скруп убедить
королеву, что не только добровольно соглашается остаться ее пожизненной
пленницей, но и откажется от своих прав на английскую корону, если только
ее сестра (как была она вынуждена именовать Елизавету) освободит герцога
Норфолка и восстановит его в прежнем достоинстве. Усмотрев в этом
предложении хитрую уловку, Елизавета лишь поняла из него, как сильна
сердечная привязанность Марии. Даже всепобеждающее красноречие Лейстера не
помогло: самосохранение было несокрушимым жизненным принципом
Елизаветы.
Герцог был обезглавлен четырнадцать лет тому назад, когда вам, мои
милые дети, за кого он заплатил жизнью, было по два с половиною года. Он
умер, как и жил, — с достоинством и честью.
Никогда еще ни одного вельможу не оплакивали так: он был любим про-
стым людом за отвагу, щедрость и благожелательность, а равными — за то,
что не чувствовал своего превосходства, чем был защищен от зависти, и был
одинаков в обращении со всеми, вызывая этим восхищение. Он был первой
жертвой королевы, и она не могла избрать жертву, чьи достоинства
убедительнее доказали бы, как высоко она ценит собственную особу.
Леди Скруп, слишком поздно проникшись отвращением к лживости
двора, скорбя об утрате обожаемого брата, вернулась сюда вместе с мужем,
который отказался от своих придворных должностей. Ее телу сообщились
страдания угнетенного рассудка, здоровье ее пришло в упадок, появились
симптомы недуга, который впоследствии свел ее в могилу.
Изменился и ее характер. Это Убежище, совсем недавно
представлявшееся ей ужасным подземельем, теперь казалось, как и мне, тихим приютом,
скрывающим от бед и забот жизни. Она проводила многие дни (и проводила
бы все, если бы это не огорчало так ее мужа), проливая слезы над вами,
отыскивая в чертах Матильды кроткую красоту своей подруги, а в Эллинор —
покоряющее обаяние брата. Именно ей вы обязаны этими драгоценными
портретами.
Лишенная всякого общества, королева Шотландии предалась
беспросветному отчаянию. Не было надежды, что смягчится суровость ее заточения,
некому ей было выплакать свое горе; вместе с Норфолком умерла надежда на
свободу, но в то же время и желание свободы — что был теперь для нее весь
мир, который он более не украшал собою? Увы, не горше ли было бы для нее
обрести трон, который она не могла более надеяться разделить с ним?
Елизавета, которую с той поры уже никогда более не покидал страх, ото
дня ко дню ужесточала содержание Марии, лишая ее удобств и мелких
удовольствий, часто переводя из одной тюрьмы в другую, меняя стражей, и своей
суровостью приучила королеву-пленницу к мысли, что ненависть сильнее
даже любви.
Леди Скруп лишь на год пережила брата и не оставила наследника своих
добродетелей. Перед смертью она молила мужа не оставить вас обеих своей
заботой, и он торжественно обещал обеспечить ваше будущее, как
приличествует его состоянию, хотя и не вашему рождению.
Прошло несколько лет, и лорд Скруп, оправившись от своего горя и устав
от бездеятельности сельской жизни, принял предложение королевы
вернуться ко двору. Он поручил моим заботам Сент-Винсентское Аббатство и с тех
пор бывал здесь лишь наездами.
Увлекшись рассказом об этих событиях, я забыла упомянуть о
возвращении моего брата Энтони три года спустя после того, как я привезла вас сюда.
Он поселился в Пещере Отшельника и посвятил свое время изучению
медицины и заботам наставления и увещевания бедняков, кроме тех часов, когда
вы видели его: наш образ жизни был одинаков.
Мне осталось упомянуть только два обстоятельства. Одно из них огорчает
меня более, чем я считала возможным огорчиться по поводу денежных дел.
Лорд Скруп, который несколько лет был посланником за границей, сделался
предметом то ли ненависти, то ли подозрений коварного Бэрли и сейчас за-
ключей в тюрьму, а его богатства и поместья присвоены королевой, которая
так хорошо знает цену деньгам, что милорд скорее всего никогда не сможет
исполнить обещание, данное им жене касательно вас.
Другое обстоятельство заключается в том, что в течение последних лет я
не имела возможности сноситься с королевой Шотландии, приславшей мне в
первые годы своего заточения несколько писем, которые, вместе с теми, что
она писала герцогу, я храню как единственные доказательства вашего
высокого происхождения. Быть может, со временем она сумеет окружить вас тем
великолепием, для которого вы были рождены, ибо Елизавета уже немолода, а
Марию более гнетут печали, чем годы. Поэтому, милые мои дети, когда я
сойду в могилу, ожидайте терпеливо воли Провидения и не объявляйте о своем
родстве, пока ваша родительница сама не сочтет возможным призвать вас.
Ни одна добродетель не угодна Богу более, чем терпение. Одарить
счастьем — только в Его власти, заслужить счастье — всегда в нашей. О, если мои
молитвы будут услышаны, если мои пожелания достигнут Престола
Всевышнего, Он проведет вас по этой жизни с миром и позволит нам соединиться в
будущем.
Здесь наша великодушная покровительница, бывшая для нас более чем
матерью, закончила свой рассказ, прижав нас к груди с любовью,
подтверждавшей искренность ее слов.
Но какие новые мысли, какие небывалые чувства вызвал ее рассказ!
Веления природы побуждали нас бережно хранить каждое сказанное ею слово,
ибо что в истории наших родителей могло оставить нас безучастными?
Никогда еще наше одиночество не казалось таким благодетельным. «Двор
Елизаветы»... О, мой несчастный, горько оплакиваемый отец, разве могла
единственная виновница постигших тебя бед когда-нибудь внушить привязанность
твоим детям? Разве могла та, что притесняет равную себе, королеву,
невиновную, по крайней мере, перед ней, оттого лишь, что держит ее в своей
власти, — разве могла она привлечь к себе два сердца, не развращенных
придворным этикетом, который обоготворяет самые ошибки государей, а их пороки
именует благородными слабостями?
Но каково было узнать, что моя мать жива, поверить, что может настать
день, когда она примет меня в свои объятия, и в несчастье я буду ей лишь
дороже? Вся во власти этой мысли, что согревала мне сердце, наполняла его
восторгом, я желала отыскать ее тюрьму. Я разделила бы с ней заточение,
счастливая тем, что своей заботой смогу хоть на миг заставить ее забыть
жестокость судьбы, что среди всех ее сетований на несправедливость мира смогу
напомнить ей, что есть еще в этом мире два существа, готовые с радостью
отдать за нее жизнь, которую она им подарила.
И только долг перед миссис Марлоу удерживал меня: могу ли я покинуть
ту, что всем пренебрегала ради нас? Как! Неужели узы родства должны в
один миг истребить узы сердечной склонности, благодарности и уважения? О
нет! Это правда — своим существованием я была обязана другой, но та,
которой я была обязана лучшей частью этого существования — развитием ума,
воспитанием тех чувств, что делают нас ценными для самих себя и для
общества, — прежде всех имела право на мою любовь и признательность — до
самого смертного часа. Этот час приближался. Каждый миг уносил малую
частицу бренной оболочки миссис Марлоу. О ты, святое создание! Женщина,
угодная Богу! Могу ли я вспоминать то время, когда Он призвал тебя к Себе,
и не проливать потоков бессильных слез? Нет, никогда, никогда не иссякнут
они, эти себялюбивые слезы.
Она передала нам шкатулку, где хранились упомянутые ею письма, а
также различные свидетельства, подписанные ею и леди Скруп, и украшения,
которые носила в юности. Потом, с нежностью поручив нас заботам отца
Энтони, она присоединила свой голос к его молитве в окружении своей маленькой
семьи и на полуслове скончалась.
О сударыня, как странен, как ужасен был для меня этот миг! Впервые
видела я, как Смерть уносит существо, бывшее мне дороже себя самой.
Жилище наше стало теперь поистине уединенным, и как торжественно было
воцарившееся в нем молчание! Какую необъятную пустоту оставляет в сердце
первый взрыв осмысленного горя! Никогда более не услышим мы голоса, что вел
нас по жизни; закрылись глаза, которым никогда более не открыться. Всему
облику сообщается та ужасная бледность, что увеличивается с каждым
мгновением и входит в душу скорбным напоминанием. Эти печальные мысли
приходят не всякий раз: некоторые утраты лишают нас способности размышлять
и жаловаться; охваченные горечью и отчаянием, мы испытываем лишь муку,
недоступную выражению.
Попытка перенести останки миссис Марлоу в часовню могла привлечь
внимание королевских должностных лиц. Тайна нашего Убежища была
известна лишь трем слугам, и сохранить ее было необходимо. Поэтому могилу
выкопали в келье отца Энтони, куда он и перенес тело, завернутое в белое
покрывало и увенчанное недолговечными цветами этого мира как символом
того неувядаемого венца, что ожидает всех, кто был тверд в добродетели.
В юности горе поражает особенно сильно, но оказывается н здо чговечным:
прошло немного времени, и острота нашего горя притупилась. Но наша
уединенная жизнь, лишившись своего украшения, сделалась однообразной,
унылой, противной сердцу. Постепенно мы утратили прилежание к своим
занятиям, более не надеясь на высокую награду, какой всегда бывала для нас ее
похвала. Отца Энтони мы никогда особенно не любили, теперь же — с каждым
днем все меньше. Миссис Марлоу всегда умела влиять на него, смягчая
суровость его манер. Сейчас, когда этого влияния не стало, а нрав его сделался
еще более угрюмым от горестной утраты, он превратился в мрачного тирана.
Усилившаяся строгость его надзора за нами тягостно сковывала нас в речах и
поступках, и на обычных совместных трапезах царствовала унылая
отчужденность, причину которой ни один из нас не видел в себе.
Вынужденные скрывать все те мелкие прихоти и желания, которые
прежде высказывали безбоязненно, мы разговаривали с отцом Энтони лишь о
предметах возвышенных и отвлеченных. Дни проходили однообразно и уто-
мительно, но как-то раз Эллинор пришел в голову план, обещавший
некоторое развлечение. Она предложила обследовать ход, ведущий к развалинам,
где мы могли бы, по крайней мере, вдохнуть глоток свежего воздуха и, пусть
недолго, порадоваться хотя бы незначительной новизне. Я охотно
согласилась, так как это место возбуждало мое любопытство с той минуты, как я
впервые о нем услышала. Лето было в разгаре, и мы выбрали для своей затеи
долгие послеполуденные часы, когда можно было не опасаться, что нас
хватятся.
Ход оказался более узким, тесным и сырым, чем другие, но очень
коротким. Мы взяли с собой факел, чтобы разглядеть, как можно выбраться
наружу. Когда мы приблизились к концу коридора, я обнаружила ряд небольших
отверстий, несомненно, проделанных для удобства скрывающихся. Велев
Эллинор подождать, я выглянула в одно из отверстий. За ним, однако, не
оказалось ничего, внушающего опасения. Все, что мне удалось различить, была
длинная полуразрушенная сводчатая колоннада, заросшая кустарником,
оплетенная цветущими ползучими растениями. Между колоннами густо и высоко
росла трава. Все указывало на уединенность и заброшенность этого места.
Мы тут же стали искать выход и обнаружили небольшую квадратную дверь с
двумя петлями наверху, запертую снизу на тяжелый железный засов,
покоящийся на крепких крюках. Сдвинуть его в одиночку мне было не под силу, и
Эллинор, потушив факел, пришла мне на помощь. При всем нашем
любопытстве и бесстрашии вид груды развалин поверг нас в трепет. Обернувшись,
чтобы посмотреть, как вход укрыт от людских глаз, мы увидели, что он
находится у подножия высокой гробницы, по углам которой, словно охраняя ее,
стояли гигантские статуи рыцарей в доспехах; две из четырех статуй были
обезглавлены. Судя по многочисленным эмблемам и символам, здесь был
похоронен знатный рыцарь. Стрела, выпущенная отвратительным скелетом,
сквозь щит пронзала сердце рыцаря; взор его был устремлен на крест,
который протягивала ему Святая Уинифрида. Трудно было надежнее спрятать
вход: как ни груба была скульптура, эти украшения отвлекали глаз от
основания гробницы. Опустившаяся за нами небольшая дверь была тонкой
каменной пластиной, изнутри обшитой деревом, и прилегала так плотно, что даже
сейчас, незапертая, была неразличима. От гробницы на обширном
пространстве открывался вид величественный и дикий до крайности. Местами груды
осыпавшегося камня проросли кустарниками и деревьями, которые
удерживали от падения клонящиеся колонны. Местами сохранившиеся части
высоких стен, казалось, покачивались при каждом порыве ветра, а с их замшелых
вершин свисали фестоны и гирлянды плюща. Разрушенная сводчатая
колоннада кое-где еще давала приют от непогоды, угрюмо изгоняя дневной свет. В
ней от самого легкого шага просыпалось долгое эхо. Сплетение лесных
ветвей, начинавшееся сразу за развалинами, дополняло великолепие искусства
разнообразием природы. Мы с сожалением покинули свои новые владения,
когда последний луч солнца окрасил вершины деревьев.
Мы решили умолчать о своей прогулке, чтобы отец Энтони не запретил
нам повторить ее. Тот, сударыня, кто хочет надолго удержать под своим
влиянием молодых, должен, смягчая разницу в летах, войти к ним в доверие.
Любовь и уважение нераздельны, но, если страх, хотя бы раз, овеял холодом
путь к сердцу, никакое иное чувство не пересилит его, и потому послушанием
никогда не руководит добровольная склонность, и мы рады бываем
вырваться из-под гнета надменности и суровости, в каком бы почтенном обличье они
нам ни являлись.
Из каких безделиц возникают чистейшие радости жизни! Вид,
открывшийся перед глазами, цветок, песенка могут наполнить сердце ликованием, пока
страсти еще глубоко таятся в нем, не отравляя его простоты, не истребляя его
наслаждений.
Удовольствия, которые удалось скрыть, почитаются наивысшими —
суждение это как нельзя более справедливо: обманув бдительный надзор, мы
льстим представлению о собственной находчивости, отчего становимся
нечувствительны к своим ошибкам.
Почти ежедневно мы навещали это полюбившееся нам место и всякий раз,
как подрастающие птенцы, отваживались сделать еще один шаг; и мы
отваживались на это так часто, ни разу не встретив ни души, что перестали
бояться. С одной стороны лес полого спускался к проходившей вдалеке дороге.
Там уже виднелись деревушки: издали казалось, что они обещают радости
встреч и общения с людьми, но безыскусная простота их обитателей делала
это обещание неисполнимым.
Но вы пеняете на то, что я трачу время на скучные описания. Ах,
сударыня, не всегда этот лес был безлюдным. Волею случая, или, следует мне
сказать, Провидения, в его безлюдной глуши оказался самый известный,
окруженный всеобщим поклонением человек из придворного круга Елизаветы.
Природа щедро наделила его своими дарами, которые искусство и усердие
довели до высшего совершенства.
Как-то раз, окликнув сестру, я открыла в пустоте леса и развалин звучное
эхо и, обрадованная этим, запела. Звуки отчетливо, один за другим, стихая
вдали, складывались в печальную симфонию, как вдруг пение мое было
прервано Эллинор, которая, оставив птиц, послушно слетавшихся клевать корм
из ее рук, стремительно бежала к Убежищу, на бегу знаками призывая меня
следовать за ней. Мы так часто пугали друг друга беспричинно, что я не
двинулась с места, но тут какой-то шум совсем рядом, в чаще деревьев, которые
в этом месте росли очень густо, встревожил меня. Голос, звук которого
мгновенно проник в мое сердце, почтительнейшим образом умолял меня
остановиться. Я хорошо понимала, что должна бежать прочь, но меня неодолимо
влекло посмотреть на человека, которому принадлежал этот голос, и,
невольным движением повернув голову, я взглянула через плечо. Он к этому
времени уже пробрался сквозь кустарник, преграждавший ему путь, и я поняла,
что не могу скрыться иначе, как выдав секрет, который должна была
непременно хранить. Мой нерешительный вид и очевидная готовность в любую
минуту обратиться в бегство заставили его приближаться ко мне почтительно и
смиренно, но, заметив мою новую, почти не осознанную попытку бежать, он
тотчас остановился.
— По какой бы причине, — сказал он, — природа ни скрыла в этом
забытом уголке свои прелестнейшие создания, позвольте мне, милые дамы,
воспользоваться этой счастливой случайностью. Поверьте, перед вами человек,
которому так нужны ваши сочувствие и помощь, что он не дерзнул оскорбить
вас, даже если бы это намерение могло закрасться в его сердце, не способное
на такую бесчеловечность. Поэтому умоляю вас — судите о моих намерениях
по своим, и если вам известно какое-нибудь убежище (и вас, в отличие от
меня, не привели сюда несчастные обстоятельства), позвольте мне укрыться в
нем от убийц, слишком многочисленных и хорошо вооруженных, чтобы
отвага могла спасти мне жизнь.
Наружность того, кто произнес эти слова, сообщала им ни с чем не
сравнимую силу воздействия. Казалось, расцвет молодости был для этого человека
позади, но время сохранило его красоту, не дав ей поблекнуть. Высокий рост
и безупречное сложение придавали величавость его осанке, и лишь кротость
голоса и взора смягчали царственность облика. У него была гладкая смугло-
коричневая кожа, большие глаза — темные и блестящие; волосы,
подстриженные с утонченным изяществом, подчеркивали гармоничность его черт. На
нем был наряд из сизого бархата, отделанный белым атласом и серебром; с
плеча на алой златотканой перевязи спускался портрет-миниатюра. Орден
Подвязки и неизвестный мне иноземный орден указывали на то, что
положение его отвечало значительности облика.
Изумление, тревога, стремительно промелькнувшая череда мыслей,
мгновенно сменяющих одна другую, невыразимых словами, привели меня в
смятение, лишили дара речи, тогда как Эллинор, не в пример мне прекрасно
владевшая собой, взяла на себя труд ответить незнакомцу, направив его к келье
отца Энтони и заверив, что в настоящую минуту это — все, что мы можем для
него сделать.
— Ах, Эллин! — вскричала я, порывисто схватив ее за руку. — Но ведь
тогда ему придется возвращаться, и его убьют!
Пораженная собственной горячностью, я потупилась, и предательский
румянец смущения покрыл мое лицо, вспыхнув еще сильнее, когда незнакомец взял
мою руку и с грацией, никогда прежде мною не виданной, склонился над ней.
— Сударыня, во всяком случае, я навсегда в долгу перед вами за ваше
великодушное намерение. Но сейчас нельзя терять ни минуты. Скройтесь,
умоляю вас, пока еще можно. Злодеи, что гонятся за мной, могут не пощадить ни
вашей молодости, ни вашей красоты, ни вашей невинности, а ничто так не
отяготит моего несчастья, как сознание навлеченной на вас беды. Если Богу
угодно будет продлить мои дни, мне, быть может, удастся убедить вас, что
тот, кого вы пожелали спасти, не был недостоин вашей заботы. Если же,
напротив, этот час станет для меня последним, прошу вас лишь об одном, —
сказал он, протягивая портрет, — передайте это королеве, которая, без сомнения,
вознаградит подателя.
Как каждое слово его проникало мне в сердце! Как стремительно развитие
страсти, как в один миг многократно обостряет она разум и чувства! Со всей
яркостью воображения мне представилось, что это в мою грудь направлены
клинки убийц. Страх заслонил собою все соображения осторожности, я лишь
попыталась было проявить осмотрительность, спросив, кто он такой, как
голоса, раздавшиеся совсем близко, заставили меня отказаться от этого
намерения. Не выпуская его руки, в которой он до той минуты удерживал мою, я
повлекла его через пустынную колоннаду к подножию гробницы. Наше
изумление при виде его несравнимо с тем изумлением, что испытал он, обнаружив,
что это наше жилище. Однако времени для объяснений не было, и он помог
нам войти и последовал за нами. Оставив Эллинор наблюдать за
приближением людей, чьи голоса мы слышали, я провела его в большую комнату
Убежища. В нетерпеливом порыве благодарности за участие он пал передо мною
на колени, как вдруг, быстро оглянувшись через плечо, поверг меня в такой
ужас, что я опустилась на стул, не имея силы оглянуться, воображая
появление если не преследователей-убийц, то по меньшей мере отца Энтони;
незнакомец же, поочередно вглядываясь то в меня, то во что-то у себя за спиной,
воскликнул:
— Милосердное Небо! По какому странному велению Твоему нахожу я в
этой глуши два мертвых изображения — моего несчастного друга и королевы
Шотландии — и два живых портрета, даже их превосходящие красотою?
Вообразите испуг и смятение, охватившие меня при этих словах. В одно
мгновение мне представилось, что тайна, так тщательно хранимая в течение
стольких лет, оказалась доверена незнакомцу по неосторожности, за
которую, однако, я не могла себя корить. По неопытности и молодости я
колебалась, не зная, отрицать ли справедливость его утверждения или, в свою
очередь, доверившись ему, положиться на его честь. Но мгновения моей
нерешительности убедили его — мое замешательство было неоспоримым
подтверждением его догадки.
— Вы молчите, сударыня, — продолжал он. — Но в ваших выразительных
глазах таится сомнение, и мой долг — это сомнение рассеять. О, если бы я
был способен злоупотребить вашим доверием или выдать тайну, которую вы
желаете сохранить, Небеса предоставили бы меня печальной участи, от
которой прекраснейшие их посланницы меня спасли. Взгляните лишь на этот
портрет — и вы найдете неоспоримое свидетельство моего высокого положения.
То был портрет Елизаветы, подаренный ею Роберту Дадли, как явствовало
из надписи.
— Ах! — воскликнула я. — Значит ли это, что мне представилась
счастливая возможность уплатить давний долг лорду Лейстеру?
— Чем же, чем удостоился я чести быть известным вам? Осмелюсь ли
верить?.. Но иначе и быть не может — разве могла бы менее прелестная мать
подарить жизнь таким детям? Разве могли бы иначе столь несравненные
красота и изящество скрываться в этой глуши? Скажите, сударыня, умоляю вас,
не дает ли мне моя былая дружба с герцогом Норфолком права на вашу?
— О да, милорд! — воскликнула я, заливаясь слезами при имени отца. —
Она дает вам право на мою вечную благодарность. Ваше имя избавляет меня
от необходимости притворяться: признаю — вы верно разгадали тайну моего
рождения.
— Но тогда почему вы похоронили себя в этом уединении? Почему не
признаны во Франции?..
— Ах, милорд! Я с не меньшим основанием могу спросить вас: почему
любимец Елизаветы, один, без свиты, появляется в этом уединенном месте,
стремясь укрыться от убийц?
— Я отвечу вам, сударыня, с полной откровенностью и тем самым
заручусь вашим доверием. Благосклонность монарха может с легкостью
возвеличить человека, но еще очень многое требуется ему, чтобы стать счастливым, а
когда вы узнаете о некоторых обстоятельствах моей жизни, вы, я уверен,
подарите меня своим сочувствием.
В эту минуту Эллинор, выполнив мое поручение, вновь присоединилась к
нам. Признаюсь чистосердечно, я желала ее отсутствия и дала ей задание,
которое никогда не смогла бы выполнить сама. Присутствие милорда
пробудило в душе моей надежды и желания, дотоле мне незнакомые. Мне ни на миг
не приходило в голову, что, прожив столько лет, он не мог не иметь
сердечной привязанности, и бессознательно я стремилась внушить ему это чувство.
Опасаясь при этом, что Эллинор затмит меня красотою и очарованием, я с
помощью недостойной уловки лишила ее возможности первой привлечь
внимание гостя, она же, великодушно подчинившись моему несправедливому
требованию, заставила меня тотчас устыдиться, и в дальнейшем я так
заботливо старалась подчеркнуть ее достоинства, что милорд уверился в моем
совершенном к нему равнодушии. Так что я выиграла вдвойне, возвратившись
на путь истинный.
Сестра сообщила, что видела, как четверо людей тщательно обыскивали
развалины, убежденные, что лорд Лейстер скрывается здесь, в особенности
после того, как один из них поднял с земли шляпу (несомненно, уроненную
графом, когда он обратился ко мне) и как, поклявшись, что не уйдут, пока не
отыщут его, они разделились, чтобы продолжить поиски.
Я побледнела при этой ужасной вести, делавшей его уход немыслимым;
но, ожидая во всякую минуту появления отца Энтони, который вряд ли мог
остаться безучастным к тревоге, вызванной появлением убийц, мы порешили
спрятать милорда в комнате миссис Мэрлоу, пустовавшей все это время, где
никто, кроме нас, не стал бы его искать.
Уже наступил вечер, и так как от нашей служанки, обремененной годами
и недугами, было бы больше хлопот, чем помощи, мы сами поставили перед
лордом Лейстером ужин, более отвечающий его здоровью, чем аппетиту, все,
что нашлось в нашем Убежище, а затем удалились, чтобы визит опекуна не
застал нас врасплох.
Как ни благосклонна была к нам природа, я бы не хотела внушить вам
мысль, будто удивление, высказанное милордом, объяснялось единственно
нашей красотой, а потому должна здесь заметить, что мы одевались скорее в
соответствии со вкусом миссис Марлоу, чем с модой и обычаем какой-либо
страны, а те наряды, что облекают счастливые сердца, превосходят все
другие в богатстве фантазии. Прилегающий лиф и юбка светло-серого платья
были обшиты по рукавам и подолу узорной бахромой из черного бисера;
стоячий кружевной воротник открывал шею и грудь и завязывался у основания
черными кистями. Густые волосы кольцами спускались на шею и на лоб из-
под камлотовой повязки. Маленькие касторовые шляпки с высокими тульями
и пышными черными перьями довершали наш наряд, одновременно слишком
простой и слишком изящный, чтобы остаться незамеченным. Совершенство
платья — в его простоте, и в описанном мною наряде Эллинор была
прекраснее, чем в любых парадных одеждах, присущих кичливой роскоши. Ее
живой, лукавый взгляд говорил о наблюдательности, но при этом был полон
добродушия; гладкую, нежную кожу, повинуясь биению сердца, окрашивал
тонкий переменчивый румянец; стан был строен, а обращение неизменно
привлекало к ней сердца, заставляя любить почти так же, как любила я. Но мне нет
нужды долго распространяться о характере моей Эллин: хотя сейчас речь не
о нем, он вскоре потребует вашего внимания и сочувствия в тягчайших
жизненных испытаниях.
Любовь — мать притворства, сударыня. Когда мы расстались с лордом
Лейстером, я попыталась, умалчивая о своих чувствах к нему, дознаться о
чувствах сестры, так как, совершая извечную ошибку тех, кого впервые
посетила страсть, я была убеждена, что человек, покоривший мое сердце, так же
властен и над сердцами всех женщин. В таких случаях с каждым взглядом
возрастает страх: мне не переставало казаться, что в ее глазах я читаю
мысли, пугающе сходные с моими, однако выраженная ею живейшая
озабоченность по поводу нашей неосторожности, Которая, как ей ясно представлялось,
отдавала нас во власть фаворита Елизаветы, вызвала у меня сомнения: хотя
подобная мысль и приходила мне в голову, доверие, которое я уже возымела
к его чести, и мучительная тревога за его жизнь делали ее лишь слабым и
отдаленным опасением.
В ту ночь впервые мысли гнали от меня сон. Надежды сменяли одна
другую. Я льстила себя мыслью, что простота моего воспитания и чистота
сердца, столь необычные при дворе, искупают отсутствие того лоска, сообщить
который может только придворная жизнь. Смутность и неопределенность
своего происхождения я ощутила как великое несчастье и, лишив сострадания
своих родителей, перенесла его на себя. И все же, думала я, разве может он
презирать дочь своего друга? Разве обречет меня страдать за
неосмотрительность, в которой нет моей вины? Так буду же судить о его сердце по своему,
которому власть над миром недостаточна для счастья, если не разделена с
ним!
Безмятежный сон сестры успокоил мое сердце, развеяв подозрения. Весь
день я нетерпеливо считала минуты, ожидая, когда лорд Лейстер начнет свой
рассказ. Мысленно я уже перебрала те немногие несчастья, которые могла во-
образить, но так и не сумела представить себе такого, которое в хорошо
управляемой стране могло заставить человека столь высокого положения
спасаться бегством. Да и как могла я, не затронутая пороками света, догадаться
об истине.
Не сообщая лорду Лейстеру, кто занят нашим воспитанием, мы, однако,
дали ему понять, что у нас есть причины держать его присутствие в тайне от
всех. Он был слишком вежлив, чтобы настаивать на объяснениях, и мы
вынуждены были оставить его в одиночестве до тех пор, пока уход отца Энтони
не даст нам возможность выслушать обещанный рассказ.
Отец Энтони, всегда медлительный и педантичный, в этот день, казалось,
превзошел самого себя. Вместо того чтобы, по своему обыкновению,
удалиться после обеда, он завел нескончаемый разговор (вызванный минутным
нетерпением, которое я выказала по какому-то ничтожному поводу) о
необходимости обуздывать свои порывы. Каждое сказанное им слово еще более
разжигало мое нетерпение, но, чем меньше мы проявляли склонности признать его
доводы, тем, казалось, более многословен он делался, пока мое нетерпение,
достигнув предела, не улеглось само собой и я не поняла, что лишь полное
согласие с его суждениями может положить конец этой утомительной беседе.
Моя хитрость удалась. Вскоре он покинул нас, и, едва удостоверившись в
этом, мы, не теряя более ни минуты, освободили графа из его укрытия и
провели в свою большую комнату, как мы ее называли.
Милорд Лейстер не откладывая удовлетворил наше любопытство и начал
свою историю. (Дабы избежать той холодности, что пересказ всегда придает
изложению событий, и храня в памяти почти каждое слово всякого
услышанного мною повествования, я, ради справедливости к рассказчику,
предоставляю ему вести рассказ от своего лица.)
— Происходя из семьи столь знатной, что она не может быть вам
неизвестной, милые дамы, я мог бы обойти молчанием свои юные годы, если бы не
одно случившееся тогда обстоятельство, объясняющее те почести и
благодеяния, которыми моей царственной повелительнице угодно было меня одарить.
Я был младшим из пяти сыновей и слишком мал, чтобы понять, что утратил,
когда моя семья оказалась жертвой собственных честолюбивых замыслов и
тирании епископальной церкви. Меня, лишенного состояния, ненавистного
тем, кто прежде дрожал при имени Нортумберленда, ждала столь же
печальная судьба во время преследований в царствование Марии (годы, которые
потомки будут вспоминать с ужасом), если бы лорд Арундел великодушно не
укрыл меня от ее гнева. Он распорядился отправить меня из поместья отца,
которое ему было поручено конфисковать, в Хьюберт-Холл, его собственное
поместье, где я неведомо для всех воспитывался вместе с его детьми. Доброта
этого вельможи достойна особого упоминания, ибо за ней, помимо
сострадания к моей юности и беспомощности, не стояло ничего, кроме благодарной
памяти о небольшой услуге, оказанной ему лордом Гилфордом во времена,
когда религиозные убеждения графа вызывали большие опасения, хотя и
менее сурово преследовались, чем наши. Всегда помня о его великодушии, я все-
ми силами старался выказать мою благодарность. Привычка сделала меня не
менее милым его сердцу, чем собственные дети; казалось, ему было приятно
называть меня сыном, и он предложил сочетать меня браком с одной из
своих дочерей, которая с детских лет питала ко мне склонность. Судьба была
против него: из четырех прелестных детей, бывших у него, когда он взял
меня в дом, не осталось ни одного, когда мне исполнилось пятнадцать лет. Эти
утраты не ожесточили, но смягчили его характер. Он приложил немало
усилий к тому, чтобы ввести меня во владение всем его состоянием, и не терял
надежды, что добьется для меня права наследовать его титул. Мисс Линерик,
дочь его сестры и наследница большого состояния, помимо того, которое
могла надеяться получить от графа, была выбрана им мне в жены, о чем он и
условился с ее опекунами без моего ведома. Когда же потребовалось мое
согласие, я не решился в нем отказать, хотя ни разу не видел этой дамы, и
сердце мое противилось браку, совершавшемуся не по его велению.
Принцесса Елизавета (чья благородная стойкость в несправедливом
заточении навсегда сделала честь ее благоразумию) при жизни сестры
содержалась под строгим надзором. Надзор поручался одному за другим знатным
лордам, в силу различных опасений сменявшим друг друга. На короткое
время эта обязанность была возложена на графа Арундела, и таким образом я
совсем молодым был представлен этой благочестивой даме. Не
распространяя на меня предубеждения, которое по справедливости могла питать к моей
семье, она почтила меня своим расположением, находя развлечение в том,
чтобы совершенствовать мои манеры и образовывать мой ум. Воспитанный в
католицизме, ей я обязан обретенными познаниями в вопросах веры, а также
благоразумной сдержанностью, подсказавшей мне, что не следует посвящать
моего покровителя в различия наших взглядов, которые могли отдалить его
от меня и сокрушить ему сердце.
Моя преданность была столь же велика, сколь и ее доброта ко мне. Со
всем пылом юности я жаждал посвятить себя служению ей, и случай не
замедлил представиться. Граф Девонширский, движимый то ли любовью, то ли
честолюбием, возымел мысль, что заточение принцессы заставит ее с
радостью принять предложение брака. В свои планы он вовлек многих вельмож,
отдававших предпочтение протестантской религии, и полагал, что для
получения согласия принцессы достаточно лишь уведомить ее об этом. С этой
целью он переоделся садовником и приходил работать несколько дней, надеясь
увидеть Елизавету, но его старания ни к чему не привели: по распоряжению
королевы принцесса содержалась так строго, что прогуливаться могла лишь в
галерее с зарешеченными окнами, примыкающей к ее покоям. То, как
неловко граф управлялся с этой новой для него работой, которую сам я любил и о
которой потому мог судить со знанием дела, привлекло к нему мое внимание.
Я заговорил с ним, и его невольная дрожь, вызванная страхом разоблачения,
укрепила меня в моих подозрениях. Он уклонялся от моих расспросов
слишком искусно для человека, за которого себя выдавал. Все это я упомянул
мимоходом, когда, прогуливаясь с принцессой по галерее, развлекал ее беседой.
Она выслушала меня со вниманием и затем, подойдя к окну, попросила
указать ей этого человека. В ту минуту он как раз присел отдохнуть, и взгляд его
был устремлен в сторону дома. Елизавета долго стояла у окна, глубоко
задумавшись, потом наконец, оборотясь ко мне, спросила, довольно ли я чту ее,
чтобы исполнить поручение, сопряженное с риском. С готовностью,
вызванной моим давним желанием служить ей, я отвечал, что нет такого поручения,
которое я не исполнил бы с радостью. Она заметила, что не задала бы свой
вопрос, если бы не ждала от меня такого ответа.
«Я хочу, — продолжала принцесса, — чтобы вы, когда сумеете увидеться с
ним наедине, сказали, что я его видела и узнала, и так как у меня нет
сомнений, что в его намерения входит оказать мне некую услугу, то я прошу, чтобы
через вас он сообщил, какого рода эта услуга. Но он может усомниться в
искренности человека, чьи интересы кажутся столь противоположными его
собственным. Тогда покажите ему это украшение, которое он непременно
узнает, и скажите, что я поручила вам напомнить ему — оно подарено мне его
отцом несколько лет назад».
С этими словами принцесса сняла с рукава платья великолепный
бриллиант и подала его мне. Я удалился, и ни одна ночь не казалась мне такой
долгой, как та, что я провел в нетерпеливом желании исполнить ее поручение.
Чтобы не терять времени, я поднялся очень рано и укрылся в зарослях
кустарника, через которые он, как я знал, должен был пройти. Не желая
смешиваться с толпой поденщиков, чьи интересы не шли дальше грубой пищи и
грубых шуток, он обычно приходил один; дождавшись, когда остальные прошли
мимо, я увидел его. Даже не зная, кто он таков, я был убежден, что передо
мною человек значительный, и потому приблизился к нему и изложил свое
поручение с чрезвычайной учтивостью. Его замешательство и сомнения
мгновенно исчезли при виде бриллианта. Он пришел в восторг от доброты
принцессы и не находил слов, чтобы выразить свою благодарность за оказанную
мною услугу.
Обладая немалым жизненным опытом, он знал, что оказать доверие — это
самый верный способ привлечь к себе юношеское сердце, и потому не стал
делать тайны из своего имени и вручил мне для передачи письмо, имевшее для
него не меньшую ценность, чем собственная жизнь.
Елизавета, то ли оскорбившись дерзкой надеждой, им выраженной, то ли
опасаясь еще более отдалить себя от трона, вызвав недовольство сестры,
отклонила предложение графа. Он, не жалея усилий, убеждал ее изменить свое
решение, уверенный, что никогда более не представится столь благоприятной
возможности для ее побега. В конце концов ему помнилось, что в полученном
им отказе я играю некоторую роль, и он, не сумев переубедить принцессу,
обрушил на меня град упреков, видя во мне главное препятствие. Не знаю, до
каких крайностей могло бы дойти его негодование, если бы лорд Арундел,
которому старший садовник сообщил о своих подозрениях относительно этого
человека после того, как обнаружил, что в одежде у него зашиты
драгоценности, не распорядился задержать его. Но нездоровье помешало ему провести
немедленное расследование, и он послал известие о случившемся ко двору, а
графа заключил под стражу. Принцесса, встревоженная этим
происшествием, которое, как она предполагала, враги обратят против нее, не дав ей
возможности оправдаться, утратила то спокойствие, что составляло в юные годы
одно из достойнейших свойств ее характера. Я слишком близко принимал к
сердцу ее горести, чтобы отстраниться от них, и в доказательство этого
составил план, оправданием которому может служить лишь романтическое
великодушие, присущее юности.
Так как охрана преступника была поручена мне, для меня не составило
труда под покровом ночи освободить его, но, чтобы побег удался вполне, я
распорядился держать в зарослях наготове коня, якобы для себя, и, одев
графа в свое платье, вывел его к садовым воротам. После этого я вернулся к
себе, чрезвычайно довольный.
Последствия побега тотчас ясно представились лорду Арунделу. Получив
это известие, он послал за мною, поскольку мое пособничество было
очевидным, и, разгневанный тем, что я ничем не пожелал объяснить своего
поступка, кроме как данным мною обещанием, он приказал взять меня под стражу
и послал ко двору гонца с подробным отчетом о побеге пленника. Вскоре,
однако, гнев его остыл, и он уже корил себя за опрометчивость, не менее
достойную порицания, чем моя. Он послал несколько слуг вдогонку за своим
гонцом и, видя, что тот не возвращается, тотчас забыл о моем упрямстве и,
придя навестить меня, показал, что простил мне мою вину. Затем он сказал,
что для моей безопасности не может предложить ничего иного, кроме побега.
Не сомневаясь, что сумеет умилостивить королеву, он дал мне совет
незамедлительно отправиться в Ирландию, где меня приютит его шурин, сэр Патрик
Линерик. Покоренный его добротой, я лишь послушанием мог искупить свою
ошибку и потому без колебаний приготовился пуститься в дорогу. То, с какой
неохотой граф расставался со мной, было для меня горьким укором. Судьба,
однако, не позволила мне избежать наказания: в пути я был встречен
отрядом гвардейцев, предводительствуемых графским посланцем, который, не
зная об изменившихся намерениях графа, решил, что я пытаюсь тайно
скрыться, и убедил офицера арестовать меня. Ошеломленный столь
непредвиденным и несчастным оборотом событий, я без сопротивления сдал оружие
и был препровожден в лондонский Тауэр.
Там я провел несколько дней, не видя никого, кроме стражи, а затем
предстал перед Тайным советом, где мне был учинен допрос о том, что я знаю о
бежавшем пленнике и его замыслах. Я отказался отвечать, и меня отвели
назад, но в камеру более тесную, на пищу более грубую. Это повторилось
несколько раз, так что я не мог понять, отчего до сих пор не предан суду и не
осужден по закону. И вот однажды, к моему радостному изумлению, на
пороге темницы появился лорд Арундел. Отсутствие свежего воздуха и дурная
пища так изменили меня, что этот добрый человек, забыв о своей миссии,
кинулся мне на шею и зарыдал, как ребенок. Однако, придя в себя и вспомнив,
что прислан не затем, чтобы утешать меня, и что при нашем разговоре при-
сутствуют внимательные свидетели, он стал заклинать меня всей властью,
данной ему надо мною — властью отца, опекуна, друга, — спасти себя,
рассказав все, что мне известно, ибо в противном случае я обречен, несмотря на все
его усилия, а потеря единственной опоры его старости сведет его в могилу.
Его добрые слова, глубокая тревога обо мне, которую выражала каждая
черта благородного облика, пронзили мне сердце, и, хотя я не мог выдать
принцессу, чистосердечно сознаюсь, что горько пожалел о своем
опрометчивом вмешательстве в чужие дела, но, так как раскаяние ничего не меняло,
мне оставалось лишь стойко перенести то несчастье, которое я сам на себя
навлек, и только боль, причиняемая моему благодетелю, чьей доброте я был
обязан всем, стала для меня тяжким испытанием. Бросившись к его ногам, я
умолял помнить лишь о моем упрямстве, отринуть меня от своего сердца, но
только никогда той властью, которую я чту, не склонять меня к низкому и
презренному поступку, заверяя его, что в моих глазах неизмеримо лучше
умереть с честью, чем купить себе жизнь предательством и неблагодарностью.
Он устремил на меня внимательный взгляд, с минуту помолчал, словно
обдумывая что-то, потом заговорил вновь, предложив мне щедрое
вознаграждение. Я остановил его.
— О сэр! — воскликнул я. — Можете ли вы так дурно думать обо мне?
Неужто вы верите, что, устояв перед вашими мольбами, я совершу низкий
поступок из корысти? Сколь недостоин я был бы после этого называться вашим
сыном!
— Что могу я сказать? — промолвил он, обернувшись к одному из
присутствующих и в горести сжимая руки. — Как могу подрывать твердость духа,
которой восхищаюсь? Прощай, мой милый сын. Мне не по силам
возложенная на меня задача. Пусть Господь, внушивший тебе столь высокие понятия,
благословит и в судьбе твоей не оставит тебя. Мне, верно, осталось жить
меньше, чем тебе, и прощаемся мы навек. Прощай, я никогда не забуду тебя.
Сказав это, бледный и измученный, он оперся на одного из
сопровождающих, и тот скорее вынес, чем вывел его из темницы.
До сих пор меня поддерживала гордость, и сознание неправоты до сей
минуты не примешивалось к моим чувствам: в моей жизни не было ничего, что
придавало бы ей особую ценность, но жизнь лорда Арундела была благом
для него и для страны, и какое право имел я сокращать его дни, я, чей долг
был — покоить его старость, облегчать его последние шаги на жизненном
пути? Вспоминая об этом, я испытывал невыразимое горе.
К тому же, как я понял, при дворе мою решимость истолковали как знак
существования заговора, куда более значительного, чем он был на самом
деле; но, столько раз отказываясь говорить, я теперь не мог рассказать того, что
знал, не покрыв свою память позором, горшим смерти, и потому, укрепив
себя этими мыслями, я стал с полным самообладанием ждать решения своей
судьбы.
Спустя всего несколько дней после моего разговора с лордом Арунделом
скончалась королева, чья жестокость запятнала ее пол и религию, и Елизаве-
та, возведенная на трон волею народа, одной из первых своих забот сочла мое
освобождение из тюрьмы — она оказала мне честь свидеться со мной, когда
на мне еще была та одежда, что я носил в заключении, и дала мне свое
королевское слово, что самая большая радость, дарованная ей короной, — это
возможность вознаградить меня за мою преданность.
Радость мою омрачило то, что в ночь накануне от подагры,
перекинувшейся на живот, скончался лорд Арундел. Он оставил меня сонаследником —
вместе с его племянницей — всего состояния, при том единственном условии,
что я женюсь на ней. По его воле брачный договор должен был вступить в
силу в течение двух лет; если же одна из сторон откажется, доля этой стороны
переходит к сонаследнику. Но и все блага, какие я мог бы получить, стань я
его единственным наследником, не возместили бы мне его потерю. Этот удар
сокрушил мои надежды: я обещал себе, что в первые же минуты свободы
постараюсь убедить своего благородного и бескорыстного друга, что
независимость не уменьшит моей благодарности, но лишь увеличит мою
привязанность, которой даже злые языки не смогут приписать иного мотива, кроме
истинного.
В первые годы царствования королева Елизавета осыпала меня
всевозможными почестями, называла своим рыцарем и отказывалась от участия в
любых увеселениях, если в них не участвовал я. Подобострастное поведение
вельмож льстило моему тайному тщеславию и заставляло думать, что они
глубже, чем я, проникают в ее намерения. Я был много моложе, помолвлен с
другой, однако все считали, что я любим ею. Не чувствуя большой
склонности к назначенному браку и, вследствие щедрости королевы, имея
возможность поступать по-своему, я отказался в пользу мисс Линерик от наследства
ее дяди, даже не повидавшись с ней, так как не желал оскорбить
родственницу лорда Арундела, подав повод к разговорам о том, что отказался от брака,
сочтя ее непривлекательной. Известие об этом, достигнув ушей королевы,
наполнило ее радостью, замеченной всеми придворными, которые утвердились
в мысли, что мне суждено разделить с ней трон и корону. Некоторые
особенности поведения королевы, известные мне одному, давали основания верить,
что она действительно питает ко мне привязанность и лишь выжидает, когда
мои соперники из числа вельмож постарше откажутся от своих притязаний и
когда мои годы позволят ей сделать выбор, не компрометируя своего
благоразумия.
Привязанный к Елизавете скорее в силу благодарности, чем сердечной
склонности, я терпеливо ожидал ее решения, отдаваясь не столько
политическим делам королевства, сколько всевозможным увеселениям. Именно в то
время прекрасная Мария Шотландская (на свою погибель) явила себя
блистательной соперницей Елизаветы и разрушила тот покой, в котором, под
влиянием благополучия и всеобщего восхищения, пребывала королева. В тяжелые
годы юности Елизавета утешалась тем, что сохраняла бесспорное
преимущество перед своей гонительницей, достойно и благоразумно подчинившись ей,
но встретить столь могущественную соперницу в красоте, талантах и владени-
ях, находясь в зените славы, было ударом столь же сокрушительным, сколь
неожиданным. Само ли имя Марии было ей ненавистно, и преувеличенными
похвалами она лишь подчеркивала те уничижительные замечания, которые
высказывала о ее поведении. Она неукоснительно отмечала все
преимущества, которые положение ее королевства дает ей перед королевством соседним,
и постоянно предпринимала попытки выбрать для Марии мужа из числа
наиболее красивых и беспутных вельмож своего двора. Мелвилл, шотландский
посол, в числе прочих подарков привез Елизавете портрет королевы
Шотландии, выполненный чрезвычайно искусным французским художником, и этот
маленький портрет Елизавета носила на груди. Глядя на него, я всякий раз
восхищался тем, как превосходно может искусство воссоздать столь
совершенное творение природы. Как-то вечером, когда королева беседовала со
мной, глаза мои, в силу привычки, были устремлены на это украшение.
Внезапно королева поднялась и удалилась, прервав аудиенцию. Три дня она не
показывалась, и за это время ее бурное негодование сменилось решимостью:
она прислала ко мне графиню Сомерсет с портретом и с заверением
королевы, что поскольку я, по ее наблюдениям, не мыслю себе счастья без
оригинала этого портрета, то она намерена изменить свои планы и уже отдала
повеление графу Бедфорду предложить Марии вступить со мною в брак.
Ошеломленный столь непомерной и нелепой ревностью, я всеми силами
старался разубедить королеву, бессчетно клялся ей в своем безразличии к
Марии Шотландской — все напрасно: была задета гордость Елизаветы, а в
таких случаях умилостивить ее было невозможно. Она настояла на том, чтобы
я оставил у себя портрет, и надменно приказала мне видеть в ней лишь свою
повелительницу.
Я удалился, уязвленный этой надменностью, которая, хотя и подобала ее
сану, производила отталкивающее впечатление в представительнице ее пола.
Я все еще держал в руке портрет Марии, и когда я вспомнил мягкость и
приветливость нрава, которыми она славилась, ее несравненное очарование и
кротость характера, то был рад гневу Елизаветы: он освобождал меня от оков
благодарности, он давал мне надежду на более счастливую судьбу. Я жалел о
письме, которое послал графу Бедфорду, запрещая ему даже упоминать мое
имя, и лишь надеялся, что оно опоздает. Я сознавал, что в браке с Елизаветой
оставался бы фигурой ничтожной, так как она была крайне ревнива к своей
власти; с Марией же я мог разделить заботы королевства и, изучив ее нрав и
склонности, сделать ее и себя счастливыми. Но наши желания сбываются
редко. Королева Шотландии, убежденная в том, что Елизавета намеревается
возвысить меня до английского трона, сочла мое предложение шуткой и
отнеслась к нему как к таковой. Граф укрепил ее в этой мысли, полагая, что тем
оказывает мне услугу. Так, устремляя свои надежды к двум королевам, я
оказался отвергнут обеими.
С той минуты, как Елизавета лишила меня своей благосклонности, я
оказался в положении всех фаворитов, низринутых с вершин величия в полное
небрежение. Общество сменилось для меня одиночеством, жизнь при дворе —
пребыванием в своих апартаментах: я один составлял себе компанию. Все эти
годы я руководствовался не великодушием, а тщеславием, и из тех людей,
что меня окружали, никто меня по-настоящему не любил, зато все мне
завидовали и теперь радовались моей опале и высмеивали мои честолюбивые
замыслы.
Что сказать вам, милые дамы? Приписать ложные мотивы своим
поступкам или признаться в грехах, которые, быть может, извинит моя тогдашняя
молодость? Мне следует быть откровенным с вами, как бы ни повлияла моя
откровенность на ваше отношение ко мне.
Решившись любой ценой посрамить своих врагов, я написал королеве,
заверяя ее, что почетные должности, которыми она удостоила меня, стали мне
тягостны, поскольку я лишился ее расположения, и если моя вина (как ни
невольна она) не заслуживает прощения, я прошу позволить мне сложить все
мои полномочия и удалиться в Кенильворт. Это письмо мне удалось
самолично подать ей в Великолепных Садах, и, отнюдь не объявив мне сурового
приговора, она изволила, проливая слезы, упрекнуть меня в непостоянстве моей
привязанности. В ответ на это я достал портрет королевы Шотландии и
швырнул его в Темзу, умоляя Елизавету похоронить вместе с ним память о
моей вине. Она пожаловала мне руку для поцелуя, и, восстановленный в ее
милости, я имел честь эскортировать ее к придворным.
Моя опала дала мне полезный урок: употреблять свои силы на служение
лишь достойным — только так можно сохранить друзей и не обрести врагов.
Я научился верно судить об окружающих меня людях, презирать их лесть и,
не возносясь слишком высоко, лишать их возможности, при неблагоприятных
поворотах судьбы, сбросить меня слишком низко. Парламент настоятельно
побуждал королеву к браку, и она обещала обдумать это предложение. Ее
сердечная расположенность позволяла мне надеяться, что она придет к
заключению, благоприятному для меня, как вдруг несчастный случай
опрокинул все мои планы и надежды, и я повергался в трепет всякий раз, как
королева обращала речь ко мне, боясь услышать из ее уст то самое решение, что
еще совсем недавно было пределом моих желаний.
Сэр Уолтер, глава семейства Деверо, недавно пожалованный титулом
графа Эссекса, был послан в Ирландию на усмирение мятежников и там
женился. Он вернулся ко двору, чтобы представить свою молодую жену, и, едва
взглянув на нее, я ощутил в сердце своем чувство, мне дотоле неизвестное. Я
жаждал быть замеченным ею, завидовал окружившим ее придворным и,
однако, не решался приблизиться к ней, а будучи представлен, произнес свой
комплимент неверным голосом, с видом робким и нерешительным. Холодное
достоинство ее обращения и то, что она, тотчас отвернувшись от меня,
заговорила с лордом Сэндсом, показалось мне оскорбительным до крайности. Я
припомнил все, что говорил и делал, но ни в речи своей, ни в поведении не
найдя ничего необычного, назвал ее про себя избалованной особой, которой
лесть и случайный успех вскружили голову. Я удалился вместе с королевой,
не обращая более внимания на леди Эссекс. На тот вечер был назначен бал, и
я оделся к нему на несколько часов раньше, чем следовало, после чего мне
стало казаться, что часы остановились. Не сомневаясь, что смогу уязвить
леди Эссекс, я решил непременно сделать это, и даже ее муж казался мне
причастным к нанесенному мне оскорблению, хотя упрекнуть его мне было не в
чем, кроме того, что он ее муж. Так или иначе, с удовольствием или с гневом,
но я не мог думать ни о чем, кроме нее, и, хотя оставался дома так долго, что
устал, ожидая назначенного часа, в гостиной у королевы оказался первым.
Королева, узнав, что я пришел, довольная моим вниманием, которое
отнесла на свой счет, послала звать меня к себе в рабочий кабинет. Среди
прочих вопросов она спросила, как понравилась мне леди Эссекс, и мое
нелестное суждение выслушала не без удовольствия: сама будучи мастерицей
язвительно высмеивать, она ценила этот талант в других.
Мы вошли в комнату одновременно с прелестной новобрачной — еще
более прелестной в роскошном наряде. Королева обернулась ко мне (я стоял,
облокотившись о спинку ее кресла) со словами:
— Я думаю, милорд, мне следует взять на себя смелость назначить вас
танцевать с леди Эссекс, чтобы весь двор имел возможность оценить, какую
превосходную пару я ей подобрала.
— Мне кажется, — возразил я, — что Ваше Величество обещали мне честь
и удовольствие быть вашим эскортом. Леди Эссекс, несомненно, выбрала для
себя гораздо лучшую пару.
— Лорд Лейстер, государыня, — иронически заметила леди Эссекс, —
постоянен в своем мнении обо мне, но на этот раз я с ним согласна.
Сказав это, она подала руку мужу, который предоставил честь танцевать с
нею молодому Сесилу. Пораженный этой колкостью, ничем, на мой взгляд,
не объяснимой, я погрузился в мрачное раздумье, из которого меня вывела
королева, спросив, не кажется ли мне, что остроумие леди Эссекс склоняется
к злоязычию. Я отвечал, что, лишь узнав, умна ли она, смогу судить о ее
остроумии, но что пока ее речи для. меня совершенно невразумительны.
— Как, милорд! — воскликнула королева, опершись о подлокотник и
подняв на меня глаза. — Разве вы не знаете, что в девичестве она — мисс Лине-
рик?!
Какой невероятный смысл заключался в этих словах и какой переворот
произвели они в сознании моем! Узнать, что я отверг и, отвергнув, оскорбил
женщину, от которой должно было зависеть счастье моей жизни, неприязнь
которой положила начало моим страданиям! Любовь и бесплодные
сожаления переполняли мое сердце; я восхищался ее язвительным отпором, столь
заслуженным мною, и признавал, что она не могла презирать меня за мою
глупость сильнее, чем презирал себя я сам. Не слыша обращенных ко мне
речей королевы, я в запоздалом и тщетном раскаянии неотступно следовал
взглядом за прекрасной молодой женой графа Эссекса, пока прихотливый
рисунок танца не померк в моих глазах и я в порыве отчаяния не ударился
лбом о спинку королевского кресла, после чего, вынужденный дать
какое-нибудь объяснение своему поступку, сослался на головокружение и удалился.
Мои тягостные размышления о случившемся были прерваны лекарем
Елизаветы, которого она любезно прислала ко мне. Он с легкостью изобрел
причину недуга, который его искусство не могло ни определить, ни исцелить,
распорядился отворить кровь и оставил меня отдыхать. Королева неоднократно
посылала справиться о моем здоровье, когда же я, во исполнение долга,
явился к ней в следующий раз и она вдруг отослала свиту, мне впору было слечь
снова. В тревожном замешательстве я едва осмелился поднять на нее глаза,
не представляя, на что решиться. Наши взгляды встретились, и в ее глазах
мне почудилась та же нерешительность. Наконец Елизавета прервала
затянувшееся молчание.
Она "объявила мне, что после долгих и серьезных раздумий поняла, что,
хотя и отдает мне предпочтение перед всеми мужчинами, не может сделать
меня счастливым в браке и не может быть счастлива в нем сама; что, уступив
своей сердечной слабости, она безвозвратно утратит в глазах окружающих
свою прославленную мудрость; что, следуя велениям своей мудрости, она
всегда сможет, оставаясь незамужней, подчинять своей воле других монархов,
внушая им то надежду, то опасения, и что падение престижа нанесло бы ей
слишком чувствительный урон.
— Лейстер, — сказала она, — вам открыты мои истинные мотивы и
помыслы. Я знаю — вы любите меня и мое решение причинит вам горе. Будьте же
утешены тем, что я никогда не выйду замуж за другого, как бы ни был высок
его сан. Порукою в том — мое королевское слово. А потому знайте: все
матримониальные переговоры, что ведутся сейчас, — лишь бочки, бросаемые перед
китом. И помните: дружба Елизаветы возвысит вас не меньше, чем возвысил
бы ее выбор.
Я поцеловал протянутую мне руку с видом крайней угнетенности. На деле
же с души моей свалился тяжелый камень. Я сделал вид, что восхищаюсь ее
силою духа, повергшей меня в отчаяние, и безмерно польстил тщеславию,
заменявшему ей подлинные чувства. Меня поразило, однако, требование дать
ей торжественное обещание не жениться без ее согласия: я счел это
требование себялюбивым и деспотическим, несовместимым с нежностью сердца.
Весь двор узнал, что я утратил свои надежды, не утратив влияния. Верная
своему слову, королева оказывала мне постоянное и явное предпочтение
перед всеми, а для меня оно было желанно лишь потому, что делало более
лестным мое поклонение очаровательной леди Эссекс, чей чрезмерный гнев
давал мне некоторую надежду. Сохрани она вежливое безразличие, я отступил
бы, признав неудачу, но мужчина вполне может надеяться заслужить
прощение, если женщина хранит оскорбленный вид. Я делал все мыслимые уступки
ее гордости, и удовольствие, которое она находила в том, чтобы унижать
меня, постепенно включило меня в круг ее счастливого довольства.
Мне следовало бы, милые дамы, пощадить вашу девичью скромность и
избавить вас от описания предосудительной и греховной любви, но тогда было
бы невозможно продолжение моего рассказа. Было в поведении леди Эссекс
капризное легкомыслие, пробудившее ревность в ее муже, а она, с детства
приученная ко всяческому потворству своим прихотям, не выносила никаких
стеснений и ограничений и тем вернее оказалась в моей власти. Вера в то, что
я один был любим ею и сам вынудил ее избрать мужем другого, в моих
глазах облекала ее достоинством даже в падении. Краткие часы наших тайных
встреч были исполнены самой пылкой страсти. Я ревновал ее почти наравне с
мужем и готов был благословлять недоверие, все чаще побуждавшее его
удерживать ее взаперти, даже когда это касалось меня, поскольку это
начисто исключало всех остальных. Чем реже я видел ее, тем более нетерпеливо
стремился к ней; когда же ее муж получил назначение командовать войсками
в Ирландии и деспотически решил везти ее с собой, мы с ней были равны в
страсти и горе. Ничто при дворе не могло возместить мне утраты, и если бы
королева не повелела мне отправиться к войскам в Нидерланды, не знаю,
долго ли я сумел бы скрывать пустоту в моем сердце, когда исчезла та, что
заполняла его собой.
Прошло несколько лет, проведенных мною в разных странах, и я не
виделся с ней, пока безвременная кончина мужа не побудила ее переселиться в
Англию. Едва проведав об этом, я воротился домой. В обстановке печального
вдовства, которая ее окружала, добиться встречи с ней было нелегко, но я
сумел пробраться в дом переодетым. Сквозь вдовий траур красота ее сияла еще
ярче, и моя любовь невольно выдала себя пламенными речами и ласками.
Она плакала и, уклоняясь от моих объятий, уверяла меня, что в жизни своей
сожалеет единственно о несчастной привязанности, запятнавшей ее
невинность, и готова искупить ее вечным покаянием. Все мои мольбы были
тщетны. Она устремилась прочь от меня, за дверь, где, как она сказала, находился
ее брат, мистер Линерик. Тот мгновенно ворвался в комнату и потребовал
объяснить, по какому праву я пытаюсь удерживать ее. Я искренне ответил,
что делаю это по праву влюбленного. Думаю, что я сумел расположить к себе
этого молодого ирландца, добыв для него на следующий же день
значительный пост. Я без труда понял, что целью ее был брак со мною, от которого по
многим причинам, а более всего из-за обещания, данного мною королеве, я
желал уклониться. Потянулись бесконечные переговоры, вследствие которых
моя склонность к ней возросла настолько, что я предал забвению ее ошибку.
Тщеславие нередко склоняет великодушного человека простить
прегрешение, совершенное из-за него и ради него. Леди Эссекс весьма благосклонно
выслушала почетное предложение и в Гринвиче отдала мне свою руку, столь
долго и страстно желанную.
Всячески стараясь скрыть это событие от королевы, которая неуклонно
предъявляла на меня права ревнивой любовницы, хотя и отклонила это
звание, я лишь изредка навещал молодую жену, и чувство мое скорее росло,
нежели убывало. Я был истинно счастлив лишь рядом с нею, потому что в ее
отсутствие ежечасно испытывал невозможность быть счастливым без нее.
Вернемся на минуту к несчастной Матильде. В тот миг, как лорд Лейстер
назвал имя дамы, сердце подсказало мне, что это его жена. Сгущавшийся
вечерний сумрак, к счастью, не позволял разглядеть, как менялось выражение
моего лица, но подавляемое сердечное волнение взяло наконец верх над
моим мужеством, и в этом месте его рассказа я откинулась на спинку кресла —
если и не в обмороке, то почти без чувств.
Встревоженный лорд Лейстер вместе с перепуганной Эллинор стал
приводить меня в сознание. Я же, опасаясь, что полные слез глаза выдадут боль
моего сердца, сослалась на нездоровье и испросила разрешения удалиться в
свою спальню. Он принес многочисленные извинения за то, что утомил меня,
но ответить ему могла лишь Эллинор. Как только он оставил нас, я дала
волю неодолимой печали и, обняв сестру, горько заплакала. Ее слезы
великодушно смешались с моими: казалось, души наши слились воедино, не
нуждаясь в словах.
— Я понимаю тебя, моя милая сестра, — сказала она, — и пощажу твою
скромность. Но нужно мужество, чтобы выслушать весь рассказ, и ведь эта
дама не бессмертна. Побольше верь в себя и в свои надежды, моя дорогая
Матильда. Для тебя Эллинор становится предсказательницей и утверждает, что
вы рождены друг для друга.
Она не сумела развеселить меня своей шуткой. Известие тем сильнее
поразило меня, что я бог знает почему (не потому ли, что все мы охотно верим в
желаемое?) совершенно упустила из виду такую возможность, строя свои
предположения. Я провела всю ночь, расхаживая по комнате и горько
жалуясь на свою судьбу. «Он женат! — воскликнула я. — Эти бесценные сердце и
рука принадлежат другой. О милосердное Небо! Неужто я унаследовала
судьбу матери вместе с ее чертами? Неужто беззаконной страсти суждено быть
преступлением и бедствием всей моей семьи? Так пусть же страсть эта будет
похоронена в груди моей. Да! — гордо воскликнула я. — Пусть я буду
несчастна, но не подам повода к порицанию: дочь Марии будет достойна Стюартов.
Когда прославленный Лейстер вернется в мир, он вспомнит этот невинный
приют с благоговением и семья Говардов будет по-прежнему дорога его
сердцу. О, пусть благополучно возвратится он к счастливейшей из жен, я же
похороню свою юность в уединении, милом моему сердцу тем лишь, что некогда
он нашел здесь приют». Но тут чувства брали верх над разумом, и бурные
потоки слез смывали все благие решения.
Увы, я забываю, для кого пишу. Язык и мысли влюбленных, должно быть,
всегда одни и те же, и свои излияния я могу оправдать лишь тем, что нежное
сердце найдет печальное удовольствие в том, чтобы распознать свои
собственные чувства, сокрытые чужим именем.
На следующий день лорд Лейстер в обычный час возобновил свое
повествование:
— Военные действия в Нидерландах удерживали меня за границей по
полгода, а остальное время я делил между жизнью при дворе и своей женой.
Вероятно, чувство безопасности породило у меня беспечность, и посол Франции,
придворные круги которой были заинтересованы в том, чтобы лишить меня
благосклонности королевы, видя во мне главное препятствие к ее браку с
герцогом Анжуйским, с помощью неведомых мне хитростей вызнал тайну моей
женитьбы, о которой тут же уведомил Елизавету. Как-то утром я имел
несчастье выслушать самые недвусмысленные изъявления ее неудовольствия, так
как в гневе она была известна крайней несдержанностью речи. Свои
ядовитые упреки она завершила приказанием, чтобы я вернулся к армии в
Нидерланды и не смел возвращаться без ее дозволения. Ошеломленный
раскрытием своей тайны и необузданностью ее поведения, я откланялся и удалился, не
пытаясь и слова сказать в свою защиту. Королева отчасти искупила
обращенную на меня ярость тем, что продолжала упрямо отказывать герцогу
Анжуйскому, тем самым жестоко разочаровав французского посла.
Не имея более надобности хранить тайну, моя свита препроводила леди
Лейстер в замок Кенильворт, где она могла в полной безопасности ожидать,
когда утихнет гнев королевы. Я же, повинуясь приказу, отправился в
Голландию. Вскоре я узнал, что главная причина, по которой Елизавета не спешит
вернуть меня, заключается в необходимости простить в таком случае мою
жену, на которую она, по необъяснимой прихоти, перенесла все свое
негодование и которую надеялась наказать тем, что длила нашу разлуку. Время и
множество причин делали нашу переписку нерегулярной, и целыми месяцами я,
если только не посылал нарочного, не имел никаких вестей о той, которая
была мне столь дорога. Я несправедливо винил в этих перебоях поочередно то
королеву, то своих недругов, и возмущенный неблаговидным мотивом моего
изгнания, решил проникнуть в Англию инкогнито и увезти леди Лейстер в
Нидерланды или, если она того не пожелает, попытаться умилостивить
королеву.
Я осуществил этот план столь удачно, что мое появление в собственном
замке было полной неожиданностью для леди Лейстер, которая не покидала
своих комнат по причине нездоровья. Мне показалось, что радость ее была
близка к печали, но я приписал эту странность болезни, и мысль об этом
посетила меня лишь на мгновение. Красота ее, казалось, поблекла, но, объясняя
для себя эту перемену ее тоской по мне в мое долгое отсутствие, я ощутил к
ней еще большую нежность. Она рассказала, что ужас, который она
испытывает перед Елизаветой, сделал ее чуть ли не пленницей в собственном доме,
где она провела год и три месяца в полном одиночестве, скрашенном лишь
присутствием брата, который, по доброте душевной, последовал за нею в
здешнее уединение, чтобы помочь ей справиться с толпою неуправляемых
слуг, не привыкших видеть в ней хозяйку. Я выразил свою признательность
Линерику и подарил ему превосходный бриллиант, некогда пожалованный
мне на государственной службе.
После долгого отсутствия мое жилище, где искусство и природа слились,
придавая друг другу прелесть новизны, показалось мне райским убежищем
от шума и беспорядка бивуачной жизни. Половину дня я провел, осматривая
сады и отдавая распоряжения о необходимых работах.
Ранним вечером, почувствовав неодолимую усталость, я согласился на
уговоры леди Лейстер пойти к себе и прилечь отдохнуть хоть на часок. Я
проспал несколько часов, когда мой камердинер Ле Валь вдруг рывком раздви-
нул занавеси полога с видом человека, принесшего страшную весть, и с
мольбой не гневаться на столь грубое нарушение приличий.
Изумленный сверх меры, я попросил его прийти в себя, ибо, пока он
пребывает в таком смятении, я не смогу положиться на основательность его
известий, какими бы благими побуждениями он ни руководствовался.
— Простите меня, милорд, — сказал он, — но ради вашей безопасности я
вынужден взять на себя смелость — для подтверждения правдивости
злосчастных известий, сообщить которые мне повелевает долг, — задать вашей
светлости вопрос: заметили ли вы, что почти все ваши слуги сменились?
Сейчас, когда вопрос был задан, мысль эта поразила меня, хотя по
приезде я не придал этому значения.
— Нет, нет, милорд, — горячо продолжал он, — здесь кроется дьявольский
замысел.
— Остерегись в своих намеках, Ле Валь, — прервал его я. — Если ты, не
имея доказательств, осмелишься чернить...
— У меня слишком веские доказательства, — возразил он, качая
головой, — но я схороню их в своей груди, если вы ответите утвердительно на мой
следующий вопрос. Убеждены ли вы, милорд, что человек, которого миледи
зовет братом, действительно ее брат?
Я заколебался.
— Будем надеяться, что нет, милорд, — продолжал он с горячностью. —
Иначе это противно законам человеческим, ибо, Бог свидетель, они слишком
близки между собой.
Эта мысль поразила меня ужасом. Сердце мое замерло и невольно
утвердило меня в догадке, подкрепленной слишком многими обстоятельствами. Ее
склонность к уединению происходила скорее от этой ее привязанности, чем
от любви ко мне, и даже само замужество было благородной завесой для
греховной связи. У меня не было ни сил, ни желания остановить моего бедного
слугу, который продолжал в своем честном усердии:
— Из всех слуг, что издавна были при вашей светлости, осталось лишь
двое, остальные — толпа буйных ирландцев из тех же краев, что брат и
сестра, и потому преданных им. Дворецкий признается, что сохранил свое место
лишь молчанием и покорностью, а дама Марджери, домоправительница, —
тем, что посвящена во все секреты миледи. Но дворецкий поклянется, что
миледи состоит в связи с Линериком и что ваше возвращение не только не
желанно им, но встревожило их безмерно, ибо миледи в любую минуту может
разрешиться от бремени. И это не все.
— Дай мне дух перевести, Ле Валь! — взмолился я. — Твое ужасное
известие ошеломило меня.
— Даже если бы вы пронзили мне грудь мечом, я не смог бы молчать,
милорд, зная, что вас обманывают. Но я опасаюсь худшего — я боюсь, что сейчас
злоумышляют на вашу жизнь: в комнате у Марджери миледи распоряжается
приготовлением карпа, как вы любите, а я видел, как слуга Линерика
отправлялся в Ковентри и только что вернулся оттуда, чуть не загнав коня.
— Ну, хорошо, — сказал я. — Не сомневайся, я обдумаю все, что от тебя
услышал, и не прикоснусь к этому блюду.
— Ах, милорд, это лишь убедит их в том, что вы заподозрили их
дьявольское намерение, а набранные ими слуги — это настоящая армия в доме. Если
милорд готов послушать совета своего слуги, то у меня есть план, который не
будет иметь дурных последствий, если не замышляется ничего дурного, в
противном же случае — зло падет лишь на головы тех, кто его задумал. Второе
такое же блюдо можно будет поместить на нижнем конце стола. Когда ужин
будет подан, я притворюсь пьяным и затею потасовку в дверях. Миледи и ее
брат, конечно, встревожатся и станут наводить порядок. Дворецкий между
тем поменяет два блюда местами, и тогда миледи отведает кушанья
собственного приготовления, а далее — будь что будет.
План был сам по себе столь невинным и ловко придуманным, что я дал
свое согласие, и Ле Валь, довольный тем, что сумел все высказать, удалился.
Он, несомненно, облегчил свою душу, но какой груз он взвалил на мою! Одна
эта мысль наполняла меня безграничным ужасом. Как в любви, так и в
ненависти всякая мелочь мгновенно становится подтверждением. Молчание
друзей, когда было объявлено о моем браке, ее слезы, перемена в ее наружности,
долгое отсутствие писем, в котором я мысленно винил королеву, — словом,
все, в чем совсем недавно я видел неоспоримые доказательства любви, теперь
вставало передо мною как ужасные свидетельства ее вины. И все же, когда
она вскоре вошла в мою комнату и нежно попеняла мне на столь долгое
отсутствие, для меня меньшим мучением было бы принять яд из ее рук, чем
подозревать ее.
Вечер уже наступил и стол был накрыт, когда я вошел в обеденную залу
после своего долгого сна. Ле Валь затеял условленный беспорядок. Моя жена
и ее брат устремились к дверям, куда уже сбежались слуги, увеличивая
суматоху. Верный дворецкий, с которого я не спускал глаз, поменял местами
блюда, как было задумано. Все вернулись к столу. Я заметил, что жена моя
дрожит с головы до ног, — она убедительно объяснила это испугом. Заверив, что
приготовила для меня карпа собственными руками, она настойчиво
предлагала мне отведать его, и я, попросив составить мне компанию, последовал
приглашению. Несколько раз я готов был помешать ей опробовать
подмененного кушанья, но, видя, с каким удовольствием проклятый Линерик провожает
глазами каждый кусок, несущий мне, как он полагал, смерть, я промолчал.
Едва успели убрать со стола, как леди Лейстер упала на пол в страшных
корчах. Совесть заставила Линерика воскликнуть: «Яд, яд!» Были использованы
все известные противоядия, но тщетно. В безнадежном состоянии ее отнесли
в спальню, а я удалился в свою обдумывать происшедшее в одиночестве.
Неопровержимая уверенность в ужасной судьбе, уготованной мне по
возвращении из изгнания, причиной которому послужила она, превратила мою любовь
в ужас и отвращение.
Время от времени леди Лейстер впадала в неистовство, до последнего
мгновения утверждала, что я отравил ее, и под утро скончалась. Чернота ду-
ши передалась телу, а доказательство ее неверности сделалось очевидным.
То ли природа Линерика была менее подвластна яду, то ли он более
умеренно отведал карпа, но признаки отравления он ощутил лишь после ее
смерти. Убежденный примером сестры, что спасения ему нет, он призвал к себе в
комнату всех своих ирландцев-слуг. Верный Ле Валь воспользовался
минутой, чтобы пробраться ко мне и сообщить об этом их совещании, которое, по
его убеждению, должно было иметь роковые последствия, если только я не
соглашусь тут же сесть на коней, уже приготовленных, и вместе с ним и Уиль-
ямсом отправиться в Лондон, что дало бы мне преимущество первым
сообщить о случившемся и оградило бы от их жестокой мести. Дворецкий между
тем с помощью арендаторов сможет завладеть замком, как только
разбойники покинут его, отправившись в погоню.
Совет показался мне здравым, и, выбравшись тайком из замка, я вместе с
Ле Валем и Уильямсом поскакал прочь от своих слуг, как худших из убийц, и
от своего замка, как от собственной могилы. Наступил рассвет, и мы, проехав
всего несколько миль, с вершины холма увидели преследователей. Мы
опередили их миль на двадцать, имея более быстрых лошадей, как вдруг,
воспользовавшись неизвестной нам более короткой дорогой, они приблизились почти
вплотную. В ту же минуту впереди показалось величественное строение, к
которому Ле Валь умолял меня поспешить, отдав мне свой плащ, чтобы сбить с
толку злодеев. Нельзя было терять ни минуты. Я углубился в лес и, видя, что
конь становится для меня обузой, предоставил его собственной судьбе. Я
прокладывал себе дорогу в зарослях, отнюдь не уверенный, что иду правильным
путем, когда вдруг имел счастье встретить столь прекрасных спасительниц.
Так заключил свое повествование лорд Лейстер, но о! какая обширная
часть моей жизни исчезла без следа за время его рассказа! Неодолимая
тревога, с которой я следила за развитием событий, нераздельно слила мое сердце
с его сердцем и убедила меня, что никакое различие в положении и в годах не
мешают горячим чувствам юности искать награды. В ответ на его
благородную искренность я пересказала уже известную печальную повесть о нашем
рождении и неопределенной судьбе. Слезы, вызванные нежными и
трогательными чувствами, казалось, падали из моих глаз прямо в его сердце. Его
прекрасные глаза светились великодушным сочувствием, обещая утешение.
Внезапный шум заставил нас поспешно расстаться. Едва мы успели
вернуться в комнату, освященную памятью о миссис Марлоу, как перед нами
предстал отец Энтони. К природной суровости его вида прибавилось
выражение новой скорби. Опустившись в кресло, он долго хранил молчание, которое
из страха, что он проникнет в нашу тайну, я не решалась прервать.
Невозможно описать мое смятение: бледность и румянец сменялись на моих щеках,
я не в силах была поднять глаза на сестру, которая, привыкнув любить и
чтить меня, сжимала мою руку, словно находя в том надежную защиту.
— Несчастные дети! — промолвил отец Энтони с тяжелым вздохом. —
Провидение завершило круг бедственных обстоятельств, при которых вы
появились на свет. Вам суждено столь же длительное заточение, как вашей короле-
ве-матери; у вас есть лишь печальное преимущество выбора. Лорд Скруп
скончался в тюремном заточении и в бесчестье, которыми Елизавета
вознаградила его. Все его земли, титулы, самое место, на котором вы стоите,
отошли в собственность дальнему родственнику. Перед вами — лишь
единственный друг, дряхлый, беспомощный, с каждым днем клонящийся все ближе к
могиле, мысль о которой лишь из-за вас ему тягостна. Быть может, еще
настанет время, когда правами вашей матери будут обеспечены ваши права; до тех
пор все, что я могу сделать, — это тайно переправить вас во Францию под
покровительство семьи Гизов. Их осмотрительность, равно как гордость,
скорее всего побудят их укрыть вас в монастыре.
От мысли об ужасном выборе, заключенном в этих словах, кровь застыла
у меня в жилах и сердце замерло: сделаться изгнанницей из Англии, забыть
лорда Лейстера, быть забытой им, быть отданной на муку в семью Гизов и,
быть может, тиранически заточенной ими в монастырь, сделаться
клятвопреступницей и обманщицей, посвятив себя Богу, когда в сердце царит земной
образ. Все доводы и увещевания, к которым прибег отец Энтони в своей
долгой речи, были потеряны для меня: я видела лишь, как движутся его губы, а
сама в слезах оспаривала перед Небесами правоту его слов. Когда он покинул
нас, было слишком поздно еще раз встретиться с лордом Лейстером. Я
провела ночь в такой тоске, которую никакое время не сотрет в моей памяти, и
утром, не освежив себя ни сном, ни сменой наряда, предстала перед милордом
более похожая на привидение, чем на саму себя. Он взял мою руку и, лишь
взглядом выразив свое удивление, поцеловал ее в нежном молчании. Я не
смела поднять на него глаз, и слезы, стекая из-под опущенных век, падали на
наши соединенные руки. О, как много совершилось в эту минуту молчания!
Мне казалось, я поняла все, что желала понять, и я впервые вздохнула
свободно. Эллинор, которую, в отличие от меня, не удерживали тонкие
соображения деликатности, тотчас сообщила ему об уготованной нам участи и о
своем отвращении к ней. То, как он горячо принял к сердцу наши заботы,
выказало нечто большее, чем дружеский интерес. Он многократно заверил
Эллинор в своем уважении и привязанности. Мне он не сказал ни слова, но дрожь
его руки, все еще удерживавшей мою, была признанием того различия,
которое он делал между нами. Луч радости снова озарил мою душу: в эту минуту
мне верилось, что я снесу любые удары судьбы. Нет, говорила я себе, он
никогда не забудет меня, в каком бы дальнем уединении я ни оказалась скрыта
от него. Это унылое Убежище и дочери Марии в их простых нарядах, с их
безыскусными манерами затмят для него всю роскошь двора, все дары
Елизаветы. В оставшиеся дни его пребывания у нас тихий восторг, не порождаемый и
не выразимый словами, равно наполнял его и меня, сменив беседой глаз и
сердец словесные беседы, и ничто, казалось, не было так далеко от наших
мыслей, как слова, которые мы обращали друг к другу. Так продолжалось,
пока милорд не объявил, что не станет злоупотреблять нашим
гостеприимством долее, чем до следующего утра. Вздох сопровождал эти слова, и мой
вздох был единственным ответом. Эллинор, которая в своем обращении с
ним отличалась свободной непринужденностью человека, чей сердечный
интерес не затронут, убеждала его не спешить покинуть столь надежное
убежище. Он ответил, что охотно остался бы здесь с нами навсегда, если бы не
надеялся вскоре навестить наше жилище более подобающим образом. Оборвав
свою речь с видом нерешительным и смущенным, ясно показывающим, что
он сказал отнюдь не все, что намеревался, и помолчав несколько мгновений,
он продолжал:
— Простите, милые дамы, мое, быть может, слишком настойчивое
дружеское участие. Но так как вы лишились и данного вам природой защитника, и
ваших справедливых надежд, могу ли я просить вас о великой милости?
Повремените решать ваше будущее до той поры, пока я не смогу предстать
перед вами с честью. Мне должно уделить некоторое время восстановлению
своего честного имени, ибо как осмелюсь я притязать на участие в судьбе
прекрасных дочерей королевы Марии, пока надо мной тяготеет позорное
обвинение?
Он еще не кончил говорить, как вдруг послышался кашель отца Энтони.
Эллинор едва успела вывести милорда в одну дверь, когда в другой
показался наш опекун, пришедший проведать Алису, жизнь которой неотвратимо
угасала под бременем усталости и горя, в которые ее повергла утрата
любимой госпожи. Воспользовавшись новообретенным искусством притворства, я
раскрыла первую попавшуюся книгу и сделала вид, что поглощена чтением,
не замечая его, пока он не остановился у меня за спиной. При звуке его голоса
я поднялась в непритворном смятении и, как обычно, пошла впереди него в
комнату Алисы, как вдруг он поспешно окликнул меня и, указывая на пол,
попросил подать ему лежащий там предмет. Невозможно описать словами
чувства, охватившие меня, когда я увидела, что то был портрет Елизаветы,
который граф обронил, поспешно выходя из комнаты. Вместо того, чтобы
повиноваться приказанию, я схватила портрет и попыталась спрятать его на
груди, но отец Энтони силой вырвал его у меня из рук и в лице моем прочел
половину разгадки. Имя и дата на портрете не оставляли сомнения в том, кому
он принадлежал; оставалось лишь узнать, как он попал ко мне. Не имея сил
прибегнуть к женским хитростям и уловкам, едва оправившись от страха и
слез, я сбивчиво и бессвязно рассказала обо всем случившемся. Со своей
неизменной суровостью отец Энтони осыпал меня упреками.
— Легкомысленная девушка! — восклицал он. — Как не удержала тебя
обыкновенная осмотрительность?! Святая, которую я не устану оплакивать,
заживо похоронила себя здесь, оберегая тайну. И вот — едва прах ее
упокоился в земле, как тайна раскрыта по прихоти ребяческого любопытства! Как
можно довериться фавориту Елизаветы? Цель его несомненна — лестью
расположить к себе тех, в чьих руках сейчас находится его жизнь, а потом
выдать их и возвыситься, тайно и окончательно сгубив род Стюартов.
Осторожность требует, чтобы мы обезопасили себя, оставив его здесь навсегда.
— Лучше я погибну на плахе, где кончил дни свои мой отец! — вскричала я
в порыве любви и скорби. — Позволь мне, о Господи, скорее принять мучения
за грехи человеческие, чем стать их соучастницей! Как! Неужто мы будем
бесчеловечнее убийц, от которых его спасли? Простите, отец Энтони, —
продолжала я, успокаиваясь, — но вам неизвестны ни жизнь, ни сердце лорда
Лейстера. Он не только далек от предательства, но желает стать нашим
покровителем и защитником.
— Да, как волк при ягнятах, — язвительно возразил отец Энтони. — Кто,
кто способен по доброй воле взять на себя заботу — руководить молодыми
жизнями? Несчастное дитя, — продолжал он, — неужто вместе с чертами
матери ты унаследовала ее недостатки? Безвольная слабость, подобная твоей,
подорвала ее моральные устои, оставила на ее жизни пятно, которое время не
может стереть. Но если ты не можешь быть более добродетельной, чем она,
будь, по крайней мере, более осмотрительна.
— Довольно, отец Энтони! — воскликнула я с гордым достоинством, и,
пораженный, он умолк. — Не губите доброго намерения ваших поступков
предположением, против которого восстает душа моя. Никогда не позволю я себе
сказать слово в осуждение моей матери, но еще менее позволю я себе
заслужить осуждение постороннего мне человека. Возможно, я совершила ошибку,
но совершила ее по невинности, и никогда в жизни моей не было более
благородной цели, чем спасти жизнь лорду Лейстеру.
Нет ничего опаснее, чем судить юную великодушную натуру слишком
сурово: она тогда мгновенно замыкается в себе и восстает против подозрений,
которые полагает незаслуженными. Потрясенная высказанными им
сомнениями, я вдруг ясно осознала, не испытывая при этом стыда, пристрастие, в
котором едва ли прежде осмелилась бы признаться себе.
Убедившись по моему поведению, что утратил былое влияние на меня,
отец Энтони приказал Эллинор привести к нему лорда Лейстера и пожелал
говорить с ним наедине. Я удалилась, хотя и неохотно, не желая
окончательно раздосадовать его. Зная, как несправедливы могут быть люди, я опасалась,
что он может оскорбить лорда Лейстера, а тот, не различив правого и
виноватого, навсегда отвернется от нас. Разве не враждуют часто целые семьи — и
даже передают вражду из поколения в поколение?
Их разговор длился целых два часа, я считала минуты в мучительном
ожидании. Наконец отец Энтони вошел в комнату и, отослав Эллинор
занимать лорда Лейстера, попросил меня собраться с мыслями и выслушать его.
— Как ни оскорбительны могут показаться тебе мои подозрения, молодая
особа, — сказал он, — я осмелюсь предположить, что больше знаю свет,
проведя в нем молодость, чем ты, почти не покидавшая этих стен. И лучше было
бы, если бы ты их никогда не покидала. Если я скажу тебе, что вельможа,
которого вы спасли, просит твоей руки, ты станешь тешить себя
всевозможными романтическими выдумками и вообразишь, что им руководит любовь,
столь же безоглядная, как твоя. Может быть, это отчасти так, а может быть —
он вспомнил, что твоя мать — ближайшая наследница английской короны,
что она может умереть в тюрьме, что всегдашняя неприязнь англичан к
правителям-иноземцам может возобладать над правами твоего брата Иакова, и
тогда граф Лейстер удовлетворит свое честолюбие благодаря предпочтению,
которое будет отдано тебе. Суровая необходимость, вызванная тем
неограниченным доверием, с которым ты посвятила его в свои интересы, делает для
меня излишним перечислять все те веские возражения, которые я мог бы
привести против тбоего союза с ним. Недавняя утрата жены, как я понимаю,
делает возможным его брак с тобой. Ты не оставила себе иной возможности,
кроме как выйти за него замуж, и я не дам согласия на его отъезд из этого
убежища, пока контракты, которые я сам продиктую, не будут торжественно
подписаны и брак не будет заключен по всем правилам.
Вообразите, сударыня, что чувствовала я во время этой речи. О, отец
Энтони, так ваше суровое повеление было вестью о счастье? В один миг из
бездны отчаяния вознестись на вершину блаженства! Узнать, что благородный
Лейстер готов еще раз пожертвовать своей безопасностью ради любви, еще
раз рисковать опалой, из которой он пока не возвращен, возвысить меня из
полной безвестности, ах, возвысить до себя — выше трона моих предков!
Сладостная надежда когда-нибудь вознаградить его нежность ко мне,
порожденная речью отца Энтони, только и запомнилась мне из всего сказанного
им. Короны и скипетры, эти игрушки в руках любви, являлись мне в
воображении, и слезы счастья текли по моим пылающим щекам, а я повторяла про
себя слова Миранды: «Как я глупа, я слезы лью от счастья».
Рассудив и обдумав все обстоятельства, отец Энтони немного смягчился:
он увидел, что вскоре освободится от бремени опеки над нами, которую его
иссякшее состояние и преклонные годы делали непосильной. Любезный и
обаятельный Лейстер присоединился к нам, и мы, избавившись от гнетущих
тревог, провели вечер, исполненный столь утонченного очарования, что, если
бы мне дозволено было пережить заново один вечер в моей жизни, я выбрала
бы этот как самый счастливый.
Честь и интересы милорда требовали его возвращения ко двору, и отец
Энтони, должным образом подготовив брачные контракты, настаивал на
моем согласии. Его требования и желания лорда Лейстера в сочетании с этими
вескими причинами одержали верх над моими представлениями о декоруме,
и брак был заключен, к полному удовлетворению всех присутствующих.
Крайняя необычность положения одна только и могла оправдать такую
брачную церемонию, но я была рождена, чтобы повиноваться. По природе
своей я была тиха и кротка и свои несбывшиеся желания оплакивала
безмолвно. Как только первый порыв счастья сменился раздумьем, мысли о
матери стали все чаще приходить мне на ум. Лишенное ее родительского
присутствия, более того — лишенное ее согласия, мое свадебное торжество
утратило половину своей священной значительности. Я горестно сравнивала ее
судьбу с моей: долгое заточение подорвало ее здоровье, и душа ее утратила
надежду на освобождение, я же, хотя и заточена в более тесных пределах,
обладаю здесь всем, в чем может возникнуть нужда, и согласилась бы
оставаться здесь всегда.
Но честь и благополучие милорда требовали иного. Наш слуга Джеймс
тотчас по окончании свадьбы отправился в замок Кенильворт, который, как
он сообщил, воротясь, находился в руках верных арендаторов, сумевших, из
всех слуг, удержать лишь даму Марджери. Презренное орудие своих
бесчеловечных повелителей, она более страшилась мысли о позорной смерти, чем
сознания совершенного ею преступления, и попыталась окончить свои дни с
помощью остатков снадобья, которое приготовила для своего господина, но
была изобличена, дав тем самым еще одно подтверждение своей вины. В страхе
и отчаянии она исхитрилась ночью удавиться. С ее смертью милорд утратил
одно из доказательств своей невиновности. Его присутствие при дворе стало
настоятельно необходимым. Семья Линерик, получив известие о
прискорбной гибели брата и сестры от слуг-ирландцев, их соучастников в
преступлении, увезла трупы якобы для того, чтобы предать земле, но все еще хранила
их на попечении лекарей, не зная, что предпринять.
Разделив судьбу моего возлюбленного, я не находила покоя даже в его
объятиях: непрестанными увещеваниями я побуждала его к отъезду,
решительно отказываясь сопровождать его, и, хотя из любви ко мне он уговаривал
меня ехать вместе с ним, рассудок подсказывал все опасности такого
решения. Могла ли Елизавета, разгневанная его женитьбой на равной, простить
его, когда он кровно породнился с ней, а как смогли бы мы сохранить тайну,
которую ему с первого взгляда выдали черты моего лица? Не имея иных
желаний, кроме желания провести жизнь рядом с ним, я не нуждалась ни в чьем
более признании и почитании и не прельщалась честью носить титул,
который был дорог мне лишь тем, что принадлежал ему.
Глубокая неприязнь, с которой я была приучена относиться к ныне
правящей королеве, возможно, повлияла на мои решения. Прежде чем отдать руку
лорду Лейстеру, я взяла с него слово, что он никогда не повезет меня ко
двору. Он с готовностью обещал мне это, так как моя просьба отвечала его
намерениям. Скажу более — в этом счастливом союзе любое возникшее у меня
желание, казалось, готово было исполниться. Для своей дорогой матери (о
которой я думала непрестанно, хотя, решая свою судьбу, не могла просить ни ее
совета, ни согласия) я обрела друга в лице фаворита ее несправедливой
соперницы. Я надеялась, что сумею убедить графа приложить усилия к ее
спасению, и мысленно видела себя у ног матери, счастливую тем, что
способствовала ее освобождению. Увы, сударыня, как можно существовать без этих
неясных воображаемых радостей? Все наши действительные удовольствия
неизмеримо уступают им, так как горести, предшествующие и последующие,
побуждают разум вносить в них поправки. Но фантазия, могучая фантазия,
черпает новые силы в каждом разочаровании, и из пепла умирающей
надежды, подобно Фениксу, восстает новая.
Спустя неделю после свадьбы лорд Лейстер отправился ко двору,
пообещав вскоре вернуться и препроводить меня в Кенильворт, где, как он решил,
я поселюсь вместе с Эллинор. Он менее полагался на благосклонность
Елизаветы, чем на свою правоту перед законом, и отнюдь не намеревался
уклониться от суда, на котором, как он был уверен, невиновность его обнаружится со
всей очевидностью. Он, однако, жалел о необходимости убедить королеву в
том, что обманул ее доверие ради самой недостойной из женщин.
С его отъездом для меня началась жизнь в миру. До сих пор я скорее
глядела на мир, чем жила в нем. Теперь я почувствовала все его тревоги, все
мучительные последствия его нежнейших уз. Поведать ли вам, сударыня, все,
что происходило в сердце моем? Несмотря на полученное мною
доказательство его безграничной любви, я не могла убедить себя в том, что лорд Лей-
стер вернется. Если королева, видя, что он вновь свободен, научившись —
утратив — ценить его, решится взять его в супруги, как может соперничать с
королевской короной бедная девушка, уже принадлежащая ему, оставленная
им в уединении, куда даже весть о его неверности дойдет нескоро? Где может
она надеяться найти справедливость, если повелительница, призванная
блюсти справедливость, сочтет выгодным для себя признать ее неправой? Вся во
власти этого грозного призрака, я несколько дней кряду предавалась
отчаянию столь же безумному, сколь и моя любовь. Эта фантазия сменилась
другой, не менее мучительной. Что, если благосклонность к нему королевы
угасла в его отсутствие, что, если, оскорбленная неповиновением и причиной
этого неповиновения, она примкнула к его недругам? Меня более убеждал он
сам, чем его доказательства, и я опасалась, что он может быть осужден как
преступник, будучи на самом деле жертвой преступления.
Одно из этих предположений было несправедливо по отношению к
королеве, другое — к моему дорогому мужу, и отец Энтони рассеял оба, принеся
мне несколько писем. Я с радостью узнала, что королева приняла лорда Лей-
стера благожелательно, что семейство Линерик, убедившись в его
невиновности, не пожелало вызывать его в суд, дабы он не оказался вынужден сделать
публичным достоянием позорный замысел своей покойной жены. И теперь
ему надлежало соблюдать осторожность лишь в одном: скрывать нынешний
брак более тщательно, чем предыдущий. Поэтому ему придется на некоторое
время отложить встречу со мной — его немедленный отъезд побудил бы
любопытных доискиваться причины.
Мои сомнения исчезли при этих доказательствах его заботы и внимания.
Теперь мне надо было только преодолеть невольную ненависть, возникшую
во мне к нашему Убежищу. Я бродила по его комнатам, нигде не находя себе
покоя. Мыслями я следовала за своим возлюбленным к королевскому двору,
и уединение и тишина, в которых я жила, становились мне все более
отвратительны. Я дивилась самообладанию сестры и завидовала ее спокойствию,
которого я, даже если бы мне было дано вернуться в незамужнее состояние, не
сумела бы вновь обрести.
Наконец настал счастливый час, когда я должна была покинуть свое
уединенное жилище. Лорд Лейстер составил план вместе со мной. В тайну были
посвящены только Ле Валь и еще один слуга. Для всех остальных мы были
две молодые девицы, получившие образование в монастыре, которые, не
чувствуя призвания к монашеству, с согласия и позволения своих друзей,
приехали в замок, чтобы украсить одинокий досуг лорда Лейстера своими музыкаль-
ными талантами. Такой рассказ был бы не лишен достоверности, так как у
меня был прекрасный голос и благодаря стараниям и вкусу миссис Марлоу я
научилась в совершенстве владеть им. Эллинор была лишена этого дара, но она
с таким тонким изяществом играла на лютне, что в наших музыкальных
занятиях мы стали необходимы друг другу. Никогда я не пела так хорошо, как в ее
сопровождении, а она привыкла настраивать лютню по моему голосу, поэтому,
музицируя в одиночку, каждая из нас ощущала неполноту удовольствия.
Любовь лорда Лейстера к музыке, знатоком и ценителем которой он был,
сообщала всему замыслу полное правдоподобие. Некогда он заплатил
значительную сумму за то, чтобы обучить этому искусству двух дочерей своего
управляющего, и молодые женщины привыкли к мысли, что их число со временем
увеличится. Время, которое Ле Валь провел в Убежище, готовя наш отъезд,
казалось вполне достаточным для поездки в монастырь и обратно. Лорд Лей-
стер приезжал несколько раз, чтобы распорядиться приготовлениями, а также
чтобы подбодрить и развеселить нас рассказами о том, как его заботами для
нас приготовлены красивые и просторные помещения. В Убежище, до той
поры спокойном и утомительно тихом, царили спешка и суета. Портреты были
вынуты из рам и через келью отца Энтони отправлены в Кенильворт. По
какой странной прихоти любая вещь кажется дорогой нашему сердцу в ту
минуту, когда мы знаем, что должны утратить ее? Мои глаза невольно наполнились
слезами, когда наступил час отъезда. Знакомая с миром не более, чем
младенец, только что появившийся на свет, как могла надеяться я прожить в нем
годы, такие же безмятежно спокойные, как те, что провела в Убежище? Долгая
привычка облекает места очарованием, вернее сказать, это делают
населяющие их люди, мне казалось, что, покидая место, где был предан земле прах
миссис Марлоу, я расстаюсь и с памятью о ней: все вокруг меня было отмечено
какой-либо высокой мыслью или благородным чувством этой прекрасной
женщины. Но я была несправедлива к себе, ибо в сердце своем я пронесла сквозь
все превратности жизни ее возвышенный образ, и только смерть сотрет его.
Расставание с теми, кого любишь, — одно из самых мучительных
испытаний жизни человеческой, но что может делать мучительным расставание с
теми, кого мы не любим? Миг расставания, подобно смерти, стирает в памяти
все неприятности, причиненные ими, и оставляет воспоминания лишь о
добрых поступках. Мы мало теряли, расставаясь с отцом Энтони, но разве мог
он забыть, что теряет в нас? Его преклонные годы и слабое здоровье
требовали внимания к нему людей, движимых чувством уважения, а старания и
заботы, которые он вложил в наше обучение, несомненно, давали ему право на
нашу почтительную признательность. Я испытывала к нему более теплое
чувство, чем сестра, ибо он способствовал моему счастью. Я присоединила свой
голос к уговорам великодушного лорда Лейстера, убеждавшего его поселиться
уединенно в Кенильворте. Но отец Энтони, хотя, казалось, и был глубоко
тронут прощанием с нами, остался тверд в своем решении окончить дни там, где
скончалась его сестра. Джеймс оставался прислуживать ему, й Алису,
больную и немощную, перенесли в карету, увозившую нас.
С собой из Убежища мы не брали ничего, кроме своих украшений,
оставив в нем всю мебель для тех несчастных, которых отец Энтони в будущем
может счесть возможным приютить там.
В вечерних сумерках мы подъехали к замку Кенильворт, где были
встречены женой управляющего и ее дочерьми. Не ведая о разнице в нашем
положении, они обращались с нами как с молодыми особами, надеявшимися
получить от щедрот их господина приличное содержание. Я, хотя и согласилась
играть эту роль, была неприятно поражена вольностью их обращения. Я
могла бы снизойти до них, но оскорбилась тем, что они пытаются возвыситься до
меня. Однако я быстро овладела собой. «Так нужно лорду Лейстеру, и я
приму это с радостью» — таков был мой неизменный довод, обращенный к себе.
Миссис Харт (так звали жену управляющего) хвастливо разглагольствовала о
своем господине, его характере, его качествах, его великолепии, назойливо
привлекая наше внимание к разнообразным украшениям галереи и комнат, и
поминутно оглядывалась на нас, самодовольно ожидая увидеть
подобострастный восторг и удивление людей, непривычных к роскоши. Равнодушие, с
которым мы смотрели на окружающую обстановку, оскорбляло ее чувство
собственной значительности; она неприязненно замкнулась в себе и остаток
вечера провела в холодном и надменном молчании. Ее дочери, не более
приветливые, чем она, мрачно оглядывали наши платья и перешептывались между
собой, исключив нас из общего разговора.
Так я вступила в дом, где вправе была стать хозяйкой. Сердце мое
сжалось. Мне стало казаться, что я уже низведена до положения прислуги, что
лорд Лейстер пренебрег мной. Непривычная к соблюдению
предосторожностей, необходимых для сохранения тайны, я желала, чтобы он при встрече
принял меня в свои объятия. Я взглянула в глаза Эллинор, боясь прочесть в
них упрек в том, что невольно подвергла унижению дочь королевы
Шотландии, но моя милая сестра, из деликатности не желая усиливать мое душевное
смятение, сохранила свой веселый и приветливый тон и применилась к
обществу тех людей, с которыми ее свела судьба.
Под предлогом моей усталости и нездоровья мы попросили проводить нас
в отведенные нам комнаты. Я, возможно, и подивилась бы великолепию их
убранства, если бы прежде мне не довелось видеть комнаты ничуть не хуже.
Как только мы остались наедине с Эллинор, я дала волю слезам, которые до
той минуты сдерживала с трудом. Укрывшись в объятиях сестры, я вдруг
услышала голос лорда Лейстера, и он вернул меня к действительности.
Я мгновенно осушила глаза, не желая укорять его своими слезами. Он вошел
через потайную дверь, и мое горе тотчас сменилось радостью, ибо других
чувств я никогда не испытывала в его присутствии. В великодушной
заботливости, с которой он просил прощения за прием, оказанный нам и
вынужденный необходимостью блюсти тайну, было столько утонченной вежливости,
пылкости и нежности, что сердце мое смирило свою гордость и исполнилось
любви и благодарности.
Мы пожелали моей сестре доброй ночи и, пройдя темный коридор, протя-
нувшийся во всю длину главной галереи, вступили в апартаменты лорда Лей-
стера, равных которым я никогда не видела. Он обладал возвышенным умом,
огромным богатством и изысканным вкусом. Его усилиями
усовершенствовался и украсился этот старинный замок, подаренный Елизаветой: тщательно
выбранное местоположение, стройная архитектура, превосходная мебель
делали его непревзойденным образцом для тысяч других замков. Украшения,
распределенные между покоями всего замка, в комнатах лорда Лейстера
были соединены в гармоническое целое, и он дал мне новое доказательство
внимания, неотделимого от истинной любви: в убранстве своих комнат он не
упустил ничего, что когда-либо вызвало мою похвалу. Ах, сударыня, сколь
могущественны мелочи, утонченно льстящие нежному сердцу и дарящие ему
высочайшие радости!
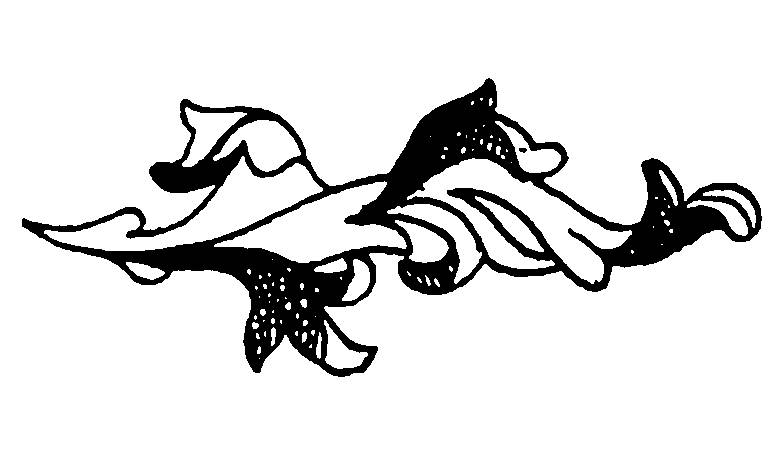

Часть II
Сообщение между нашими покоями происходило в глубочайшей
тайне от всех слуг, кроме Ле Валя и Уильямса, слугами
милорда, в чьей преданности, проверенной недавними событиями, он
был совершенно убежден. Продолжая разыгрывать фарс, на
следующий день мы были представлены лорду Лейстеру, и
очень скоро он с помощью разницы в обращении дал понять
миссис Харт и ее дочерям, что ждет по отношению к нам
известной почтительности. Он распорядился, чтобы они провели
нас по садам и парку и показали нам все, что заслуживает
внимания. По каким разнообразным и прекрасным местам они
провели нас! Это был целый мир в миниатюре. Нашим взорам явилось
изумительное озеро, в зеркале которого отражались деревья, а вокруг на тучных
пастбищах паслись овцы и олени. Лебеди и всевозможные плавающие птицы
резвились на поверхности озера, а островок посредине делали особенно
живописным полускрытые деревьями сельские домики и орудия крестьянского
труда. В том, что покойная леди Лейстер не покидала замка, не было
большой заслуги, ибо ни природа, ни искусство не могли явить ей ничего
прекраснее того, что она видела здесь. Несколько золоченых лодок и небольших
суденышек покачивались на волнах, и отражения их многоцветных вымпелов,
играя на воде, придавали зрелищу еще большее веселье и разнообразие.
Повернувшись в другую сторону, мы увидели готические башни, могучие
бастионы, гигантские статуи — всю величественную панораму замка, столь же
достойную восхищения.
Наши обязанности сводились к тому, чтобы петь для лорда Лейстера во
время обеда, но так как он часто принимал у себя вельмож и дворян, живших
по соседству, то хоры были задернуты муслиновым занавесом, скрывавшим
нас от взоров гостей. Вечерами мы иногда ловили рыбу в озере. Порой лорд
Лейстер, ради удовольствия побыть в нашем обществе, участвовал в
музицировании. Каждый день приносил с собой новые развлечения, а та
сдержанность, которую мы вынуждены были соблюдать, сохраняла даже в
супружеских отношениях деликатность и живость привязанности, часто тускнеющие в
спокойном и бестревожном существовании. Наконец печальная
необходимость заставила лорда Лейстера вернуться к королевскому двору. Он все же
не оставил при мне никого, чье положение казалось бы равным моему, но
распорядился, чтобы один месяц дом возглавляла я, а следующий — моя сестра;
таким образом остальным трудно было решить, кто пользуется его особой
благосклонностью. К тому же мы одевались одинаково с дочерьми
управляющего и так же, как они, трудились над роскошными гобеленами.
Но счастье не могло стереть из моей памяти совсем иную судьбу королевы,
подарившей нам жизнь. Она в то время находилась в заточении неподалеку от
нас. Я уже пыталась употребить в ее пользу все свое влияние на лорда
Лейстера, но безуспешно, и столь благородно-беспристрастна была его
непреклонность, что я, хотя сердце мое обливалось кровью, не могла не восхищаться ею.
«Для всякого другого человека, — говорил он мне, — пытаться освободить
несчастную Марию означало бы лишь проявить неповиновение и подвергнуть
опасности свою жизнь. И я, будь это так, возможно, не сумел бы отказать
моей Матильде, но вспомни, любовь моя, для меня это означало бы еще
предательство и самую черную неблагодарность: я уподобился бы змее, смертельно
жалящей великодушное сердце, пригревшее ее. Никогда не прибегай к голосу
добродетели, чтобы склонить меня к пороку: что для тебя — долг, для меня
было бы тяжким преступлением, и как могла бы жена верить в мою честь,
если бы я оказался способен предать милостивую повелительницу».
В ответ на это я пыталась убедить его, что единственное мое желание —
вернуть моей матери свободу, которой восемнадцать лет назад ее лишили,
неслыханно злоупотребив ее доверием. Я заверяла его, что теперь, зная, как
остры тернии, таящиеся в короне, она более не пожелает носить ее.
«Ах, дорогая моя Матильда! — восклицал он. — Как мало знаешь ты об
ужасных чувствах — зависти и мести! Позволь мне, лучше, чем ты, знающему
характер твоей матери, судить об этом. Слишком она горда, слишком
любила царствовать, чтобы безропотно простить свое заточение. Предположим
даже, что, устав от бед, которые влечет за собой корона, она сможет победить
свое справедливое негодование и искать лишь тихого пристанища для себя и
своих детей, где могла бы она мирно окончить свои дни. Этого никогда не
допустит ее родня. Честолюбие Гизов известно всем. Они использовали бы ее
имя и сотворенную с ней несправедливость, чтобы пошатнуть трон
Елизаветы, и тогда, вместо того чтобы оберегать королеву, как мне повелевает мой
долг, я имел бы несчастье видеть свою страну, раздираемую ужасной смутой,
начало которой положил бы я сам. Кто знает, моя дорогая Матильда, среди
всех этих бедствий сумел ли бы я сохранить душевное равновесие? Что, если
бы в раскаянии вспомнил бы я роковой совет, увлекший меня по ложному
пути, и тебе пришлось бы, слишком поздно, оплакивать свое счастье, принесен-
ное в жертву неверной надежде одарить счастьем мать? Не забудь, что годы
Елизаветы идут под уклон, и самим ходом жизни могут осуществиться все
твои желания. Сострадание к Марии сохранялось в народе все эти
семнадцать лет, и, случись так, что мы потеряем Елизавету, даже заточение
обернется для Марии благом, удержав ее в самом сердце страны, трон которой она
по закону наследует. Это не просто смутные предположения — пример самой
Елизаветы подтверждает такую возможность».
Что могла я противопоставить столь справедливым суждениям? Я могла
лишь вверить судьбу моей дорогой матери Тому, в чьей власти было
сокрушать могущественных и возвышать слабых.
Все письма моего супруга были полны жалоб на скуку придворной жизни,
все они дышали глубокой любовью. Он часто просил заверить его, что я
счастлива, когда же я подчинялась этой просьбе, он, по любовной прихоти, корил
меня за то, что я счастлива без него. Он желал знать о каждом часе моей
жизни, и хотя половину своего времени я проводила в писании ему писем, он
всегда жаловался на их краткость. Мне он не давал повода к упрекам: казалось,
он то и дело манкирует своими обязанностями при дворе, чтобы позабавить
меня описаниями мелких комических происшествий придворной жизни. Но
даже им не всегда удавалось развеселить меня: моя судьба не подарила мне ни
единого часа ничем не омраченного счастья. В отсутствие лорда Лейстера
случилась беда, наполнившая меня самыми мучительными опасениями.
Моя прелестная сестра, предмет моей гордости и восхищения, была в
высшей степени наделена тем дружелюбным весельем, которое сокращает
расстояние между людьми, принадлежащими к разным сословиям. По приезде в
Кенильворт она — что было естественно при такой перемене в нашей жизни —
дала еще большую волю своему веселому нраву, не предвидя, какую
опасность может тем на себя навлечь.
Лорд Лейстер, уезжая к королевскому двору, оставил управлять жизнью в
замке Уильямса, возвысив его до этой должности и в полной уверенности,
что Уильяме, знавший о нашем браке, позаботится о том, чтобы ко мне
проявлялось должное уважение. Уильяме некогда был солдатом п приобрел
властную манеру, присущую всем мелким воинским начальникам, которая
теперь вполне подходила ему в его новом положении. Должна признаться, мне
он всегда был неприятен: природа не была к нему добра, а сам он ничего не
сделал, чтобы смягчить ее суровость. Он был уже не первой молодости,
грубого телосложения, смугл. Его покрытое шрамами лицо выражало
свирепость, над которой не властен был и лорд Лейстер, как никто владевший
искусством пробуждать в людях уважение и любовь.
И этот-то человек, сударыня, наделенный такими качествами, дерзнул
устремить свой взор на прекрасную Эллинор, в жилах которой текла
королевская кровь. Под влиянием ее приветливой и веселой манеры он утратил
почтительность и осмелился объявить ей о своей страсти и своих благородных
намерениях и домогаться ответного чувства. Сестра хорошо понимала, что ви-
новата в случившемся, но была слишком горда, чтобы потворствовать его
дерзкой свободе поведения. Она удалилась с бесконечным презрением, не
удостоив его ответом, и тотчас пришла ко мне. В ту самую минуту, как я
услышала рассказ о нанесенном ей оскорблении, меня охватило предчувствие
неких страшных последствий случившегося. Я решила немедленно обо всем
уведомить лорда Лейстера, чтобы он смог принять необходимые меры, а до
тех пор ни на миг не отлучаться от сестры.
Но мы имели дело с человеком коварным и бесстрашным. Он позволил
себе неслыханную наглость вскрыть мое письмо и, узнав, о чем оно, задержать.
Между тем, не получая в ответ на свое письмо совета от лорда Лейстера, я
оставалась в нерешительности, терзаясь самоуверенностью этого негодяя,
который, в глазах всех других слуг, оказывал нам честь своим вниманием.
Наконец, как жена графа Лейстера будучи не в силах долее терпеть этого
человека, устав ожидать решения мужа, я воспользовалась случаем представить Уи-
льямсу всю недопустимую дерзость речей о любви, обращенных к сестре
жены его господина.
С полным спокойствием и невозмутимостью он признал свою вину, однако
искусно пытался снять с себя обвинение в непочтительности, ссылаясь на то, в
каком качестве мы прибыли в замок, и высказав предположение, что его
господин возвысил нас из низкой доли, но сравнять с собой мог, разумеется,
только меня. При этих словах вся гордость Норфолка и Марии отразилась в
чертах моего лица, но, к счастью, я опомнилась и отвечала ему сдержанно:
этот злодей, без сомнения, пытался дознаться о нашем происхождении, ибо
вид нашего жилища не мог не внушить ему мысль, что здесь кроется какая-то
значительная тайна.
Не давая воли гневу, я запретила ему в дальнейшем обращаться с
подобными речами к моей сестре, не получив на то дозволения милорда, после чего
хотела удалиться, но он остановил меня и предложил не забывать, что я
разговариваю с человеком, который наделен в замке большей властью, чем я, и к
тому же, как мне известно, владеет очень важной тайной, которой
непременно воспользуется, если я не уговорю сестру принять его предложение, что я
считаю его глупцом, направляя за решением к лорду Лейстеру, что он не
только не намерен обращаться к своему господину с просьбой, но решил
всеми силами помешать ему узнать о происходящем и с этой целью задержал
все мои последние письма.
Как ужасно, сударыня, было мое положение! Одна, не имея иного средства
найти защиту у прочих слуг, кроме как открыв им тайну, которую, как он
хорошо знал, я всеми силами сохраню, я вынуждена была встретить такой
вызов, стерпеть такое оскорбление! Я ничего не могла сделать, минуя Уильямса,
поскольку все домочадцы были у него в подчинении, и, попытайся я каким-
либо иным путем отправить письмо лорду Лейстеру, у меня были все
основания опасаться, что и оно попадет в руки Уильямса.
Таковы были безысходные терзания, омрачавшие жизнь супруги лорда
Лейстера среди всяческого изобилия, в месте, которое воистину можно было
назвать дворцом удовольствий. В таких обстоятельствах я могла бороться
против его предательства и хитрости лишь теми же средствами. Немного
поразмыслив, я сделала вид, что встревожена его угрозами и склоняюсь к тому,
чтобы содействовать его интересам. Я взяла с него клятву сохранить мою
тайну и, со своей стороны, торжественно обещала не выдавать его и попытаться
расположить сестру в его пользу. Мы расстались во взаимном недоверии,
притворяясь, будто полагаемся на искренность друг друга. Я отчасти выполнила
свое обещание, уговорив Эллинор обмануть его ложной надеждой до той
поры, пока возвращение лорда Лейстера не даст мне возможности решить
вместе с ним, как безопаснее всего избавиться от предателя. Она согласилась с
большой неохотой, но было бы жестокостью, ей несвойственной, лишить
меня поддержки в беде, невольной причиной которой она оказалась. Теперь мне
оставалось только найти возможность довести все до сведения своего супруга,
не нарушив слова, ибо впервые в жизни я согрешила двуличием и, подобно
Филоктету, обнаружила, что моя уклончивость сделала наказание ужасным.
Я написала обо всем случившемся лорду Лейстеру и носила это письмо на
груди, с тем чтобы отдать его мужу, как только он вернется, а между тем
продолжала писать ему, как обычно, и отдавать письма Уильямсу. Молчание,
которое я соблюдала об известном предмете, должно быть, внушило ему
доверие, и хотя Эллинор отказывалась немедленно выйти за него замуж, к чему
он стремился, наше спокойное обращение с ним наконец усыпило его
подозрительность.
Измученная ежечасными жалобами на дерзкое поведение негодяя с моей
сестрой, истомленная собственными опасениями, я считала дни до приезда
лорда Лейстера с нетерпением, превосходящим обычное нетерпение
влюбленной. Наконец счастливый день его возвращения настал, принеся мне и
радость и горе, ибо кто мог тогда предсказать все последствия этого дня?
Воспитанный при дворе, где не знал иной воли над собой, кроме монаршь-
ей, лорд Лейстер и перед королевой сохранял гордость, порожденную
благородством его происхождения. Благосклонность повелительницы, которая из
любви к нему не требовала покорности, сделала для него излишним умение
скрывать свои слабости: заботой окружающих было делать вид, что они этих
слабостей не замечают, и это позволяло ему быть фаворитом, не будучи
лицемером. Для тех, кто любил его настолько, чтобы прощать эту ошибку (а
тщеславие я вряд ли назову ошибкой, помня, сколь многочисленны и
разнообразны были преимущества, которыми он обладал), он готов был на все. Пылкий,
щедрый, добросердечный и благородный, раз возымев привязанность к
человеку, он мог рискнуть состоянием, честью и даже самой жизнью для друга, но
теми немногими, кто был достоин этого имени, и ограничивался круг его
привязанностей. Лорд Лейстер был вознесен слишком высоко, чтобы внушать
любовь. Но я опять отвлеклась. Зная причину, вы простите меня, сударыня.
Его прямодушие заставило меня опасаться, что виновный легко прочтет
возмущение в глазах моего возлюбленного, и потому я на несколько дней
повременила с разоблачением. Моя предосторожность увенчалась успехом: Уиль-
ямс знал характер своего господина и, убедившись по его непринужденному и
доверительному обращению, что я сдержала слово, стал полагаться на мое
обещание. То, что ему пришлось отлучиться с поручением, было мне очень
кстати, так как дало мужу время успокоиться. Я оставила письмо на столе в
один из вечеров, перед тем как лечь спать. Лорд Лейстер, бывший в соседней
комнате, вошел следом за мной, но не прочел письмо и до половины, как
испугал меня своим неудержимым гневом и возмущением. Будь этот человек в
доме, не знаю, чем бы кончилось дело, но мои слезы и мольбы в конце
концов смягчили мужа. Он провел в раздумьях два дня, в течение которых я не
знала и не осмеливалась спросить, на что он решился, а потом он овладел
собой, успокоился и, видя, что в сердце моем все еще таятся опасения, просил
меня ободриться, так как нашел способ избавить меня от них навсегда. Я
упросила своего супруга, во всяком случае, тщательно скрывать, что он знает
о случившемся. Это он обещал и обещание в значительной степени сдержал.
Но то ли зная, что ему все известно, я опасалась, как бы он не выдал этого
своей манерой, то ли по иной причине — сказать не могу — знаю лишь, что
при каждом его взгляде и слове, обращенном к Уильямсу после того, как тот
вернулся, сердце мое замирало.
Вся Англия в те дни говорила о сэре Фрэнсисе Дрейке, который снарядил
большой флот против испанцев и готовился отплыть из Плимута. Множество
вельмож и иного люда отправлялось с ним волонтерами, и огромные толпы
со всех концов страны стекались посмотреть на отплытие флота. Лорд
Лейстер, бывший в большой дружбе с сэром Фрэнсисом, собрался проводить его
в путь и для этой поездки увеличил свою обычную свиту, дабы появиться с
почетом и достоинством среди тех, кто его не знает. Так велико было
желание людей всех званий узреть это отплытие, что среди мужской прислуги не
было ни одного человека, который по своей воле остался бы в замке.
Уильяме, которому подобные поездки доставляли живейшее удовольствие, просил
милорда взять его с собой, и, так как Ле Валь по причине болезни оставался в
Кенильворте, лорд Лейстер согласился. Между их отъездом и возвращением
прошло две недели. За это время скончалась бедная Алиса. С ее смертью не
стало одного из свидетелей моего брака. Здоровье отца Энтони было пока
вполне удовлетворительно, как сообщал нам Джеймс, исправно раз в месяц
навещавший нас.
Лорд Лейстер вернулся — и вернулся без Уильямса. Пораженная ужасом,
я едва отважилась спросить, что с ним сталось. Милорд осведомился, не
решила ли я, что он убил мошенника.
— Я лишь отправил его, — с веселым видом пояснил он, — в долгое
путешествие, чтобы он научился хорошенько хранить тайны. Я не нашел иного
способа избавиться от негодяя. Сэр Фрэнсис взялся позаботиться о нем так
надежно, что моя дорогая Матильда может более не опасаться его. Короче
говоря, он помещен под замок в отдаленном уголке корабля, а матросам внушено,
что он безумец. У них нет ни времени, чтобы слушать его россказни, ни ума,
чтобы понять их. Так что, любовь моя, все наши страхи кончились.
«Скорее, начались», — могла бы возразить я, ибо никогда уже более
никакое красноречие не могло успокоить моих страхов. Тысяча несчастных
обстоятельств может разрушить наше спокойствие, но лучше стерпеть их, чем
воздавать злом за зло.
Как ни вынужден был этот шаг, присвоение себе права покарать человека
было, в моих глазах, столь непозволительно, что заставило меня со страхом
ожидать самых тяжких последствий. Все же, поскольку лорд Лейстер,
несомненно, предпринял это, чтобы избавить меня от тревоги, и сделанного было
уже не вернуть, я старалась показать, что успокоилась. К этому меня
призывала и Эллинор, считавшая, что предатель наказан по заслугам.
Прежде чем лорд Лейстер вернулся к королевскому двору, я добилась его
согласия на предприятие, которое обдумывала давно: я хотела свидеться с
матерью, упасть в ее объятия, получить ее благословение. Лорд Лейстер,
готовый исполнить все мои желания, не отказал и в этом, но так как он не мог
содействовать мне открыто, то лишь дал значительную сумму денег для
подкупа стражи и распорядился, чтобы Ле Валь сопровождал нас.
Это был верный человек, полная противоположность предателю Уильям-
су, и если прежде он почитал меня лишь как жену господина, то
впоследствии я своим поведением завоевала его уважение и верность. Он был предан
мне не менее, чем своему господину, и самые значительные услуги
представлялись ему сущими пустяками. Услужливый и исполнительный, он, казалось,
готов был мчаться по поручению до того, как узнает, куда, и не желал иной
награды, чем слово одобрения. Он теперь занимал пост Уильямса, который,
как считалось, добровольно сопутствует сэру Фрэнсису, а в тайну его судьбы
были посвящены лишь лорд Лейстер, моя сестра и я.
В сопровождении Ле Валя мы с замиранием сердца отправились в
Ковентри. Нам предстояло свидание не просто с матерью, но с единственным
оставшимся у нас родным человеком, в чьих объятиях мы могли бы искать
прибежище, хотя сейчас мы располагали гораздо большей возможностью — увы,
тщетно — предложить приют ей. Нам предстояло узреть королеву, чья
несравненная красота была наименьшим из ее достоинств, наблюдать ее очарование,
увядающее в восемнадцатилетней неволе, разделить с ней ее страдания,
убедить ее, что дети, никогда не видевшие своей матери, могут нежно любить ее.
Увы, сударыня! Этим мечтам не суждено было исполниться. Ле Валь
убедился, что стража или слишком честна, или слишком боязлива, чтобы
позволить кому бы то ни было беседовать с королевой. Единственное, чего можно
было добиться подкупом, это возможности увидеть королеву из
зарешеченного окна во время ее прогулки в маленьком садике. Известие поразило нас
отчаянием, но мы ухватились и за эту дарованную судьбою милость. Но чего
заслуживала, в наших глазах, вероломная женщина, так обращавшаяся с
равной себе, своей родственницей, своим другом!
Нас проводили к окну, где позволили остаться одним. Мы увидели, как
она идет по дорожке. Но, Боже, как она переменилась и, несмотря на это, как
была пленительна! Сырые покои подорвали ее здоровье: ее прекрасные руки
лежали на плечах двух служанок, без помощи которых она не могла
передвигаться. Бледное лицо, не утратившее былой красоты, несло на себе печать
смирения. Ее царственной осанки не могло скрыть простое лиловое одеяние, а
ее прекрасных волос — спускающееся на лоб покрывало, четки и крест были
единственным украшением, но неподдельное благочестие и терпеливая
покорность соединяли в ее облике святую и королеву, придавая ему неземное
очарование. Наши чувства невозможно описать — так сильны они были, так
стремительно сменяли друг друга: мы рыдали, бессвязно восклицали, бились
о решетку окна, словно надеясь с помощью некой сверхъестественной силы
сокрушить ее. Видеть свою мать так представлялось мне более
непереносимым, чем не видеть вовсе. Слезы мешали смотреть на нее, но я боялась хоть
на миг отвести взгляд, отдавшись на волю слез. Она проходила под окном, у
которого мы стояли, и наши руки, протянутые в мольбе сквозь решетку,
привлекли ее внимание. Взор ее дивных глаз, с их обычным выражением
неземного спокойствия, обратился к нашему окну — я хотела заговорить, но язык
не повиновался мне. Увы! Этот благословенный взгляд, исполненный
доброты, был первым, последним и единственным, которым нас одарила мать.
Когда она отвела глаза, душа моя осталась в ней; силы покинули меня, и в
беспамятстве я склонилась на грудь сестры.
Подозрения такого рода сделали бы наши частые поездки туда опасными
для моего супруга, но эта краткая сцена пробудила во мне чувства, хотя и
менее сильные, чем любовь, однако не менее стойкие, и эти чувства отравляли
для меня самые счастливые часы. Горькие слезы, оставлявшие след на щеке
моего возлюбленного Лейстера, когда он с нежными словами прижимал меня
к груди, одни только и выдавали мои мысли: я приносила меньший долг в
жертву большему. Эллинор, моя милая Эллинор, была моим единственным
советчиком. Мы проводили дни, строя тысячи планов и горько плача по
вечерам, убеждаясь в их неисполнимости. Частое отсутствие моего мужа
оставляло мне слишком большой досуг для этого печального занятия, но пылкая
страсть побуждала его изыскивать любую возможность хоть самое малое
время побыть со мною, и я трепетала при мысли, что эти беспрестанные поездки
привлекут внимание Елизаветы, которая с некоторых пор была нездорова и
тем более склонна замечать все проявления невнимания со стороны своего
фаворита. Но лорд Лейстер никогда не терпел докучливого надзора, а порой
позволял себе проявлять некоторые признаки холодности, делая это из
самых великодушных побуждений, ибо моя жизнь в его отсутствие не имела
иной радости, кроме надежды вновь свидеться с ним. Когда его не было, я в
унынии бродила по комнатам, всюду встречая лишь роскошь и одиночество,
но как только он появлялся, радость и музыка воцарялись в замке, каждая
комната, казалось, обретала гостя, каждый слуга — предмет радостных и
неусыпных забот. Свои частые отлучки милорд объяснял королеве страстью к
охоте, что совсем не отвечало его поведению: он все время проводил в нашем
обществе, почти не покидая замка. Понимая, что рано или поздно это
непременно будет замечено, я научилась хорошо ездить верхом и часто просила
его сопровождать нас из простой осмотрительности. Чтобы мы не слишком
утомлялись, милорд обычно приказывал разбить в лесу шатер с угощением, и
как-то утром на охоте, почувствовав себя дурно, я почти сразу отстала от
погони и отправилась вместе с сестрой на поиски шатра в сопровождении
охотника, который знал его местоположение так же плохо, как мы. В запутанном
сплетении узких тропинок мы встретили всадника с многочисленной свитой.
Чтобы освободить для нас путь, он приказал своим слугам вернуться,
спешился, поклонился, сняв шляпу, и не надевал ее, пока мы не проследовали мимо.
Обратившись к нашему провожатому, он спросил, где искать ему графа Лей-
стера. Не знаю отчего, вопрос этот встревожил меня, и я мгновенно
обернулась, желая увидеть лицо этого человека. Лошадь моя при этом не замедлила
шага, и я ударилась головой о нависшую над дорогой ветвь с такой силой, что
поводья выпали у меня из рук и незнакомец едва успел подхватить меня. Я
потеряла сознание. Кто-то из свиты отворил мне кровь, после чего я
мгновенно пришла в себя, поддерживаемая незнакомцем, который сжимал мою руку
гораздо сильнее, чем того могла потребовать озабоченность моим
состоянием. В смущении и растерянности от всего происшедшего я тщетно попыталась
высвободить руку и, чувствуя, как волосы спадают локонами мне на шею,
оглянулась в поисках шляпы и увидела, что она все еще свисает с той ветви, о
которую я ударилась. Невзирая на уговоры, я настояла на том, чтобы сесть в
седло, и, через мгновение вернувшись к незнакомцу, принесла ему живейшую
благодарность за столь любезную и своевременную помощь. Он ответил с
таким изяществом и учтивостью, что у меня возникло сильнейшее желание
узнать, кто он такой, но под внимательным взглядом, которым он меня
провожал, я не сразу смогла удовлетворить свое любопытство. Чуть позже мой
провожатый сообщил мне, что это племянник лорда Лейстера, сэр Филипп
Его наружность отвечала тому приятному впечатлению, которое
произвели на меня его манеры, и я лишь пожалела, что встретилась с ним при
таких досадных обстоятельствах, которые, по-видимому, его глубоко
поразили. Поглощенная этими мыслями, я, хотя и легла, не могла сомкнуть глаз, а
внезапное появление в шатре моего супруга окончательно отогнало сон. С
видом крайней досады и смятения, даже не справившись о моем самочувствии,
он бросился в кресло подле меня и разразился сетованиями на жестокость
судьбы. В безмерной тревоге я покинула постель и, упав перед ним на колени,
стала умолять его открыть мне причину этих сетований.
— Матильда, — сказал он, устремив на меня пристальный взгляд,
исполненный печали, — сюда едет королева.
Я помертвела при этих словах — только его объятия удержали меня, не
дав упасть, только его ласки спасли меня от обморока.
— Я ее хорошо знаю, — продолжал он, — и имею все основания полагать,
что нас предали. Само коварство ее приезда — без предуведомления — убеж-
дает меня в том, что она заподозрила по меньшей мере некие чары, тайно
удерживающие меня в Кенильворте. Я всегда намеревался, одинаково
памятуя о своем обещании и своей безопасности, препроводить тебя в подобном
случае в Убежище, но сейчас я опасаюсь того, какой вид это будет иметь как
в глазах моих собственных слуг, так и в глазах спутников Сиднея: все они
принадлежат к королевской свите и совершенно сражены твоей красотой. У
нас есть одна-единственная возможность. Скажи, любовь моя, может ли твой
Лейстер надеяться, что ради него ты поступишься и законной гордостью, и
праведным негодованием? Снизойдешь ли ты до того, чтобы предстать перед
Елизаветой в том смиренном обличий, в котором являлась до сей поры, и,
забыв на время, что она — гонительница твоей семьи, согласишься ли видеть в
ней лишь покровительницу твоего супруга?
— Я забуду все, — воскликнула я в порыве нежности, — все, что угрожает
твоей безопасности и спокойствию. Для меня будет счастьем чем-то
пожертвовать в доказательство своей любви, и я стану чем ты пожелаешь. Как дочь
Марии я всей душой восстаю против Елизаветы, но как жена Лейстера я не
должна иметь отличных от него желаний, а до этой тревожной минуты мне
даже не приходилось проявить смирение.
— Что узы брака в сравнении с этой невидимой связью душ! — сказал мой
супруг, прижимая меня к себе и смешивая свои слезы с моими. — Мне так
тяжело уступить тебе в великодушии, что я едва могу совладать с желанием
объявить тебя перед королевой хозяйкой этого дома и явить всему
королевскому двору красоту своей жены, в ком вся моя гордость и радость.
То был драгоценный, ни с чем не сравнимый миг моей жизни, когда
сердце мое раскрылось с наибольшей полнотой и встретило столь же щедрый и
благородный отклик. Ах, сударыня, лорд Лейстер обладал редкостным
умением управлять великодушной женой!
Те же мысли побудили и Эллинор дать свое согласие. Тот краткий час,
что предшествовал появлению королевы, мы приучали к смирению свои
глаза и сердца, чтобы негодование оскорбленных и гордость высоких родом не
выдали нас. Опасаясь также, что сходство моих черт с обликом моей
несчастной матери может привлечь внимание праздного наблюдателя, я постаралась
одеться непохоже на нее и, распустив волосы так, чтобы пышные завитки
спускались на лоб и на плечи, затейливо перевила их цветами. Потом,
смешавшись с толпой поселян, почти не отличаясь от них нарядом, мы
приготовились встречать королеву в главном холле, где, как и во внутреннем дворе,
нам надлежало разбрасывать ароматные травы и цветы.
Еще не улеглась безумная суета, вызванная вестью о неожиданном
посещении, как пушечный выстрел возвестил о приближении Елизаветы. Я ощутила
легкую дурноту, руки и ноги отказывались повиноваться, глаза не видели
перед собой дороги. Все мое существо содрогалось от ее присутствия, дух Нор-
фолков гордо восстал во мне. По счастью, затерявшись в веселой толпе, я
исполнила свою обязанность и удалилась, так ни разу и не взглянув ей в лицо.
После долгой борьбы с собой я обрела некоторую долю спокойствия еще до
того, как был подан обед, во время которого нам, как всегда, предстояло
петь. Скрытая от взоров общества, я теперь имела возможность рассмотреть
Елизавету. Она беседовала с Лейстером, стоящим за спинкой ее кресла. Хотя
лицом Елизавета совсем не походила на свою прелестную мать, черты ее
были правильны, глаза — необычайно малы, но взгляд их так быстр и ясен, что,
казалось, схватывал все на лету. Кривизна стана лишала ее облик истинной
величавости, и она пыталась восполнить этот недостаток своей крайней
надменностью. С лица ее не сходила язвительная, саркастическая улыбка. Наряд
отличался несообразной возрасту яркостью и пышностью. Я не могла
избавиться от мысли, что, в глазах иностранцев, лишь усилиями советников
поддерживается репутация королевы, способной, пренебрегая своими
почтенными летами, выставлять напоказ обнаженную шею и носить пышные накладные
волосы, причесанные так, как приличествует лишь совсем молодой девушке.
Однако при иных обстоятельствах зал являл бы собой чарующую картину.
Он был украшен прекрасными статуями, убран шпалерами и пурпурными
занавесями с золотой бахромой. Из высоких стрельчатых окон в готическом
стиле открывался дивный вид на озеро, заполненное богато изукрашенными
лодками. Огромная толпа королевских слуг и глубочайшая почтительность
многочисленных вельмож были для меня зрелищем новым и невиданным. Я
обводила взглядом гостей, пытаясь решить, может ли хоть один из них
сравниться с Лейстером. Где, ах, где нашелся бы равный ему? Тайная тревога
зажгла яркий румянец на его щеках, взгляд его выразительных глаз
пронизывал занавес, скрывающий нас от общества. Обед завершился, и заиграла
музыка. После того как были исполнены обычные пьесы, в наступившей тишине
зазвучал мой голос и лютня моей сестры. Изумление охватило
присутствующих, и все глаза устремились туда же, куда смотрел лорд Лейстер. Королева
перестала чистить персик и с чрезвычайной живостью разговаривала с
Сиднеем, который отвечал ей с одушевлением, показывавшим, что предмет
разговора близок его сердцу. Едва я закончила песню, занавес был отдернут в
сторону, как я узнала впоследствии, услужливым Сиднеем по приказанию
королевы, и мы предстали перед взорами всего королевского двора.
Ошеломленная, я выронила ноты, а Эллинор с очаровательной скромностью склонилась
над своей лютней. Многочисленные восторженные восклицания вельмож
польстили бы нашему тщеславию, если бы мы не слышали многократно, что
для придворных все что угодно может стать чудом на час. Этот роковой миг
стал решающим в моей жизни — он пробудил опасные подозрения в душе
Елизаветы, безмерную тревогу — в сердце человека, в ком была вся моя
жизнь, а в сердце другого человека — страсть, истребить которую смогла
лишь холодная рука смерти. Я говорю о любезном Сиднее, который, в
восхищении от того, что девушка, очаровавшая королевский двор, оказалась той,
чьи черты неизгладимо врезались ему в память, всецело и пылко отдался
своей склонности.
Как только самообладание вернулось ко мне, я стала пристально
наблюдать за королевой. После того как обнаружилось наше присутствие, она сиде-
ла, погрузившись в глубокое раздумье, время от времени внимательно
всматриваясь в нас, а затем с живостью устремляя пытливый взгляд на Лейстера. Я
всеми силами старалась спокойно встречать направленный на меня
испытующий взор, но всякий раз само усилие выдавало меня и предательский
румянец заливал лицо, когда ее внимание обращалось ко мне. Безразличие,
проявленное королевой к музыке, заставило восторженные восклицания
смолкнуть, и вскоре нам было позволено удалиться. Сидней, принесший эту весть,
горячо извинялся за то, что невольно смутил нас, сделав предметом
всеобщего внимания. Он навсегда дал мне повод горько жалеть о проявленной им
чрезмерной услужливости, хотя и был вынужден к этому приказанием своей
повелительницы; однако ненавидеть Сиднея было немыслимо. Высокое
благородство и мужество сочетались в нем с утонченным изяществом и
спокойным нравом, над которым не властны были любые жизненные невзгоды. Да,
любезный Сидней, эту справедливую дань приносит Матильда твоим
достоинствам: из всех ее несчастий больнее всего ее ранит то, что она сделалась
несчастьем для тебя! Наше, на посторонний взгляд, зависимое положение ни
разу не побудило сэра Филиппа отказать нам в той почтительности, которая у
человека достойного неотделима от самоуважения. Она соединялась с
вежливостью, всегда приличествующей по отношению к женщине, с волнующим
поклонением, которое возвышает предмет его. Всякий муж, менее
боготворимый, чем лорд Лейстер, имел бы основания страшиться такого соперника.
Лишь в ночные часы могли мы теперь обмениваться мыслями, и с болью в
сердце я видела, что душевное спокойствие моего супруга разрушено
королевским посещением. Сердечная угнетенность, объяснить которую он был не
в силах, наполняла собою эти часы, и, вместо того чтобы употребить их на
создание какого-нибудь разумного плана, мы проводили их в молчании,
вздохах и слезах, сменивших нашу былую взаимную нежность.
Елизавета, вопреки возрасту и здравому смыслу, тешилась
романтическими пристрастиями, не совместимыми ни с тем, ни с другим. Не довольствуясь
своим поистине недосягаемо высоким положением, она притязала на
богоподобное величие, каким наделяла ее поэтическая лесть. Во время своего
пребывания в замке она пожелала именоваться Девой Озера, и ни единая
малость из того, что могли изобрести искусство и приобрести богатство, не была
упущена при устройстве разнообразных празднеств. Лодка в форме
раковины с троном посредине перевозила королеву на остров, где я, в толпе других
девушек, одетых нереидами, встречала ее. Мы вели ее в грот, убранный
морскими раковинами и зеркалами, и в корзиночках, сплетенных из водорослей,
подносили ей кораллы, жемчуг, янтарь и другие драгоценные дары моря, а
вокруг звучали громогласные славословия, столь вычурные и неоправданные,
что мы с трудом удерживали улыбки при виде того, с какой глубокой
серьезностью она их выслушивает.
Я с удивлением видела, как страшится лорд Лейстер того, что взгляд
любого равнодушного наблюдателя может проникнуть в тайну, разгадка
которой представляла интерес лишь для Елизаветы. Такова слабость, свойствен-
нал многим, — направлять внимание и заботы лишь на предметы
малозначительные, тогда как самые важные и главные застают нас врасплох. Я же,
напротив, во всякую минуту ощущала себя под недобрым и пристальным оком
непреклонной, всевластной соперницы. Все дамы двора, якобы желая
сблизиться со мной и Эллинор, постоянно пытались дознаться, каково наше
истинное положение, и чувствуя сама, как робки и несвязны наши ответы, я
испытывала безграничный ужас перед их повелительницей. С нас, ничтожных
прислужниц во всех ее увеселениях, она ни на миг не спускала глаз и, даже не
давая себе труда вымолвить слово, казалось, подстрекала нас к ропоту
своими бесконечными прихотями. В такие минуты любовь, стыд и самые мрачные
опасения, отражаясь в лице лорда Лейстера, говорили языком, понятным во
всех странах, и Елизавета, уверясь, вне всяких сомнений, что здесь что-то
кроется, как-то раз оставила свиту в одном конце галереи и удалилась в другой с
моим супругом, чтобы, как я мгновенно предположила, учинить ему допрос.
Судьба моей матери вновь со всей яркостью представилась мне. «Ах, зачем, —
подумалось мне, — покинула я счастливое уединение, в которое она меня
поместила? Я только сгубила предмет моей сердечной привязанности и предала
себя в руки неумолимой гонительницы, которая может теперь сделать свое
злое дело, даже не возбудив ничьих подозрений». Не замечая окружающей
меня веселой толпы придворных, я наблюдала, как мой супруг отвечает на ее
нетерпеливые расспросы с видом нерешительным и беспокойным.
Разговаривая, он не отрывал от меня глаз с тревожным выражением человека,
стремящегося взглядом передать то, что не надеется дать вам понять иным
способом. Дабы не совершить какой-нибудь ошибки, я хотела удалиться, как вдруг,
возвысив голос, лорд Лейстер направился к нам.
— Слушайте и запоминайте, что я стану говорить, — прошептал он, подводя
меня и сестру к сидящей поодаль королеве. — Я более удивлю этих молодых
девушек, — продолжал он громким голосом, — известием об их
происхождении, чем удивил я Ваше Величество. Нет нужды сообщать им изложенные
мною причины, по которым оно хранилось в тайне. Для них будет довольно
чести и радости узнать, что они — дочери дома Дадли и пользуются
милостивым покровительством своей повелительницы.
Видя, что он преклоняет колено, мы, всей душой противясь этому,
последовали его примеру и поцеловали роковую руку, величественным жестом
протянутую нам. Королева объявила, что делает нас своими фрейлинами,
включает в свиту и завтра утром забирает с собою в Лондон. Лорд Лейстер,
довольный тем, что сумел уклониться от всех ее подозрений, даже не
догадывался, какую ловушку расставил для своего сердца, отдав нас в руки
Елизаветы, чья непревзойденная хитрость подсказала ей, выразив доверие к его
невероятному вымыслу, воспользоваться им, чтобы разлучить нас, чего она не
смогла бы добиться никаким иным способом.
Лишь в час отдыха лорд Лейстер смог вполне открыться мне. Из рассказа
я поняла, что Елизавета столь решительно приступила к нему с расспросами,
убежденная в превосходстве нашего истинного положения над занимаемым,
что он не мог надеяться избавить нас от жесточайших унижений иначе, чем
сделав ей ложное признание. Его осенила мысль, что его брат, лорд Гилфорд,
мог жениться на леди Джейн Грей за год до того, как два герцога сочли
благоразумным обнародовать свой политический союз. Тогда, как сообщил
Лейстер королеве, несчастная леди Джейн и подарила жизнь нам обеим. Те
же политические соображения побудили семью Суффолк скрывать это
обстоятельство до той поры, пока новая династия не утвердится на троне. Когда
же эта надежда рухнула, наше существование из осторожности продолжали
сохранять в тайне. Тайна эта теперь сокрыта лишь в его груди, откуда —
порукой в том его преданность Елизавете — ничто ее не исторгнет. И если
королева все еще желает оказывать нам покровительство, то благоразумнее будет
дать нам понять, что мы — его собственные внебрачные дочери. На все это
Елизавета отвечала немногословно, но, предоставив ему действовать по
своему усмотрению, настояла лишь на том, что забирает нас.
Ее поведение тотчас убедило меня в том, что она ни на миг не поверила
этому вымыслу, приписывающему нам почти такую же близость к трону,
хотя и по другой ветви, какой мы обладали в действительности. Разве могла бы
она, себялюбивая и завистливая, не потребовать, чтобы ей были
представлены даты, факты, подтверждения и свидетели? Разве не обрекла бы она нас на
судьбу леди Кэтрин, законной наследницы дома Суффолков, которую,
варварски, не по-женски воспользовавшись своей властью, она оторвала, в
расцвете юности, от самых близких и священных человеческих привязанностей и
обрекла на одиночество и заточение только за то, что та осмелилась стать
женой и матерью? Иначе говоря, разве не обрушила бы она на нас всю ярость
своего нрава, если бы не задумала расправиться с нами более верным и
незаметным способом?
Не желая ни единым своим предположением усилить горечь этой минуты,
я бросилась в объятия супруга, молча прижала его к своему сердцу и
вознесла мысленно мольбу к Господу, который один только и мог защитить нас.
Никакие слова не сумели бы так тронуть сердце лорда Лейстера, как тронул его
мой поступок. Он стал обвинять себя в том, что по низкому малодушию
заботился лишь о своей безопасности, и нам с сестрой пришлось многократно
уверять его, что он действовал в высшей степени благоразумно, и только так
удалось примирить его с самим собой.
— Не правда ли, — вопрошал он, — моя Матильда знает, как тяжко
пострадал я сам, лишаясь счастья ее общества? Разве мог я забыть, что не осмелюсь
более радовать свой взор созерцанием ее красоты? Разве мог я забыть, что
все остальные мужчины теперь вольны обожать ее, что ее счастье не более
подвластно Елизавете, чем мое — ей самой? Не знай я, что королева охотно
покарала бы весь свой пол безбрачием, на которое обрекает себя, я опасался
бы, что она станет покровительствовать замыслам Сиднея, но ее страшит
возможность новых притязаний на корону, и потому его страсть станет
предметом мучений лишь для меня одного. Сжалься же надо мной, — продолжал
он, — и неизменной холодностью отвечай его дерзким надеждам. Как скорб-
лю я о том, что и прелестную Эллинор судьба ввергает в бедствия, не дав ей
даже тех утешений, что тебе! Но я надеюсь на ее благородное сердце,
надеюсь, что, по своему выбору и из преданности тебе вступив в этот мир, она
сумеет терпением и осмотрительностью оградить себя от его зла. Нам не скоро
придется беседовать вновь, позвольте же предостеречь вас обеих: никого не
дарите своим доверием, дорожите дружбой с леди Пемброк и ни на миг не
забывайте, что на вас постоянно устремлен взор надменной, ревнивой и
мстительной повелительницы.
Излишнее предостережение! Могла ли дочь Стюартов перестать
страшиться Елизаветы и ненавидеть ее? Могла ли жена, зная, что жизнь любимого
мужа зависит от ее осторожности, осмелиться обнаружить свою любовь?
Обреченная жить в миру, я вступила в него с предчувствиями столь же
печальными, сколь печальна была моя последующая судьба. Не смея даже
взглядом выразить свое горе, я рассталась с гостеприимным домом, где
опрометчиво надеялась провести долгие несказанно счастливые годы. Я
отправлялась в путь без моего супруга и испытывала все терзания любви и разлуки.
«Ах, как неразумны эти бедняки, что взирают на нас с таким восторженным
изумлением! — мысленно восклицала я, когда мы проезжали лежащие на
пути города. — Знали бы вы, какое разбитое сердце облекает этот роскошный
наряд! Знали бы вы мучительную тяжесть цепей, обвивших это сердце,
страдание, что красит румянцем губительной красоты мое лицо, — как
благословляли бы вы милосердного Творца, даровавшего вам покой и неведение!»
Принятые, признанные и окруженные восхищением при дворе, мы вскоре
стали привычными фигурами в свите Елизаветы, и нашему рабству не
виделось конца, пока она жива. Одним из величайших несчастий для меня было
то, что я навлекла на свою Эллинор это бедствие, сносить которое ей
помогала лишь любовь ко мне. По необъяснимому капризу Елизавета, чей взор
всегда был подозрителен, а сердце недоверчиво, избрала своей жертвой
Эллинор, которая в молчаливом негодовании вытерпела от нее сотни
необузданных выходок.
Предположение лорда Лейстера не оправдалось — для меня было
очевидно, что королева поощряет любого претендента на мою руку или руку моей
сестры с несомненной целью: раскрыть тайну, присутствие которой она с
легкостью распознала в его притворном признании. Страсть сэра Филиппа была
мне истинным мучением, и я видела, что вся моя суровость не в силах
истребить надежды, которым покровительствует королева, а высказанная лордом
Лейстером уверенность, казалось, теряла силу по мере того, как мне
становилось труднее разделять ее.
Прекрасная леди Пемброк дарила особым расположением Эллинор, а Роз
Сесил, вторая дочь лорда Бэрли, выказывала безграничную дружескую
привязанность ко мне. Я так глубоко чтила волю своего супруга, что не отвечала
ей тем же, пока со временем не убедилась, что она неспособна на
предательство и обман. Как мы, она была новым человеком при дворе. Ее растила и
воспитывала мать, питавшая отвращение к придворной жизни, а после смер-
ти матери забота о ней перешла к честолюбивому отцу, который льстил себя
надеждой, что ее красота привлечет завидного жениха, прежде чем она
отважится сделать собственный выбор. Он не ошибся в первой части своего
предположения: нежный расцвет ее ума и красоты покорил множество сердец, но,
хотя во всем остальном Роз была сама покорность, в вопросе о замужестве
она отказывалась повиноваться даже королеве, заслужив тем самым ее
ненависть. Мы обе могли бы оплакивать это печальное сходство наших судеб, и
при той искренности, которой отличается юность, мне нелегко было
удержаться от жалоб. В силу своего положения при дворе и склада характера мы
обе высоко ценили дружбу леди Арундел, старшей сестры сэра Филиппа,
которая уже давно удалилась от королевского двора и поселилась в одном из
поместий брата на берегу Темзы после того, как был заключен в тюрьму ее
муж. Лишенная блеска своей более красивой и удачливой сестры, леди
Арундел обладала душевной силой и стойкостью, которая сделала бы честь
римлянке. С детства любимая Елизаветой, она могла бы остаться в милости и
тогда, когда муж ее пал жертвой королевского гнева, но она неуклонно
настаивала на том, чтобы разделить с ним заточение; когда же, в скором времени,
тюрьма сделалась его могилой, она удалилась от света в благородной
бедности и своим небольшим доходом была обязана лишь щедрости брата. Так в
безгрешном и достойном вдовстве проходили дни этой прекрасной женщины,
которая теперь наслаждалась самой большой радостью, доступной
человеку, — радостью быть окруженной друзьями, привлечь которых она могла
единственно своими достоинствами.
В те дни разразился гнев Филиппа Второго им были заняты
помыслы всех вокруг, в особенности королевы, для которой сердечные дела
всегда были заботой второстепенной, и я стала надеяться, что лорд Лейстер
воспользуется этим обстоятельством, чтобы найти возможность для наших
будущих встреч и хоть немного облегчить для меня невыносимое бремя
постоянного притворства. И тут, в довершение своих несчастий, я увидела, что
тот, ради кого я отказалась от всех прав, даваемых моим полом и
происхождением, тот, кому принадлежала душа моя, взирает на меня с холодностью и
пренебрежением. Я заглянула в глубину своего сердца и там не нашла ничего,
за что могла бы упрекнуть себя, но, увы, сознание своей правоты не могло
вернуть мне покоя. Меня начала страшить мысль, что его утоленная страсть
уступила место честолюбию, что, видя во мне единственную преграду между
собой и Елизаветой (которая становилась к нему все благосклоннее), он в
тщеславии своем сожалеет, что позволил мне стать такой преградой. Хотя
королева всегда обращалась со мной много лучше, чем с моей сестрой, считая Эл-
линор любимицей Лейстера, я возненавидела ее вдвое сильнее прежнего, так
как в ней видела причину его переменившихся чувств ко мне. И все же, хотя
неудовольствие лорда Лейстера выражалось явно, оно не проистекало от
равнодушия: старательно избегая разговоров со мной, он при этом неотступно
следил за моим поведением, он всегда был в поле моего зрения — и всегда
недосягаем. Нетрудно было догадаться, что он ревнует меня. Увы, подозрения
быстро находят повод, которого ищут. Румянец, вспыхивающий на моем
лице, смущение и замешательство, когда кто-нибудь из предполагаемых
поклонников обращался ко мне, подтверждали его злосчастное предубеждение, а
невозможность оправдаться доводила меня до отчаяния. Вскоре судьба не
преминула обрушить на меня новое несчастье.
Прелестная Роз Сесил, чье дружеское расположение ко мне я уже
упоминала, своей горячей привязанностью постепенно завоевала мое ответное
чувство. Разговоры с нею о лорде Лейстере были для меня отрадой, и потому я
не сразу заметила, что для нее они представляют такой же неиссякаемый
интерес, как для меня, но ее пылкая готовность вновь и вновь возвращаться к
этой теме, когда меня глубокая печаль заставляла обходить молчанием его
имя, наконец открыла мне глаза. Я стала наблюдать за ней более пристально
и увидела, как, побуждаемая своей привязанностью, она стремится неизменно
быть подле лорда Лейстера, как румянец и бурное волнение при всяком его
обращении к ней безошибочно выдают ее тайную сердечную склонность. Есть
жены, которые воспользовались бы возможностью дать ей суровую отповедь,
но она была так невинна, что я не могла и не считала достойным в чем бы то
ни было ее подозревать. Раз вечером под влиянием почудившегося ей
пренебрежения, непереносимого для ее тонкой натуры, она дала волю слезам и во
всем открылась мне. Она говорила, что тщетно возраст и обстоятельства
разделяют ее с лордом Лейстером: ей больше радости в том, чтобы молчаливо
восхищаться им, чем быть предметом восхищения всего мира.
— Ах, сударыня! — горячо воскликнула она. — Какое это варварство —
наследственная вражда! Постарайтесь для меня, моя дорогая Матильда,
убедите милорда отказаться от столь нелепого предрассудка. Поверьте, ваша
услуга удвоит привязанность, которая вызвана равно присущими вам
достоинствами и вашей принадлежностью к этой семье.
И эта просьба была обращена к жене! К жене, сказала я? Увы, к любящей
женщине, безумно, безмерно любящей! Она обняла меня и скрыла свои
слезы и свое смятение на моей груди, в которой бушевала мука еще более
непереносимая. Пораженная в самое сердце ее невинностью и постигшей ее
печальной участью, я осыпала ее ласками и проливала над ней слезы, как мать
над ребенком. У меня было довольно времени, чтобы обдумать ответ, и я
сказала, что в моих силах — лишь пожалеть ее, ибо для всех очевидно, как мало
мое влияние на милорда. Я ласково пыталась дать ей понять всю
безнадежность ее нежных чувств к лорду Лейстеру, столь явно отличаемому
королевой, что его брак с любой другой женщиной маловероятен, не говоря уже об
их большой разнице в летах.
Она отвечала, что, часто обдумывая это, разрешила для себя все
затруднения. Королева более озабочена войной, чем браком, и если лорд Лейстер
отдаст должное ее любящему сердцу, он безусловно не сочтет ее юность
недостатком.
Словом, я видела, что она твердо решила верить в то, чего ей желалось. Я
не возвращалась более к этому разговору, но с бесконечной грустью наблюда-
ла, как эта прелестная девушка всей душой отдается страсти, по столь
многим причинам безнадежной. Королева недолго оставалась в неведении, и
несчастная Роз обнаружила, что о ее любви известно всем вокруг, кроме того, к
кому она обращена, он же выказывал ей холодность, граничащую с
неприязнью. В своих горестях она неизменно искала сочувствия у меня, и нередко я
давала ей то утешение, которое не в силах была найти для себя.
В виду столь значительного события, как ожидаемое испанское
вторжение, вся Англия готовилась взять в руки оружие, и лорд Лейстер как
главнокомандующий уже отбыл к войскам. Я простилась с ним вместе со всем
королевским двором, не имея возможности сказать ни единого слова, которое
могло бы принести ему или мне душевный покой. Тягость моего положения
сделалась непереносимой, когда опасения за жизнь и безопасность супруга
прибавились ко всем прочим опасениям, и я решилась объясниться с ним
невзирая на последствия. Власть над моими поступками, естественно
проистекающая из моей любви и его преимущества в летах, была в присутствии лорда
Лейстер а неоспорима, но исчезла вместе с ним. Гордость моя наконец
склонилась перед долгом, и в своем письме я молила его позволить мне узнать, в чем
заключается моя невольная вина, и искупить ее, пока не поздно мне вернуть
любовь, без которой я не мыслю своего существования. Я заклинала его
помнить, что в нем вся моя жизнь, и, если он и далее будет лишать меня своего
доверия, я принуждена буду заключить, что он раскаивается в том, что
некогда почтил меня им, и тогда я оставлю всякую заботу о той, которая более не
представляет для меня никакой ценности, ибо перестала быть дорога ему.
При столь неопределенных выражениях, как мне казалось, письмо, даже
если его перехватят, не будет иметь тяжких последствий. Пока я
раздумывала, как отправить свое послание, сэр Филипп Сидней испросил позволения
проститься со мной перед отъездом. Какие страдания ни доставляла мне его
любовь, я не могла относиться к нему иначе, чем с большим уважением. Для
меня не представило труда встретиться с ним наедине. Его заботам я
поручила свое письмо в убеждении, что ему я могла бы доверить и всю правду. Он
же, в восторге от малейшего знака моего доверия, пообещал мне все, что
обычно обещают влюбленные.
Едва он уехал, как мне подумалось, что такой посланец может оставить
лорда Лейстера равнодушным к содержанию письма, орошенного моими
слезами. Увы, раз вступив в лабиринт предположений, охраняемый роковым
стражем — ревностью, выбраться из него почти невозможно. Судьба не
оставила мне иной отрады, кроме ласковых утешений Эллинор: не будь ее, моя
печаль перешла бы в недуг, но в часы отдыха (мы помещались в одном покое)
она не жалела сил, чтобы успокоить и ободрить меня. Несравненная сестра
моя! Какой душой ты обладала! О, почему лишь слезами могу я воздать
должное твоему безграничному великодушию?
Наконец лорд Брук прибыл гонцом из лагеря и при первой возможности
вручил мне письмо милорда. Он писал, что я нашла средство превратить
обвинителя в виновного, и умолял простить его недостойную ревность, которая
сама себе служит наказанием. Моя полная покорность приказаниям
королевы и то явное удовольствие, которое я получала от бесед с его племянником,
отравляли каждую минуту его жизни с тех пор, как я появилась при дворе.
Разносторонние таланты сэра Филиппа, одинаковый со мною возраст,
благородство характера делали его опасным соперником. «Во мне нет низменной
ревности, не желающей ни с кем делить твое общество, — продолжал он. —
Нет, Матильда, лишь сердцем твоим я хочу владеть безраздельно. И как ни
тяжка была бы для меня потеря, я не хочу удерживать тебя дольше, чем ты
сама того пожелаешь. В том мучительном положении, в котором мы
оказались, и меньшего довольно, чтобы встревожить сердце, столь жестоко
пострадавшее за свою прямоту. Однако чувство справедливости не позволяло мне
считать твоей виной то, что было нашим общим несчастьем, и я решил
схоронить в груди своей все убийственные предположения и не мучить тебя более
из-за страсти, которую, оставаясь к ней холодна, ты не осмеливалась
решительно отвергнуть. Но то, что грубый и пошлый ум побудило бы к ревности,
во мне с корнем вырвало эту слабость, ибо ничто, кроме безупречной
невинности, не смогло бы подсказать тебе избрать моего предполагаемого
соперника послом твоей любви. Истина и доверие озарили своим светом мои
смятенные чувства, любовь дышит в каждой бесценной строке. Чем, чем искуплю я
перед тобой свою несправедливость? Я не могу долее жить, пока не склонюсь
смиренно к твоим ногам и не получу прощения, которое, боюсь, никогда не
сумею заслужить. Я наконец решил довериться леди Арундел — несчастье и
жизненный опыт, несомненно, научили ее хранить тайны. Ее дом —
единственное известное мне уединенное жилище, куда тебе можно приезжать без
опасений. Скажись больной, и королева не заподозрит в просьбе удалиться на
некоторое время в дом моей племянницы ничего, кроме очевидного желания
укрыться от утомительной суеты тревожного времени. Я предупрежу леди
Арундел, чтобы она готова была принять тебя, и сам, как только мои
обстоятельства позволят, поспешу к тебе, чтобы оживить твое одиночество. О,
любовь моя, — так заканчивалось письмо, — кто смог бы вынести муку сомнений,
не будь таким блаженством миг примирения?»
И он воистину был блаженством! Все радости моей жизни померкли перед
этой минутой. Я словно ступала по воздуху, и мне стоило немалого труда
сохранять вялый и болезненный вид. Елизавета, которую болезни раздражали,
поскольку сама она не была им подвержена, легко согласилась на то, чтобы я
провела месяц у леди Арундел, и та встретила меня с большой радостью. Я
поняла, что ей известно лишь о нашем браке и что мой супруг умолчал о
тайне моего рождения. Леди Арундел отвела мне великолепные апартаменты,
которые замыкал салон, выходивший окнами на Темзу. Эта комната
благородных пропорций была украшена бесценными живописными полотнами,
иные из которых были незаконченны, и некий известный художник часто
посещал дом для работы над ними. Этому человеку леди Арундел поручила
написать мой портрет, с тем чтобы мне легче было коротать время в отсутствие
милорда и чтобы приготовить для него приятный сюрприз. Как-то раз в кра-
сочном наряде, выбранном для этой цели, я ожидала в салоне. Я слышала,
как вошел художник, но каково же было мое изумление, когда в следующую
минуту я увидела его у своих ног! Возмущенная, я обернулась к нему. О, боги!
То был мой супруг, мой Лейстер, неузнаваемый в этом наряде, в котором он,
по уговору с леди Арундел, решил приходить вместо живописца всякий раз,
как сможет, не рискуя чрезмерно, навестить нас. От него мы узнали
чрезвычайно важную новость: Небеса выступили на стороне Елизаветы против
Армады и принесли ей победу, которая едва ли оказалась бы под силу ее
флоту. При этом известии, означавшем, что лорд Лейстер в безопасности, мое
сердце исполнилось ликования; когда же восторг любви слился с радостью
прощения, я почувствовала, что более мне ничего не нужно от жизни.
Теперь я уже научилась предупреждать подозрения, и так как сэр Филипп,
в восторге от того, что может видеться со мной вне холодных условностей
придворного круга, стал почти ежедневным гостем, я решила положить
конец его надеждам, даже если придется частично посвятить его в тайну. Порой
мне было до слез грустно видеть, как он гонится за призраком и впустую
тратит золотые годы юности. О Сидней, ты был достоин лучшего жребия, и я
была бы поистине несчастна, если бы в том, что он стал горек, видела свою вину,
но нет — я чтила и уважала тебя, восхищалась тобой. Скажу более: если бы
сердце мое уже не было отдано другому, оно принадлежало бы тебе — тебе,
кого любили столь многие женщины, к кому ни одна никогда не питала
ненависти.
Приняв свое решение, я как-то раз позволила ему сопровождать меня на
террасу. Обрадованный этим знаком расположения, он развлекал меня
приятными и забавными шутками. Ах, есть ли на свете более мучительное
чувство, чем то, что испытывают благородные сердца, когда волею судьбы
вынуждены ранить друг друга? Я размыкала губы, правдивая речь готова была
сорваться с них, но лишь когда сам он ласково призвал меня дополнить
словами столь выразительные взгляды и поверить ему те чувства, что я пытаюсь
утаить, я наконец заговорила:
— Увы, сэр Филипп! Я вынуждена сказать вам, что ваши достоинства и
ваша привязанность, волею обстоятельств, стали моим единственным
несчастьем.
— Что говорите вы, сударыня? — воскликнул он. — Возможно ли это?
— Это — мучительная правда, высказать которую меня заставляет лишь
глубочайшее уважение к вам. Я сознаю все могущество Елизаветы, но,
уверяю вас, я не принадлежу к тем, кто способен ей подчиниться.
— Ей подчиниться? — переспросил он. — Неужели прелестная Матильда так
мало знает меня, что может вообразить, будто я согласился бы счастьем ее
руки быть обязанным королевскому повелению? Нет, сударыня, на таких
условиях Сидней, с гордостью могу сказать вам, не принял бы даже эту
прекрасную руку. Пока моя страсть была лишь моим несчастьем, я считал себя
вправе свободно отдаваться ей, но с той минуты, как она становится
несчастьем для вас, гордость, честь, чувства повелевают ей навсегда умолкнуть. И все
же, — добавил он голосом, проникающим в душу, — сердце мое хранит
надежду узнать, какой злой рок наносит ему эту рану.
— Любовью, которую вы ко мне питаете, честью, которая руководит вами
в отношениях со всеми людьми, — воскликнула я, сжимая его руку, —
заклинаю вас не пытаться проникнуть в тайну, открыть которую я вам не вправе...
Будь я...
— Будь вы... Ах, прелестная, великодушная, чистосердечная Матильда,
нет, я ни за что не стану допытываться о том, что вы считаете необходимым
хранить в тайне. Если суровая судьба лишает мои юные годы единственной
радости и надежды... И все же, быть может, время?.. Я не заметил бы и
прихода старости, если бы вы только позволили мне хоть немного надеяться.
— Почему, почему, — горестно восклицала я, обливаясь слезами, — лишена
я права довериться вполне сердцу столь благородному! Но поверьте, сэр
Филипп, никакое время не сможет соединить нас иными узами, чем узы
взаимного уважения, а они с каждым днем будут становиться все крепче.
— Мне кажется, я понимаю вас, — сказал он, глядя мне в глаза с печалью и
твердостью. — Как могу я допустить, чтобы на вас обрушился необузданный
гнев королевы? Нет, если уж я никогда... если одно только уважение может
связывать нас... — Он умолк и, опустившись на колени, поцеловал одну за
другой мои руки, словно прощаясь со мной навсегда. — Когда мы свидимся вновь,
я... хотя сердце мое разрывается при этой мысли — когда мы свидимся вновь,
я смогу считать себя достойным вашего уважения.
Он поднялся с колен и, оставив меня, направился к ожидавшей его барке с
видом печальным и нерешительным, то и дело оборачиваясь, будто готов был
в любой миг вернуться и отречься от своего решения. Когда барка, унося его,
легко заскользила по воде к Лондону, я дала волю слезам, которые до тех
пор сдерживала огромными усилиями.
Следующий вечер лорд Лейстер обещал провести у нас. Он приехал в
довольном расположении духа, которое я не могла не разделить, хотя и не
знала, чем оно вызвано.
— Как полагаться на постоянство влюбленных, — сказал с веселой
улыбкой, — если даже чары моей Матильды не помогли ей сохранить
привязанность моего племянника? Он испросил у королевы согласие на брак с мисс
Уолсингем. Вам известно о ее любви к нему, но его внезапная взаимность
поражает всех, кто знает их обоих. Елизавета назвала это дурацкой причудой,
но она не хочет оскорбить сэра Фрэнсиса, отказав в своем согласии, и, хоть ей
не по душе этот брак, свадьба состоится через несколько дней, а моя
Матильда приглашена присутствовать при торжестве своей соперницы.
«О нет, — могла бы ответить ему, если бы его ревность не научила меня
осторожности. — У твоей Матильды свой повод для торжества». Увы, лишь
теперь мне стали понятны прощальные слова Сиднея. Слезы переполняли мое
сердце. В них смешались все мыслимые чувства, кроме любви, и были они
так сильны, переплелись так неразличимо, что я сама не понимала, не
участвует ли любовь в высоком торжестве этой минуты.
Мой супруг настойчиво побуждал меня вернуться ко двору еще до
свадебных торжеств и даже сообщил там о моем предстоящем возвращении — это я
поняла из коротенькой приписки к официальному приглашению, посланному
мне и леди Арундел. «Ах, сударыня, — написал сэр Филипп в
постскриптуме, — правда ли, что вы вернетесь еще до того, как совершится мое
жертвоприношение?»
— Нет, не вернусь, — вздохнула я, прочитав записку. — Далее этой черты
супружеские обязательства не простираются и человеческая природа вновь
обретает свои права.
* * *
Страх, что отлучки лорда Лейстера вновь привлекут назойливое внимание
его недругов, победил наконец мое нежелание возвращаться ко двору. Я
видела, как, пренебрегая опасностью, он все чаще бывал склонен потворствовать
своим желаниям. Поначалу он решался уделять мне и леди Арундел лишь
несколько вечерних часов, спустя некоторое время он стал приезжать позже и
оставаться на ночлег, потом, ссылаясь на опасение скомпрометировать таким
образом одну из нас, стал проводить с нами целые дни. «О Лейстер, — часто
думала я, истощив все свое красноречие в тщетной попытке отослать его
прочь от себя. — Надо ли удивляться, что тайна твоего прошлого брака была
раскрыта? И что былой гнев Елизаветы в сравнении с тем, который овладел
бы ею, проникни она до конца в нашу тайну?» Я обратилась к Эллинор,
умоляя ее прислать известие, что мое отсутствие замечено при дворе, и наконец
вернулась, вновь добровольно жертвуя собой.
При виде сэра Филиппа мои черты выразили лишь печальное и
безмолвное восхищение. Он вздохнул в ответ на поздравление, которого приличие
требовало от меня и которое его невеста приняла с видом холодным и
презрительным. С постоянным выражением любопытства и недоброжелательности,
которое ей было свойственно от природы, мисс Уолсингем сочетала
надменный, вспыльчивый и сварливый нрав. Ее страстная привязанность к сэру
Филиппу до поры подавляла или заслоняла во всем, что касалось его, эти
недостатки. Чувство это не было тайной для сэра Филиппа, так как очень часто
давало пищу для всевозможных шутливых намеков, и, видя, что его желание
несбыточно, он тут же великодушно решил покориться ее выбору. Никто не
мог усомниться в его побуждениях, так как всем было известно, что она
бесприданница, и все понимали, что в ее власти стать самой счастливой
женщиной при дворе... Увы, это было не в ее натуре: вместо того чтобы покорить его
сердце, молчаливо снисходя к присущим ему маленьким слабостям, она
докучала мужу назойливыми ласками, а, когда дела или скука гнали его из дому,
в его отсутствие копила и разжигала в себе гнев и возмущение, которые
потом не упускала случая обрушить на него. Он не мог склонить свой
благородный ум к мелочному торжеству над умом пошлым и низменным, равно не
мог он ввести свою жизнь в узкую колею представлений и правил, которые
эта женщина стремилась навязать ему. Потому единственным выходом
виделась ему дорога славы. Он ходатайствовал о разрешении отправиться во Фли-
сининген.
О, прости мне, возлюбленный Лейстер, горькие слезы, что я столь часто
лью об отважном Сиднее. Ах, отчего, отчего не выбрал он сестру мою? Она
была свободна. Ее рука, ее сердце, ее несравненные качества были достойны
его. Она увенчала бы счастьем его дни и честью его могилу. Увы, в нашей
жалкой человеческой гордыне мы стремимся переделать по-своему различия,
установленные природой, и дерзаем противопоставить свои ограниченные
способности всеведению Творца.
Новые волнения в Нидерландах вынуждали лорда Лейстера как
главнокомандующего отправиться туда одновременно с племянником. Я провожала их
обоих с нежеланием столь сильным, что оно граничило с предвестием беды.
Великодушному Сиднею были понятны моя молчаливость, мое смятение
чувств, мои желания.
— Положитесь на мою заботу, положитесь на мою честь, — сказал он при
расставании, — и верьте: скорее грудь моя станет холодна, как земля, что
скроет ее, чем в той, другой груди отзовется единая рана, таимая сердцем
прекрасной Матильды. О, позвольте мне восславить мудрость Провидения!
Если среди всех ударов, обрушенных на меня судьбой и собственным
безрассудством, я все еще с сожалением произношу прощальные слова, что
пришлось бы мне испытать, будь я вашим избранником? Но к чему огорчаю я
подобным напоминанием ту, кого боготворю? Пусть же драгоценные слезы, что
сверкают на ваших щеках, будут об одном лишь Сиднее!
И они были об одном лишь Сиднее! Печальное предчувствие усиливало
муку прощания; оно говорило мне, что мы не увидимся более. Не моему
слабому перу описывать героическую смерть сэра Филиппа Сиднея —
благороднейшие исполнили эту задачу. Даже зависть и недоброжелательство роняли
невольные слезы, дружба изнемогала от безысходных стенаний. Моя скорбь
не знала границ и, похоронив с ним ту причину, по которой прежде я таила
свое глубочайшее уважение к нему, теперь я оплакивала сэра Филиппа как
любимого брата, отчего укрепилась в своей тайной ненависти ко мне его
жена — неразумная женщина, она ревновала меня даже к печальному праву
скорбеть о нем.
Беспокойство о лорде Лейстере, с новой силой всколыхнувшееся после
этого события, вскоре отступило перед более насущной тревогой. Напрасно я
приписывала постоянное недомогание своему горю. Время подтвердило то
опасение, что не раз посещало меня, начиная с отъезда милорда. Я убедилась
с полной несомненностью, что безоглядная любовь привела к новой беде, что
я несу в себе живое свидетельство своего брака, из которого могут возникнуть
тяжелейшие последствия.
Ах, бедное дитя, материнская душевная мука предшествовала твоему
рождению! Несчастное стечение обстоятельств лишило тебя родительского
радостного ожидания; трепет ужаса был для тебя первым признаком существова-
ния. Беды, следуя одна за другой, казалось, затуманили мой разум. Я не
знала, на что решиться. Собственное положение представлялось мне почти столь
же безвыходным, как положение моей несчастной королевы-матери в момент
моего появления на свет. «Увы! Быть может, завтра оно станет совершенно
таким же, — думала я. — Так не бежать ли мне, пока двери моей тюрьмы
открыты?»
Взгляд Елизаветы теперь более прежнего страшил меня: во всякую
минуту мне чудилось, что он проникает в самое мое сердце, и перед моим взором
вставали видения смерти тех, кто был мне дороже себя самой.
Здравомыслию моей сестры ясно представлялось, каким опасным и
неисполнимым может оказаться мой предполагаемый побег.
— Ты, чье сердце пугливо сторонится даже тех, кого любит, — не раз
повторяла мне она, — чья нога до сей поры не ступала за пределы узкого
оберегаемого круга, ты, которой неведомо одиночество, как перенесешь ты
превратности дороги, дерзость чужаков, опасности морского пути и ужасы
походной жизни? Даже если предположить, что ты благополучно минуешь все
эти опасности, последовав за Лейстером, ты лишь переложишь на него всю
тяжесть гнева Елизаветы, и никакое расстояние не защитит от этого гнева ни
тебя, ни того, кто тебе всех дороже. А как много у нее способов отомстить!
Это правда — Лейстер любит тебя, но в тебе сейчас для него сосредоточены
будущие возможности высокого положения, почета и тех разнообразных
радостей, к которым он никогда не оставался равнодушен, — все это будет
наименьшей из его потерь. И поверь мне: если тайне суждено обнаружиться, то в
один прекрасный день ты найдешь бесценное утешение в том, что это
произошло по его воле и разумению. И наконец, я не верю, что моя дорогая
Матильда может совершенно забыть о своей сестре, чьей единственной радостью и
печалью она всегда была.
Это нежное напоминание тотчас погасило мгновенную вспышку
неудовольствия, вызванную ее предыдущим доводом. Я подчинила ее руководству
свою колеблющуюся решимость и написала безымянное письмо, в котором
обрисовала свое положение. Письмо это леди Арундел с многочисленными
предосторожностями переправила лорду Бруку, достойному другу сэра
Филиппа Сиднея, для передачи прямо в руки лорду Лейстеру. Эта
великодушная женщина стала моей поверенной во всех нынешних опасениях и с
неустанной добротой убеждала меня всецело положиться на нее, заверяя, что в ее
доме я найду надежное убежище, а в ней — вторую мать для моего
несчастного младенца. Я видела милость Небес в том, что мне была ниспослана эта
неожиданная помощь и опора, и едва ли не жалела, что вовлекла своего супруга
в заботы, которые он столь мало мог облегчить. По совету благоразумной
леди Арундел я, собрав все свое мужество, вновь появилась при дворе.
— Мы редко, — говорила она мне, — смотрим критическим оком на тех,
кого видим ежедневно, и лишь новизна возбуждает любопытство. Если вы на
время исчезнете, то чей-нибудь взгляд из многих, привлеченных вашим
возвращением, может сквозь все завесы проникнуть в истинную причину отсут-
ствия. Я буду внимательно наблюдать и, когда увижу в этом надобность, дам
вам знать, что пора удалиться.
По возвращении я узнала, что прелестная Роз Сесил покинула Лондон по
приказанию отца, который был крайне разгневан и ее отказом от
чрезвычайно выгодной партии, и страстью, вызвавшей этот отказ. В иное время я бы
горько пожалела об этой утрате, но в нынешнем моем щекотливом
положении она была скорее благоприятна для меня. Я более не осмеливалась искать
общества тех, кого не смогла бы держать на расстоянии. Я надеялась, что,
когда мы встретимся вновь, ничто не помешает мне отвечать на выказанную
ею привязанность, а время одержит победу над несчастной страстью, которая
одна только и могла стать препятствием нашей дружбе.
Я считала минуты до того часа, когда может прийти письмо от моего
супруга. Напрасно Эллинор убеждала меня, что прошло еще недостаточно
времени, даже если лорд Брук не задержался в пути. Мы обсуждали это как-то
утром, когда громкий стук в дверь, раздавшийся непривычно рано, испугал
нас обеих. Дверь распахнулась, и, к моему изумлению, в комнату
стремительно ворвался лорд Лейстер. Его дорожные ботфорты, беспорядок в одежде,
весь вид его указывали на то, что он только сию минуту приехал.
Побледневшая и безмолвная, я упала ему на грудь и лишь вздохами и слезами могла
ответить на его объятие. Между тем Эллинор, пораженная странностью его
появления, вновь и вновь вопрошала, как и зачем он оказался здесь.
— Я здесь, чтобы увидеть, чтобы спасти мою любовь! — отвечал он,
устремив на меня взор, исполненный невыразимой нежности. — Ведь моя
Матильда собирается одарить меня новой жизнью. Могу ли я быть так бесчеловечен,
чтобы оставить ее одну перед лицом боли, горя и опасности? Осуши свои
слезы, любимая, — разве я не с тобой, я, кого ты сделала счастливейшим из
смертных, я, кто был рожден, чтобы боготворить тебя?
— Безрассудный! — вскричала я, ударяя себя в грудь. — Увы! Любовь моя,
зачем ты здесь?
Казалось, разумение ярким лучом пронизало хаос его мыслей. Всецело
поглощенный заботой обо мне и моем положении, он по получении письма
примчался в Англию, не медля ни минуты и не подыскав тому ни повода, ни
основания, убедительного даже для стороннего наблюдателя, не говоря уже о
подозрительной и ревнивой Елизавете.
— О Боже! — восклицала я, ломая руки. — Теперь мы воистину погибли.
Безжалостная разрушительница моего покоя разрушит и твой. Злорадные
взоры всех будут теперь устремлены на ту, которая трепещет от всякого
случайного взгляда. О, зачем не стало мне могилой то тихое жилище, где я
долго и мирно существовала, если, покинув его, я принесла лишь несчастье
человеку, которого люблю!
— Почему моя Матильда, — с благородной кротостью вопросил лорд
Лейстер, — лишь за собой оставляет право проявлять любовь и великодушие?
Быть может, влияния моего на Елизавету еще довольно, чтобы я мог убедить
ее, будто единственно страх за ее благополучие привел меня домой. Если же
нет, разве не перенесу я малого унижения во имя той, что столько вынесла
ради меня? Самое большее, что может открыться, — это наш брак. Перед
тайной твоего рождения могущество злобы бессильно. Соберись же с духом,
любовь моя, и давай примем все меры, необходимые для нашей общей
безопасности. Обо мне не беспокойся — я сумею позаботиться о себе сам. Никогда
более, клянусь тебе в этом, твой муж с тобой не разлучится. Мечты о славе и
богатстве отступают перед истинными требованиями жизни. Давай вместе с
милой сестрой нашей искать приюта во Франции. Утратив зависимость от
королевы, я не буду нуждаться в средствах для поддержания роскоши. Так
объявим о нашем союзе, и пусть нежность моей дорогой Матильды, в которой ее
главное очарование, станет и добродетелью ее, и счастьем. Там, вдали от
мстительных замыслов Елизаветы, мы станем без страха и бесчестия
спокойно ожидать конца ее царствования. Представь себе, любовь моя, какая это
будет ни с чем несравнимая радость — окружить трон твоей матери
прелестными залогами нашего союза. И в то время, как королевские помыслы
потребуют всей силы ее воображения, природа каждым биением пульса будет
отдаваться в ее сердце.
Какие сладостные видения теснились перед моим мысленным взором!
Лорд Лейстер, безразличный к мнению королевы, решил предстать перед
нею, не вдаваясь в причины своего возвращения, о котором уже сделалось
известно всему двору. Елизавета некоторое время не покидала своей спальни,
но, однако, удостоила Лейстера аудиенции еще до того, как поднялась после
болезни. Я знала ее капризный и переменчивый нрав, и, как раз когда я
размышляла, каким образом она поведет себя, несколько фрейлин, бывших при
ней в эту минуту, появились из дверей ее спальни. Та, что вышла последней,
объявила мне, что изволением королевы я одна должна присутствовать при
ее беседе с лордом Лейстером. Сознание вины сотрясло меня, как удар
грома, и я вступила в королевскую опочивальню, как несчастный осужденный
входит в камеру, где для него готовится дыба. Лорд Лейстер, удивленный не
менее, чем я, выразительным взглядом указал мне место, где задернутый
полог скроет от ее глаз перемены в выражении моего лица, и там я встала ни
жива ни мертва.
— Лейстер, — слабым голосом промолвила королева, — твое неожиданное
возвращение при известии о моем нездоровье еще раз подтверждает твою
беззаветную преданность и не подвластную времени любовь. Я долго
противилась той нежной склонности, которой отметила тебя в юные годы, но
теперь, когда у меня более нет могущественных врагов, я могу увенчать твою
страсть и уступить своей, не подвергая опасности ни себя, ни государство.
Новый, мною обнаруженный заговор, направленный на освобождение Марии,
делает необходимым с помощью моего замужества положить конец ее
надеждам и надеждам ее сторонников. Теперь мой черед удивить их. Я долго
обдумывала этот шаг и уже не раз решалась призвать тебя, но твое
возвращение, свидетельствуя о силе твоей любви, требует немедленной награды.
Прими же наконец столь долго ожидаемую тобой руку Елизаветы, которая тем
самым отрекается от всякой иной над тобою власти, кроме той, что дает ей
твое сердце.
Она умолкла и протянула ему увядшую руку. Лорд Лейстер в
невыразимом смятении, всякую минуту опасаясь, что я лишусь чувств, с трудом
выговорил несколько бессвязных благодарственных фраз и поцеловал эту
роковую руку, которую она более у него не отнимала. Его глаза на мгновение
остановились на мне, и, о! как много выразил этот взгляд!
— Дрожь твоей руки говорит мне, — продолжала она, — как сильно я
поразила тебя. Умерь свое изумление. Мой выбор ни для кого не будет
неожиданностью и нанесет сокрушительный удар Марии. Я вполне оправилась от
болезни и намерена сейчас выйти. Я желаю, чтобы отсюда меня повел ты и,
заняв место рядом со мной на королевском возвышении, тем подготовил всех
моих подданных к заявлению, которое я намереваюсь сделать завтра.
Церемония бракосочетания должна быть великолепной — подготовка ее потребует
времени, но никогда более тебе не придется отлучаться от той, которая
убедилась, что не может, как ни старалась, жить без тебя.
Природа знает примеры тому, как робкие создания, которые от одной
только темноты могут лишиться чувств, в обстоятельствах крайних
бестрепетно противостоят бушующим стихиям. Я, которая до той минуты была
способна лишь на слезы и трепет, сейчас поняла, что не должна более оставаться
беспомощным грузом на сердце мужа. Благословляя каприз Елизаветы,
вследствие которого я оказалась единственной свидетельницей ее старческого
безумия, я прислонилась к завешенной гобеленом стене и своим видом
полного самообладания постаралась поддержать моего супруга в эту опасную
минуту. С отчаянием в душе я видела, что его решимость угасает столь же
стремительно, сколь разгорается моя. После жестокой внутренней борьбы, которая,
казалось, в следующий миг разрешится конвульсиями, он вынужден был
поспешно выйти, и его ослабевшие ноги с трудом повиновались ему. Фрейлины,
удаленные королевой, вернулись, и она подозвала к своей постели леди Лети-
мер, а я направилась вслед за милордом.
— Силы небесные! — вскричала я, тщетно отыскивая его взглядом. — Что
же теперь будет со мной?
Даже Эллинор, единственной моей утешительницы, судьба жестоко
лишила меня в эту минуту, и, разыскивая по всему дворцу, я так и не нашла ее.
Еще не успело мое смятение подчиниться голосу разума, как мне сообщили,
что леди Арундел сделалась серьезно больна и ее карета прислана, чтобы
доставить меня в Челси. Легко догадавшись, что таким способом меня
вызывает лорд Лейстер, чтобы без опасений излить передо мной свои чувства, я
поспешно села в карету и вскоре оказалась в столь памятном мне салоне окнами
на Темзу, где некогда обитали лишь любовь и радость. Лорда Лейстера я
застала в обществе его племянницы. С видом глубокого отчаяния он порывисто
шагал из угла в угол. При виде меня сердце его смягчилось жалостью к
моему невыносимому положению, и он, взяв меня за руку, подвел к креслу,
усадил и опустился рядом. Его слезы окропили руку, которую он поцеловал.
— Мужайся, душа моя, — сказал он. — Беда нагрянула неожиданно, судьба
опередила нас и наши намерения. Елизавета действительно застала меня
врасплох, но так как страсть ее, пусть жалка и нелепа, все же великодушна, она
сейчас — укор моему сердцу. Как допустить, чтобы она перед всеми
выставила напоказ свое чувство, как подвергнуть всеобщему осмеянию свою
королеву и покровительницу? Я навлек бы на себя смертельную ненависть и сам
утратил бы уважение к себе. Матильда, любовь моя, в состоянии ли ты
выслушать правду, всю правду? Не говорил ли я тебе, что может настать день,
когда твое страстное желание увидеть мать свободной станет на пути твоего
счастья? Этот день настал. В ту минуту, когда королева с сердечным доверием
сообщила мне о заговоре в пользу Марии, которому она и намеревалась
противопоставить собственный брак, в тайниках души я заклеймил себя как
соучастника, если и не главы заговора. Счастливый мыслью, что смогу
нежданно обрадовать тебя вестью о существовании заговора для освобождения
Марии, не подозревая о той неожиданности, которую готовит королева, я из
бумаг, поданных мне лордом Бэрли как раз в ту минуту, как я входил к
королеве, вдруг узнаю, что пылкие приверженцы Марии злоумышляют на жизнь
Елизаветы, и у меня есть основания полагать, что к этому времени ей уже
известно, что человек, которого она желала сравнять с собой, оказался способен
на столь позорное двоедушие. Хуже того — как знать, насколько тесно
связали мое имя с этим варварским замыслом? Ей могли внушить, что рука, в
которую она час назад вложила свою руку, сжимает нож и готова в любую
минуту пустить его в ход. Под угрозой моя жизнь и то, что много, неизмеримо
дороже — добрая слава, которая, я надеялся, переживет меня и которую
навсегда затмила неблагодарность.
От волнения он почти утратил рассудок. Я бросилась перед ним на колени.
— О! Если когда-нибудь несчастная Матильда была тебе дорога, —
вскричала я, — сейчас докажи это! Сейчас борись, чтобы выжить ради нее — разве
когда-нибудь я убоялась сделать это ради тебя? Нельзя надеяться на
Елизавету: по тому, как обстоятельства ей представлены, она должна осудить тебя. Я
вижу тебя в Тауэре... Вижу, как отворяются, принимая тебя, ворота, за
которыми погребены столь многие, благородные и безвинные, как ты. Если ты
хочешь, чтобы младенец, которого материнская мука до срока зовет в этот
мир... О! Если ты хочешь, чтобы он увидел свет небес, не погружай его мать в
еще большее отчаяние! Беги сейчас, сейчас, сию минуту, пока это еще в
нашей власти. Пока ты жив, твою невиновность можно отстоять. Пока ты жив,
быть может, смогу жить и я.
Лорд Лейстер покачал головой и тяжело вздохнул, и вздох этот отозвался
в моей душе сильнее, чем самое бурное волнение.
— Любовь моя, ты не знаешь, о чем ты говоришь, — возразил он. — По всей
вероятности, в эту самую минуту дом мой окружен, во все концы королевства
разослан приказ закрыть все до одного порты на случай, если я попытаюсь
бежать, и последний пастух в стране знает меня в лицо. Остается одно лишь
обстоятельство, которое смягчает удар. Тебе не грозит никакая опасность, и, в
отличие от меня, тебя почти никто не знает в лицо. Беги — это в твоих силах.
Твою безопасность я буду ощущать как свою. Отдайся под покровительство...
— Никогда! — прервала я его, гневно выпрямившись. — Я твоя жена, и от
этого священного имени я не отрекусь ни перед людьми, ни перед ангелами, и
ничто — теперь моя очередь торжественно поклясться в этом, — ничто не
разлучит нас. Я заботливо и покорно разделю с тобой тюремное заточение, на
которое — я никогда этого не забуду — сама обрекла себя, и, если из-за меня
судьба ускорит твою кончину, не сомневайся: точно так же я разделю с тобой
и могилу.
— Но ведь одно средство спасения у вас все еще есть! — воскликнула леди
Арундел. — Как могли вы забыть про Убежище? Оно даст вам печальный, но
милый приют до той поры, пока мы сможем судить о дальнейших
обстоятельствах.
Мысль об Убежище уже приходила мне на ум, но я не решалась вслух
назвать это место, с которым было так тесно связано наше нынешнее несчастье.
Я молча посмотрела мужу в глаза.
— Моя нежная любовь, моя милая Матильда, если смогу я решиться
погубить тебя, — со вздохом произнес он, — скажи, хочешь ли ты, чтобы я отвез
тебя туда?
Сквозь слезы я смогла лишь вымолвить: «Да».
— Но разве это осуществимо? — продолжал он. — Как будешь ты
переносить неизбежные трудности утомительного пути и его опасности в твоем
положении?
— Я перенесу все, я перенесу что угодно, — бессвязно твердила я сквозь
рыдания, — кроме мысли о том, что ты в опасности.
— Да, любовь моя, — сказал он, целуя мое залитое слезами лицо, — если
мне суждено жить, то лишь затем, чтобы вознаградить твою несравненную
нежность. Леди Арундел, подумайте и решите за нас — как нам уехать?
— Выезжать надо немедля, — решила наша великодушная сторонница. —
Вам обоим следует изменить свою внешность, и надо найти для вас надежных
сопровождающих.
— Мы поедем одни, — ответил лорд Лейстер. — Вас же я осмелюсь
затруднить просьбой вызвать из замка Кенильворт Ле Валя. Он посвящен в тайну
Убежища, и туда ему надлежит последовать за нами и перевезти с
осторожностью и постепенно сокровища, хранящиеся в замке. Мы между тем вместе
с почтенным названым отцом моей любимой будем ждать от вас дальнейших
известий.
— Какое счастье, — заметила я, — что из любви ко мне ты настоял, чтобы я
научилась ездить верхом. Теперь я могу следовать за тобой, не боясь ничего и
никого, кроме Елизаветы. Найдите для меня, дорогая леди Арундел, самый
скромный наряд служанки, а милорд должен воспользоваться обличьем
живописца, которое он изобрел и носил в более счастливые времена, и если уж я
едва узнала его в этом наряде, то как может узнать его кто-то другой? О,
поспешите, дорогой друг! Выберите для нас самых быстрых лошадей. Каждый
миг мне чудится, что меня уже окружает стража Елизаветы. Настанет ли
время, когда мы будем приносить вам не одни тревоги и заботы?
Добросердечная леди Арундел снабдила нас всем необходимым, и мы
тотчас отправились в путь. Еще до захода солнца мы подъехали к крестьянской
хижине неподалеку от Сент-Олбана, где, как утверждал мой супруг, можно
было в безопасности отдохнуть, в чем я очень нуждалась. Так как он
несчетно ездил по этой дороге в оба конца, лицо каждого встречного казалось ему
знакомым, я же была уверена, что и его узнают все. Наши хозяева, как мне
показалось, что-то поняли и в нашем появлении усмотрели некую тайну,
поэтому я разбудила милорда на рассвете, про себя решив не переступать более
ничей порог, пока мы не доберемся до своего приюта. Даже щедрое
вознаграждение, которое оставил этим крестьянам мой супруг, сообразуясь скорее
со своей душой, чем с наружностью, возбудило у них подозрение. Они
уговаривали нас остаться подольше, и теперь уже их манера показалась
подозрительной мне. Когда же мы отправились в путь, то поспешность нашего
отъезда, надо полагать, подтвердила их опасливые догадки. Лорд Лейстер,
прекрасно зная эту местность, выбирал самые безлюдные дороги. Я не жалуясь
переносила немыслимую усталость, скакала целый день, не подкрепив себя
ничем, кроме нескольких глотков парного молока, которое предложила мне
встретившаяся в пути крестьянская девушка, и, когда солнце уже склонялось
к вечеру, мы въехали на крутой склон, откуда открывался вид на Сент-Вин-
сентское Аббатство. При виде знакомых мест сердцу моему стало тесно в
груди. Единым взором я пыталась охватить всю картину с тем чувством, которое
пробудить способен лишь вид родного дома. Природа, казалось, одела леса
особенно сочной зеленью, прозрачный ручей, виясь, струился в величавом
безмолвии, не нарушаемом криками шумливых лодочников. Сама
невинность нашла себе приют в тени прибрежных ив. Пурпурное вечернее солнце
изливало вокруг покой и само нежилось в нем. Неодолимое очарование этих
мест овладело моим сердцем, на миг я забыла о всех несчастьях.
— Здесь, — воскликнула я, придерживая коня, — здесь мы в безопасности!
Ах, более чем в безопасности — здесь мы будем счастливы! Отчего, отчего
нельзя вернуть часы нашей первой встречи, те часы ни с чем не сравнимого
блаженства? Тогда этот мирный ландшафт замыкал собою все наши
желания: в его пределах было все, что нужно для существования, в нас самих —
все, что нужно для счастья, но общество людей, это первое среди земных
благ, несет с собою множество зол, исправить которые под силу лишь смерти.
А высокочтимый отец Энтони — с какой отрадой... Но ах! С какой печалью
примет он нас: самим появлением нашим предуведомленный о беде, он не
сможет всецело отдаться радости в минуту встречи.
Сменяя друг друга, эти чувства и впечатления переполняли меня, а между
тем мы добрались до места, где сердце мое узнавало каждую мельчайшую
примету. Лорд Лейстер привязал наших коней в лесной чаще, и мы
пешком направились к Пещере Отшельника. Над землей сгущались вечерние
сумерки.
Мы еще прежде условились, что я буду хранить молчание, пока милорд не
подготовит постепенно к своему появлению отца Энтони, чье ослабевшее
сердце могло не вынести потрясения, но как же были поражены мы сами,
когда незнакомый голос предложил нам войти! С замирающим сердцем я
сжимала руку лорда Лейстера, пока он с тревожным удивлением расспрашивал
об отшельнике.
— Он уже десять дней как умер, — отвечал незнакомец, — и похоронен
среди Скрупов в склепе Сент-Винсентского Аббатства. Мне поручено охранять
то небольшое имущество, что он оставил, пока его родственники не
распорядятся, что с ним делать.
— Вот и конец нашим надеждам на безопасность, покой и радость, —
промолвила я с горестным вздохом, отворачиваясь от Пещеры. — О, безгрешный
Энтони! У меня нет сил, чтобы оплакать тебя, и весть об этой утрате, над
которой еще недавно пролила бы потоки слез, я встречаю сейчас с
безразличием. Куда деться нам, несчастным скитальцам? Останься мы в Лондоне, не
только дружеское расположение, но даже простая корысть могли бы
предоставить нам приют. Здесь я так же хорошо известна, как ты — там, и новые
владельцы Сент-Винсентского Аббатства, несомненно, узнают нас обоих.
Хуже того — мы не знаем, кто они и не окажемся ли мы во власти злейших
врагов. Увы, любовь моя! Какие беды навлекла я на тебя! И я не могу более
казаться бодрой: силы изменяют мне, я должна отдохнуть — хотя бы просто на
голой земле.
— Милосердный Боже! — вскричал лорд Лейстер, обнимая и поддерживая
меня. — Чем заслужили мы такое множество несчастий? Давай проберемся
через лес: кто знает, моя Матильда, быть может, волею Провидения, вход в
гробницу открыт, и там мы сможем найти приют. Крестьянин, что сейчас
живет в Пещере, явно не посвящен в тайны отца Энтони, и секрет Убежища тот,
по всей вероятности, унес в могилу. Соберись же с силами, любовь моя, еще
ненадолго — что-то говорит мне, что Небеса позаботятся о нас.
Изнемогая от голода и падая с ног от усталости, я продолжала путь, но так
медленно, что мы добрались до гробницы уже в полной темноте. Долгая
привычка, однако, помогла мне верно найти дорогу.
— Открыто! — радостно воскликнул лорд Лейстер. — Входи же, любовь
моя, позволь, я тебе помогу.
Он помог мне войти, но едва я оказалась внутри гробницы, как сразу
несколько рук грубо схватили меня. Кто-то заткнул мне рот, так что я не могла
бы вскрикнуть, даже если бы Небо послало на то силы, но мука и ужас,
охватившие меня, были так велики, что я потеряла сознание.
Конец первого тома
Том второй
Разве лес
Не безопаснее, чем двор коварный?
Здесь чувствуем мы лишь Адама кару —
Погоды смену.

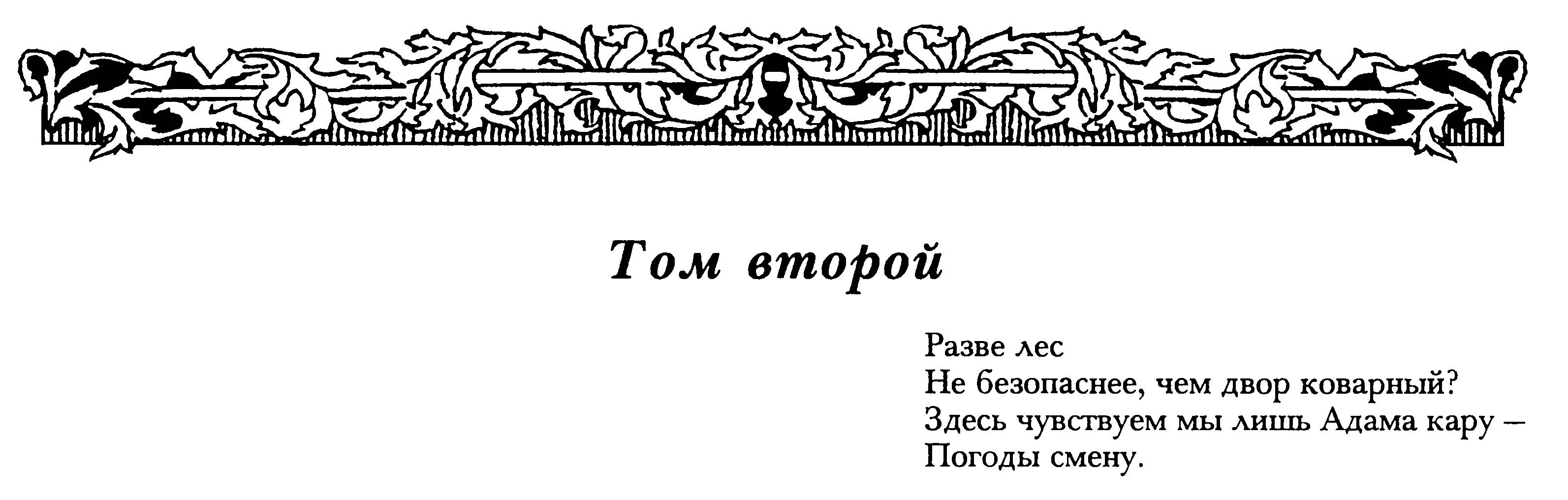
Часть III
Из своего временного небытия я была наконец возвращена к
жизни звуком, заставившим меня пожалеть, что я не умерла
навеки: то был голос, страшный голос Уильямса. Каким
ужасом мгновенно исполнилась моя душа! Какие чудовищные
образы плыли перед глазами, которые я не осмеливалась
открыть! Когда наконец я в страхе огляделась вокруг, то увидела,
что меня успели перенести в большую комнату Убежища,
некогда служившую приютом благочестию и невинности, теперь
же, увы, превращенную в притон разбоя, а может быть, и
убийства. Вокруг стояли мерзкого вида головорезы, готовые
выполнить самые гнусные приказы своего свирепого главаря, в злобной радости
упивавшегося видом двух беспомощных жертв, которые судьба безжалостно
отдала во власть его мщения. Я поняла, что погибла, — не я одна, но и лорд
Лейстер, который, обезоруженный и окруженный врагами, усилием воли
овладел собой и вновь принял тот величавый вид, что некогда мог принудить
к повиновению даже этого негодяя. Повсюду я видела разнообразные
приспособления, которые, не зная их названий, сочла за орудия пыток и смерти. Я
молила Всемогущего лишь о том, чтобы Он избавил нас от мучений, мольбы
о спасении от смерти казались мне бесплодными.
— Ну что, лорд Лейстер, — торжествующе промолвил злодей, — видите —
судьба завершила свой круг, настал мой черед. Неужели вы надеялись
одолеть человека, все достояние которого — смелость? Ни сэр Фрэнсис, ни сама
Елизавета не удержат под замком того, кто не побоится броситься в океан,
чтобы обрести свободу. К тому же, — иронически добавил он, — я никогда не
забываю платить свои долги.
Лорд Лейстер ответил ему лишь взглядом, но во взгляде этом было такое
чувство превосходства, презрения и такое самообладание, что ярость Уильям-
са разгорелась еще сильнее. Он повернулся ко мне, и его ужасное, покрытое
шрамами лицо злобно исказилось.
— Добро пожаловать домой, прекрасная дама, хоть визит и неожиданный,
да и без обычной праздной свиты, с которой всегда разъезжал этот праздный
фаворит. Мы, как видите, без разрешения воспользовались вашим
священным жилищем, но ведь святые всех принимают с кротостью. Что же вы не
спрашиваете о вашем названом отце? Он ничего не пожелал нам
рассказывать, так что и вам теперь ничего не расскажет.
О, Энтони! Я молча содрогнулась от этой вести, благоговейно чтимый,
злодейски убитый друг.
— Чудовище! — вскричал лорд Лейстер. — Неужели ты был так
беспримерно жесток, что загубил отшельника?
— Я всегда действую наверняка, — ответил Уильяме. — Вы просто
избавили меня от лишних хлопот. Я бы не знал покоя до тех пор, пока какой-нибудь
хитростью не заманил бы вас сюда. И вот — Господь Бог оказал мне
любезность и прислал вас.
— Не поминай кощунственно имени Творца, жестокосердный злодей, —
дрожащим голосом промолвила я. — Суровы, но справедливы Его веления, и
видишь: с печальной покорностью я принимаю назначенную мне гибель —
даже от твоей руки.
— Нет! — воскликнул он. — Вы, правда, не та надменная красавица,
которую я боготворил, но вы жена этого высокомерного лорда и станете
превосходным орудием для моего мщения.
Каким будет это мщение, я поняла по тому, как сверкнули его глаза —
ужас холодной глыбой придавил мое сердце. В безмолвной муке я возвела
взгляд к небесам, потом обратила его на лорда Лейстера и почувствовала,
что жизнь оставляет меня так стремительно, что слух мой не различает слов
горестного негодования, произносимых столь громко голосом, который я
любила.
Я почти усомнилась в том, что сознание вернулось ко мш, когда
обнаружила, что меня окружает непроницаемая тьма. Безутешный вздох,
послышавшийся рядом, был единственным звуком, нарушившим молчание ночи.
— Если только это голос, от которого всегда суждено трепетать моему
сердцу, — едва слышно сказала я, — о, ответь мне, возлюбленный мой
Лейстер, привиделось мне или действительно произошло все то, что до сих пор
стоит у меня перед глазами?
— Милостивый Боже! — отозвался он голосом еще более безутешным. —
Ты живешь и дышишь вновь, бесценное сокровище души моей! Твое долгое
беспамятство, вызванное угрозами этого гнусного чудовища, дало мне
надежду, что тебе удалось избежать судьбы, ужас которой превосходит
воображение. О, какая бездна отчаяния и горя побуждает меня желать твоей смерти!
Но что иное может принести тебе избавление? Не думай, Матильда, что я
страшусь последовать за тобой — о нет! За тебя я радостно отдам всю кровь
до последней капли, но при мысли о том, что будет предшествовать этой ми-
нуте, мне хочется в отчаянии разбить голову о камни, на которых я лежу, и
сократить свои страдания, если я не в силах избавить тебя от твоих.
— Призови на помощь свою стойкость, свой разум, свою религию, —
ответила я голосом более твердым, чем прежде (чувство, в котором смешались
все эти качества, постепенно овладевало мною). — Смею ли я обвинять
Всемогущего в несправедливости? Разве может Тот, кто первым дал невинности
беспомощного дитяти священный приют в этих стенах, пожелать, чтобы они
стали гробницей этой невинности? Тени тех, кто взрастил меня, поднимутся
на защиту и спасут меня от бесчестья.
— Увы, любовь моя, — отозвался он со скорбным вздохом. — Эти
призрачные надежды могут лишь успокоить на время, до той горестной минуты,
которой ничем не отвратить. Вспомни: даже в более счастливые времена ты не
ждала ничего хорошего от этого злодея. Сейчас ли ожидать, что он
переменится? Жажда мести и нужда выжгли в его душе все человеческое. Но как,
как мог я забыть, что ему известна тайна Убежища? Как решился войти сюда
столь неосмотрительно? Но недальновидный человек, занятый лишь тем,
чтобы расставить сети для других, вдруг сам оказывается в сетях и становится
легкой добычей бесчестного негодяя. Мало того, что он возглавил шайку
фальшивомонетчиков, о чем говорят их инструменты и приспособления, —
его дерзкий нрав побуждает его к грабежу и душегубству. И даже сейчас он
ищет новые жертвы, хотя в его власти оказались, без всяких усилий с его
стороны, те, кого сам бы он выбрал из всего рода человеческого.
— Нам ли роптать, что Небеса оставили нас, — вновь заговорила я, — если
они дают нам несколько мгновений побыть вместе? О Лейстер, ты до сих пор
знал меня лишь нежной, робкой и боязливой. Увы, до этой минуты я и сама
не подозревала, сколько силы в моей душе. Исполненная отвращения и ужаса
перед позором и бесчестием, я чувствую, как во мне пробуждается
решимость отчаяния. И если твоя душа близка моей, она понимает меня.
Исполнись римской доблестью и спаси свою жену, свою безупречную жену от
ужасного надругательства.
— Мысль о нем так мучительна мне, — воскликнул лорд Лейстер, — что,
будь эти руки свободны, я, может быть...
— Мои руки тоже, — отозвалась я, — как они ни слабы, связаны, но я верю:
отчаяние даст мне силы освободить их.
Яростными усилиями я наконец разорвала тонкий кожаный шнурок,
который разбойники сочли достаточным для меня в моем немощном положении,
и, ободренная успехом, я принялась за путы, связывавшие лорда Лейстера. В
миг, когда я их развязала, силы почти вернулись ко мне. Лейстер же, как
только руки его оказались свободными, с любовью прижал меня к груди,
вздымающейся от рыданий. Я изо всех сил боролась с печальной нежностью,
разрывавшей мне сердце.
— О! Не думай более о любви! — вскричала я в героическом порыве. — Она
уступила место смерти... хуже чем смерти... лишь вообрази, что слышишь,
как вновь открывается эта дверь!
— Но как могу я своими руками, которыми поклялся всегда защищать
тебя, как могу я лишить тебя жизни, твоей драгоценной жизни? — простонал
он. — Как погублю я ангельский образ, который даже в этом беспросветном
ужасе озаряет светом мою душу? А наше дорогое, еще не рожденное дитя,
ради которого мы страдали с радостью! Могу ли, могу ли я уничтожить его?!
— Подумай, подумай, жизнь моя, — отвечала я. — Быть может, это
последняя минута, что нам осталась. Если бы эти негодяи оставили у меня в руках
хоть какое-нибудь орудие смерти, разве просила бы я смерти от твоей руки?
Задуши меня сейчас, пока темнота способствует нам. Твоя жена требует от
тебя этого высшего доказательства любви и мужества и будет достойна их. Ни
стона, ни сопротивления не встретишь ты, и сердце мое вернется безгрешным
во прах, из которого вышло, преданное лишь обожаемому мужу, двойной
образ которого оно хранит.
— О несравненная женщина! — вскричал он, орошая мои щеки слезами
благородного страдания. — Это невозможно, невозможно! Руки мои ослабели,
как у беспомощного младенца. Твоя внезапная стойкость затмила мою.
Твердость духа во мне сменилась женской слабостью. О Ты, что послал мне этого
ангела, неужели предоставишь Ты ее столь жестокой участи, а меня —
отчаянию?
Удар грома, сотрясший руины, был, казалось, укором за его дерзость.
Молнии мертвенным светом озаряли нашу темницу, проникая сквозь
многочисленные трещины в старых камнях. При каждой ослепительной вспышке я
благоговейно вглядывалась в бледное лицо моего супруга, как вдруг,
обернувшись, я издала крик, которого испугалась сама. Задыхаясь, сияя восторгом,
но все еще не в силах произнести ни слова, я пала на колени перед супругом
и, схватив его за руки, то прижимала их к груди, то воздевала их, вместе с
моими, к небесам.
— Что с моей любимой? — воскликнул он, пораженный и взволнованный
не менее, чем я. — Быть может, Провидение милосердно лишило ее рассудка?
— Ах, нет, сам Господь просветил его, — наконец с трудом вымолвила я. —
Есть ли такая темница, которую найдет человек и которую не сможет найти
Всемогущий? Ты, верно, забыл, любовь моя, как часто слышал о
единственном подземном ходе, соединяющем Убежище с Аббатством. Он был наглухо
закрыт после смерти миссис Марлоу и более не открывался, и этому
ужасному злодею о нем ничего не известно. Дверь находится в этой мрачной
темнице. У нас под ногами — единственное место в мире, где можем мы скрыться
от разбойников. В углу направо, под поленьями, давно наваленными там, ты
найдешь потайной люк, и если только у тебя достанет сил поднять крышку,
то крепкий засов с той стороны удержит его закрытым, по крайней мере,
пока мы доберемся до Аббатства. О Ты, — продолжала я, молитвенно возводя
взор, — единственный, кто может оборонить нас, посылай эти молнии — они
для нас желаннее самого солнца.
Всецело занятые мыслью о ближайшей опасности, лишь спустившись в
подземелье и заперев на засов благословенную дверь, отделившую нас от зло-
деев, вспомнили мы о том, что может ожидать нас в Аббатстве. Понимая, что
лишь безмерно богатый человек может занимать столь роскошное жилище,
мы тщетно пытались представить себе нынешнего владельца. Однако,
полагая, что даже злейший наш враг рад будет выручить нас из беды, так близко
подступившей к нему самому, мы решились презреть все остальные опасения.
Комната домоправительницы, в которую приводил подземный ход, была
безлюдна, но сдвинутая с мест мебель и некоторые другие признаки указывали
на близкое присутствие людей. Я горячо восславила Того, кто позволил мне
снова увидеть мягкий лунный свет, разлитый повсюду после грозы. Все еще
сжимая в руках стержень засова, закрывавшего вход в Аббатство, который
оказался единственным доступным оружием, лорд Лейстер продвигался
вслед моим робким шагам. Сами собой ноги привели меня к покоям миссис
Марлоу — ах, чего бы я не отдала за то, чтобы найти ее там! Я остановилась у
двери приемного покоя, и сердце мое тоскливо сжалось: я знала, что надо
безотлагательно поднять тревогу и призвать вооружиться всех обитателей дома,
но понимала также, что мы вначале испугаем их, появившись словно
существа из иного мира, а затем — сообщив, что наш побег навлекает опасность и на
них, при этом мы даже не ведали, перед кем сейчас предстанем, — все это
вполне могло вселить трепет и в более твердое сердце. Поглощенная этими
мыслями, я почти не услышала звука, который заставил лорда Лейстера
ринуться вперед с такой стремительностью, что я чуть не лишилась тех малых
сил, которые Небеса еще оставили мне. В приемном покое, куда я
последовала за ним, было темно, но за дверью горел свет и слышался женский голос,
выражавший мольбу. Едва только успев распознать в отвечавшем мужском
голосе голос ненавистного Уильямса, я увидела, как лорд Лейстер с
занесенным стержнем устремился вперед с такой отчаянной смелостью, что при его
появлении раздался звук упавшего тела, сказавший мне, что отныне мы в
безопасности. Лорд Лейстер мгновенно выхватил нож из руки негодяя и
приставил к его груди, но тут же понял, что с Уильямсом случился удар, что
наказание, постигшее его, было ужасно, как и его вина, а смерть — мгновенна.
— Мерзкое чудовище! — промолвил милорд, бросая нож. — Нежданно
Небеса покарали тебя.
— Боже милосердный! — вскричала женщина. — Неужели я слышу голос
лорда Лейстера?
Ошеломленная открывшимся мне и всеми предшествующими событиями,
я вступила в комнату, едва держась на ногах.
— Входи, моя дорогая Матильда, — позвал меня милорд. — Никогда более
этот негодяй не причинит тебе зла. Высшая справедливость совершилась
одним ударом, и мне нет нужды становиться убийцей — даже этого разбойника.
Радуясь тому, что одновременно спасена и эта дама, постарайся посвятить ее
в несчастья, которые, как видно, и ее уже коснулись.
— Разве могут быть у лорда Лейстера несчастья, которые бы меня не
касались? — воскликнула дама. — Лишь то, что я обязана ему жизнью, мирит меня
с этим.
Если бы я даже не узнала по голосу прелестную Роз Сесил, то узнала бы
по этим речам. Однако оказаться под кровом нашего заклятого врага было
тяжким ударом.
— Верно ли, что мы находимся в доме лорда Бэрли? — спросил неприятно
пораженный лорд Лейстер.
— К счастью, он в отъезде, — со вздохом ответила Роз, — но ничто не
грозит вам в любом доме, где я хозяйка.
— Вы не знаете, с кем вы говорите, — в свою очередь промолвила я. — Увы,
мисс Сесил, все ли вы еще помните дружбу, которую так часто выказывали
несчастной Матильде? Она неизменно жалела о печальной необходимости
скрывать свою судьбу от сердца столь благородного. Примите же в этот
неожиданный миг признание, которое я всегда желала вам сделать, и скажите,
все ли вы еще готовы любить ту, что была женой лорда Лейстера задолго до
того, как впервые увидела вас, любить ту, которая сейчас обрекает его на
участь изгнанника в собственной стране.
Некоторое время она молча переводила безутешный взор с него на меня,
затем, взяв нас обоих за руки, поцеловала их и, соединив, произнесла с
твердостью спартанки: «Мой друг!» — и тут же, отвернувшись от него, спрятала у
меня на груди залитое слезами, пылающее лицо и рыдая воскликнула: «Мой
избавитель!» Ее красота (еще более очевидная из-за беспорядка в одежде —
вторжение разбойника подняло ее с постели полуодетой), ее невинность и ее
великодушие, казалось, впервые были замечены лордом Лейстером, который
до этой поры проявлял к ней равнодушие, граничившее едва ли не с
отвращением.
— В вашей власти, сударыня, — сказал он с большей мягкостью, чем
обычно, — стать моей спасительницей. Мисс Сесил, перед вами более не
всесильный фаворит надменной королевы. Я связан выбором сердца и законом с
милой спутницей в моих опасных странствиях, и череда обстоятельств
заставляет нас искать любого способа как можно скорее бежать из Англии. Однако
те, кого даже гнев Елизаветы, быть может, пощадил бы, еще час назад были
обречены на гибель злодеем, что лежит здесь мертвый. Лишь несколько
минут прошло после того, как нам удалось ускользнуть из притона убийц, и кто
знает — не берут ли нас сейчас в окружение разбойники, главарем которых он
был. Соберитесь с мужеством, зовите слуг, и мне нет нужды в то время, как
вы принимаете меры для своей безопасности, напоминать вам о нашей.
— Если я забуду о ней, пусть судьба покарает меня вашей гибелью! —
воскликнула она и тут же обернулась ко мне с тем невинным чистосердечием,
что всегда отличало ее, взглядом прося у меня прощения. Немного спустя она
собралась с мыслями и продолжала: — Как ни поражена я и вашими
обстоятельствами, и вашим появлением, мои благородные друзья, любопытство мое
отступает перед дружбой. Утром я ожидаю приезда отца, к тому же
безопасность вам может дать лишь незамедлительный отъезд, но об опасности,
которая, как вы говорите, окружает нас, надлежит подумать в первую очередь.
Я посвятила ее в тайну Убежища, рассказала об ужасной ошибке, отдав-
шей нас во власть его нынешних безбожных обитателей, и о том бешенстве, в
которое они, несомненно, придут, обнаружив наш побег и узнав, каким
способом мы его осуществили; я только надеялась, что потеря Уильямса несколько
ослабит ярость их нападения. Рассказывая, я не раз замечала, что ее мысли
заняты чем-то другим. Она пристально разглядывала наши странные наряды
и бледные лица, то вздрагивала от ужаса при некоторых подробностях моего
рассказа, то вдруг забывала о рассказанном и заставляла меня возвращаться
вспять. Озабоченная тем, чтобы всячески обеспечить нашу безопасность, она,
казалось, совершенно не думала о своей. Таково свойство любви
добродетельной женщины.
— Я полагаю, — сказала она, когда я окончила рассказ, — что кому-то
необходимо появиться перед слугами, чтобы объяснить присутствие здесь тела
этого злодея. Я также полагаю, что это не может быть лорд Лейстер — его
всякий узнает.
Вывод, подсказанный в такой мягкой форме, был очевиден: увидеть
должны кого-то одного, но я без ужаса не могла решиться предстать перед слугами.
— Да, дорогая Матильда, — продолжала Роз, — мы должны ненадолго
расстаться с ним, но вы вновь соединитесь, уже навсегда. Волею Провидения, как
я сейчас готова думать, в доме находится сын моей кормилицы. На этого
молодого человека я, в силу одного обстоятельства, пользуюсь немалым
влиянием: вопреки совету друзей, он стал моряком, накопил денег для покупки
небольшого судна и на нем ведет торговлю между побережьем Девоншира и
Франции. Но он недоволен своим ремеслом и только вчера приехал сюда
просить меня ходатайствовать перед моим отцом, чтобы его взяли на
государственную службу. Не говорите же, что Небеса не одобряют вашего побега — они
ясно указывают вам безопасный способ бегства. Я отлично понимаю, что все
пути в Голландию надежно перекрыты, но кто догадается выследить вас на
отдаленном, ничем не примечательном побережье Девоншира? Правда, путь
будет долгим, но не забудьте: его длительность искупается безопасностью. Артур
всегда знал только одну дорогу — ту, по которой нынче проводит вас, и на
этом пути он, несомненно, знаком с людьми, которые предоставят вам ночлег
и все необходимое, не проявляя ни любопытства, ни догадливости настолько,
чтобы проникнуть в тайну вашего положения. По выражению ваших глаз, моя
дорогая Матильда, я понимаю, о чем вы думаете, — не удастся надолго скрыть
мою причастность к вашей судьбе, ибо как иначе объяснить ваше
таинственное появление здесь или ужасную смерть моего ночного гостя? Но что из
того? — великодушно продолжила она после краткого молчания. — Многим
приходится рисковать, когда на карту поставлено все, что нам дорого.
— Я всякую минуту ожидал, — сказал лорд Лейстер, — что эти негодяи
прервут нас какой-нибудь злодейской выходкой.
— Нет, — ответила мисс Сесил. — У меня есть основания полагать, что в
этом предприятии он участвовал в одиночку. Когда поначалу, разбуженная
его внезапным появлением, я пыталась отдать ему свой кошелек и все
украшения, что были у меня под рукой, он отверг их и приказал мне, сопровождая
свою речь ужасными проклятиями, отвести его в потайной кабинет, где отец
хранит государственные бумаги: он, несомненно, надеялся, заполучив эти
бумаги, проникнуть во многие тайны и с их помощью купить себе помилование,
что, вероятно, и было его конечной целью. Я хорошо знаю своего отца — мне
предстояло решить, не лучше ли расстаться с жизнью, чем с этими
драгоценными бумагами, и только вмешательство лорда Лейстера избавило меня от
необходимости выбора. Однако я согласна с вами: нельзя терять ни минуты, и
прежде всего позвольте мне запереть комнату, где находится ужасное
свидетельство того, что сюда среди ночи вторгся более чем один человек.
В сознании своей безупречности она спокойно встретила даже взгляд
лорда Лейстера, который в эту минуту не мог не восхититься ее великодушием и
мудрой предусмотрительностью, делающими честь мужчине, и тем нежным
очарованием, что превращает женщину в полубогиню. Я прижала ее к груди,
говоря, что никогда не могла бы любить ее сильнее, чем полюбила задолго до
этого доказательства ее несравненных достоинств.
— Это единственная тема, опасная для нас обеих, — отозвалась она,
улыбаясь сквозь слезы. — Мы все будем любить друг друга как сумеем. А теперь,
милорд, вам предстоит следующий шаг, если вы решитесь довериться моему
суждению. Мы проводим вас к двери, ведущей в сад. Переберитесь через
ограду с дальней от леса стороны. В миле от этого места находится мост — там
затаитесь и ждите. Артур сначала спрячет коня для вас, а потом на другом
отправится, якобы для того, чтобы проводить эту даму домой, в ближнюю
деревню. При том переполохе, который вызовет открытие подземного хода,
обитатели дома, по всей вероятности, не обратят особого внимания ни на ее
присутствие, ни на отъезд; и еще до того, как они найдут время обнаружить
Уильямса и прийти к опасным догадкам, оба вы, я надеюсь, будете
недосягаемы для погони. Но, ради Бога, милорд, если только вы хотите, чтобы две
несчастные, дрожащие женщины, что сейчас стоят перед вами, пережили эту
ужасную ночь, будьте крайне осторожны, отыскивая условленное место, и не
покидайте его, пока не услышите голоса Матильды.
Лорд Лейстер обещал, и, неслышно проведя его по дому, мы подошли к
двери, ведущей в сад. Все минувшие ужасы не сравнятся с тем, что
почувствовала я в этот миг. После всех опасностей, которые я разделила и от которых
спаслась с моим супругом, видеть, как он уходит, означало лишиться своего
ангела-хранителя или лишить этой защиты его. Однако, веря, что действия
мисс Сесил продиктованы той же тревогой и привязанностью, я уступила
необходимости и покорилась. Вид двери, закрывшейся за ним, поразил нас
обеих в самое сердце, только сейчас мы поняли, какую поддержку черпали в его
присутствии. Мы не решались отвести взгляд друг от друга, каждый наш
вздох превращался в стон, и ужасный труп Уильямса, казалось, постоянно
преграждает нам путь, заливая его кровью. Мисс Сесил предприняла
единственно возможный шаг, чтобы отогнать ужас: разбудив нескольких
перепуганных слуг, она приказала собрать всех обитателей дома. Повторять
приказание не пришлось. В несколько минут собралось не менее двадцати человек,
достаточно хорошо вооруженных, чтобы защитить нас от всякой опасности,
грозящей нам лично. Я провела пораженную толпу к потайной двери, через
которую сама вошла в дом, описала то место, к которому она ведет, и,
вкратце упомянув об опасности, которой подвергалась и от которой спаслась,
посоветовала им сохранять такую же полную тишину, какую, со столь роковыми
для меня последствиями, сохраняли злодеи. Тем временем мисс Сесил
подозвала к себе человека, о котором говорила нам, и удалилась с ним в соседнюю
комнату, где и дала ему распоряжения незаметно для остальных обитателей
дома, всецело поглощенных моим появлением и странным рассказом. Мисс
Сесил вернулась к нам и приказала присутствующим разделиться на две
группы — одна должна была остаться охранять дом, другая — спустившись по
подземному ходу, дойти до темницы, из которой я бежала, дождаться там
возвращения разбойников и по одному захватить их всех при входе.
Последняя часть приказания существенно охладила их пыл, но, стыдясь отступить с
пути, которым я, как им было представлено, прошла в одиночку, они
отправились в путь в таком количестве, что могли бы тесно заполнить место моего
недавнего заточения. Оставшиеся томились у входа в подземелье, целиком
захваченные происходящим. Между тем Артур, имея в своем полном
распоряжении конюшню, приготовил, как ему было сказано, двух лошадей, а мисс
Сесил, со своей обычной предусмотрительностью, заботливо накормила меня,
вернув силы моему измученному телу. Не забыла она и снабдить Артура
припасами, чтобы мог подкрепиться милорд. Из своего гардероба она отобрала
из необходимых вещей все, что позволили время и обстоятельства. С
нетерпением я ждала распоряжения об отъезде, но сначала пришло известие из
Убежища о том, что там до сих пор все тихо и дверь заперта, как и была
оставлена. Это встревожило меня до глубины души, поскольку означало, что
разбойничье нападение все еще грозит нам. Со смешанными слезами горя и
надежды я обняла свою великодушную подругу, которую, быть может, видела в
последний раз, и, покидая некогда гостеприимное жилище, бывшее для меня
единственным на свете родным домом, близким моему сердцу, я села в седло
позади проводника, чье загорелое лицо смягчилось выражением сочувствия,
в котором мало кто мог бы отказать мне в ту минуту. Ярко светила луна, путь
наш лежал в сторону, обратную той, где прежде подстерегала нас ловушка, и
я, поручив себя Небесам, стала с нетерпением ожидать встречи с милордом.
Мы проехали малое расстояние, когда мой дорогой защитник (который,
беспокоясь обо мне и пренебрегая опасностью, возвратился почти к самому
Аббатству) появился из тени деревьев и голосом, прогнавшим прочь все мои
страхи, приветствовал мое возвращение к свободе. Он вскочил на коня,
которого наш проводник еще раньше привел для него. Спасение от беды
заставило меня забыть об усталости и почувствовать себя в безопасности.
Поначалу мысли мои были заняты недавними событиями, и во время пауз
в разговоре, неизбежно возникавших из-за присутствия чужого человека,
воображение возвращало меня в подземелье: мне рисовались испуг и ужас,
которые разбойники, в свою очередь, должны были испытать, обнаружив, что
обречены на тот жребий, который уготовили нам. Потом я обратилась
мыслями к королевскому двору: я словно видела Елизавету, кипящую тайным
гневом, и беспомощную, благородную Эллинор, на которую одну, поскольку она
находится рядом, этот гнев должен обрушиться. Я очень полагалась на
дружескую заботу всего семейства Сидней, но вряд ли могла надеяться, что даже
они смогут уберечь Эллинор от преследований королевы. Я знала, что
письмо, которое лорд Лейстер распорядился доставить Елизавете через два часа
после нашего отъезда, подтвержденное самим фактом отъезда, неминуемо
разъяснит ей тайну нашего брака, что тотчас опровергнет его вымысел
относительно нашего происхождения. И я не сомневалась, что будут
использованы все средства, чтобы до конца проникнуть в тайну, а натуры
невеликодушные, увы, слишком часто обрушивают свой гнев на ту жертву, которую
жестокая судьба поместила к ним всего ближе.
Однако в спешке и смятении, сопутствовавших нашему отъезду, мы не
смогли взять сестру с собой; к тому же в ту несчастную минуту ее было
невозможно отыскать, и все, что мы смогли сделать для ее безопасности, это
живейшим образом поручить ее заботам тех немногих друзей, которые, как мы
надеялись, останутся таковыми, когда все откроется. Пока Эллинор полна
решимости хранить свою тайну, королева от нее ничего не добьется, а сила духа
и предусмотрительность, неоднократно проявленные моей сестрой, убеждали
меня, что ей под силу даже это тяжелейшее испытание. Но когда я думала о
бесстыдных допросах, об оскорблениях, с которыми она неизбежно
столкнется, сердце мое обливалось кровью. Чувствовать, что на тебя направлены все
глаза, о тебе судачат все языки, — о, как нужна ей была верная опора в
сознании своей безвинности и в родовой королевской гордости!
В наши планы входило, если нам посчастливится благополучно добраться
до Франции, оставаться там инкогнито до тех пор, пока посланные из Англии
не сообщат нам, в какой степени раскрыт заговор Бэббингтона и в
особенности осведомленность о нем лорда Лейстера. Если бы его доля участия в
планах заговорщиков осталась нераскрытой, милорд мог бы безбоязненно
обнаружить себя, ибо тайный брак был преступлением лишь в глазах Елизаветы.
Слишком хорошо зная, что королевскому фавориту всегда надлежит
помнить о ненадежности своего положения, лорд Лейстер позаботился
разместить большие суммы у различных негоциантов в нескольких странах. Сейчас
эти деньги стали его единственным, но отнюдь не малым достоянием. Если
же, напротив, оказалось бы, что Елизавета проникла в эту опасную тайну,
относительно которой ему можно было вменить в вину лишь умолчание, то
обвинение в государственной измене могло поставить под угрозу его
безопасность во Франции, и даже едва ли не во всей Европе. Тогда для спасения его
жизни нам пришлось продолжать скрываться, пока жива Елизавета.
Хотя с самого младенчества я была лишена всякой связи с родней, ничто
не могло уничтожить в моем сердце жажду родственных чувств. Не смея
направить взор в сторону матери, я страстно желала свидеться с единственной
оставшейся в живых сестрой моего отца, Маргарет, леди Мортимер. Воспи-
танная вместе с покойной королевой в католической вере, она вышла замуж
за генерала, который занимал многие значительные посты во времена
правления Филиппа и Марии. Переворот в политике и религии, вызванный
восшествием на престол Елизаветы, оказался для нее роковым, лишив ее многих
почестей и удовольствий. Генерал, лорд Мортимер, последовал за
овдовевшим королем в Испанию и благодаря его милостям сделал большое
состояние, позволявшее ему устроить свою судьбу по собственному разумению, но
внезапная смерть решила за него. Вдова удалилась в Нормандию, где в Руане
ее сестра была в то время аббатисой, оставив младшего сына на службе у
Филиппа, а старшего — в армии Франциска Второго. От природы наделенная
характером деятельным, она не могла порвать с мирской жизнью, хотя и
питала к ней отвращение, и значительную часть огромного состояния,
оставленного ей матерью и мужем, щедро тратила, помогая всем находящимся в
изгнании врагам Елизаветы. Побуждаемая тщетной надеждой когда-нибудь
увидеть своего несчастного брата на троне рядом с королевой Шотландии, она
ревностно участвовала в подготовке этого союза и даже, в очередной раз
покинув монастырь, отправилась в Рим, где не жалела ни трудов, ни денег,
чтобы заручиться дружбой тех, в чьей власти было санкционировать и утвердить
этот брак. Она была в числе тех немногих, кто знал, что брак тайно
заключен; знала даже о предполагаемом появлении наследников королевской
короны и невзгодах, но тут изобличение, суд и казнь герцога Норфолка
сокрушили ее заветную надежду. С той поры она оставалась в неведении о мыслях и
намерениях Марии и о судьбе ее несчастного потомства. Нескрываемое
отвращение, которое она выказывала по отношению к Елизавете, делало для нее
опасным возвращение на родину, и, даже окажись она там, едва ли ей
удалось получить столь важные сведения теперь, когда связующее звено
оборвалось. Честолюбивая, богатая и неутомимая, она по-прежнему стремилась
оставаться покровительницей всех гонимых англичан, и если бы я сочла
возможным открыться ей, то могла рассчитывать на радушный прием у той, кто
была бы счастлива узнать, что ее давно угасшая надежда заново возникает со
мной. Сейчас наш путь лежал к побережью, расположенному почти напротив
побережья Нормандии. Я с радостью думала о том, что смогу прибегнуть к ее
заботе в предстоящих нам печальных обстоятельствах. Я не отказывалась от
надежды, что лорд Лейстер сможет появиться под собственным именем, как
только моей сестре удастся бежать и соединиться с нами.
Эти разнообразные соображения занимали меня до самого рассвета, когда
наш проводник убедил нас, что мы можем, ничего не опасаясь, передохнуть в
деревушке, к которой в этот момент приближались. Уверенность мисс Сесил
в том, что на него можно всецело положиться, внушила доверие и мне. Еле
живая от усталости, я вошла в дом, из которого его трудолюбивые обитатели
как раз расходились по своим ежедневным работам. С чрезвычайным
усердием они приготовили для нас простую трапезу, а потом, едва держась на
ногах от крайнего утомления, мы добрались до постели, единственным
достоинством которой была ее опрятность. Здесь мы оба заснули таким глубоким
сном, что пробудились, когда день уже клонился к вечеру. Наш неутомимый
проводник просил нас поспешить с обедом, который давно дожидался нас,
так как нам предстоял долгий путь до безопасного ночлега. Мне очень
хотелось остаться у наших хозяев до утра, но, подчиняясь необходимости, я
молча села в седло. Артур вполне оправдал доверие своей госпожи: он выбрал
лошадей, которые за все путешествие ни разу не засеклись и не захромали;
оберегая нас от опасных встреч, он выбирал самые безлюдные дороги,
находя на пути деревушки, для обитателей которых самый его приезд был
радостью и которые ухаживали за его спутниками в надежде угодить ему. Я
поражалась тому, как мало любопытства вызывает наше появление, что ум
утомляется вместе с телом и что простой работник редко задумывается о чем-то,
помимо тех обычных благ, которые получить может лишь ценою
нескончаемых трудов.
Не замечая красот местности, по которой мы проезжали, я ждала лишь
появления моря, и, когда увидела его перед собой, взор мой попытался
преодолеть его и достичь того берега, где, единственно, я могла считать лорда
Лейстера в безопасности. Чем больше мы приближались к побережью, тем
сильнее меня одолевали страхи. Этот край был населен преимущественно
людьми суровыми по природе и отчаянными в силу ремесла — они не только
грабили, но и убивали потерпевших крушение у здешних берегов, и всякого
путника разглядывали неприязненно и вызывающе. Я с трудом могла убедить
себя, что некоторые из них не принадлежат к рассеявшейся банде Уильямса,
и возблагодарила Небеса, словно все наши беды кончились, когда мы
добрались до уютного домика Артура. Он стоял в безлюдной части берега, где
высокие утесы, выступая далеко в море, образовали маленькую бухту,
приютившую несколько рыбачьих лодок и небольших суденышек. Как наши
пробудившиеся страсти полностью подчиняют себе все предубеждения!
Мертвенные вспышки молний, от которых прежде все мое существо содрогалось, с
недавних пор стали казаться мне мерцающими лампадами любви. Я
бестрепетно озирала и слышала вокруг себя море — теперь, когда оно превратилось в
счастливый рубеж человеческих устремлений; рев его неутомимых волн
звучал как гордый вызов всякому, кто посмеет к нему приблизиться, и пугало
меня лишь то, что ветер не был попутным для нас и морская пучина была
пока непреодолима.
Только теперь, с большим опозданием, мы пожалели, что отправились в
путь без слуг. В этом уединенном месте мы лишены были всякой
возможности узнать, что произошло при дворе после нашего бегства, и, не желая
доверить ни нашему проводнику (без которого мы к тому же не могли бы
обойтись), ни его друзьям порасспросить о новостях в соседнем городе, мы
провели два томительных дня в унынии и всевозможных догадках. Артур, не
решаясь выйти в море на собственном судне, не вызывая подозрений и
пристального внимания, которых нам следовало избегать, нанял большое рыбачье
одномачтовое судно, куда погрузил те немногие необходимые нам вещи, которые
при наших ограниченных возможностях мы смогли добыть. Теперь я неот-
рывно следила за развевающимися на ветру вымпелами. На третий день к
вечеру я вдруг увидела, что они указывают в сторону Франции. Отдых вернул
мне силы и бодрость, и порыв радости охватил меня. Наконец собрались
немногочисленные матросы, я с легким сердцем спустилась в убогую лодку, и
она быстро понесла нас к судну, на котором нам предстояло плыть, как вдруг
на берегу показались два всадника — во весь опор они мчались к воде,
отчаянными криками умоляя нас вернуться. Я встревожилась и стала просить
матросов грести быстрее, суля им несметные богатства, но Артур решительно
заявил, что голос ему знаком, и, не слушая моих доводов, развернул лодку. Я
обвила руками своего супруга, так, словно сердце мое могло распахнуться и
спрятать его, а потом, не слыша его увещеваний, что два человека, как бы ни
были враждебны их намерения, нам не опасны, я лишилась чувств. Очнулась
я в каюте, склонившись на грудь лорда Лейстера, а передо мной стоял на
коленях юноша, прижимая к губам то одну мою руку, то другую.
— Взгляни, любимая, — воскликнул милорд, — кого судьба соединила с
нами в изгнании.
— Ах, лучше не смотрите, милая Матильда, — отозвалась мисс Сесил (ибо
это была она, переодетая в мужской наряд). — Сначала решите, как должно
встретить себялюбивую подругу, дерзнувшую переплести свою судьбу с
вашей. Однако выслушайте, прежде чем судить, — поднимаясь, добавила она с
кротким достоинством, придававшим невыразимое очарование румянцу,
который то вспыхивал, то исчезал на ее щеках. — Я без утайки открою сердце
вам обоим. Тщетно было бы пытаться скрыть от лорда Лейстера мою
сердечную слабость, которую столькие обстоятельства уже обнаружили. От меня
зависит придать ей достоинство. Известие о вашем браке, добрые мои друзья,
погасило последнюю слабую надежду, что таилась еще в моем сердце.
Убедившись, что моя привязанность никогда не сможет дать ему счастья, я сразу
решила, что она станет для него предметом гордости. Себялюбивое чувство
отступило перед высоким помыслом. Иначе как смогла бы я в ту ночь
вывести его в сад, посмотреть на него в последний раз, как я тогда думала, и не
уронить ни единой слезы? В один миг я увидела все достоинства, все очарование
той, которую он избрал. Ненавидеть ли мне ее за то, что ей принадлежит все,
к чему я стремилась, за то, что она приняла это высокое отличие, которое
дается не за юность, красоту, достоинства и богатство, а лишь как
драгоценнейший дар щедрого Провидения? Ах, нет — сердце мое было справедливо и
приняло ее и разделило свою любовь между нею и лордом Лейстером.
Озабоченная лишь успехом их побега, я почти забыла о слугах, оставленных караулить
в Убежище, и о чудовищах, населивших его. Я воображала себе то время,
когда для вас минут все опасности и вы будете порой думать о той, которая
может думать только о вас. Я услышала, как вы вздыхаете, и, пожелав,
чтобы память обо мне лишь смягчала, а не ранила ваши сердца, вздохнула сама.
Из этих грез меня грубо вернул к действительности голос нашего
управляющего, который, стремительно вбежав в комнату, своим известием ужаснул
меня до глубины души.
«Радуйтесь, госпожа моя, радуйтесь! — восклицал он в своем
чистосердечном рвении. — Видно, этой незнакомке было на роду написано послужить
вам. Мы должны неустанно благодарить Небеса за их чудесное
вмешательство. Некоторое время тому назад, когда мы уже устали караулить в
подземелье, вдруг послышались голоса. Они приближались, и каждый из нас призвал
на помощь все свое мужество. Вскоре загремел засов и появился один из
разбойников. Его дерзкий вид сменился мертвенной бледностью (заметной в
свете факелов, горевших у него за спиной), когда двое наших людей схватили
его за руки, а третий приставил ему ко лбу пистолет. Проклятие, которое он
пробормотал, предупредило его сообщников, и с обеих сторон грянули
выстрелы. Мы устремились вперед, не оглядываясь на упавших и преследуя
остальных по переходам подземелья, захватили их всех, и, как нам кажется,
неожиданность едва ли не вполовину ослабила их способность
сопротивляться. В самом большом помещении этого странного места мы обнаружили
(представьте, как мы изумились, сударыня) нашего господина с неизвестной
дамой и трех наших товарищей-слуг. Все они только что были доставлены
туда разбойниками и связаны, и, без сомнения, ужасная смерть ждала их, если
бы не это удивительное событие».
Мы с отцом давно чужды другу другу, — продолжала свой рассказ мисс
Сесил, — но я не могла услышать о его чудесном избавлении иначе, чем с
живейшей радостью. Она, однако, несколько померкла, когда я вспомнила о
трупе Уильямса. Я понимала, что мне предстоит объяснить его присутствие
человеку, имеющему право потребовать отчета и достаточно решимости, чтобы
вынести мне приговор. Отец уже несколько минут находился в доме, а я,
теряясь в разнообразных планах, все не решалась выйти из своей приемной,
пока появление лорда Бэрли не преградило мне путь из нее. Едва дыша, я
молча поднялась и, склонившись перед ним, слезами выказала свою дочернюю
почтительность и радость. «Я знаю все, что ты можешь сказать, дитя мое, —
воскликнул он нетерпеливо, — знаю, как было обнаружено это ужасное
место. Но где лорд Лейстер и его дама?» Онемев при этом вопросе, столь ясном
и определенном, словно отец сам был участником всего, что происходило в
эту ночь, я лишь смотрела на него в полном ошеломлении и ужасе. Брат мой
в поспешном желании найти вас обоих вбежал в мою спальню, куда, вслед за
его громким восклицанием, устремились все присутствующие и куда со всей
возможной быстротой, какую позволяли его недуги, направился мой отец,
надеясь, как мне показалось, увидеть там своего недруга, который занимал его
мысли сильнее, нежели забота о безопасности собственной или моей жизни.
Как же все были изумлены, когда там оказалось лишь безжизненное тело
злодея Уильямса! Кто-то обыскал его карманы, другие осматривали спальню.
Отец некоторое время хранил молчание, затем, устремив на меня взгляд,
который лжецы никогда не отважились встретить, иронически промолвил,
указывая на труп: «Убила его, конечно, ты?» Потом он вновь погрузился в свои
размышления. Немного погодя некое смутное воспоминание мелькнуло в уме
его. Он подошел ближе, взглянул в лицо умершего, казалось, припомнил и,
припомнив, ужаснулся ему, так как вновь ушел в себя и лишь вымолвил тихо:
«Этот негодяй!» Не имея ни малейшего доступа к его мыслям, хотя он читал
мои, мне все же надлежало выбрать линию поведения. Я собрала все свое
мужество и, сочинив рассказ настолько правдоподобный, насколько позволяли
нынешние обстоятельства, решила, что буду держаться, как бы ни
повернулись события. Мой отец, также обдумав свои планы и не пытаясь призвать к
порядку слуг, чьи действия под влиянием страха были беспорядочны и
нелепы, сосредоточил внимание на мне одной. Поднявшись с места, он сурово
приказал: «Роз, ступай за мной».
В последнее время резкость его обращения сделалась для меня
привычной, и я молча повиновалась. Усевшись в соседней комнате, он потребовал
подробного рассказа об ужасах прошедшей ночи. Я начала с того, как была
разбужена Уильямсом, рассказала о его замысле и угрозах, вследствие которых
я оказалась на волосок от гибели, и затем, подменив лорда Лейстера
Артуром, я твердо заявила, что именно он, появившись волею Небес в
решительную минуту, в сопровождении незнакомой дамы, своей отчаянной смелостью
спас меня от кинжала закоренелого злодея. Здесь отец прервал меня и
нетерпеливо вопросил, куда делась дама. Я уверила его, что она исчезла.
«Подумай! — угрожающе воскликнул он. — Хорошенько подумай,
опрометчивая, романтическая девица, прежде чем осмелишься далее отвечать мне. Я
знаю причину побега лорда Лейстера, знаю, кто его спутница, знаю, что
несколько часов назад он бежал из темницы, где я был найден, а раз это так — я
знаю, кто был его сообщницей. Позор рода Сесилов! Презренное создание!
Мало того, что по слепому легковерию молодости ты отдала сердце
государственному изменнику, спасла его и помогала ему — ты еще станешь укрывать
его жену! Страшись возмездия твоей повелительницы, страшись отцовского
возмездия».
Каким бы непостижимым путем он ни получил эти сведения, я поняла, что
пытаться обмануть его безнадежно. Я гордо выпрямилась, бледность и
румянец сменяли друг друга на моих щеках.
«Я действительно убедилась, милорд, — воскликнула я, — что не в силах
лукавить с вами, но теперь вы убедитесь, что я в силах высказать правду, как
она ни опасна. Да, я признаю, что именно лорд Лейстер был послан Небом
мне на помощь. Так выдам ли я на смерть того, кто спас от смерти меня? О,
никогда, ни за что! Укрывшись в месте, менее доступном для подозрений,
чем то, откуда недавно спасся, он может, вместе со своей счастливой
избранницей, в безопасности переждать, покуда ярость королевы уступит место
справедливости. Более я ничего не скажу даже под пыткой, и какая ни ждет
меня судьба, будет в ней всегда одно сладостное утешение: я буду помнить,
что Небеса позволили мне добром отплатить за добро в тот самый миг, как
это добро было мне сделано».
К чему пересказывать, — вздохнула наша прекрасная рассказчица, — все
яростные речи, слезы и брань, которые на несколько дней превратили мою
жизнь в мучение? Меня заперли в моих покоях, со мной обходились как с
преступницей, мне даже дали понять, что мое упрямство может вынудить
отца сделать это ужасное подземелье — Убежище — моей тюрьмой. В одном
мне посчастливилось: мои загадочные слова утвердили отца во мнении, к
которому он склонялся еще раньше, что лорд Лейстер со своей супругой
скрывается в замке Кенильворт или поблизости от него, куда тотчас отправились
самые надежные из шпионов и чрезвычайно занимали отца своими
разнообразными предположениями, ежедневно присылаемыми оттуда.
Измученное жестокостью и суровостью обращения со мной, мое слабое,
мое нерешительное сердце не раз побуждало меня поехать за вами следом и,
если удастся, догнать вас, но, мгновенно вспоминая о том, какой верный след
дал бы мой необдуманный побег вашим неумолимым преследователям, я
всякий раз подавляла в себе это непозволительное желание.
Отец вдруг переменил свой образ действий: он освободил меня и стал
возить с собою по всем вызывающим у него подозрения местам в окрестности,
надеясь, по выражению моего лица, выведать место, где скрывается лорд
Лейстер. По роковой случайности, довершившей мои несчастья, в одной из
таких поездок мы встретили Айртона, поклонника, которому я была обязана
королевской и отцовской немилостью. Поощряемый лордом Бэрли, он вновь
оказался в нашем доме. Его сердце недоступно любви, его страсть —
политика, и в нем вновь проснулось неукротимое желание добиться высокого
положения в этой сфере с помощью моего приданого. Пренебрегая моими
слезами, холодностью и презрением, он, как и прежде, теперь ждал от моего отца
решения моей судьбы. К моему отчаянию, я узнала, что между ними
заключена сделка, где мне назначена была роль бессловесного залога, и что их уговор
вступал в силу немедленно. Я знала непреклонный нрав отца, знала, что
таков же и Айртон; у меня были основания страшиться, что новая вспышка
отцовского гнева может обречь меня на публичное бесчестие, если я не сумею
опередить их действия отчаянным шагом. Не удивляйтесь же, что я наконец
решилась на то, чему в мыслях долго противилась. Я выбрала слугу, к
которому питала доверие, он доставил мне это платье и предложил сопровождать
и оберегать меня. Я благословила преданность, которую никогда не смогу
вознаградить вполне, и, окрыленная равно надеждой и страхом, пустилась вслед
за вами, не зная устали в пути, оставив письмо, где говорила, что буду искать
приюта в Лондоне.
На этот волнующий рассказ мой супруг и я отвечали многократными
заверениями в дружбе и защите, а также похвалами ее мужественному
поведению. Спустя некоторое время лорд Лейстер вышел из каюты.
— Вас, долго бывшую моей поверенной, единственной, кто был посвящен в
мою привязанность, — вновь заговорила мисс Сесил с нежностью, устремив
вопрошающий взор, казалось, в глубину моей души, — менее удивят поступки,
которые ею вызваны, чем мое в ней признание. Но даже к нему, как ни
странно это может показаться, меня побудила благоразумная осмотрительность. Я
хорошо обдумала, моя дорогая Матильда, все мое прежнее и будущее
поведение. Я видела ясно, что, пока, как мне представлялось, милорд оставался в не-
ведении о моих чувствах, сердце мое могло по-прежнему питать к нему
опасную нежность. Совершив же этот решительный шаг, я поставила лорда Лей-
стера судьей над собою и впредь буду поступать со строжайшей
осмотрительностью. Я знаю, что вы в своем великодушии, видя лишь лучшее во мне,
могли бы пожелать, чтобы я осталась при вас, и как могла бы я устоять против
столь милого приглашения? Ах, только заставив молчать самого
красноречивого ходатая! Лорд Лейстер теперь никогда не сможет стать для меня
поводом к этим опасным мыслям. Где бы вы ни надумали поселиться, я удалюсь в
монастырь по соседству и там буду жить как пансионерка. Всегда слыша о
вас и иногда видя вас обоих, — добавила она, и голос ее прервался
рыданием, — я буду считать, что все мои желания осуществились. А до тех пор, я
верю, вы не пожалеете доли для меня в опасности, грозящей лорду Лейстеру.
— Ах, вы мало знаете меня, — возразила я, ласково пожимая ее руку, —
если думаете, что я пожалела бы для вас доли и в его счастье. Никогда, нежная,
великодушная девушка, никогда более мы не расстанемся. Никогда лорд
Лейстер не мог бы надеяться, а его жена опасаться, что вы, возвышенная
душа, совершите нечто неподобающее. Живущие одним и тем же чувством, мы,
которых природа создала подобными друг другу, преступили бы ее законы,
расставшись.
— Не скрою от вас, милый друг мой, — ответила она со свойственной ей
благородной безыскусностью, — что я ожидала от вас этого проявления
великодушия, но оно лишь укрепляет меня в моей решимости, и я сердцем
чувствую, как осудили бы вы меня, случись мне поколебаться.
В моей душе разлилось давно не испытанное мною чувство безопасности,
чувство благодарности к моему чудесному другу. Между тем день подошел к
концу. Лорд Лейстер позвал нас полюбоваться прелестью наступающего
вечера. Мы поднялись на палубу и расположились в шлюпке, закрепленной там.
Все страхи, все надежды, казалось, на время отступили, и для каждого из нас
эти мгновения заключали в себе всю жизнь. Легкий ветерок, играя, наполнял
белые паруса, судно уверенно и плавно разрезало зеленые волны, и их
гребни, причудливо посеребренные полной луной, распадаясь, одни лишь
оживляли спокойствие ночи. С умиротворенной радостью я переводила взгляд с
любимого на подругу, с подруги на любимого. Кроткое светило с одинаковой
лаской касалось сиянием их лиц. Мужественная нежность была в обращении
лорда Лейстера со мной, благодарная почтительность — в обращении с мисс
Сесил, сама же прелестная Роз, сердцем зная, что она вправе гордиться
собой, с благородным достоинством принимая то место, что принадлежало ей в
наших сердцах, не помнила о том, что мешало ее счастью быть полным.
Такие благодатные затишья в жизни, знакомые только любящим, укрепляют
душу так же, как они укрепляют тело, и лишь они дают нам силу вынести все
прошлые и грядущие беды. Душевное спокойствие располагало к
счастливому отдыху, и сон предъявлял свой счет за долгие часы усталости и страха.
Милорд настоял на том, что он останется на палубе: тихая, теплая погода —
хотя уже стояла поздняя осень — делала такой ночлег неопасным. Мисс Сесил
и я наконец согласились занять единственную убогую постель, на которой,
однако, мы отдохнули так, как нечасто можно отдохнуть во дворце.
На следующее утро картина резко переменилась, мгновенно разрушив
наш покой и довольство: полнолуние принесло перемену погоды, ветер круто
изменил направление; мучительная болезнь — порождение морской стихии —
одинаково поразила меня и мисс Сесил, заглушив даже чувство опасности. В
угрюмом изнеможении взирали мы на ревущие волны, в провалы которых
воображение не осмеливалось заглянуть, и, чувствуя, как нас относит назад, к
берегам Англии, не имели ни физических, ни душевных сил оплакать свой
жестокий жребий. По счастью, милорд был более привычен к морю,
неподвластен его воздействию и делил свои силы и время между утешением
страждущих и помощью матросам, которые, также, к счастью, хорошо знали берег.
Встречный ветер и разъяренная стихия в некотором смысле служили нашей
безопасности, так как все остальные суда, укрывшись в ближайшие гавани,
выжидали более благоприятную погоду. Около десяти дней нас швыряло по
волнам, и наконец ранним утром мы пристали в Гавре, где меня, полуживую,
доставили в первую же гостиницу и сразу уложили в постель.
Здесь моя усталость и дурные предчувствия едва не привели к несчастью,
которого я с самого начала страшилась. У меня были все основания бояться,
что бедное дитя, без вины ставшее причиной этих бедствий, не появится на
свет, чтобы вознаградить нас за них, но, до срока призванное в мир, из всех
его богатств для себя потребует лишь могилы. Горе, которое я испытывала,
думая так, усиливало опасность. Я знала, как страстно жаждет мой супруг
иметь потомство, и часто льстила себя мыслью, что если это желание
осуществится, то заполнится та пустота в его жизни, которая возникла от ее
несбывшихся обещаний. Каково же было бы мне увидеть, как разочарование
добавится ко всем жертвам и унижениям, что я уже навлекла на него?
В это тяжелое для меня время достоинства мисс Сесил проявились
особенно ярко: чуткое внимание друга она соединила с нежной заботливостью
матери. Мои тревожные мысли она успокаивала самыми радужными надеждами
и в своей ревностной заботе о том, чтобы в минуту болезненной
раздражительности я в глубине души не усомнилась в ее преданности, опередила и
опровергла любые подозрения так убедительно, что непосвященный
наблюдатель скорее увидел бы во мне единственный источник ее счастья, нежели
единственное к нему препятствие. Наконец я преодолела опасность, и
бодрость духа возвратилась ко мне скорее, чем физические силы. Я часто
говорила об Англии, о сестре, об ожидаемых известиях. Я написала леди
Мортимер и кратко изложила те события, которым здесь посвящено так много
страниц. Я просила ее признать наше родство и оказать мне покровительство,
объяснила нынешние деликатные обстоятельства, связанные с моим
здоровьем, и приложила свое изображение в детстве, не сомневаясь, что оно
установит истинность моего происхождения. Часть бриллиантов, что мы взяли с
собой, была обращена в деньги, чтобы мы могли должным образом утвердить
свое положение, если сочтем благоразумным объявить о нем.
Долгое время я была еще слишком слаба, чтобы выходить из своей
комнаты, а между тем временами новое опасение стало посещать меня. Я замечала
у своего супруга отсутствующий, тревожный вид. Порой мертвенная
бледность гасила в его лице природные краски, и, часами расхаживая по комнате,
он предавался тоске, о причинах которой с помощью нежнейших расспросов
я не могла дознаться. Часто я вспоминала слова сестры, и мне
представлялось, что он тщеславно жалеет о королевской благосклонности, о гордом
великолепии, об удовольствии широкой известности. Привыкнув к тому, что на
него обращены все взоры, что каждое его желание предугадывается и
исполняется еще до того, как оно высказано, нынешнее существование, со вздохом
признавала я, он должен почитать убогим. Не отваживаясь даже намеком
высказать эти мысли, я с нетерпением ждала возвращения нарочного,
посланного в Руан, надеясь, что перед нами откроются новые горизонты, что рассеется
мрачное облако, заслонившее от него радость жизни. О, сколь иллюзорна
человеческая проницательность! Тщеславно гордясь своим ограниченным
знанием, мы похваляемся, что можем проследить каждую мысль, каждый
поступок человека, с которым нас разделяют моря, и в то же самое время ложно
судим о тех, кто нас окружает. Мое внимание со всем пристрастием любви
было устремлено на лорда Лейстера и вне его не искало объяснения печали.
Наконец пришел ответ от леди Мортимер. Она признала наше родство с
удивлением и радостью и сетовала на то, что слабое здоровье не позволяет ей,
приехав ко мне, принести почтительную дань моему королевскому
происхождению, но уведомляла, что свита ждет нашего позволения на то, чтобы
препроводить нас в Руан, куда она убеждает нас поспешить как ради нашей
безопасности, так и вознаграждая ее нетерпеливое ожидание. Письмо всецело
оправдало мои надежды. Преисполненная радости, я подняла глаза на лорда
Лейстера, который читал вместе со мною, склонившись над моим плечом.
Глаза наши встретились, и в его взгляде я прочла такую многозначительную и
глубокую печаль, что сердце во мне похолодело.
Давно привыкнув страшиться того, что каждый день таит в себе некую
ужасную угрозу, я схватила его за руку и срывающимся голосом стала
умолять сказать мне, что произошло. Он упал к моим ногам и, пряча слезы в
складках моего платья, всеми силами старался сдержать рыдания, от звука
которых сердце мое разрывалось.
— Ты говорила, что любишь меня, Матильда? — произнес он
прерывающимся, нерешительным голосом.
— Говорила? — эхом повторила я. — О, небо и земля! Надо ли спрашивать
об этом, милорд? Разве для вас не забыла я о правах, что дают мне мой пол и
мой сан, обо всем, кроме прав любви?
— Разве не сделал я все, что в человеческих силах, чтобы стать достойным
этих жертв? — вопросил он.
— Так не будем считаться признанными достоинствами! — воскликнула я в
нетерпении. — О, скажи мне правду, всю правду сразу, и не увеличивай моих
мучений этими высокопарными приготовлениями! Что бы это ни было, я буду
помнить, что это еще не худшее, пока глаза мои видят тебя; моя душа
справится с любой бедой, кроме опасности, грозящей тебе. Но ты молчишь... Так,
значит, мы обнаружены, преданы, осуждены... значит, роковая власть
Елизаветы даже здесь настигла нас — ведь ничто иное так не поразило бы тебя?
— Воистину, настигла, — вздохнул он.
— О, зачем тогда нет у меня яда, — вскричала я, забыв о собственных
заверениях. — Только на милосердие смерти можем мы теперь надеяться. Пусть
же океан, где мы с таким трудом избежали гибели, поглотит нас на обратном
пути, лишь бы не ее облеченное властью мщение.
— Власть Елизаветы настигла нас, — скорбно продолжал он, — но в лице
другого человека. Под защитой моих объятий и моего сердца ты можешь,
любовь моя, проклинать и оплакивать несчастье, которое вся Европа оплачет
вместе с тобой.
В его полном сострадания взгляде я прочла правду, мучительную правду,
которую поняла душой. Ужас поразил меня, взор мой, казалось, застыл, тело
сковала каменная неподвижность; ощущение, от которого обморок был бы
желанным облегчением, обострило все мои чувства, и природа,
могущественная природа, при мысли о матери нанесла мне в самое сердце удар, боль от
которого могла, возможно, сравниться с той болью, которой стоило ей мое
рождение. Сияющее солнце Любви, казалось, погрузилось в море крови и
навсегда утонуло в нем. Не в силах передать словами стремительное течение
мыслей, я скрыла лицо в складках своей одежды и рукой указала на дверь,
чтобы все оставили меня. По счастью, милорд счел благоразумным не
перечить мне и, положив передо мною несколько писем, тут же удалился.
Оцепенение ужаса некоторое время владело мною — и как многочисленны, сложны,
многообразны и новы были чувства! Они всегда возвращаются вместе с
воспоминанием об этих мгновениях. Под влиянием этих чувств все нежные
свойства исчезли из моего характера и сердца.
Первая бумага, которую я прочла, подтвердила мои страшные опасения —
в первых же строках я увидела решенную судьбу страдалицы Марии. Мне
казалось, я вижу яростную руку Елизаветы в крови ее миропомазанной
сестры-королевы. Это была моя мать, моя нежная, моя беспомощная мать, и
сердце мое излилось слезами, которые долгие часы не находили пути к моим
сухим глазам. Словно фурии Ореста окружили меня, громовыми голосами
крича мне в уши одно только слово: матереубийца. «Как! — рыдая, твердила
я. — После стольких лет мужественного смирения, после стольких
изощренных жестокостей, сносимых с таким терпением, что враги ее лишены были
даже видимости повода к расправе над ней, этот злосчастный жребий выпал
ее дочери? Быть может, в тот самый миг, когда прекрасная голова той, кого
стольким сердцам суждено было боготворить, склонилась на плаху,
предсмертная мука была тяжела вдвойне сознанием, что собственная дочь
привела ее на эшафот. Зачем молния не поразила меня в Убежище? Зачем океан
не поглотил меня? Почему, почему, о Господи, не умерла я в невинности?» В
исступлении скорби я прокляла тот час, тот роковой час, когда посмела
нарушить установленные для меня пределы. Да, любовь, сама любовь была
истреблена во мне, и (разве могла я когда-нибудь в это поверить?) я всей душой
жалела, что повстречала лорда Лейстера.
Переходя от письма к письму, я видела, что голоса друзей и недругов
слились в восхвалении Царственной Страдалицы. Какое величие души, какую
доброту, какую святость они теперь видели в ней — блистательный пример
ужаснейшего из способов установить истину! Возвышая идею отмщения,
неотделимую от человеческой природы, она целиком сосредоточила ее в
сравнении, — и каком сравнении! — когда отбросила свою смертную оболочку, тень
которой легла на все последующие годы Елизаветы, а сияющий след ее
мученического вознесения приковал к себе и помрачил взоры всех наций, которые
слишком поздно оплакивали свою постыдную бездеятельность. «Дух
царственной Марии, столь много претерпевшей! — со вздохом воззвала наконец
моя измученная душа. — Из вечного блаженства, куда несчастная, лежащая
сейчас во прахе, быть может, ускорила твой переход, осияй ее миром и
прощением! Уврачуй ужас невольного греха и прими мою жизнь во искупление
его. Или же, хоть немного, совсем немного, облегчи печальный остаток этой
жизни».
Между тем в моих мыслях о том, что тайна раскрыта Елизаветой, не было
ясности и определенности. Хорошо помня, что ничего не доверила дружбе, я
была уверена, что никто не мог меня выдать. Сестра хранила нашу общую
тайну в сердце своем, и там я считала ее надежно скрытой. Я еще раз перечла
все письма. Увы! Этим я лишь добавила себе тревоги: всякое упоминание об
Эллинор в них тщательно избегалось. Я долго терялась в догадках, как вдруг
обнаружила еще одно письмо, прикрытое краем моей одежды. Я прижала к
губам строки, написанные рукою леди Арундел:
«Едва решаюсь я позволить себе поздравить вас, мои достойные друзья, с
тем, что вам удалось укрыться от беспощадного гнева Елизаветы, так как
хорошо знаю, с каким нетерпением вы ждете известий о вашей сестре.
Вызванная в дом леди Пемброк, чья болезнь была так внезапна, что меня не успели
известить о ней, Эллинор вернулась во дворец в тот самый час, когда милорд
и вы покинули его. Заменяя мою сестру, которой в тот день надлежало быть
при королеве, она имела несчастье присутствовать при чтении Елизаветой
объяснительного письма лорда Лейстера. Не зная удержу в своем
негодовании, королева обрушила его на Эллинор, сурово обвиняя ее в предательстве и
пособничестве — в таких выражениях, из которых вашей сестре стало
понятно, в какое опасное положение поставило ее ваше бегство и каким опасностям
подвергаетесь вы оба. От горя, страха и возмущения у нее едва не помутился
рассудок, королева же, утверждая, что ее молчание проистекает из
упрямства, швырнула в нее большой и тяжелой книгой, которую до этого читала.
Удар пришелся в висок, и милая Эллинор потеряла сознание. Другие
фрейлины разрезали на ней шнуровку, и нетерпеливый взгляд королевы
привлекла маленькая ладанка, висевшая на черной ленте, которую Эллинор всегда
носила на шее. Даже по тому поразительному эффекту, который содержимое
ладанки произвело на королеву, никто не мог догадаться, что именно
заключалось в ней. На несколько мгновений кровь отлила от лица Елизаветы, она
лишилась речи, силы покинули ее. Придя в себя, она еще раз перечитала
бумаги, затем старательно разорвала их на мелкие кусочки и, вызвав к себе
Уолсингема и Бэрли, отослала всех присутствующих, кроме леди Летимер.
Из дворца Эллинор была отправлена ночью, но с кем и куда — пока еще
тайна. Однако неустанные усилия любви и дружбы направлены на помощь ей, и
тюрьма ее тотчас перестанет быть тюрьмой, как только откроется ее
местонахождение. Если бы я назвала самого пылкого и заботливого из ее
поклонников, то удивила бы вас, но он лишь тогда станет известен, когда с
заслуженной гордостью доставит ее к вам и потребует своей награды.
Скрытная политика Елизаветы, которой она постоянно придерживается в
отношении лорда Лейстера со времени его бегства, не вызывает полного
доверия у его друзей. Она говорит о нем с неизменным равнодушием и так, словно
он исполняет ее поручение, а между тем все, что произошло между ними,
почти всем понятно, хотя никто не отваживается сказать об этом вслух. Похоже,
что гнев ее обратился на другое лицо. Нет нужды это лицо называть. Увы, как
жестоко отомщены вы оба! Постылые цепи, из которых королева освободила
наконец Марию, обвивают теперь ее сердце. Поверьте, если бы вам доставило
радость видеть, как она дрожит и трепещет, то одного взгляда на нее было бы
довольно. Вынужденная публично заявлять о своем сожалении и подавать
пример глубочайшего траура по случаю деяния, которое только ее волею и
могло совершиться, она имеет несчастье сознавать, что ее злодейски
умерщвленная царственная узница теперь приближена к Небесному Престолу,
омытая слезами даже собственных подданных ее гонительницы. Никогда более
Елизавете не знать покоя, ибо он пребывает лишь в безвинных душах».
Уверенность в том, что Елизавета вызвала отвращение и ужас во всем
мире чудовищным поруганием прав, даваемых королевской кровью,
общественным положением и полом, отчасти утолила мое жгучее негодование. Да,
подумала я со вздохом, Небо нашло наказание, соразмерное ее преступлению.
Совершив на глазах у всех один поступок, противоречащий политике всей ее
жизни, она показала себя такой, как она есть, и мир от нее отшатнулся. Ей
суждено было пережить свою юность, свою добродетель, свою славу, свое
счастье. И хотя голову ее венчает царственная диадема, тщетно будет она искать
нежные и верные объятия, в которые могла бы склониться в усталости.
Яростные страсти, что так часто бывали разрушительны для других, теперь, не
имея для себя жертвы, неизбежно обратятся на сердце, таящее их в себе, и
наконец, завидуя славной кончине, как прежде завидовала блистательному
расцвету Марии Стюарт, она окончит дни свои в страхе перед потомками
Марии. Тщетно будет она с жестоким усердием истреблять их: каждое
преступление будет порождать новый страх, и мученичество королевы Шотландии
будет множить причины ее ужаса, потому что теперь ей известно: Мария
оставила не одно дитя. Ближе к вечеру мне подали записку от моего супруга:
«Сердце, что так долго мучилось, предвидя твою скорбь, желает
разделить ее с тобой. О, моя единственная любовь, не лишай меня доли в твоем
сострадании. Ежеминутно страшась потерять дочь, я позволил судьбе матери
бороться в душе моей с этим горем и не отваживался сообщить тебе о ней до
той поры, пока скрывать ее сделалось невозможно. Я не прошу тебя
утешиться: плачь, моя дорогая Матильда, но плачь в моих объятиях, ибо что же
останется мне в жизни, если ты отвыкнешь любить меня?»
Эта записочка, благодетельно рассчитанная на то, чтобы пробудить во мне
нежнейшие из чувств, вызвала у меня бурные потоки слез. Я упрекала себя
яростно и жестоко. «Не дай мне, Господи, — восклицала я, — казня себя за
одну ошибку, совершить другую! Когда нет д,ля меня более (Боже, зачем
дожила я до этого!) долга и прав дочери, вдвое должны возрасти долг и права
жены. Да, Лейстер, избранник мой, я твоя, навеки твоя, и если это угнетенное
скорбью сердце не растворится в печали, придет день, когда оно вновь будет
принадлежать тебе одному; и с этой минуты священны для меня права всех,
кто связан со мною». Я собрала свои непокорные, горячечные мысли и
вознесла их в молитве. Благословенное спокойствие снизошло на мой смятенный
ум. Выйдя в соседнюю комнату, где мне слышались шаги милорда, я
бросилась в его объятия.
— О ты, кого я так неотвратимо полюбила, — выговорила я с трудом, — ты,
в котором теперь почти вся моя жизнь, если можешь, заполни собою все пути
к моему сердцу и огради его от мыслей о прошлом.
В ответ он не вымолвил ни слова, а лишь прижался щекой к моей щеке, и
наши слезы смешались.
— Я вижу ясно правду, роковую правду, — сказала я, возвращаясь к
письму леди Арундел. — Милая, несчастная сестра, так, значит, это ты ускорила
смерть нашей страдалицы матери! То, что Елизавете известна моя
принадлежность к семейству Стюартов, она подтвердила самым ужасным способом,
но как ей удалось это открыть — оставалось бы, без письма леди Арундел,
недоступно пониманию. Я поняла, что сестра неосторожно носила при себе
копию доказательства нашего происхождения, самые дорогие сердцу и верные
подтверждения свидетелей, тогда как мои и сейчас хранятся в потайном
ящичке в Кенильворте, и эта неосторожность в один миг разрушила ее покой
и решила судьбу нашей матери. О безжалостная Елизавета! Неужели твоей
мстительности мало одной жертвы? Неужели и дочь безгласно погибла на
оплаканной могиле матери? Никогда более, сестра моя по крови и сердцу, не
увижу я тебя, никогда более не получу утешения в милых звуках твоего
голоса. Никогда более не суждено мне вместе с тобой, проникая взором сквозь
завесу будущего, видеть проблески грядущих золотых дней. Несомненно,
Елизавета вообразила, что это единственное существующее подлинное
доказательство. О, если только она, поддерживаемая этой уверенностью, поднимет
руку на жизнь ни в чем не повинной Эллинор, я принесу столь же
неопровержимые свидетельства о браке Марии с Норфолком и нашем рождении к
ступеням трона Генриха. Он славится справедливостью и великодушием, а я,
увы, по своей беспомощности нуждаюсь в них. Семья Гизов встанет на мою
защиту, и монархи Европы, быть может, придут наконец на помощь
бессильному королю Шотландии и избавят его от чувства немощности на троне.
Лорд Лейстер не мог всецело разделять и ни в коей мере не желал
ограничивать мои нежные чувства к своей семье, и жизнь его в это время нельзя
назвать счастливой. Мисс Сесил вновь оказалась для нас ангелом-хранителем.
Как посредник между нами, она одинаково сострадала и несла утешение
обоим, и постепенно мои ожесточенные чувства смягчились и сменились
печалью. Я начала прислушиваться к постоянно внушаемой мне надежде, что
сестра моя жива и вследствие какого-нибудь счастливого события еще, быть
может, вернется к нам. Милорд получил единодушные заверения своих друзей в
том, что Елизавета не выказывает намерения обвинить его в государственной
измене; король Генрих был доволен, узнав о его планах поселиться во
Франции. Таким образом, мир вновь снизошел на нас, и, казалось, он покоится
теперь на лучшей и более прочной основе, чем прежде, и я наконец могла
всецело посвятить себя тому, чтобы вознаградить милорда за все, от чего он
ради меня отказался.
Склонившись на многократные увещевания леди Мортимер, я решилась
ехать в Руан, откуда до той поры мы получали все необходимое, чтобы жить
сообразно нашему положению. Город издавна был известен как прибежище
всех высокородных изгнанников, и милорд избрал его местом нашего
обитания: мое родство с леди Мортимер позволяло надеяться на то, что мне будет
оказан всяческий почет, а имя лорда Лейстера должно было вскоре создать
нам собственный небольшой придворный круг. То событие, которого оба мы
ожидали с радостью и страхом, было уже очень близко, и для меня большим
облегчением представлялось покровительство высокородной дамы, чей
жизненный опыт и родственная нежность могли умерить мои страдания.
Неустанная снисходительность и заботливая чуткость лорда Лейстера с каждым
часом делали его дороже моему сердцу, и я, по размышлении, радостно
примирилась со своей судьбой за то, что при всей ее суровости она сохранила
неизменным того, кто занимал первое место в моем сердце.
Не желая публично заявлять о себе, пока мы не создадим собственной
свиты и не решим, где поселиться, милорд предуведомил леди Мортимер, что
мы прибудем ближе к ночи. Когда мы въезжали в городские ворота Руана,
сопровождаемые ее свитой, сердце мое радостно билось при мысли о
предстоящей встрече с сестрой благородного Норфолка, единственным человеком (не
считая моей собственной сестры), кровно связанным со мной. Она встретила
меня на пороге приемной залы. С глубоким чувством я сжала обе ее руки,
оросила их слезами, прижала к груди. Она обняла меня с чрезвычайной
сдержанностью и, на миг отстранив от себя, обвела мое лицо и фигуру столь
пристальным, изучающим взглядом, что я поняла: душевная тонкость не
принадлежит к числу ее достоинств. Пока происходил должный обмен
приветствиями между нею, мисс Сесил и милордом, я в свою очередь позволила себе
рассмотреть ее. Она была крупна, высока и стройна, как и все в роде Говардов;
черты ее несли на себе отпечаток возраста и увядшей красоты; простой
наряд, как и мой, был траурным, манеры создавали впечатление величавости.
Ее беседе было присуще достоинство не без суровости, и я с глубоким
сожалением почувствовала, что обрела родственницу, но не нашла в ней друга. Два
монаха, с которыми она обходилась с чрезвычайным почтением, и старый
слуга семьи Мортимер с сестрой были представлены нам как лица, достойные
быть посвященными в нашу тайну. Мы поняли, что тайна доверена им еще до
того, как было получено наше на то согласие. Лорда Лейстера покоробило
это открытие, но он смирил свою гордость и сохранил спокойный и
благожелательный вид. Я же, после всех опасностей оказавшись под кровом,
освященном родством, где супруг мой, как мне казалось, вернулся в подобающее
ему окружение, почувствовала, как сердце ширится от наполняющей его
радости, и села за обильное угощение, приготовленное по случаю нашего
приезда, и отдала ему должное с аппетитом, какого давно уже не ощущала.
Снисходя к моему положению и усталости, леди Мортимер избегала
входить в подробности наших дел, зато повествовала нам о своих с щедрой
откровенностью. Она заверила нас в дружеских чувствах своего старшего сына,
лорда Мортимера, который предпочел блага свободы как в религиозных
убеждениях, так и в своих действиях, служа Франции в ее войнах, поискам
обманчивой удачи в Англии, управляемой врагом Папы. От земельной
собственности, некогда принадлежавшей Мортимерам, ее супруг благоразумно
избавился задолго до возвращения Филиппа в Испанию. Он и далее находился
на службе у этого монарха, который, будучи известен своей скупостью и
неблагодарностью, тем не менее проявил редкое для него чувство
привязанности, даровав ее младшему сыну обширные земли на Ямайке, которые тот
возделывает на таких благоприятных условиях, что ценность их с каждым днем
возрастает. Его брак с некой испанской дамой еще более упрочил связь его с
испанским правительством и его интересами, но совсем недавно, имев
несчастье лишиться жены, он внял мольбам матери побывать во Франции, и его
приезда ждали с часу на час. Она так увлеклась своим повествованием, что
уже не помнила о моей усталости. Однако мисс Сесил напомнила ей, что час
поздний, и нас препроводили в великолепные покои.
Лорд Лейстер мимоходом упомянул о справедливом возмущении,
поначалу возникшем у него. Вскоре он задремал, но мне еще не спалось. Новые
планы будили мою фантазию и гнали от меня сон. Образы, более пленительные,
чем те, что являлись мне после отъезда из замка Кенильворт, оживляли мою
душу.
— Да, мой Лейстер, — говорила я, с нежностью прикасаясь к руке моего
спящего возлюбленного, — тебе не придется более терпеть ради меня
опасности и унижения. Недосягаемые для наших недругов, мы можем теперь
смеяться над их бессильной злобой.
Ах, тщеславие и самоуверенность! Смертельная западня в этот самый миг
готовилась захлопнуться вокруг моего сердца, острие муки было нацелено в
него сквозь броню безопасности. Увы, сударыня, эта ночь, сулившая мир и по-
кой, перевернула всю мою жизнь вследствие несчастья, которое заслонило
собой все другие. Как вспомнить мне то, что произошло, и сохранить
достаточно сил, чтобы описать это? Впадая в мягкое забытье, что предшествует сну...
(Ах, отчего не погрузилась я в вечное забытье? А мне суждено было играть
роковую роль в судьбе всех, кого я любила: моим плачевным жребием было
притягивать тот удар, что отсекал их от всего, кроме моей памяти, и — о! —
как горестно оплакивать всю жизнь ошибки слишком нежного сердца!)
Погружаясь, как я уже сказала, в сон, я вдруг услышала неясный шум в
комнате. Очнувшись в страхе, который привычка сделала почти бессознательным,
я разбудила лорда Лейстера. Он резко отдернул в сторону полог, и в
невыразимом ужасе, при слабом огоньке светильника, я увидела толпу вооруженных
людей, один из которых властным голосом приказал ему сдаться на милость
королевы Англии. При этих роковых словах душа моя помертвела, но
милорд, не удостаивая его ответом, выхватил шпагу, всегда лежавшую у него
под подушкой, и надменно повелел им покинуть комнату. Когда они
подступили, лорд Лейстер направил шпагу в грудь ближайшему, и тот, мгновенно
отпрянув, толкнул под руку своего сотоварища. Смертоносная вспышка,
оглушительный звук, упавшая шпага — все, все подтвердило мою участь: лорд
Лейстер, которого я боготворила всей душой, который был мне дороже всего
на земле и — увы! — едва не дороже всего на небесах, упал мне на руки в
предсмертном содрогании. Лишь миг погибели всего сущего, в свой назначенный
срок, мог бы затмить собою потрясение этой минуты. Ужасно было и
смятение, охватившее этих негодяев при столь непредвиденном повороте событий.
Неверное пламя принесенного ими светильника слабо освещало любимые
мною черты. Последним усилием он поднес мою руку к губам и расстался с
жизнью у меня на груди.
Как передать словами отчаяние моей души? Словно падший ангел, я была
низвергнута с небес прямо в ад и потому, вместо рыданий и сетований,
погрузилась в ужасное безмолвие. Горе было слишком велико для слез и жалоб.
Неподвластная страху, я наконец в отчаянии призвала его убийц вновь
соединить тех, кого они разлучили. Я омочила грудь алой кровью, что струилась
еще из его груди, и молила Бога и людей положить конец моей жизни. Увы!
Тот, кто был средоточием моих надежд, страхов, забот и желаний, холодел
на глазах несчастной, обреченной пережить его. При появлении леди
Мортимер мое горе обратилось в исступленное безумие, и на много дней я обрела
избавление от мук.
Сознание озарило мою истерзанную душу, словно свет, мерцающий в
хаосе. Неясное воспоминание о том, кем я была раньше, возникло прежде
воспоминания о том, кто я сейчас. Я смутно узнала слабую руку, которой
отдернула в сторону полог. Я находилась в тесной келье, свет скупо сочился в нее
сквозь небольшое окно с цветными стеклами. Бессознательно мои губы
прошептали имя Лейстера... Тщетно... Лишь собственный голос коснулся моего
слуха, и одинокая темница, в которой я оказалась заключена, наполнила меня
таким могильным холодом, что даже закрыть глаза было хотя бы временным
облегчением. Мысли лихорадочно сменяли одна другую и вдруг, в один миг,
сложились в ужасную правду, сверкнувшую перед моим мысленным взором.
Словно я вновь была на роскошном ложе, из мирного приюта любви в
мгновение ока превратившемся в смертный одр, вновь ловила этот последний
взгляд, неизгладимо запечатлевшийся в памяти, вновь чувствовала, как
сердце мое холодеет вместе с кровью, потоками хлынувшей из его сердца. Я
рванулась в безумном отчаянии и, ломая руки, простонала его имя таким
душераздирающим голосом, что пробудилась приставленная ко мне изможденного
вида сиделка, спавшая у изножия моей постели на походной кровати,
которую я не сразу заметила. Торопливо подходя ко мне, она бормотала что-то,
мне непонятное.
— Боже! — воскликнула я, пораженная при виде ее облачения (мне
никогда еще не приходилось встречать монахинь). — Где я? Неужели в Убежище и
его прежние обитатели вышли из могилы, чтобы облегчить и скрасить мое
одиночество?
— Иисус-Мария! Неужели к бедняжке никогда не вернется рассудок? —
Она говорила на французском, который я понимала с большим трудом.
— Ах, нет, — продолжала я, сама отвечая на свой вопрос. — Этот роковой
для меня язык — подтверждение всех ужасных воспоминаний. Так ответь же
мне, ты, что причастна (не знаю почему) к моей судьбе: где, где мой супруг?
Быть может, то, что вспыхивает перед моим мысленным взором, лишь
порождение блуждающего в потемках разума, а супруг мой жив?
Она потупила взгляд, тихо промолвив:
— Да, бедное мое дитя, судя по этому вопросу, сознание вернулось к тебе.
— О, тщетная надежда! — вскричала я, заливаясь слезами и вновь перейдя
на свой родной язык. — Но, живой или мертвый, он — все, о чем я прошу.
Верните его, верните его мне! Дорогой моему сердцу, священный долг связывает
меня даже с его прахом. Отведите меня к его останкам — ведь они теперь все,
что у меня есть, — и позвольте без помехи плакать над ними.
Она пожала плечами в знак того, что не вполне понимает мой язык, и,
осенив себя крестом, предрекла мне вечную погибель, если я и далее буду
думать о еретике, который совратил меня с пути истинной веры и который
вследствие этого стал устрашающим примером возмездия. Она призвала
меня склониться перед Пресвятой Девой, которая столь милосердным
наказанием возвращает меня католической Церкви. Да, Лейстер, святой мученик, в
ослеплении своей нетерпимости она осмелилась назвать твою смерть
милосердным наказанием. Негодование бурными толчками погнало по моим жилам
кровь, до того, казалось, мертвенно застывшую от горя. Я дала выход всей
своей душевной муке; с яростным презрением отреклась я от ложной веры
своих предков, оплакала — слишком поздно — доверчивость, внушенную мне
моей собственной верой, прокляла жестокую и вероломную леди Мортимер и
потребовала вернуть мне свободу — все это с таким пылом, что монахини
были удивлены и растерянны. Увы, я поняла в ту же самую минуту по тому, как
увеличилось их число вокруг моей постели, что угрозы и мольбы будут оди-
наково тщетны. Мать настоятельница приблизилась и властным и
решительным голосом объявила мне, что леди Мортимер на правах родственницы
всецело доверила им заботу и попечение обо мне в надежде, что их
благочестивыми усилиями я вновь обрету рассудок и религиозные принципы и что
наилучшим применением моему рассудку как раз и будет постараться вернуться
к этим принципам, вместо того чтобы предаваться праздным сетованиям об
утрате, которая одна только и могла обратить мою душу к спасению. Они
называли моего благородного мужа, которого отняла у меня нетерпимость их
вероучения, еретиком, изгоем общества, негодяем, недостойным погребения.
Я слушала молча, но душа моя не безмолвствовала. Я взывала ко
Всевышнему и знала, что Он не оставит меня. О, как ужасно заклеймит Он в грозный
день возмездия фанатичных диктаторов в религии!
По счастью, они понимали мою речь хуже, чем я их, и это, быть может,
спасло меня от сурового содержания, которое разрушило бы мое здоровье
так же, как был разрушен душевный покой.
Вам покажется странным, сударыня, что я сумела пережить эти
нескончаемые и разнообразные несчастья, и самое ужасное из них — утрату моего
возлюбленного мужа. Я сама поражаюсь этому и могу объяснить свою
физическую и душевную выносливость лишь тем, что страдания мои были
непрерывны. Усталость сменялась еще большей усталостью, мучение — еще более
тяжким мучением, для жалоб и сетований не оставалось места — они
прерывались то крайним изумлением, то необходимостью действовать, которая
сообщает быстроту решений всякому уму, кроме самого беспомощного, и не дает
воли унынию. Горе, берусь утверждать, исходя из собственного печального
опыта, не может стать смертоносным, пока не заставит умолкнуть и не
сосредоточит на себе все иные страсти. Оставшись наконец в печальном обществе
собственного сердца, я обрела время для размышлений. Лишившись лорда
Лейстера, счастья, возможности отмщения, лишившись имени, состояния,
всех радостей жизни, всех прав в обществе, погребенная заживо еще до того,
как прах моего супруга обрел место последнего упокоения, я в изумлении
взирала на судьбу свою. Часто, истомленная страданиями, думала я о том, чтобы
расстаться с жизнью, которая мне более не дорога, и спокойно последовать за
лучшей частью своей души. Увы! Нерожденное дитя, бывшее причиной всех
недавно грозивших мне опасностей, снова и снова призывало и побуждало
меня и далее сносить эти страдания. Да, драгоценное напоминание о моей
любви, единственное свидетельство былого счастья, последняя ветвь могучего
древа Дадли, со вздохом подумала я, мой долг — дать тебе мучительное благо
существования, мой долг — защитить доброе имя твоего благородного отца. Я
знаю тайную, гнусную политику Елизаветы и не сомневаюсь, что она избежит
малейшего осуждения, если только не появлюсь я, а я — разве предам я, о
Лейстер, тебя, живого или мертвого? Разве та, для которой ты всем
пожертвовал, допустит, чтобы твоя честь, твое богатство, твоя жизнь были бесследно
уничтожены, разве не предпримет она хоть малое усилие, чтобы спасти то из
них, что еще возможно спасти? Нет! И если мщение — это та малость, что ос-
талась у меня, я сберегу эту малость. Господи, не допусти сбыться жалким и
поспешным ожиданиям моей недостойной родственницы, помоги мне увезти
из этой неосвященной могилы благородные останки моего возлюбленного,
чтобы они поразили запоздалым раскаянием и безысходным стыдом
Елизавету, и тогда... О! Тогда позволь мне передать младенцу, чье движение я
чувствую в себе, ту жизнь, под бременем которой я не желаю более изнывать!
Чтобы осуществить вполне свой сложный замысел, я сочла совершенно
необходимым подавить, хотя бы отчасти, свои истинные чувства, и, повинуясь
требованиям притворства, от которого отвращалась душа моя, я выразила
желание свидеться с женщиной, бывшей в моих глазах, если не считать
Елизаветы, ужаснее всех живущих на земле людей. Эта просьба породила у
монахинь надежду на мое скорое обращение, и их обхождение со мной стало
немного сердечнее. Я узнала от них, что негодяи, лишившие дни мои покоя и
радости, объясняли произошедшее только несчастной случайностью и
утверждали, что не имели иных поручений, кроме как препроводить лорда
Лейстера в Англию; совершалось же это столь скрытно, что явно указывало
на отсутствие у них законных полномочий. Все происходило в такой глубокой
тайне, что и замысел и исполнение остались неизвестны стражам порядка.
Чтобы избежать огласки, тело лорда Лейстера было незамедлительно
перенесено во внешнюю усыпальницу при монастырской часовне, там
забальзамировано и приготовлено к отправке в Англию, вслед за королевским повелением,
которому эти люди, по-видимому, только и подчинялись. Драгоценности и
деньги, принадлежавшие и лорду Лейстеру, и мне, когда мы въезжали в
роковые для нас руанские ворота, казалось, исчезли вместе с ним; ничего не было
известно и о размещении тех сумм, о которых я упоминала, и я убедилась,
что из богатства, мне некогда обещанного, я унаследовала только вдовье
покрывало.
Так как я терпеливо сносила религиозные наставления и проповеди
монахинь, а также многочисленных монахов, объединивших усилия с ними, чтобы
добиться моего обращения, леди Мортимер через несколько дней согласилась
повидаться со мной, дабы самой судить о результатах их стараний. Эта
дерзкая женщина полагала, что своим визитом оказывает мне снисхождение, и
едва удостоила меня протянутой руки, от прикосновения которой я
содрогнулась. Не замечая моей бледности, моего состояния, моего монашеского
облачения, она спокойно беседовала с сестрами и монахами, а я продолжала лить
слезы, не остановимые никаким человеческим усилием. Спутник леди
Мортимер, в котором я угадала ее младшего сына, заговорил со мной языком
сочувствия. Чуждый религиозному фанатизму матери, он отзывался о моем
несчастии как о тяжелой трагедии, а о лорде Лейстере — как о человеке, чья
гибель достойна глубочайшей скорби, и был безутешен оттого, что,
задержавшись в пути, прибыл, к несчастью, слишком поздно, чтобы предложить нам
свою помощь. Говорил он по-английски. Его слова, тон, его английская речь
проникли мне в душу, и в ней зародилась слабая надежда, которая и помогла
мне вынести последовавший затем разговор. Леди Мортимер обратилась ко
мне в манере одновременно навязчивой и высокомерной и разговаривала со
мной как с неразумной девицей, которая непрестанно приносила в жертву
слепой и непростительной страсти все то, к чему ее обязывали требования
религии и морали. Она утверждала, что я одна повинна в мученической гибели
моей матери, что на мне лежит этот неискупимый грех; с ужасом говорила о
беззаконном союзе, который, поскольку он не санкционирован Папой, не
может, в ее глазах, считаться браком, и чрезвычайно гордилась тем, что столь
блистательно задумала свой план разлучить нас. Как оказалось, сведения о
нашем местонахождении были переданы ею Елизавете, которая настояла на
тайной выдаче лорда Лейстера ее посланцам. Это требование леди Мортимер
приняла с радостью, видя в исполнении его самый легкий и надежный способ
вернуть меня в лоно католической Церкви. План захватить лорда Лейстера
среди ночи принадлежал, как она признавала, ей: в такое время ни он,
сопротивляясь, ни я, пытаясь следовать за ним, не смогли бы поднять тревогу,
которой она более всего опасалась. Свою вину в кровавых последствиях этого
предательства она отрицала, но при этом не выразила ни малейшего сожаления
по поводу случившегося. «О, грех бездействия, — мысленно негодовала я, — о,
гнусный сговор! Не имея смелости совершить дурное дело, но зная о нем
заранее, разве менее ты виновна, если не предотвратила его? Законы Англии
здесь невластны, и лорд Лейстер был им неподсуден, так отчего был он
завлечен и убит — убит под кровом, который родство и гостеприимство должны
были освятить вдвойне? Отчего, если даже самый убогий постоялый двор
предоставил бы ему защиту?»
Так как на ее речи я отвечала лишь слезами и вздохами, она призвала
монахов присоединиться к ее многословным увещеваниям: мне обещали
представить меня всем сторонникам моей матери, поставить во главе английской
католической партии, лишь только я добровольно раскаюсь в содеянных
ошибках; если же я буду упорствовать в них, то, предваряя Божий суд надо
мной, она решила покарать мое отступничество строгим заточением в тех
стенах, что сейчас меня окружают. Ослабевшая и подавленная, я обещала все
обдумать и с трудом добилась исполнения единственной просьбы, которую
дерзнула высказать: мне предоставили печальное право плакать над гробом
лорда Лейстера.
Мне было нетрудно обнаружить за завесой притворства, спеси и
фанатизма сильнейшую озабоченность. Соглашение о выдаче лорда Лейстера
оскорбляло те самые законы, что защищали леди Мортимер, и перед ними ей
пришлось бы держать ответ, стоило ее намерению обнаружиться. Когда же к
этому добавилось его убийство, убийство среди ночи, в городе, населенном
преимущественно гугенотами, она оказалась в опасности, которую едва ли
осмеливалась себе представить. Фанатическая вера, сделавшая ее столь
популярной среди католиков, в этих обстоятельствах служила ей защитой, так как,
связанные с нею общей угрозой и единством религиозных принципов, они
готовы были на все ради ее безопасности. С каждым днем я все более
утверждалась в своем мнении, а непреложность выбора — склонить меня на свою
сторону или похоронить заживо — побуждала монахинь проявлять заботу и
снисходительность с тех пор, как я, по их убеждению, стала прислушиваться
к их речам.
Опасаясь пробудить во мне оскорбленные чувства и оживить
предубеждения отталкивающим видом мрачного подземелья, где находилось тело лорда
Лейстера, но при этом не осмеливаясь перенести прах нечестивца в свою
часовню, монахини принялись украшать его временную усыпальницу
напыщенно-мрачными принадлежностями похоронного обряда. Ах, то была тщетная
попытка превратить мучительную тоску в печаль! Могут ли полуночные
свечи, траурные завесы и черные страусовые перья дать облегчение взору,
который напрасно ищет единственный желанный ему предмет? Могут ли они
утешить сердце, сдавленное железной рукой несчастья? Разве могут молитвы
смертных обещать бессмертное блаженство и разве могут жалкие
самозваные святоши подкупить Всемогущего, сравнившись с Ним в щедрости
милосердия? Нелепое заблуждение! — Такими мыслями отозвались во мне все их
восторженные разглагольствования, а назойливо осаждая меня в столь
неподобающий момент, они лишь укрепили мои колеблющиеся религиозные
принципы. Над гробом лорда Лейстера я дала в глубине души обет —
торжественный и необратимый — не знать иного Бога, кроме Бога его веры, и не
искать Его иными путями. И ты, о возлюбленный мой, был при этом, но не со
мною. Никогда более взор мой не упьется радостью, встречал ясные лучи
твоего взора, никогда более душа моя не сольется с твоей в едином потоке
восторженных речей, что так часто давали мне силу терпеть жестокие
превратности судьбы! Ах, нет! Ты, ты один непостижимо преобразился в мое
величайшее горе, и под хладною гробовою доской, скрывшей драгоценный прах,
покоится душа твоей несчастной вдовы.
Тщетно пыталась я расспрашивать о мисс Сесил. Монахини утверждали,
что лишь из моего бреда знают о ее существовании, а леди Мортимер
неумолимо отказывалась сказать мне, жива ли она. Я всей душой оплакивала
утрату единственной подруги, которая могла бы, разделив мое горе, смягчить его.
Смерть даровала ее любви права, не уступающие моим, и сердце мое часто
склоняло меня к мысли, что лишь те, что любили лорда Лейстера, могут
достойно оплакать его.
Господин Мортимер вскоре сделался посредником между мною и своей
матерью. Отчаявшись тронуть ее безжалостную душу, я использовала
каждую минуту своего одиночества, чтобы подчинить себе душу ее сына.
Медленно и постепенно я раскрывала пред ним свои мысли, медленно и постепенно
он стал к ним прислушиваться — однако он слушал меня. Ежечасно страшась,
что тяготы мои возрастут с появлением на свет несчастного младенца, ради
которого я претерпела нескончаемую череду бед, что монахини в своем
благочестивом усердии могут, как только он родится, вырвать его из моих
слабых рук, чтобы удержать меня и принудить к обращению, я вдруг
почувствовала, как в душу мою проникло новое ужасное опасение. Я не могла не
видеть, какие чувства побуждают господина Мортимера помогать мне, но, вы-
нужденная добиваться свободы любыми средствами, я делала вид, что не
замечаю той нежности, о которой слишком многие обстоятельства не
позволяли ему заявить открыто. В несколько дней он принял решение и вскоре
известил меня, что нанял английское судно, матросы которого будут его
единственными помощниками. Как медленно угасает надежда и, о, как быстро она
возрождается! Побуждаемая нетерпеливым желанием бежать, я даже свое горе
поставила на службу ему и испросила у монахинь согласия на ночные бдения
в усыпальнице над гробом лорда Лейстера (этот печальный обряд
разрешался их религией и не запрещался моей). Мортимер объяснил мне, что
проникнуть туда проще, чем во внутренние монастырские покои. В свое время он
сам руководил переносом туда моего погибшего возлюбленного и полагал,
что это самый легкий путь для побега, если вообще не единственный.
Таким образом провела я несколько предшествующих побегу ночей —
всякий раз в сопровождении новой монахини, дабы усыпить подозрения, если
таковые возникнут. Какие стремительные, многочисленные и многообразные
чувства обуревали меня перед назначенным часом! Каждый взгляд, казалось
мне, проникал в глубь его замысла, каждое сердце порывалось ему
противодействовать. Мне не удалось добиться разрешения остаться над гробом в
одиночестве, и я дрожала при мысли, что спасители появятся, прежде чем мою
унылую спутницу отзовут прочь или что мне понадобится силой помешать ей
поднять тревогу. По счастью, ночь выдалась очень холодная, и, заметив, что
монахиня не участвует в моих молитвах, я посоветовала ей удалиться в келью
и вернуться ко мне по окончании заутрени. Испытывая отвращение к своей
миссии и уже закоченев от холода, она угрюмо согласилась и оставила меня
наедине с гробом лорда Лейстера, моего погибшего избранника.
— О, навечно дорогой и горько оплакиваемый, — со вздохом молвила я,
опускаясь на колени и обращая свои слова к безответной крышке гроба. — Не
о себе так заботится твоя Матильда. Восстановить твою честь, вернуться на ту
драгоценную землю, что была когда-то частью тебя и частью которой ты
вскоре станешь, — это все, для чего мне теперь потребна свобода.
Последовало ужасное молчание, нарушаемое, казалось, только биением
моего сердца. Не замечая эмблем смерти, которые смущают умы счастливых,
я страшилась лишь живых. Колокол пробил двенадцать раз, звуки эти
сигналом отдались в моем сердце. Скрежет из отдаленной части подземелья
достиг моего слуха, где-то открылась дверь, послышались шаги, открылась еще
одна дверь. Я оказалась в окружении своих спасителей, и слабая искра
радости пронизала мое застывшее тело, когда я подняла голову от гроба лорда
Лейстера.
— Бежим, прекрасная Матильда! — в нетерпении воскликнул Мортимер,
схватив меня за руку и пытаясь поднять с колен.
— Постойте, великодушный друг, и выслушайте меня, — ответила я с
твердостью. — Вы спасете меня лишь наполовину, если оставите здесь прах моего
супруга. Можно ли разлучить скупца с его сокровищем? Он предпочтет
смерть на груди своих богатств. Здесь скрыто все, чем я владею. Возьмите его
с собой или похороните меня вместе с ним, ибо никогда, клянусь именем
Того, пред чьим взором был заключен наш союз, никогда, живая или мертвая, я
с ним не расстанусь.
Раздосадованный столь неожиданным требованием, он указал мне на
трудность и опасность предприятия с резкостью, какой я от него не ждала, но, так
как время и место не позволяли долгих споров, а я была непреклонна, он в
конце концов приказал матросам нести гроб. Они повиновались приказу
лишь потому, что фигурально использованные мною слова о «сокровище»
поняли буквально. Связанная с лордом Лейстером узами, неподвластными
смерти, я всегда ощущала его присутствие как защиту и сейчас с неусыпным
вниманием следила за своими спутниками, убежденная, что они готовы в
любую минуту избавиться от столь тяжкого бремени.
Меня быстро доставили к берегу Сены, где ждала лодка, и, так как прилив
благоприятствовал нам, мы вскоре добрались до корабля значительных
размеров, и он тотчас снялся с якоря. Взволнованная сотнями воспоминаний, я
едва ли вспомнила о Мортимере до той минуты, когда заметила, что корабль
идет полным ходом, а он все еще на борту. Мне представлялось делом
решенным, что он оставит меня, как только я окажусь в безопасности. Я напомнила
ему об этом обещании.
— Я оставлю вас, прекраснейшая из женщин, — воскликнул он, пылко
сжимая мою руку, — как только вы окажетесь в полной безопасности, если вы все
еще будете столь жестоки, что пожелаете этого. Но как могу я покинуть вас
сейчас? И как могу я остаться в стране, где ради вас преступил самый
священный закон и где меня ждет заслуженное наказание?
Мне следовало бы счесть его ответ убедительным, но его буйная, хотя и
скрываемая, радость, его неукротимый пыл наполнили мое сердце ужасом и
лишили мою свободу душевного покоя.
В каюте, куда он меня проводил, я увидела женщину, приставленную ко
мне для услуг. Она настоятельно рекомендовала мне отдых, которого я так
долго была лишена. Несчастья, от которых мне удалось спастись, и те, что
еще угрожали мне, лежали на душе тяжким бременем, и, желая отвлечься от
пугающих предчувствий, я вступила со служанкой в беседу на обыденные,
житейские темы. К крайнему своему удивлению, я узнала, что она повитуха и
что у нее готово все необходимое для ожидаемого младенца. Мне следовало
бы обратиться мыслями к этой нежнейшей из обязанностей, но роковое
сомнение, зародившееся в моем сердце, заставило отступить все благородные
чувства. Увы, скоро оно перешло в уверенность. Неподвластная смерти
любовь, которая побудила меня настоять, чтобы гроб с телом лорда Лейстера
был помещен в отведенную мне каюту, поначалу, казалось, вызывала у
Мортимера ужас, обычный для слабохарактерных людей или людей с нечистой
совестью при виде такого страшного напоминания; но за несколько дней он
свыкся с ним. Страсть, которой он более не скрывал, заставляла его
беспрестанно искать моего общества. Ни мертвец, еще не преданный земле, ни
траур, облекающий не только мое тело, но и измученное сердце, ни печальные
обстоятельства моего вдовства — ничто более не служило ему преградой. Я
видела ясно, что он считает меня своей собственностью и лишь ждет, когда
здоровье вернется ко мне, чтобы заявить о своих беззаконных притязаниях.
Какие бездны страха разверзались перед моею робкой душой! Я видела себя
всецело во власти этого человека, лишенной надежды на людское участие, не
ждущей помощи ни от кого, кроме Всевышнего.
— О Всемогущий, — вздыхала я, поднимая к небесам взор, затуманенный
слезами, — Ты, чье вездесущее дыхание правит этим волнующимся
простором, даруй мне в нем спасение или могилу!
Перед моей каютой располагался узкий балкончик, куда я иногда
выходила подышать свежим воздухом. Как-то вечером мое раздумье, подобное
только что описанному, было прервано звуками женского пения. По
изысканности исполнения и мелодичности голоса я поняла, что это не могла быть моя
невежественная служанка, о присутствии же на корабле другой женщины было
неизвестно. Охваченная удивлением и любопытством, я вся обратилась в
слух. Я узнала мой любимый гимн, гимн столь проникновенный,
торжественный и возвышенный, что покоренная душа устремилась следом за ним к небу.
Голос запел о смерти, и некий тон его, низкий, траурно-скорбный, коснулся
моего трепещущего сердца, и оно замерло. Громкое восклицание — имя Роз —
вырвалось из моей груди. Послышался звук падающего тела, пение
оборвалось. Безумным вихрем я устремилась на палубу и громко потребовала у
ошеломленного Мортимера вернуть мне утраченную подругу. Захваченный
врасплох, он не решился долее обманывать меня и открыл дверь каюты,
расположенной прямо над моей. Ах, какая буря чувств охватила меня, когда я
кинулась поднимать горячо любимую, горько оплаканную подругу мою по судьбе!
Медленно она возвращалась из беспамятства, вызванного неожиданностью.
Множество общих воспоминаний окрашивало радостью наше обретение друг
друга, но не менее было воспоминаний, убивающих всякую радость. Наконец
наши объятия и слезы утихли. Как только мы остались одни, я расспросила
ее, что произошло с нею за время нашей разлуки, за время, столь страшно и
бесповоротно изменившее наши судьбы.
— Разбуженная всеобщим смятением, последовавшим за роковой
случайностью той ночи, что разлучила нас, — рассказывала прекрасная Роз,
прерывая свой рассказ рыданиями, — я требовала возможности видеть вас, мой
друг, требовала с неистовой горячностью, но тщетно. Человек, бывший, как я
скоро поняла, сыном леди Мортимер и скрывавшийся в доме, когда мы туда
приехали, вскоре вошел в мою комнату и приказал сопровождавшим его
людям доставить меня на борт корабля, на котором он приплыл с Ямайки.
Слезы и мольбы были бесполезны. Под покровом ночи меня вывели на берег
Сены и в лодке перевезли на корабль, где я оказалась в заточении без малейшей
надежды свидеться с вами. Вскоре я узнала из грубых шуток матросов, что их
хозяин — бесчестный негодяй во всем, в особенности же в отношении
женщин. Всякой надежды на побег меня лишило то, что я имела несчастье
приглянуться капитану, которого до сих пор удерживал лишь страх перед Морти-
мером. Я поняла, что корабль готовится отплыть на Ямайку, как только
примет на борт новый груз. Однако я видела, что погрузка окончена, но паруса
не поднимают. Это вселило в меня надежду на благодетельное
вмешательство Провидения. Увы! Могла ли я вообразить, что в это время и вы были
вовлечены в столь же безнадежное, бедственное положение? Судите же теперь,
о несчастный друг мой, — заключила мисс Сесил, — какая судьба ожидает нас
обеих. От бесстыдных притязаний вашего кузена меня избавляет только то,
что это низменное сердце сменило предмет своих посягательств, а меня, как
менее ценную добычу, оставило своему недостойному сотоварищу. Той
милости приличия; которую Мортимер до сей поры соблюдал в отношении вас,
после нашей злосчастной встречи придет конец. Он теперь знает, вне всяких
сомнений, что вы осведомлены о цели нашего путешествия, а как свыкнетесь вы
с этой мыслью? Остров, к которому мы держим путь... еще находится в руках
нескольких поселенцев, и сила — едва ли не единственный их закон, ему же,
без сомнения, нет нужды и в этом законе, поскольку он решается
пренебрегать всеми остальными. Никогда более не различит мой тоскующий взгляд
мирных и прекрасных берегов Англии, которые так рада была я потерять из
виду. К иному были тогда прикованы мои глаза, и разгневанные Небеса
покарали меня, призвав его к себе.
Как, как выстоять перед мертвящей силой отчаяния, если бы связанное
чувство любви и преданности не восставало из глубины его и не поднимало
душу над человеческой слабостью! Хотя собственные мои обстоятельства
были не менее плачевны, сделав мужественное усилие над собой, я решила
успокоить и утешить Роз и, осторожно подготовив ее нежное и кроткое сердце к
предстоящей роковой встрече, повела ее в свою каюту. Ах, какая любовь
изливалась из наших глаз и сердец на хладный прах!
Мисс Сесил не ошиблась в своих суждениях: бесчестный Мортимер более
не видел нужды скрывать свои намерения и беспрестанно преследовал меня
разнузданными и самонадеянными речами о своей страсти. Он знал, что я
всецело нахожусь в его власти, и полагал, что своим намерением жениться
оказывает мне высокую честь. Даже в такое время он глумился над всем, что
предписывают природа и людской обычай. Мисс Сесил подвергалась не
менее упорным домогательствам его товарища, грубого и необузданного, как та
стихия, в которой он существовал. Оба они так часто наведывались в нашу
каюту — даже в часы, отведенные для сна, — что мы едва ли могли считать ее
своей. Беспрестанные столкновения, порождаемые такой обстановкой, часто
повергали нас в отчаяние, и тогда молча вглядывались мы в бездонную
пучину, гадая, не в ней ли обретем последнее ужасное пристанище.
Среди этих терзаний пробил назначенный час и природа содрогнулась в
мучительном усилии. В этот ужасный миг я утратила всякое чувство страха и
предалась в руки Творца, моля Его призвать к себе исстрадавшуюся душу,
чьи стенания так давно доносятся к нему, вместе с душой беспомощного
младенца, пронзившего мое сердце своим первым слабым криком. Как только
позволили мои малые силы, мне подали дочь, мою дорогую дочь, рожденную
без отца, которая, вступая в жизнь, не ведая еще о своей беде, казалось, уже
оплакивала ее. Чувство острое, новое и неожиданное овладело мною, чувство
столь сладостное, столь сильное и столь святое, что мне стало казаться, будто
до этой минуты я не знала любви. Слабыми руками прижимая ее к груди, я
горячо молила Всевышнего одарить ее всеми благами, которых она, неведомо
для себя, лишила меня, а сердце мое омывало ее слезами нежности. Природа,
могущественная природа, каким благоговением исполнилась я перед твоими
законами! На какую вершину счастья ни привела бы нас судьба, всегда в
блаженство вплетается печаль, очищая душу грустным сознанием своего
несовершенства. В какую глубину отчаяния судьба ни погрузила бы нас, всегда
луч божественного света озарит слабую, бренную нашу оболочку, высветив и
возвысив ее страданья.
Пока взор мой с жадной, неутолимой нежностью был прикован к
новорожденному херувиму, пока я до боли в глазах всматривалась в детские
черты, отыскивая в них сходство с несравненной красотой отца, пока
воображение мое, пронизывая завесу будущего, соединяло все мыслимые совершенства
красоты и ума и наделяло ими мою дочь, все чувства, доступные человеку,
возродились и слились воедино в этом новом для меня чувстве. О надежда,
сладостная замена счастья! Золотые вспышки ее то и дело озаряют душу, как
свет озаряет мир Господень, пробуждая все живые законы бытия и даруя им
новую силу. Повинуясь ее властному зову, из темных, унылых могил своих
восстают угнетенные страданием сердца и, подобно цветам, отряхнув
тяжелую росу печали, медленно возвращаются к привычному существованию.
Тот, кто умудрен печальным жизненным опытом, уже не дерзает присвоить
себе безусловное право на драгоценный предмет своих желаний, но кротко
принимает дарованную ему радость, равно готовый насладиться ею и
смиренно от нее отказаться. К этому строю мыслей, который был порожден
мгновенно укоренившейся в душе моей материнской привязанностью, я пыталась
приобщить мою дорогую несчастную подругу. Увы, старания мои были
напрасны. Скорее удивленная тем, что я смогла найти утешение, чем склонная
принять его от меня, она постепенно утратила ко мне доверие, лишиться
которого мне было нелегко, и предалась холодному и угрюмому отчаянию,
разрушающему все моральные опоры. Скоро любые мольбы и доводы, обращаемые к
ней, стали бессильны. Порой, очнувшись от тайных мыслей, к которым я не
имела доступа, она горестным вздохом отклоняла мои увещевания, а
дальнейшие мольбы вызывали у нее явное отвращение. Время от времени она
вынуждена была покидать каюту (иначе, даже при моем нынешнем положении, мы
не смогли бы избавиться от незваных посетителей) и выслушивать
ненавистные ей речи беззастенчивого поклонника. Когда бедная девушка
возвращалась, мне часто казалось, что рассудок ее мутится: беспричинное
лихорадочное веселье внезапно сменялось мрачностью и отсутствующим видом. С
ужасом наблюдала я эти смены настроений, страшась той минуты, когда грубое
требование преследователя поставит ее перед роковым выбором. Увы! Страх
мой был не напрасен. Как-то вечером, после одного из таких разговоров, я за-
метила, что она встревожена сильнее обычного. Ни мои уговоры, ни
проливной дождь не могли заставить ее покинуть балкончик перед дверью каюты,
который она час за часом мерила усталыми шагами. Наконец ненадолго
задремав, я почти тут же пробудилась, когда она вошла в каюту. При свете
тусклого фонаря я видела, как она медленными, неверными шагами
приблизилась к последнему приюту лорда Лейстера. Опустившись на колени перед
гробом, заключившим в себе ее сокрушенное сердце, она прижала руки к
груди жестом безутешного горя. Спутанные белокурые волосы в беспорядке
рассыпались по ее плечам и груди, тяжелые от влаги полуночного дождя,
вздрагивая в такт биению сердца. В намокшем белом одеянии, складки которого
широко раскинулись по полу вокруг нее, она казалась столь совершенным
образом скорби, что я оцепенела. Я пыталась заговорить с ней, но лишь слабый
возглас вырвался у меня. Звук этот на мгновение нарушил ее каменную
неподвижность: она вздрогнула и огляделась по сторонам с той остротой
восприятия, которая сопутствует расстроенному воображению, затем с тяжелым
вздохом снова погрузилась в себя. С неистово бьющимся сердцем я
вскрикнула снова, я выговорила ее имя. Она приподнялась; губы ее шевельнулись,
словно пытаясь разорвать гнетущую тишину этой минуты, но она так и не
произнесла ни звука... Изумление, ужас, неподвижность смерти сковали меня.
Она поднялась одним легким движением, хотя все тело ее содрогалось от
любви и муки, и устремила пристальный и долгий взгляд на мое искаженное
горем лицо, потом торжественно подняла руку в знак последнего прощания и
выскользнула из каюты. Не в силах пошевелиться, я сквозь рев стихий
истерзанной душою различила ужасный всплеск, с которым она погрузилась в
морскую пучину. Нечто неописуемо, невыносимо давящее надвинулось на меня, и
сознание мое угасло.
Сколько миновало времени, прежде чем ленивая служанка пришла мне на
помощь, не знаю, но следующие один за другим припадки, сопровождаемые
опасными судорогами и изнурительной лихорадкой, казалось, в любую
минуту сулили мне, по воле Провидения, то избавление от страданий, которое моя
бедная Роз решилась обрести сама. Ее ли роковой пример, мои ли страдания
повлияли на моего мучителя, но его домогательства прекратились. В те
короткие промежутки, когда ко мне возвращалось сознание, он осуждал
собственное поведение, давал торжественные зароки отвезти меня на родину и
умолял бороться за свою жизнь, если не ради себя самой, то ради моей
дочери. Увы, дитя мое! Когда я вновь ощутила на своей щеке твое нежное
дыхание, я обвинила себя в том, что пыталась покинуть тебя, я признала
печальную необходимость жить. Моя жестокая болезнь лишила малютку
природного питания, а всякое иное она принимала с трудом, и на предложение
Мортимера окрестить ее я с готовностью согласилась. Обряд состоялся в тот же
вечер. Увы, бесценное дитя мое, твое невинное личико не покоилось на
подушке дорогого бархата, не осенял его роскошный полог, не стояли рядом
знатные восприемники, готовые с радостью и благоговением принять тебя в руки,
и за благословением Небес не последовало благословения отцовского. Увы,
убогая служанка передала тебя жалкому капеллану при свете тусклого
фонаря в тесной каюте, и твоя немощная мать, с трудом приподняв голову,
смотрела, как дитя лорда Лейстера, дочь королевского рода Стюартов была
крещена и наречена Марией.
Когда я немного оправилась от последствий трагической гибели моей
дорогой подруги и от потрясения, вызванного ею, я не могла не восславить
справедливость Провидения, с чьей волею несчастная дерзнула соединить
собственное решение: я узнала, что в тот роковой вечер безбожный капитан, упав,
сломал обе руки, тем самым лишившись возможности далее преследовать ее.
Поначалу я увидела в этом горькую насмешку судьбы, но потом душа моя
постигла смысл происшедшего, и во всех своих дальнейших поступках я
руководствовалась им. Ни разу, с той самой минуты, не дерзнула я уступить
безрассудству и отчаянию, решившись терпеливо сносить то, чему не в силах
подчиниться. Насколько суровым испытаниям подвергся этот принцип?
Часто ли приходилось мне, под гнетом несчастья, помещать между собой и своей
судьбою мимолетный образ прекрасной Роз Сесил, которая, ускользнув от
моей беспомощной воли, устремилась, незванной, навстречу вечности?
Тщетная надежда возвратиться в Англию, которой поманил меня
Мортимер, чтобы добиться моего выздоровления, угасала с каждым днем:
переменившийся воздух и разговоры матросов показывали, что конец моего
бедственного путешествия близок. И вот я услышала всеобщий ликующий крик: то
радостное чувство, что ведомо лишь морякам при виде земли, наполнило все
сердца, кроме моего. Неприязненно и мрачно я обратила безнадежный взор
на берег, который щедрая рука природы одарила таким плодородием, что
человеческий труд казался излишним.
«Ах, как далеки бесплодные скалы и меловые утесы Англии!» — подумала
я со вздохом. Я увидела Сантьяго-де-ла-Вега, единственный в ту пору город на
острове, и связала свою последнюю надежду с мыслью обратиться за
помощью к губернатору. Где мне было знать, что в нетерпеливой жажде
заполучить предметы роскоши, в изобилии доставленные сюда моим тюремщиком,
жители острова не заметят меня или сочтут чем-то вроде живой рухляди, не
заслуживающей внимания? Сидя взаперти в своей тесной каюте, я с чувством
глубокого унижения слышала, как пушечные выстрелы и музыка возвестили
о прибытии губернатора и его свиты, а потом об их отъезде после обильного
угощения. В тот же вечер, пока опьянение удерживало важных особ острова
по домам, я была переправлена на берег, посажена в крытые носилки, и рабы
Мортимера понесли их на плантацию. Праздные зеваки, которых
любопытство собрало вокруг носилок, не обращали внимания на мои мольбы,
разглядывая меня с холодной наглостью. Они обменивались замечаниями на
непонятном мне языке, и я видела ясно, что моего языка они понимать не желают. С
опозданием я поняла, что, явившись перед ними без вуали, я, вероятно,
позволила им ложно судить о своей нравственности.
Робкая от природы и угнетенная несчастьем, я утратила всякую
способность бороться с судьбой и, лишь вознося мольбы Всевышнему, ожидала ее
горестного завершения. Я убедилась, что Мортимер не без основания
похвалялся своим могуществом: с безграничной наглостью он теперь требовал
моей руки, напоминая мне, что здесь он полновластный хозяин, и вокруг я не
видела никого, кто бы осмелился перечить ему. Он имел бесстыдство
насмехаться над моим горем, которое сам причинил, и даже кощунственно
оскорблять хладные останки моего возлюбленного мужа, на чьи права готов был
посягнуть в любую минуту. Воображение мое давно иссякло в поисках средства
спасения. Бегство было невозможно в стране, где я не знала ни дорог, ни
нравов местных жителей, где не надеялась встретить человека, который пожелал
бы и смог защитить меня.
Из испанской прислуги Мортимера многих мне не дозволено было
увидеть, те же, что были ко мне допущены, оказались надменны, замкнуты и
молчаливы. Вскоре я узнала, что, раболепно исполняя волю хозяина, они
тешили свою гордость тем, что безжалостно помыкали рабами, которые,
будучи боязливы по природе и запуганы жестоким обращением, казалось, давно
утратили желание всех иных благ, кроме блага существования.
Ни слезы, ни вздохи, ни отказы не могли более отвратить или хотя бы
отдалить ужасное событие. Мне было дозволено лишь несколько часов побыть
в одиночестве, чтобы свыкнуться с мыслью о предстоящей церемонии.
Убаюкав и прижав к измученной груди свое улыбающееся дитя, обессилев равно от
горя и молитв, я уснула. Во сне я видела себя в том же положении, в каком
оставалась наяву, — на земле, подле гроба лорда Лейстера. Вдруг я заметила,
что крышка гроба открыта. Я вскочила в нетерпеливом желании увидеть
избранника моего сердца. И я еще раз увидела его, хотя и обвитого
могильными одеждами; еще раз увидела, как румянец жизни окрашивает
мужественное лицо; еще раз эти прекрасные глаза, взгляд которых всегда дарил мне
радость, озарили меня своим сиянием. Объятая изумлением и восторгом, я
пыталась заговорить — и не могла. Протянув к нему свое новорожденное дитя,
свою Марию, я увидела (о, блаженная, хотя и обманчивая, радость!), как
сомкнулось вокруг нее кольцо отцовских рук. Восторг этой минуты оказался
для меня непосильным: непроницаемая тьма заволокла взор, звуки неземной
музыки заглушили все мои чувства. Однако, мгновенно придя в себя, я
посмотрела вверх. Увы, лорд Лейстер возносился ввысь, держа в объятиях дочь.
Мучительный крик вырвался у меня, я молила вернуть мне дитя и, протянув
руку, ухватила край покрывала. Оно обрушилось с таким грохотом, точно
наступил конец света, и придавило меня к земле безмерной тяжестью. В этот
миг я проснулась. Сердце мое было объято страхом. «Это всего лишь сон, —
сказала я себе, — но такой сон, сравниться с которым может лишь ужас
приближающейся минуты».
Едва я успела собраться с мыслями, как в комнату вошел Мортимер в
сопровождении капеллана и слуг. Пока слуги убирали комнату с католической
пышностью, я призвала себе на помощь остатки мужества и обратилась к
священнику, готовившемуся совершить обряд, который стал бы насмешкой над
исповедуемой им религией.
— Именем того грозного Бога, служению которому вы себя посвятили,
выслушайте меня! — вскричала я, упав к его ногам. — И пусть по милосердию
своему Он запечатлит в сердце вашем мой горестный протест! После того,
как по жестокому умыслу я сделалась вдовой и жертвой предательства,
ничто на земле не может дать мне счастья, но вы, вы один можете сделать меня
непоправимо несчастной. Всемогущий Господь дал мне силы перенести эти
злодеяния (и мне ли судить о Его конечном замысле), но если они
довершаются попранием всех законов религии и морали и это зовется браком, и вы как
служитель Бога кощунственно дерзаете осуществить этот обряд, то вот, я
стою перед вами — покорная несчастию, без надежды и защиты, жертва
своего долга! Но, молю вас, выслушайте мое последнее слово. Никаким
обстоятельствам не изменить и не согнуть мою волю: обретя власть надо мной, этот
погибший человек сможет сделать меня кем угодно, но не своей женой —
против этого имени всегда будет восставать моя душа, от него я буду отрекаться
до последнего вздоха.
— Несчастное заблудшее создание, — ответил по-французски презренный
служитель церкви, — если бы совесть повелевала мне возражать против этого
брака, я сделал бы это по иным причинам, чем те, которые приводишь ты.
Твое упорство в ереси внушает ужас, и если бы я не надеялся на то, что время
и заботы более достойного мужа искоренят твое греховное заблуждение, то
не решился бы сочетать тебя браком с сыном Святой Церкви.
— Покоритесь своей судьбе раз и навсегда, — повелительным тоном
произнес Мортимер. — И чтобы положить конец вашим надеждам на
заступничество Церкви, откровенно признаюсь вам, что именно она отдала вас в мою
власть.
В безмолвном изумлении я воздела руки и возвела взор к небесам.
— Не надейтесь, прелестная кузина, — продолжал он с насмешливой
улыбкой, — что ваша сентиментальная невинность может справиться с хитростью
монахинь. Утомленные вашим упорством, опасаясь побега, они с радостью
отдали вас в мои руки ради собственной безопасности.
Он замолчал. Ужасная правда мгновенно открылась мне. «Моя
невинность — ах, нет — мое невежество, — мысленно простонала я, — эта роковая
ошибка, что в самой себе несет суровое наказание... Никогда не смогу я
простить себе этого непомерного легковерия».
— Моей матушке едва удалось убедить меня, — вновь заговорил
Мортимер, — что вас можно будет провести с помощью такого явного сговора: ведь
стоило вам минуту подумать, как вы бы поняли — никогда мужчина не
проникнет в обитель удалившихся от мира женщин иначе, чем при их
попустительстве. А вся эта погребальная мишура лишь позабавила меня в моем
торжестве. Разве можно было удержаться от улыбки, видя, как гроб с усопшим
супругом следует в свите живого, который захватил робкое сердце, еще не
ведающее о том, что оно бьется в руке хозяина?
Не в силах ни высказать, ни подавить жгучее негодование, вызванное этой
похвальбой, недостойной мужчины, этим изощренным коварством, я устре-
мила неотрывный взгляд на гроб лорда Лейстера, почти веря, что сейчас
Небеса явят мне чудо, воскресив моего единственного защитника. Ненавистный
обряд все же начался, как вдруг новое событие словно громом поразило не
только меня, но и всех присутствующих. Раздался дикий гортанный вопль,
пронзительный и ужасный. За ним последовал всезаглушающий,
громоподобный рев мятежа. Смертельная бледность покрыла лицо моего бесчеловечного
мучителя, который, как и его сотоварищи, тщетно озирался по сторонам,
ища, чем защитить себя. Движимые отчаянием, они ринулись было к выходу,
но тут же были сметены толпой разъяренных рабов. При виде свирепых лиц
и окровавленных рук я лишилась сознания, но, словно повинуясь высшему
повелению, очнулась в тот самый миг, когда Мортимеру был нанесен
последний, смертоносный удар и он, шатаясь, сделал несколько неверных шагов и с
предсмертным стоном рухнул на гроб лорда Лейстера, так небывало, так
незабываемо отмщенного. Окруженная вакханалией смерти во всех ее
чудовищных формах, я всякую минуту ожидала собственной погибели, которая,
несомненно, настигла бы меня, если бы не заступничество некоего испанца,
причастного к заговору рабов: тронутый моей женской слабостью и
нанесенными мне обидами, он с рыцарственностью, присущей этой нации, защитил
меня и отвел к месту общего сбора, заверив, что там я буду в безопасности.
Окаменев от ужаса, я смотрела, как разъяренные рабы носятся взад и вперед,
сваливая в свои хижины груды залитой кровью добычи, которую новые
убийства ежеминутно множили. Собрав вместе все, что считали разумным
сберечь, они стали нагружать это на лошадей и друг на друга, торопясь скрыться
в лесной чаще, через которую узкие тропы вели в недоступные укрытия в
горах. Моя дальнейшая судьба вызвала много споров на непонятном мне языке.
Не раз поднятые для удара руки и налитые кровью глаза сулили мне смерть,
но заступничество великодушного Эмануэля неизменно отводило от меня
удар. Возможно, однако, его искреннего участия ко мне оказалось бы
недостаточно, если бы один из рабов, которого все называли Эймор, внезапно не
встал на мою защиту. Он был одним из предводителей мятежа, и его решение
положило конец всяким спорам. Лошадей было так мало, что Эмануэль смог
раздобыть одну для меня, лишь отдав сотоварищам свою долю добычи,
которую ему предстояло везти.
Ярость между тем стала уступать место страху, и сознание вины
побуждало мятежников поспешить с отъездом. В путь тронулись около полуночи. В
молчании, ошеломленная и подавленная, я размышляла над этой чередой
ужасных событий, стараясь не выходить мыслью за пределы настоящей
минуты и даже не отваживаясь заглянуть в будущее. Дикие, неизвестные мне
люди, в ком притеснения их убитого хозяина выжгли все человеческие чувства,
уводили меня и мое дитя в неволю через страну, столь же дикую и
неизвестную мне; я находилась в полной власти двух новообретенных покровителей, и
безопасность моя зависела от того, насколько ревниво они караулят друг
друга, — как внезапно и странно переменилась моя судьба! Однако я смирилась
душой перед той силой, которая, со столь примерной справедливостью пока-
рав Мортимера, избавила меня от него, и полагала, что всякое иное несчастье
не так велико, как несчастье стать его венчанной женой, ибо это несчастье
могла исправить только смерть.
Мы не прошли и малой части своего опасного пути, когда клубящиеся
облака над нами окрасились в багровый цвет и моих спутников охватил ужас,
неотделимый от чувства вины. Хотя ими и были приняты все мыслимые
предосторожности, чтобы скрыть следы разгрома на покидаемой плантации до
тех пор, пока сами они не окажутся вне досягаемости, от одной незамеченной
и непогашенной искры разгорелся пожар и, перекидываясь с одного строения
на другое, охватил богатые, хотя и разграбленные, владения Мортимера
единой стеною пламени. Это зрелище вызвало мрачные опасения у беглецов на
ночной дороге; мне же оно напомнило о том, что было моей душе ближе и
мучительнее. Слезы безмолвно и печально струились по моим щекам, когда я
думала о том, что все богатство недостойного соперника стало погребальным
костром лорда Лейстера. «Прощай, прощай надолго! — взывала моя
угнетенная горем душа. — О, безмерно любимый! О, беспощадно отмщенный! Какая
бы судьба ни ждала твою несчастную вдову, позволь ей смиренно
повиноваться воле Господа, даровавшего тебе торжество такого погребения!.. Увы!
Пройдет лишь несколько часов — и ничто не будет напоминать о твоем
существовании, кроме бедного младенца, который тихо вздрагивает в лад биению
материнского сердца. Ничья верная рука не отделит пепел оскорбителя от пепла
оскорбленного. И все же не надо жалоб, ибо по закону Всевышнего ужасен
будет суд над душами, которые в эту страшную минуту покидают свою
телесную оболочку».
Я обратилась к Эмануэлю, по-прежнему шагавшему рядом со мной, и
попросила его объяснить мне причины произошедшего мятежа и чем
отличаются его побуждения от побуждений его сотоварищей.
— Побуждения рабов, — ответил мой великодушный заступник, — подобны
их природе — дики и разнообразны, мои же просты: справедливость и
любовь. Тиран Мортимер, о чьей судьбе не заплачет ни одно живое существо,
утвердился на этом острове благодаря не только благосклонности Филиппа
Второго, но и в не меньшей степени благодаря женитьбе на сестре нынешнего
губернатора, дона Педро де Сильва. В этом вельможе он встретил
родственную душу — человека низкого, алчного, деспотичного и жестокого. И только в
одном они различались: Мортимер был по природе смел и предприимчив,
дон Педро — осторожен и боязлив. Но бесчинства одного всегда находили
защиту в беззакониях другого, и дон Педро, не отваживаясь сам заниматься
пиратским промыслом и незаконной торговлей, которые только и могли
обогатить человека в те времена, когда лишь зарождалось это поселение, втайне
имел долю в том, что награбил и наторговал его зять, тогда как Мортимер
один оставался на виду, случись судебное расследование. Высокомерие,
жестокость и тщеславие Мортимера, чудовищно возросшие с ростом его
богатства, вышли из всяких границ. Дон Педро, понимая, что всецело находится в
его власти, не осмеливался подвергать сомнению законность его поступков,
тем более — призывать его к ответу. То время, что Мортимер между частыми
отлучками проводил дома, разрушило душевный покой и сократило жизнь
донны Виктории, безмолвной жертвы алчного союза ее брата и мужа. Я
пришел в эту семью вместе с нею как ее мажордом и, занимая этот пост, так
часто был свидетелем скотской грубости Мортимера, что мое отвращение к нему
вскоре переросло в ненависть. Я был молочным братом донны Виктории, и
моя почтительная привязанность к ней была столь глубока, что постепенно
чинимые ей обиды я стал чувствовать как свои. Необузданный и
распущенный во всем, в особенности в отношении женщин, Мортимер обычно
прибегал к силе там, где не добивался своего обманом, и только те из слуг
сохраняли свое положение в доме, что с готовностью содействовали его грубым и
порочным развлечениям. После смерти госпожи у меня не было никакого
будущего и я с радостью оставил бы дом Мортимера и вернулся в Испанию, но он
коварно удерживал у себя ту значительную сумму денег, что мне удалось
скопить, как и наследство, оставленное мне донной Викторией. И в ответ на
всякое обращение к нему, даже на просьбы вернуть то, что мне принадлежит, он
надменно угрожал мне бессрочным заточением, а я не раз видел, как эта кара
постигала людей за вину не больше моей. К тому же я не мог надеяться
покинуть остров, так как согласие губернатора зависело от Мортимера.
Незаслуженные притеснения озлобили меня и подготовили к тому дню, когда
произошло событие, побудившее меня поднять руку на своего тирана.
Между тем низкие соучастники его удовольствий и преступлений
присвоили себе безграничную власть над несчастными рабами, осуществляя ее с
помощью насилия и жестокостей, перед которыми меркнет воображение.
Тщетно душа моя содрогалась при виде этих бедствий: я не мог ни предотвратить,
ни исправить их. Не имея возможности покинуть остров или хотя бы
получить назад свои деньги, я провел два года, строя неисполнимые и порой
отчаянные планы. Я видел, что измученные притеснениями рабы готовы к мятежу
и ждут только благоприятного момента, чтобы восстать и перебить толпу
своих угнетателей. Я не намеревался вступать в их сообщество, но с угрюмой
радостью скрывал его существование до того дня, когда бесповоротно решил,
как мне далее действовать. Надо ли говорить, что это был день, когда сюда
привезли вас? Когда я увидел, как вас, осиянную невинностью и красотой,
ввели в эти нечестивые стены, как горестная слеза скатилась на ваше прекрасное
дитя, подобно целомудренной весенней росе, кропящей полураскрытые
цветы, я понял, что душа ваша содрогается перед этим чудовищем, и решил
оберечь вас ценою собственной жизни, более того — в ту самую минуту, когда
последняя надежда будет истреблена в вашем сердце. Я немедля
присоединился к заговорщикам. Они были готовы и ждали лишь того, кто возглавил бы
их. С помощью различных ухищрений я добыл для них оружие, а днем
восстания назначил день вашей брачной церемонии, когда Мортимер и его
приспешники будут всецело поглощены происходящим и, конечно, неохраняемы.
Рука Провидения, несомненно, направляла все наши действия. Злодеи
заплатили (насколько возможно заплатить жизнью) за свои многочисленные безза-
кония. Но, увы, госпожа, я мало думал о последствиях. Опасно вооружать
разъяренных и невежественных людей. Слишком поздно я понял, что ваша
жизнь и моя висят на волоске, и я могу лишь клятвенно заверить вас, что,
покуда длится моя, ваша будет неприкосновенна. Темные, доведенные до
отчаяния, несчастные существа, что окружают нас, — это отнюдь не те простые и
счастливые создания, которых поначалу встретили здесь жестокие
поработители. Безжалостное угнетение ожесточило их сердца, а вид недоступной
роскоши развратил. Их собственные нужды возросли от знакомства с теми
благами, которыми пользуются другие люди, а то, что им хочется, они научились
добывать любой ценой. Не стану скрывать от вас: ваша единственная
возможность спасения — в надежде на то, что нас настигнет погоня, хотя для меня
это означает гибель. Так что роковой пожар, который лесные заросли сейчас
почти заслоняют от нас, из всех чудес минувшего вечера — самое очевидное
проявление заступничества Небес за вас.
Зная о благородстве чувств, присущем испанской нации, в особенности во
всем, что касается представительниц слабого пола, я не удивилась столь
пылкому великодушию, которое при иных обстоятельствах было бы
неожиданным. Удовлетворяя его почтительнейшую просьбу, я поведала ему свою
печальную историю. Эймор в ревнивой настороженности шагал рядом с моей
лошадью с другого боку и, не зная ни слова того языка, на котором я
говорила, был вынужден целиком полагаться на перевод соперника, а Эмануэль, без
сомнения, постарался придать моему рассказу наиболее благоприятный дая
его целей характер. Известие о том, что я дочь королевы, распространилось в
толпе и смягчило ее свирепость, но вскоре на этом высоком отличии стали
основываться тщетные надежды на некие воображаемые блага, которые они
все надеялись получить от меня — от меня, бывшей, в сущности, самой
беспомощной и беззащитной из всех обездоленных скитальцев.
Я много думала о словах Эмануэля о том, что смогу обрести безопасность,
только если нас настигнет погоня, но, представив себе, какая ужасная судьба
ожидает в этом случае окружающих меня людей, не смела на это надеяться.
Мы продолжали путь сквозь лесную чащу, куда едва проникал свет небесных
звезд, когда же я вообразила простирающиеся далее дикие заросли и горы,
где мне и моему младенцу суждено провести всю жизнь, как помертвело мое
сердце! Но когда к этому страху прибавились еще более чудовищные
опасения, сознание едва не покинуло меня под гнетом ужаса. Я была убеждена, что
Эймор не пожелает лишиться поддержки своих сотоварищей, а могла ли я
надеяться, что один великодушный человек в силах будет противостоять
толпе объединившихся врагов? Но даже если Эмануэль сумеет справиться с
ними, то не возникнут ли в его сердце надежды, не менее опасные для меня?
Сквозь застывшие сплетения лесных зарослей я вознеслась душой к Тому,
чье око проницает и полуночный мрак, и полуденный блеск, и словно что-то
коснулось моей поникшей в отчаянии души, дав мне уверенность, что Он не
затем спас меня от ужасов Убежища, чтобы покинуть здесь. Я не ошиблась в
этой своей уверенности.
Так как занимающийся день обязывал к большей осмотрительности в
передвижении, беглецы выбрали укромную ложбину и там остановились, чтобы
выслать вперед дозоры и подкрепиться. Увы, я вздохнула об этих
несчастных: пример европейских пороков побудил их к чудовищному подражанию, а
между тем они даже не позаботились запастись теми простыми предметами
первой необходимости, что только и делают жизнь сносной, вместо этого
пленившись пестрой мишурой и безделицами, от которых не умели получать ни
пользы, ни радости. Их временное спокойствие было нарушено самым
устрашающим образом. Высланные вперед дозорные поспешно вернулись и
принесли известие, что они окружены, пути отрезаны, продвигаться далее
невозможно. Хотя это известие означало для меня спасение, я всей душой
сострадала горестной судьбе моего спутника. Несчастные женщины в последний раз
заключали в объятия своих отчаявшихся мужей, орошая их такими потоками
горьких слез, что, казалось, могли отмыть все следы недавно пролитой крови.
Обреченные мужчины с суровыми, неподвижными лицами разбирали
оружие, решив кинуться на разобщенные группы преследователей и
восторжествовать над смертью, унося с собой жизнь хотя бы одного врага. Даже
некоторые из жен, преисполнившись в эту минуту ярости, последовали за ними,
вооружившись чем сумели. Другие, не менее, чем они, устрашенные, вместе со
своими несчастными детьми толпились вокруг меня, словно я могла их
защитить, и провожали своих соплеменников воплем, который мог пошатнуть
трон милосердия. Эймор и Эмануэль не отрывали взгляда от подножия
дерева, где я сидела, как Королева Печали. Ужасно было бы в такую минуту
делать различие между ними, омрачая, быть может, их последние мгновения.
Положив свое дитя на колени, я протянула руки им обоим, и они благодарно
приняли эту милость. Даже дикарь смягчился — жаркая слеза скатилась на
руку, которая содрогнулась от его прикосновения. Эмануэль с изысканной
почтительностью согнулся в низком поклоне, потом склонился над
протянутой ему рукой. Переведя пылающий взгляд с моего лица на лицо соперника,
галантный испанец воскликнул:
— Прощайте, самая боготворимая из женщин! Прощайте навсегда! От
скольких зол смерть спасает всех нас!
Во время последовавшей кровавой бойни я заткнула уши, чтобы не
слышать выстрелов, на которые мучительными стонами откликались несчастные
женщины, окружившие меня. Схватка была короткой. Европейцы ворвались
в ложбину из мрачных зарослей, где за несколько минут превратили всех
этих женщин в беззащитных вдов. Женщины — виновные, но несчастные, —
простершись на земле при виде направленного на них оружия, пытались,
выражая жестами полную покорность и выставляя вперед своих детей,
умилостивить разъяренных победителей. Я поднялась со своего места и на плохо
повинующихся ногах пробралась сквозь толпу к человеку, явно возглавлявшему
преследование. Он был поражен, увидев среди уцелевших беглецов белую
женщину. Остаток сил я употребила на то, чтобы вымолить защиту для себя
и младенца и жалость к своим спутницам. Он слушал, не вникая в мои слова:
всей душой он был озабочен раскиданными вокруг богатствами, которые,
вследствие усмирения невольников, переходили в его руки, и ни я, ни моя
дочь, ни моя судьба не представлялись ему предметами достойными
внимания. Все участники погони усердно нагружались разнообразными
ценностями, а потом, сообразив, что судьба возвращает им и живую собственность,
погнали с собой невольниц с детьми, согбенных под бременем несчастья,
усталости и оков. Выйдя из гибельной лесной чащи, сквозь которую пробиралась
всю ночь, я благоговейно подняла взор к восходящему светилу, озарявшему
разум так же, как озаряло оно весь Божий мир, и вызвала в душе своей
светлые картины будущего, чтобы -заслониться ими от ужасных впечатлений
минувшего. Возвращаясь, вследствие столь невероятных событий, в
цивилизованное общество, я всем сердцем восславила благо — простое, ни с чем не
сравнимое благо свободы и в мечтах устремилась в Англию, легко одолевая
все мыслимые препятствия. Мой горький жизненный опыт убедил меня в
том, сколь непрочно человеческое счастье, какие гонения почти неизменно
навлекают на нас драгоценнейшие природные дары, и яркие видения любви,
честолюбивых замыслов, славы померкли в моих мечтаниях, оставив мне
опору лишь в довольстве своим жребием, чей кроткий взор обращен к
ниспосланному Небесами смирению. Священные лучи смирения, пронизывая его
бренное пристанище, каждую слезу обращают в драгоценный перл. Душа
моя стремилась к печальному покою, который ей, как я поняла, был еще
доступен.
Нежно любимая, ни о чем не ведающая участница всех превратностей
моей судьбы невинным весельем своей улыбки поддерживала мой дух, и в
заботах о ней, бывшей для меня единственным источником радости, я пыталась
укрыться от всех прочих забот.
Любопытство, поначалу вызванное моим присутствием, не простиралось
далее обыкновенных расспросов, но, так как я не говорила по-испански и
никто из них не знал хорошо французского, я вряд ли могла надеяться
расположить к себе этих людей. Я дала им понять, что состою в близком родстве с
убитым Мортимером, но это обстоятельство отнюдь не привлекло их на мою
сторону, а, напротив, скорее оттолкнуло и внушило отвращение.
Ночь наступила еще до того, как мы достигли Сантьяго-де-ла-Вега, где все
жители, в полном вооружении, нетерпеливо ждали возвращения тех, кто был
послан в погоню за мятежными беглецами. Неотличимо затерянная среди
несчастных рабов, ничем не огражденная от поношений, оскорблений и
проклятий горожан, я поняла, что вновь стала жертвою злой судьбы и, теряя силы,
рухнула без чувств на пороге тюрьмы, которая и оказалась для меня концом
пути. Я очнулась на убогой постели, в темной комнате, одна; но, чувствуя себя
в безопасности и не зная за собой никакой вины, я поручила себя Богу и
уснула безмятежным сном, каким не спала с той роковой минуты, когда миновала
руанские городские ворота.
Утром черная служанка принесла грубую пищу, и только к вечеру я
узнала, что она предназначалась мне и моему младенцу на весь день. Впрочем, и
этого было более чем достаточно, ибо мое здоровье, до сей поры стойко
сопротивлявшееся всем опасностям и лишениям, теперь оказалось
жесточайшим образом подорвано. Испытывая невыносимую боль во всех членах, я с
опозданием поняла, что по собственной неосторожности добавила к своим
душевным мукам телесный недуг. Во время последней ужасной схватки, когда
беззаконные мятежники жизнью своей искупали учиненные ими злодеяния, я
вместе со всеми женщинами, оставленными в тылу у сражающихся,
бросилась ничком на сырую землю в изнеможении и ужасе. Вредоносный холод,
поднимаясь из глубин земли, на которую никогда не падал солнечный луч,
сковал мои суставы, и жестоким следствием этого стала ревматическая
лихорадка. Одна, в убогой обстановке, без помощи, опаляемая внутренним
жаром, я издавала стоны и вопли, исторгаемые нестерпимой мукой. Я замечала
это лишь по тому, как вздрагивала и плакала моя малютка. Тогда я баюкала
дочь, прижав к груди и опасаясь, что прикосновение это может обжечь ее. Я с
жадностью глотала любое приносимое мне питье и в помрачении рассудка
едва ли помнила, что нужно поделиться им с малюткой и позаботиться о
достаточном пропитании для нее. Дни нестерпимых мучений длились бесконечно;
постепенно лихорадка отступила, но осталась хромота, которую более
счастливые времена и нескончаемые заботы уже не в силах были исцелить.
Когда разум возвратился ко мне вместе со способностью судить о
предметах за пределами сиюминутных невзгод, я, вспомнив, сколько прошло
времени, пришла к мысли, что мне суждено постоянное заточение. Эмануэль
говорил, что губернатор боязлив, низок и алчен, а я, забыв об этом, поведала
своим стражникам о семейных узах между мною и Мортимером. Это делало
меня его законной наследницей, и недостойный губернатор, несомненно, чтобы
уничтожить мои права на имущество, которым сам вознамерился завладеть,
причислил меня к убийцам, среди которых я была обнаружена, и своим
единоличным решением (что здесь было не редкостью, если верить Эмануэлю)
вынес мне обвинительный приговор, не отваживаясь представить дело на
беспристрастное рассмотрение. Апатия, бывшая следствием тех непрерывных
страданий, как телесных, так и душевных, что я перенесла за это время,
способствовала тому, что я испытала меньшее потрясение и горе от этого
обстоятельства, чем от многих иных превратностей моей судьбы. Сейчас всецело в
моей власти было умереть и тем разрушить злобный замысел моих
преследователей. Стоило мне немного, совсем лишь немного пренебречь заботой о
себе—и силы покинули бы меня окончательно. Быть может, я и отдалась бы
полностью во власть этой мысли, если бы первый и священный природный
долг не обвил цепью мое кровоточащее сердце. Мой жребий, говорила я себе,
свершился полностью и бесповоротно. Горестная наследница материнских
невзгод, я лишь повторяю их: подобно ей, меня, безвинную пленницу, вели
сквозь разъяренную толпу, сквозь брань и оскорбления; подобно ей, в
насмешку над справедливостью меня заточили в тюрьму, и в самом расцвете
жизни подорванное здоровье обещает мне старческую немощь. Кончится ли
на этом сходство наших судеб? Нет! Да будет мне дано, подобно ей, черпать
силу духа во всех чинимых надо мной несправедливостях, и если волею
Творца сократятся дни, отпущенные мне на земле, тогда предстану я перед Ним
безгрешной мученицей. И ты, милое дитя, если, подобно пальме, буйно
зеленеющей под порывами ветра, ты перенесла всю череду несчастий,
предшествовавших твоему появлению на свет, значит, был в этом Высший Промысел,
и никогда твоя мать не осмелится пожелать оставить тебя!
Так странно, сударыня, проходили мои дни. Рабыня, о которой я
упоминала, появлялась каждое утро, молча исполняла свои несложные обязанности,
ставила передо мной предназначенную для нас пищу и исчезала до
следующего утра. Не думайте, сударыня, что я так и не попыталась выяснить, по
крайней мере, что мне вменяется в вину, но очень скоро я поняла, что бедняга
глуха и ни одно мое слово не достигает ее слуха, к тому же она могла говорить
лишь на своем языке и — очень плохо — на испанском, которого я не знала. Я
не могла передать ей знаками мысли, для которых не находила зримого
образа. Однако нежное очарование моей дочери постепенно проникало в
неразвитую душу негритянки, и, я полагаю, она даже содействовала бы моему побегу,
но, если бы я решилась на побег, не имея ни друзей, ни дома, ни надежд, я
лишь навлекла бы на себя новые несчастья.
Одно лишь обстоятельство наполняло меня горечью далеких
воспоминаний. Башня, в которой я содержалась, примыкала к форту; из одного ее окна
открывался вид на море, другое было обращено в глубь острова. Пушечные
выстрелы постоянно оповещали о прибытии и отплытии каждого судна, и
всякий раз сердце нетерпеливо влекло меня к окну. Но не за мной приходили
корабли, ни один из них не нес мне надежды на избавление, ни одного
знакомого лица не мог встретить мой взгляд. Отплывающие корабли навевали мысли
еще более мрачные и мучительные. Часто герб Англии, далекой Англии,
украшал корабельные вымпелы, и в душе моей рождался тяжкий стон при
мысли, что никогда не могу я надеяться увидеть порт, который возвратит
морякам (беспечно не сознающим своего счастья) родную землю, семью и
друзей — все то, что придает смысл и радость существованию. Оставаясь
неизменной свидетельницей недоступного мне счастья, я не могла подавить в себе
горьких чувств, вызванных этим зрелищем.
Дочь моя подрастала, и только этим отмечалось для меня течение
времени. Ах, как сладостна до сей поры в моей памяти та минута, когда голосок ее
осилил первое слово! Звук священного имени матери нарушил наконец
унылое безмолвие моей тюрьмы, и даже ангельские голоса, сопровождающие
душу на пути в вечность, едва ли одарили бы меня высшим блаженством. С не
меньшим восторгом я наблюдала ее первые шаги. Безраздельно занятая и
всецело поглощенная той, которая волею милосердного Творца всего сущего
была единственной отрадой моего сердца и взора, я более не роптала на свое
незаслуженное заточение. Тревожась лишь о том, чтобы никто не проведал,
каким бесценным сокровищем я обладаю, я готова была прятать ее даже от
ежедневно появлявшейся старой рабыни-негритянки. Простые одежды,
которые нам время от времени доставляли, я научилась искусно переделывать для
ее крошечной фигурки. Благодаря постепенному сужению наших
физических возможностей (которое известно и в природе, хотя наблюдается лишь
применительно к органам, служащим орудиями борьбы) я вместила в тесные
пределы нашего существования все те опасения, надежды, желания и
занятия, что, непрерывно следуя друг за другом, заполняют нашу жизнь и
оставляют по себе воспоминания, на которых мы всегда останавливаемся с
радостью и которые часто ощущаем как оставшееся в прошлом счастье.
Опасаясь порой, как бы отсутствие свежего воздуха и движения не
подточило мой прекрасный цветок, я изобретала множество способов заставлять ее
бегать даже в тесных границах камеры и закалять здоровье, которому, быть
может, предстояли испытания не менее тяжкие, чем те, что омрачили юность
ее матери. Утром и вечером я подносила ее к окну и убеждалась при этом,
что ветры небес доносят не меньшую свежесть сквозь железные прутья
тюремной решетки, чем сквозь золоченые узоры дворцовых.
Ах, не может быть, что память обманывает меня, когда я повторяю вслед
за поэтом:
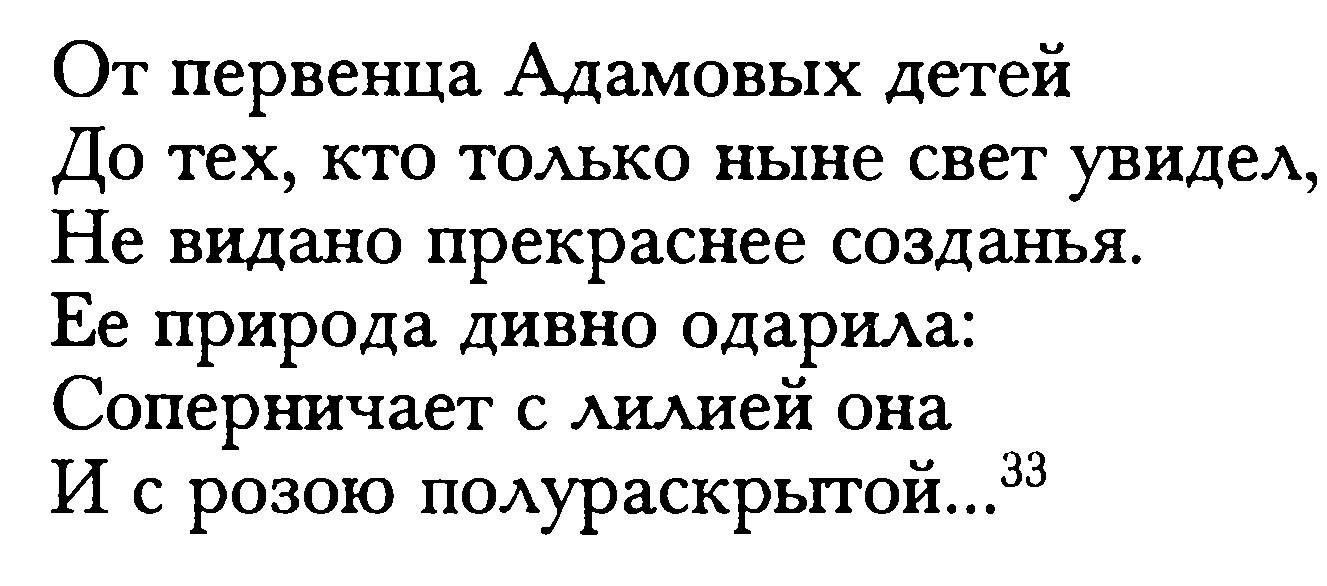
Как-то в конце дня я стояла у окна, подняв свою малютку навстречу
вечерней прохладе. Ее ручонки то крепко сжимали грубые железные прутья, то
тянулись сквозь них; своим детским языком она лепетала невинные речи,
требуя материнского любовного внимания, как вдруг я заметила темнокожую
женщину, по всей видимости значительную персону, расположившуюся в
беседке неподалеку от башни. Она оживленно говорила о чем-то с рабами,
которые обмахивали ее опахалами, и их взоры были неотрывно устремлены на
мое дитя. Я тотчас унесла дочь от окна, повинуясь охватившему меня
дурному предчувствию, самому острому, какое я испытала за последние несколько
лет. Долгое время я не подходила к окну, потом решилась осторожно
выглянуть, стараясь остаться незамеченной. Я увидела, что взгляд этой женщины
по-прежнему прикован к тюремному окну, и мой вечерний покой был
полностью разрушен смутным страхом, основательность которого на другой день
подтвердилась. В тот же самый час она вновь появилась в беседке, устремила
взгляд на окно тюрьмы и после тщетного ожидания (ибо я более не решалась
к нему приблизиться) проявила явные признаки разочарования и досады.
Увы, этим дело не окончилось. Вскоре появилась моя старая негритянка и,
сообщив непонятное для меня известие, потребовала мою дочь. Я просила,
плакала, стонала, я умоляла старуху и лишь по глазам ее могла понять, что она
не безучастна к моим страданиям. После ее многократных и безуспешных
попыток что-то объяснить знаками и моих решительных отказов она вырвала
дитя из моих рук, бессильных сопротивляться ей, и унесла, оставив меня
распростертой на полу, где я упала вследствие своей хромоты, уже
упоминавшейся мною.
Долго я не решалась выглянуть в окно, но наконец, собрав все свои
душевные и физические силы, добралась до него. Я увидела, что малютка сидит на
подушках у ног женщины, чьей властью была разлучена со мною,
обласканная этой женщиной и окруженная игрушками. Это, однако, не принесло
облегчения моей материнской тревоге — я не знала, не навсегда ли я утратила
свое дитя, и опасения мои не уменьшились при виде того, как рабы уносят
свою хозяйку в паланкине, а она держит в объятиях мою дочь. Ах, вот когда
тюрьма стала для меня воистину темницей! Я билась головой о прутья
решетки, и эхо отзывалось на мои стоны. Избавление наступило, лишь когда вошла
старая рабыня, возвращая мне оплаканного ангела, и мои руки вновь с
благодарностью приняли свою драгоценную ношу. Сердце устремилось к ней так
неудержимо, что все мое тело, казалось, содрогается в такт его ударам.
Вглядываясь в свое новообретенное сокровище с удвоенной любовью, я заметила,
что благожелательная негритянка, о которой я так дурно судила, щедро
украсила нежный предмет своей неожиданной привязанности. Вообразите
девочку трех лет с небольшим, легкую, грациозную, с белой кожей, цветущей
нежным румянцем, с волосами цвета янтаря, завитыми рукою природы в тысячи
тонких колец, ниспадающих на просторное одеяние из серебристого муслина,
украшенное гирляндой роз. На ее тонких запястьях и щиколотках были
затейливые браслеты из разноцветных бус, а в руке она держала золоченую
корзинку, наполненную изысканными плодами этой страны. Она казалась
существом из иного мира, сошедшим в наш, чтобы озарить его собою. В руках
своей чернокожей проводницы она явилась мне как нововоссиявший свет в
сердце хаоса. Я приняла предложенные ею лакомства и, отдавшись
ощущению, которое было почти истреблено во мне временем и привычкой к
скудности пищи, благословила руку Провидения, наконец смягчившегося ко мне.
Ах, сударыня, лишь на первых порах тяжких испытаний дерзаем мы
роптать, когда же несчастья становятся чрезмерными, они воздействуют на нас
благодетельно. Освободившись от желаний и нужд, которые под влиянием
гордости и страстей себялюбиво полагаем насущно необходимыми, мы
учимся должным образом ценить простейшие жизненные блага и во всем
находить источник наслаждения.
Когда я задумалась о том, какие бесконечные и разнообразные
последствия может иметь для моей дочери расположение женщины, чья власть была
достаточна, чтобы открыть дверь нашей тюрьмы, в сердце моем зародились
надежды на будущее для дочери, каких я давно уже не питала в отношении
себя, и, помирившись с судьбой на этой надежде, я уснула почти
безмятежным сном.
Вскоре я привыкла время от времени расставаться с дочерью, а потом
получать ее назад, и всякий раз она приносила с собой какой-нибудь небольшой
подарок, способствующий моему здоровью или комфорту. Наша благодетель-
ница к тому же неизменно выбирала для встреч такое место, где дочь
оставалась бы у меня на глазах, словно она желала доставить удовольствие не
только себе, но и мне, что ей, несомненно, удавалось. Я видела, вопреки року,
тяготеющему над моей несчастной семьей, благосклонное участие Небес в
судьбе дочери, позволившее мне надеяться на благоприятную перемену в
будущем (быть может, недалеком), а в томительное время ожидания дары,
несущие здоровье и удобства, изливались щедрым потоком на дочь, а через нее —
на измученную мать.
Порой проходили недели и даже месяцы, а за моей дочерью не
присылали, из чего я заключила, что некто, наделенный еще большим могуществом,
властен над поступками дружественно расположенной к нам негритянки.
Благодеяния, однако, и при этом не прекращались: прекрасные фрукты,
менее грубая пища, более привлекательная одежда и более заботливая
прислуга. Иногда я удивлялась тому, что эта женщина, столь великодушно
облегчающая наши страдания, ни разу не пожелала узнать их причину, но, наученная
печальным опытом ни о ком не судить поспешно, я все же утешала себя
надеждой на будущее избавление, которое, как я считала, в худшем случае
лишь откладывается до тех времен, когда я смогу передать своей дочери всю
печальную повесть событий, ввергших нас в несправедливое заточение.
Со временем я узнала от своей милой Марии, чья речь уже сделалась
ясной и отчетливой, что нашу благодетельницу зовут Анана, и с тех пор,
вознося молитву, я никогда не забывала помянуть в ней это имя (как ни язычески
оно звучало).
Полное невежество, в котором пребывал разум моей дочери, пугало и
удручало меня. Лишенная книг, я не знала, чем заменить их, и могла лишь,
жертвуя методом обучения ради его принципов, постараться запечатлеть в ее
податливом детском разуме те религиозные и нравственные правила,
которые сохранились в моем. Я пыталась дать ей представление о природе и
внешнем виде книг. Каждый день я заставляла ее сотню раз повторять это
слово и наказывала непременно повторить его Анане, как только они
встретятся. Но так или иначе, почти до восьмилетнего возраста я не имела
возможности предоставить ей пользу, а себе отдохновение, даруемое чтением.
За этими невинными и счастливыми занятиями я в один прекрасный день
увидела, как распахнулась дверь моей тюрьмы, и встреча, столь давно
желанная, была дарована мне. Вошла Анана, облаченная в траур. Я бессвязно
выразила приличествующие этой минуте благодарность и сочувствие. На ломаном
французском языке добрая Анана объявила, что пришла утешить меня.
Обрадованная тем, что могу объясниться с ней, я коротко рассказала ей свою
историю, из которой, судя по ее выражению полной безмятежности, она не
поняла и половины. С большим трудом я уразумела из ее слов, что дон Педро
де Сильва, неправедный губернатор, заточивший меня без суда и следствия,
скончался; что она в продолжение нескольких лет была его фавориткой и
пользовалась влиянием, которое давало ее положение, для того чтобы
следовать своей привязанности к моей малютке и облегчать мое заточение; что в ее
власти было всегда навещать меня в тюрьме, как сейчас, но, не зная за мной
никаких преступлений, уверенная, что если я сумею снять с себя подозрения,
то она горячо примет мою сторону (быть может, к неудовольствию своего
покровителя, которого будет вынуждена тогда презирать), Анана, как подобает
жене, воздержалась от проявления великодушного интереса и
довольствовалась тем, что одаривала нас знаками привязанности, которые не наносили бы
ущерба власти губернатора и не умаляли ее собственных прав. И наконец,
она поведала, что с его смертью не стало единственного человека, который
мог препятствовать ее наклонностям, и так как он завещал ей значительную
долю своего богатства, то часть его она употребила на то, чтобы добиться у
нового губернатора отмены моего приговора, и теперь, получив желаемое,
пришла сообщить мне, что я вольна возвратиться в Европу и что для этого
путешествия она дружески предоставит мне средства, слуг и свое общество, так
как намерена навсегда покинуть страну, к которой ее более ничто не
привязывает, и в другой искать покровительства, руководства в вере и покоя.
Пока она говорила, я не раз готова была лишиться чувств. Я заставила ее
многократно повторить невероятную, радостную весть о том, что я свободна.
И только когда появились ее рабы, чтобы унести меня из печальной темницы,
которую еще вчера я полагала своей будущей могилой, подтвердилось это
ошеломляющее известие. Но когда я действительно оказалась на воле, когда
я увидела сияющее красками небо над головой, зеленую траву под ногами,
когда обоняния моего коснулся ласкающий аромат полузабытых цветов, а
слух благодарно наполнился звуками голосов, меня приветствующих, — как
не скончалась я от бури разнообразных чувств, воскресших в сердце моем в
этот счастливый миг? Я обратилась к Тому, кто даровал мне радость этих
ощущений и вдохнул жизнь в природу, их питающую, моля его умерить мои
чувства или собрать их в единый порыв благодарности.
Приобщившись вновь, почти чудом, к заботам этого мира, я узнала,
обуреваемая чувствами, которые бессильны выразить слова, что несколько месяцев
тому назад Елизавета отошла в мир иной, что мой брат Иаков, в силу ее
завещания, а также по праву рождения и по воле народа, вступил на английский
престол, счастливо объединив под своим скипетром два королевства, чья
многовековая вражда не оставляла надежды на то, что столь бескровно
совершилось теперь. Время, скорбь и утрата притупили мою враждебность
настолько, что я благословила Провидение, волею которого мне не к кому стало
питать ненависть. Более возвышенные, счастливые и милые сердцу надежды
открывались мне, и я с нетерпением ждала той минуты, когда смогу
предстать со своей улыбающейся Марией перед моей возлюбленной сестрой и в их
бесценном для меня обществе провести остаток дней.
Увы, сударыня, только эти чувства помогали мне отгонять мысли о том,
что тяжелая жара этих мест, так же как и долгое отсутствие свежего воздуха
и движения, сделали постоянной мою хромоту, оставшуюся от
ревматической лихорадки, и совершенно подорвали силы организма, с той поры
подверженного тысяче мелких изнурительных и безымянных недугов, которые
постепенно истребили молодость духа и принесли мне преждевременную
старость.
Анана, питавшая к моей дочери любовь, едва ли уступающую моей
собственной, делила со мной все материнские заботы и с жаром умоляла меня
взять ее под свое покровительство по приезде в Англию, где, как я дала ей
понять, мой сан был значителен. Она торжественно заверила меня, что
намерена завещать моей милой дочери богатство, доставшееся ей от покойного
губернатора, как в доказательство своей привязанности, так и во искупление
нашего долгого и несправедливого заточения. То положение, которое она
занимала при доне Педро, поначалу представилось мне препятствием, пред
которым взбунтовалась моя гордость, но почти мгновенно она склонилась перед
более высоким принципом. Я решила, что недостойно было бы пожертвовать
долгом благодарности и расположения в угоду людскому мнению, и, помня,
что ее неискушенный ум не знал иных брачных уз, чем постоянство, в
котором она, возможно, не уступала мне, я решила терпеливо взращивать в ее
душе добродетели, свойственные ее дикой, но здоровой природе, похоронить
память о ее былой ошибке и предостеречь и укрепить ее против новой ошибки в
будущем. Благожелательная Анана, чья душа была открыта для чистых
впечатлений религии и нравственности, обещала сделаться украшением
человеческой природы, но — увы — силы, над которыми я была не властна,
сократили ее дни и мгновенно решили нашу дальнейшую судьбу. Разразилась
эпидемия оспы, всегда столь опасной на островах, и унесла сотни жизней. Мрачные
опасения, которые соплеменники Ананы испытывают перед оспой, должно
быть, в немалой степени способствуют тому, что болезнь оказывается для них
гибельной. Анана впала в такое безграничное отчаяние, что вскоре у нее
появилась сыпь, сопровождаемая самыми зловещими симптомами. В бреду,
вызванном как ужасной болезнью, так и страстной привязанностью к моей
дочери, она беспрестанно призывала Марию к себе, отталкивая слуг и порываясь
из постели на поиски ее. Жалобно и судорожно молила она позволить ей еще
раз услышать голос маленького ангела, видеть которого ей более нельзя,
отдать в маленькие ручки Марии завещанную ей шкатулку. Мое материнское
сердце разрывалось на части в безмолвной и ужасной борьбе с самой собой.
— Ах, — восклицала я, — что значат все драгоценности, которые она
намерена завещать, рядом с этой живой драгоценностью, с единственным, что
осталось у меня от всех обещанных мне богатств?
Потом долг благодарности одерживал верх над материнским страхом, и я
спрашивала себя: «Как могу я отказать в последнем желании, пусть
необузданном и неразумном, той, что любила и нежила дитя, которое сейчас
неосознанно подвергает опасности?»
Видя, что доводы рассудка бессильны перед предсмертным желанием
Ананы, я покорилась и привела свое сокровище к ложу болезни и смерти с
покорностью, которую сравнить могу только с покорностью Авраама, и, как
невинная жертва, которую он готов был принести Богу, мое дитя было возвращено
мне. Обессиленная Анана, справедливо усмотрев в моем поступке высшее
проявление благодарности и почтения, терпеливо покорилась воле Господа,
вскоре призвавшего ее к себе.
Искренняя печаль, вызванная этой утратой, отступила перед бедой еще
более близкой: мое дитя покрылось знаками все той же ужасной болезни, и
тревога и заботы о дочери потребовали всех моих душевных сил. Вскоре,
однако, стало ясно, что болезнь приняла наиболее легкую форму, и мои заботы
оставляли мне довольно времени, чтобы предпринять необходимые шаги и
вступить во владение наследством, завещанным мне умершей подругой.
Покойный губернатор обратил большую часть своего проданного имущества в
алмазы, как это обычно делается в странах, где власть не опирается на закон,
и новому губернатору были неведомы ни их количество, ни ценность, так как
Анана, следуя наставлениям своего покровителя, спрятала часть алмазов, а
оставшиеся разделила с его преемником в уплату за содействие. Я уже обрела
достаточно житейской мудрости, чтобы прибегнуть к тому же способу, и,
выполнив все необходимые формальности, вскоре радостно взошла на корабль,
отправляющийся в Англию, сопровождаемая несколькими рабами, которые
предпочли службу у меня неверному благу свободы под властью капризного
произвола.
Ах, сударыня, как непохоже было нынешнее путешествие на то, что уже
описано мною! От загубленного древа, которое я в то время неустанно
орошала слезами, взошел нежный, стройный побег, он зазеленел в тени, он расцвел
на солнце — исполненная светлых и радостных надежд, я возвращала его на
родную почву. Ничья жестокая рука не готовилась коварно сломить его,
никакие тлетворные, губительные ветры не долетали с меловых утесов,
простирающих белые руки в океанский простор, гостеприимно приглашая нас в самое
сердце мира и покоя. О нет! Небольшой, но милый мне круг преданных
друзей встретит одинокую, овдовевшую странницу, словно восставшую из
мертвых, и прольет слезы сострадания над ее печальной повестью.
А моя сестра, моя дорогая Эллинор, — в радостном предвкушении
ликовало мое сердце. — Какой прекрасной и чистосердечной будет наша встреча! С
какой нежностью и великодушием прижмет она к груди это дитя океана, мою
утешительницу, неведомо для себя делившую мои страдания с первых дней
жизни, спутницу ее Матильды на исполненном превратностей жизненном
пути!..
Задержитесь мыслью на этих отрадных надеждах, сударыня, и позвольте
мне дать отдых усталым пальцам и душе.
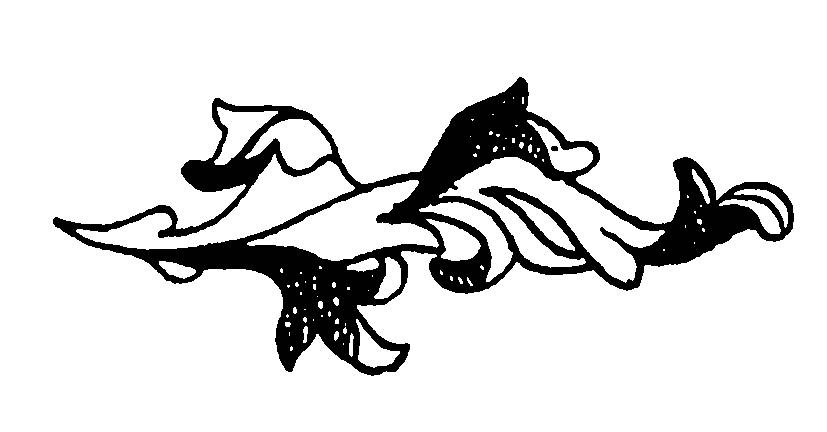
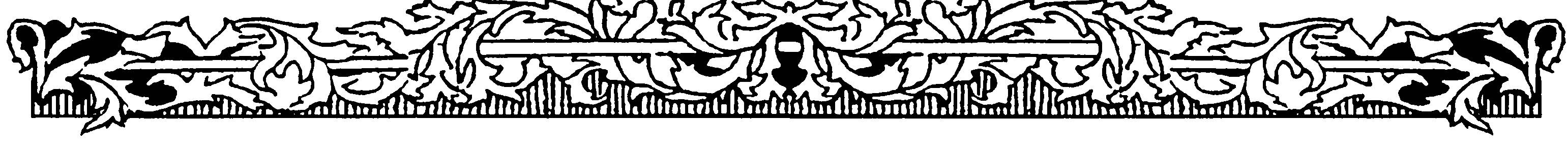
Часть IV
Я боролась с печальными воспоминаниями, неизгладимо
запечатленными в сердце, когда моему взору вновь открылись берега
Англии, и, прижав к груди дитя своей любви и несчастья, к ней
я обратила все чувства и помыслы. Уже исполненная
взволнованных надежд и желаний, что расцвечивают собой самое
начало жизни и лишь вместе с ней угасают, Мария радостно
тешила себя ожиданием еще неведомых благ и с нетерпением
ждала завершения нашего путешествия.
Я высадилась в Гринвиче, рассчитывая здесь быстрее, чем
где бы то ни было, получить сведения о семействе Сидней, так
как помнила, что люди, державшие в этих местах самую большую гостиницу,
некогда служили у лорда Лейстера. Увы, я забыла, что долго отсутствовала в
здешних краях, что люди эти могли умереть или уехать. Гринвич, который я
некогда видела веселым, блистательным и великолепным, сейчас являл вид
унылого запустения. Прилив в тишине омывал подножие опустевшего
дворца, который, приходя в упадок, как и его былые владельцы, казался
помпезным мавзолеем. Задумавшись об этих недолговечных памятниках людского
величия, пока лодка несла меня к берегу, я начала догадываться, как
непривычно и странно может оказаться то, что ждет меня там. Вскоре меня
окружили незнакомые люди, и только после утомительно долгих расспросов я
выяснила, что добрый мой друг, леди Арундел, по-прежнему живет в своем
доме близ Челси, куда я и направила посыльного с запиской. В своей записке я
просила оказать гостеприимство бедной скиталице-вдове с младенцем,
обязанным, быть может, своим появлением на свет доброте и снисходительности
этой прекрасной женщины. Я писала также, что ни о чем не решаюсь ее
расспрашивать, пока ее присутствие не даст мне на то душевные силы, но не
сомневаюсь, что узнаю от нее не меньше, чем готовлюсь поведать ей. «Если
же, — продолжала я, — как говорит мне радостное предчувствие, моя дорогая
сестра жива, то она, несомненно, как бы ни звалась сейчас, вновь с восторгом
откликнется на это имя и прижмет к груди усталую странницу, столь долго и
тщетно искавшую покоя и приюта своему сердцу. Но известие обо мне и нашу
встречу я целиком оставляю на усмотрение нашего общего друга, полагаясь
на ее осторожность и благоразумие».
Мне не пришлось долго ждать ответа: мой посланец вскоре возвратился с
запиской, бессвязность которой выражала удивление и радость. «Спешите, —
писала великодушная леди Арундел, — спешите в мои объятия, к моему
сердцу, в мой дом — они всегда открыты для вас и ваших близких. Я откладываю
все объяснения до времени, когда увижу вас. Ах, Матильда, какая радость
для меня — увидеть ваше милое лицо, как бы ни изменили его несчастья!»
Как ни радушно было приглашение, душу мою омрачили уныние и
разочарование, которые были вызваны неясностью, окутавшей время моего
отсутствия, а также тем, что она не ответила на мой вопрос о сестре. Однако я
поспешила последовать приглашению. Печальные размышления всецело
завладели бы мною, когда мы проезжали через Лондон, если бы моя маленькая
Мария поминутно не прерывала их бурными изъявлениями восторга.
Сменяющие друг друга улицы, заполненные веселыми, пестрыми лавками и толпами
нарядных людей, были для нее внове и вызывали интерес и восхищение. Я
едва успевала отвечать на расспросы о каждом новом чуде, являвшемся ее
взору, и та смиренная радость, которую познает мать, встречая вздохом
жизненного опыта улыбку невинности, требовала себе места в моей взволнованной
груди, оттесняя до поры более властные чувства, но, когда взгляд мой
остановился на воротах перед домом леди Арундел, из которых в последний раз я
выехала со спутником столь дорогим мне, сердце мое пронзила острая боль,
силы покинули меня и я упала без чувств. Я очнулась, как мне показалось,
скорее от слез и криков моей маленькой дочери, чем от тех средств, к
которым прибегли окружившие меня слуги. Моя крошка Мария взобралась на
кушетку, куда меня уложили, и, обхватив меня ручонками за шею, прижавшись
горячей щекой к моему побледневшему лицу, проливала потоки слез. Я
успокоила ее и, чувствуя, как кто-то, сидящий по другую сторону от меня,
сжимает мою руку, обернулась, встретила полные слез глаза леди Арундел, молча
кинулась в ее объятия, и на груди ее, казалось, сама душа моя изошла
слезами. У обеих стеснилось дыхание от чувств, охвативших нас, и присутствие
моей дочери было для нас благодатным облегчением. Ласково притянув меня к
себе, моя милая Мария спросила:
— Отчего ты плачешь, матушка, и отчего плачет эта дама? Я думаю, что
мы приехали сюда, чтобы здесь быть счастливыми.
— И мы будем счастливы, любовь моя! — воскликнула леди Арундел,
прижимая ее к груди в порыве нежности. — Кто может быть несчастлив, имея
такого ангела? Можно ли роптать, Матильда, если Небеса оставили вам дочь?
— Нет, достойнейший друг мой, — со вздохом отозвалась я, — я не ропщу.
Мой разум осуждает те слезы, что проливает мое израненное сердце. Этот
дом, эта комната, даже самая нежность ваша пробуждают череду
мучительных воспоминаний, против которых я тщетно пыталась укрепить дух свой.
Здесь, именно здесь, душа моя устремлялась к ее отцу с радостью, о которой
мне напоминает лишь она и мой вдовий наряд.
Появление слуг с угощением прервало разговор, наше волнение несколько
улеглось, и леди Арундел, упорно отказываясь сообщить мне что бы то ни
было о моей сестре и общих друзьях до завтра, настояла на том, чтобы остаток
вечера я употребила на подробнейший рассказ о себе. Изумление, с которым
внимала мне леди Арундел, заставило меня саму дивиться превратностям
своей судьбы. Счастливая ее заверением, что сестра моя жива, я предалась
радостным надеждам на встречу с нею, и образ ее заполнил собою комнату,
показавшуюся мне сейчас особенно пустынной и одинокой.
Я более не могла сдерживать свое нетерпеливое желание узнать о судьбе
моей Эллинор и, встретившись поутру с леди Арундел, настойчиво
приступила к ней с расспросами. Явное нежелание, с которым она согласилась мне
отвечать, утвердило меня в мысли о некой ужасной катастрофе, и, не будь я
заверена в том, что сестра жива, я решила бы, что ее утрата и есть то роковое
событие, о котором леди Арундел страшится сообщить мне. Но, уже получив
заверение, что Эллинор жива, и не имея более на свете никого, чья судьба
была бы мне ближе ее судьбы, я приготовилась стойко встретить известие о
новой беде, памятуя о том, что все самое страшное для меня уже совершилось.
Все мужество, на какое я оказалась способна, понадобилось мне, когда
после пугающе торжественных приготовлений, с помощью которых дружба
всегда стремится смягчать удары судьбы, леди Арундел положила передо мной
стопку листов, большая часть которых, казалось, была писана рукою сестры.
Я прижала к губам строки, начертанные милой мне рукой. Увы, эти листы
все еще хранятся у меня, и мне нужно лишь переписать их.
ИСТОРИЯ ЖИЗНИ ЭЛЛИНОР,
ОБРАЩЕННАЯ К МАТИЛЬДЕ
О ты, горячо любимая, но обделенная моим доверием, дорогая сестра
сердца моего, за кем оно с любовью следует по неведомым краям, быть
может, все еще скитаешься ты, жертва роковой привязанности! Прими в этих
записках, если они когда-нибудь лягут перед тобой, прощальное
свидетельство любви. Любовь эта была первым чувством, которое познала моя душа, она
же будет и последним. О ты, связанная со мною узами судьбы не менее тесно,
чем кровными узами (ибо от рождения нам было суждено остаться
неизвестными для всех, кроме друг друга), взгляни, я открываю тебе мое сердце, его
страсти, его гордость, его предубеждения — не осуждай их, сестра моя, как бы
они ни противоречили твоим. Отдай должное молчание, которое я по сей
день хранила, жертвам, которые я принесла, жертвам тем более достойным
признания, что душа моя всегда возмущалась против того, кто столь низко
принуждал тебя к ним, и подчинялась одной лишь тебе. Я знала благородную
деликатность твоих чувств и помышлений и не желала делать еще тяжелее
лежащее на них бремя, посвящая тебя в то, что вступило бы в противоречие с
твоим чувством долга. Ах, нет, я помнила про Уильямса и была с тех пор
осмотрительна, если и не была счастлива, но зная слишком хорошо, как
ужасны тайны, неопределенность и умолчания (не я ли провела целую
вечность в бесплодных догадках о твоей судьбе?), позволь мне спасти тебя от
жизни среди иллюзий, представив тебе эти печальные записки. Быть может,
эта непостижимая разлука окажется вечной. Тогда, если сердце мое никогда
более не вздрогнет от любви, как это бывало всякий раз, когда я прижимала
тебя к груди (а что-то говорит мне, что я более не испытаю этой отрады),
прими эту повесть как доказательство моей нежности к тебе, и о, моя милая,
несчастная сестра, пусть смягчит остроту твоего несчастья сознание, что
страдания, выпавшие на твою долю, не самые тяжкие.
В одной части моего рассказа мне пришлось бы быть уклончивой и
неискренней, если бы Небеса не устранили того, кто пользовался твоим
безграничным обожанием и о чьих душевных качествах мы судили столь различно.
Пусть простит меня всеблагое Небо, если мое суждение было ошибочным!
Остановись здесь, Матильда, если в душе твоей пробудилась тревога, и
хорошо взвесь, довольно ли у тебя в сердце любви ко мне, ибо она понадобится
мне вся, если только я не пожелаю кривить душой.
В тот памятный день, когда Небеса решили участь одной сестры и внесли
непоправимое смятение в судьбу другой, явив их взорам фаворита
Елизаветы, как прямо противоположны оказались впечатления сестер о натуре этого
человека! Поразительно, что, до того дня безусловно согласные во всем, они
впервые так решительно разошлись в своих суждениях, еще поразительнее
то, что каждый последующий день лишь подтверждал их разделившиеся
мнения. Ни глаз, ни разум не могли требовать большего, чем являл в своем лице
лорд Лейстер, баловень природы, равно как и разнообразных искусств... но
этим, по моему убеждению, и ограничивались его достоинства. Его сердце,
холодное от природы, очерствело вследствие того, что значительную часть
жизни он провел в леденящей атмосфере королевского двора. Безудержный в
своих замыслах, нерешительный и коварный в поступках, тиранический в
достижении своих целей, он неспособен был на долгую привязанность к тем,
над кем не мог властвовать. Честолюбие, гордость и тщеславие, эти главные
черты почти всякого характера, в нем так нераздельно слились и обрели
такую законченность под влиянием природной холодности, что часто их можно
было ошибкою принять за иные, более благородные качества. Ты предстала
перед его глазами в сиянии юности, в совершенстве красоты, осененная
величием королевского рода, в первом нежном расцвете пробудившейся любви.
Ты соединила в себе все чарующие свойства с теми, что были особенно
дороги сердцу, которое ты желала покорить, и оно было положено к твоим ногам.
Это был печальный миг, ибо он обрек тебя на все горести взаимной страсти
почти без единой ее радости! Увы, Матильда, будь ты воистину обожаема...
Впрочем, что изменилось бы от этого? Лишь мучительнее сделалось бы все,
что тебе суждено было испытать. И если кажущаяся страсть лорда Лейстера
имела в твоих глазах очарование истинной, я поступаю, быть может, дурно,
представляя ее в таком свете, но время притворства и умолчаний прошло, и
теперь мое измученное сердце не изречет ничего, кроме правды. Мое мнение
о его характере столь прочно установилось, что, хотя в моей жизни была
минута, когда судьба моя, казалось, всецело была в руках лорда Лейстера, я не
могла питать к нему уважение настолько, чтобы положиться на его решение.
И все же, из нежной жалости к тебе за твою неизменную и не заслуженную
им любовь, я воздержалась бы от столь резкого (в твоих глазах) суждения, но
тогда — повторяю еще раз — мои собственные поступки показались бы
странными и необъяснимыми.
Как глубоко отец Энтони и я сожалели о неосмотрительности, вследствие
которой в нашем уединенном приюте оказался столь опасный гость, нет
нужды повторять. Осторожность на этот раз оказалась союзницей страсти, и твоя
судьба, волею единственного оставшегося у тебя опекуна, была навсегда
соединена с судьбой твоего возлюбленного. Вскоре я поняла, что тщетно было
бы оспаривать главенствующее место, которое он занял в твоих
привязанностях, а так как собственных привязанностей я в то время еще не имела, то не
заглядывала далеко в будущее и безропотно последовала за тобой в замок Ке-
нильворт. Я, однако, восхищалась стойкостью любовного самообмана,
заставившего тебя мгновенно примириться с столь явно незначительным и жалким
положением, в какое ты была поставлена, и еще более — твоей полной
слепотой к собственному совершенству, позволившей тебе вообразить, будто
зоркие наблюдатели сочтут твое нынешнее ничтожное положение естественным
для тебя. С каким же изумлением я увидела, как любовь лорда Лейстера
навлекает такие унижения на ту, кто по природным свойствам и праву
рождения настолько выше его, сам же низко потакает себе во всем, пользуясь
единолично присвоенными правами.
Едва мы остались с тобою одни, как притязания этого негодяя Уильямса
наполнили нас ужасом, требовавшим немедленных решительных мер. Вся
душа моя восставала против унизительных уступок, к которым твои мольбы
понуждали меня, но даже эти уступки лишь усиливали презрение, овладевшее
мною. Возвращение лорда Лейстера принесло нам временное облегчение, но
способ, которым он избавился от злодея, представлялся мне одновременно
ненадежным и недостойным, а единственно верный способ положить конец
всем нашим страхам, по-видимому, ни разу не пришел ему в голову. Ему
следовало объявить о вашем браке, что в то время, вероятно, можно было
сделать без большого риска оскорбить Елизавету, чье увядающее сердце с
каждым днем становилось все менее чувствительно к заботам любви, а
тщеславие было занято и развлечено приездом герцога Анжуйского. Но важнейший
интерес милорда заключался в том, чтобы не допустить ее брака с
французским принцем, и перед идолом этого замысла покорно склонились все его
страсти. Мы вновь были оставлены в замке трудиться над гобеленом, а когда
он успешно завершил свою интригу, то оставил теперь уже королеву скорбеть
в одиночестве об утрате последнего претендента на ее руку, а сам вновь
вернулся развлекаться в Кенильворт.
Но не всегда ему была суждена удача: на этот раз он возбудил у
Елизаветы вполне обоснованные ревнивые подозрения, и, внезапно появившись в
замке Кенильворт, она перехитрила наконец своего изворотливого фаворита.
Тщетно было бы скрывать наше присутствие, тщетно выдавать нас за
прислужниц в его развлечениях: для внимательного взгляда королевы и
единодушного мнения ее более беспристрастной свиты недостоверность вымысла
была очевидна. Принужденный наскоро сочинить новую историю, терзаясь
мыслью, что она не внушает доверия, он оказался перед необходимостью
отягчить и без того нелегкие обстоятельства нашего положения, предав нас,
помимо воли, в руки Елизаветы. Увы, сестра моя, я видела, я понимала, как
терзаешься ты из-за меня, ни разу не вздохнув о себе самой. Я подавила
тягостные ощущения и чувство возмущенной гордости, переполнявшие мое
сердце, и вступила в новый для меня мир под сомнительным и непонятным
покровительством королевы, которая, куда лучше знакомая с ухищрениями своего
фаворита, чем те, что состояли с ним теперь в родстве, ни на секунду не
поверила его измышлениям, хотя и не могла их опровергнуть.
Ах, каким призрачным предстает в воспоминаниях наше изменившееся
существование! Нас видели — но не знали, окружали поклонением — но не
уважали, наказывали — без вины, хвалили — без заслуги. Наше существование
было иллюзорно. Однако, в окружении соглядатаев, находясь неизменно на
глазах у той, что склонна была беспощадно осудить прежде, чем обнаружит
вину, как трудно было нам избежать подозрений и порицаний! Единственное
преимущество, которое мы обе обрели, вступив в придворный круг, были
верные друзья, но даже это благо было волею милорда ограничено в угоду его
бесконечным расчетам и соображениям. Даже его племянницам, дружески
расположенным к нам, леди Арундел и леди Пемброк, он не позволил нам
доверить малую частицу тайны, которая могла бы, хоть отдаленно, затронуть
его благополучие. Как ни ограничивал общение этот запрет, тем не менее
души наши познали очарование дружеской привязанности. Мой выбор
склонился к леди Пемброк, твой — к ее не менее достойной сестре, и обе мы
испытывали удовольствие, проводя с избранными нами подругами ту часть времени,
что не проводили вместе.
И вот, Матильда, я приблизилась к тому моменту, когда жизненные пути,
по которым до той поры мы шли рука об руку, начинают расходиться, когда
каждый последующий шаг уводит нас все дальше друг от друга, и
напряженный взор не может различить за мраком и далью любимый образ... Напрасно
мы оглядываемся назад и ищем привычную дорогу: тысячи иных путей
наполняют смятением усталый ум, бурные страсти неодолимо влекут нас
вперед, и, со вздохом любви и безнадежности простившись со сладостными
воспоминаниями о юных годах, мы устремляемся неверными шагами вслед за
своими своевольными поводырями.
Лорд Пемброк давно уже отмечал благосклонностью некоего знатного
юношу, которого лорд Лейстер в силу своих соображений удерживал за
границей. Благодаря леди Пемброк я была знакома со многими из его писем, и
сердце мое привыкло трепетать при имени Эссекса задолго до того, как я
его увидела. Увы, даже сейчас, повторяя это имя, я испытываю то же
чувство!.. О, любовь! Прекрасное заблуждение, пленительная ошибка! С той
минуты, как уста обретают наслаждение в этом слове, до той минуты, когда они
утрачивают способность произнести его, очарование, непостижимое
очарование любви сохраняется... Обласкана ли она лучами надежды, студит ли ее
роса разочарований... Верен ли избранник, изменил ли он; перед вашим взором
ли он в расцвете жизненных сил, скрыт ли в темноте и безмолвии могилы —
страсть, всесильная страсть утверждает свое вечное могущество, ее
воздействие навсегда определяет натуру человека, в чьем сердце она некогда царила.
Когда я останавливаюсь мыслью на том мгновении, когда возникло это
чувство, более тонкое и волнующее, чем все, что я знала прежде, память и
ощущения воскрешают все драгоценные подробности его с нежностью,
неистребимой временем.
Удостоенная благосклонностью друзей лорда Эссекса, уже знакомая с его
представлениями о героизме, славе, разнообразных привязанностях, кроме
привязанности любовной, я лелеяла надежду, что настанет день, когда от
меня он примет наконец и это живейшее из чувств, формирующее душу и
завершающее ее развитие. Постепенно я прониклась всеми его заботами и
интересами. Я глубоко сожалела о родственных узах, которые подчиняли его
действия воле лорда Лейстера, и посвятила часть того времени, что проводила в
обществе милорда, попыткам добиться его расположения к отсутствующему
герою. С молчаливой холодностью уклоняясь от разговора о достоинствах
Эссекса, лорд Лейстер часто вышучивал мое неравнодушие к ним, не
преминув всякий раз мне напомнить о семейном сговоре о браке между лордом
Эссексом и единственной дочерью сэра Фрэнсиса Уолсингема, для заключения
которого он и намеревался в скором времени вызвать его, а мне советовал
обратить взор на сэра Уолтера Ралея, чьи таланты ставил несравненно выше и
чья склонность ко мне была очевидна. Так как я не жаловала этого
поклонника, что было хорошо известно милорду, то наш разговор обыкновенно
обрывался при упоминании его имени, но после нескольких таких разговоров я
утвердилась в своем мнении об эгоистических расчетах лорда Лейстера и во
мне стала зреть решимость воспротивиться им.
Эссекс был наконец призван в Англию. Он приехал. Непонятное,
непостижимое, тревожное предчувствие овладело мною. Я была убеждена, что не
смогу встретить его с полным равнодушием. Меня страшили проницательный
взор Елизаветы и более холодный и испытующий взор лорда Лейстера. День,
когда лорд Эссекс должен был представиться королеве, я, отлучившись из
дворца, провела у леди Пемброк. По странному совпадению так же решила
поступить и мисс Уолсингем. Число гостей увеличивалось по мере того, как
редел придворный круг. Имя Эссекса было у всех на устах, и если
торжествующий взор мисс Уолсингем выражал довольство косвенными комплимента-
ми и поздравлениями, то мое сердце с покорной радостью принимало их.
Время близилось к вечеру, когда леди Пемброк, выглянув в окно, воскликнула:
«Он здесь!» — и послала воздушный поцелуй. Вновь я готова была бежать
прочь, но чувство приличия удержало меня. Леди Пемброк поддалась одной
из тех веселых причуд, что так часто дарили радость и ей, и ее друзьям, и
настояла, чтобы Эссекса лишь уведомили о присутствии его нареченной в числе
прочих незамужних молодых особ, среди которых он должен любящим
сердцем ее отличить. Это была не вполне удачная затея. Мисс Уолсингем в
детстве была просватана за лорда Эссекса скорее в знак примирения между
семьями, чем в надежде на их будущую взаимную склонность. В соответствии со
строгими принципами леди Уолсингем, до недавних пор дочь ее жила в
полном уединении, но по смерти матери обрела ничем не ограниченную свободу.
Страсти этой молодой особы, бурные от природы, всегда противились
ограничениям, но, вынужденные до поры смиряться, они отметили ее характер, еще
в юные годы, чрезвычайной надменностью. Красота, которой она была щедро
наделена, вскоре собрала вокруг нее толпу поклонников, отчего возросло ее
тщеславие, а к гордости добавилось кокетство, и крайние проявления этих
качеств сочетались в ней с безграничным легкомыслием. Полагали, что один
только сэр Филипп Сидней способен был тронуть ее сердце, но так как он с
самого начала отдал свою любовь другой, мисс Уолсингем делала вид, что
пренебрегает им, и ждала возвращения своего нареченного жениха, с тем
чтобы согласиться на брак.
Мисс Уолсингем поддержала затею леди Пемброк, что привело в
некоторое недоумение остальное общество, и после многочисленных шуток на
предмет сердечного ясновидения леди Пемброк послала за своим супругом и за
гостем... О, Небо!.. Этот гость, этот непобедимый воин, которому суждено
было решить мою участь... Зная, как молод он, я ожидала встретить в его
облике и манерах признаки юношеской незрелости и незавершенности. Каково же
было мое удивление, когда я увидела рост и величавость лорда Лейстера,
совершенство черт, не уступающее ему, но при этом стройность фигуры,
свежесть и красота лица были озарены блеском молодости, отмечены
изяществом в соединении с прямодушием, а выражение лица говорило о тонкости и
деликатности чувств, сравниться с которыми могли лишь те, что неизменно
вызывал он сам. Нет, я не передала и половины того глубокого и
драгоценного впечатления... тщетно я пыталась бы передать его. Он взглянул — и мне
показалось, будто я только сейчас обрела зрение, он заговорил — и я словно
обрела слух. Опасаясь, что мое смятение скажется и выдаст меня, я опустила
глаза, но они уже донесли этот образ до моего сердца, я все еще видела его
внутренним взором, а мой очарованный слух сохранил звук этого голоса,
оставаясь глухим ко всем остальным голосам. С выразительной улыбкой
выслушав непререкаемое повеление леди Пемброк, он поцеловал протянутую ею
руку и вслед за тем движением, исполненным грации, преклонил колено
передо мной... Милосердное Небо! Как безгранично было мое смущение при
этой неловкой ошибке, но как глубока была моя безмолвная радость! Безу-
держное веселье всего общества раздосадовало его. Великодушно делая вид,
что только в этом смехе видит причину моего огорчения, он почтительно
попросил прощения за то, что вовлек меня в эту великолепную шутку, которой
дамы столь любезно почтили его. Понизив голос, он добавил, что перед кем
бы ему ни повелевала склониться родительская власть, он всегда будет
помнить с гордостью и удовольствием о том непогрешимом выборе, на который
отважилось его сердце. Затем, приблизившись к мисс Уолсингем, чье
выражение готовности избавило его от новой ошибки, он почтил ее весьма
прохладным комплиментом, пробудив все яростные свойства ее натуры, и тут же
перешел к другим дамам, дабы подобным же образом приветствовать их.
Взор его между тем вновь и вновь останавливался на мне с выражением
пылкого прямодушия, которое отличало его всю жизнь.
Я покинула его общество и вернулась во дворец, охваченная той же
пылкой страстью, какую некогда дерзала порицать в тебе, льстя себя надеждой,
что он уже обдумывает, как положить конец помолвке, не находящей
отклика в его сердце. Как сладостны были эти часы, исполненные надежд! Готовясь
сделать тебе признание, дать выход своей любви, доверив ее твоему
преданному сердцу, я застала тебя в слезах, в тоске и страхе, ибо именно тогда
сделалась очевидной жестокая, необузданная ревность лорда Лейстера. Не имея
смелости поминать обстоятельство, столь далекое от причины твоей печали, я
схоронила это драгоценное впечатление в тайниках души и посвятила себя
врачеванию твоих глубоких сердечных ран. Вследствие странной перемены в
своих чувствах я научилась справедливо судить о твоих, и усиливающееся
сходство обстоятельств с каждым днем все нераздельнее сливало наши души,
хотя я ни словом не обмолвилась о своих чувствах. Гордые мечты о величии,
порою ожесточавшие сердце, которое я осмелюсь назвать благородным,
тотчас исчезли перед лицом более сильной страсти, непостижимым образом
заполнившей ту зияющую пустоту во мне, которую я ощущала и которую
доселе ничто не могло заполнить. Я более не роптала на королеву, я более не
думала о королевском дворе как о тюрьме — с этой минуты, спокойно
примирившись со своей судьбой, я устремила все свои желания к одному-единствен-
ному предмету.
Я даже прилежно занялась воспитанием чувств лорда Лейстера, улаживая
несогласие, от которого оба вы одинаково страдали, хотя ни один не
признался бы в этом. Лорд Эссекс во время таких бесед неизменно находился
поблизости, и его пристальный взгляд стремился проникнуть в природу связи
между нами и в тайну нашего происхождения, так старательно скрытую от всех
Лейстером и Елизаветой. Неприязнь, которую твой супруг уже проявлял в
отношении Эссекса, в таких случаях становилась еще более явной, и, видя в
себе причину этого, я всячески старалась мелкими знаками внимания и
уважения вознаградить терпение своего любезного поклонника. Неприязнь столь
неоправданная усиливала, однако, мою собственную неприязнь к лорду Лей-
стеру, хотя в то же время и давала мне новое основание скрывать ее, более
веское, чем те, которыми я руководствовалась до сих пор.
Твои терзания глубоко запали мне в душу, и, извлекая печальный урок из
опыта страсти столь безоглядной, я сурово призвала себя к ответу за то, что
потворствую своей опасной слабости, и решила мужественным усилием
подчинить ее себе, если не могу ее уничтожить. Но, ах, как тщетны эти попытки,
когда сердце затронуто поистине глубоко! Любовь, сестра моя, словно
обвившаяся змея, лишь теснее сдавливает сердце при каждой попытке сбросить ее.
Напрасно я обращалась мыслями к безвестности, которая доселе окружала
нашу жизнь, к темной таинственной туче, все еще нависающей над нею:
жизнь перекинула через тучу яркую радугу, и каждая слеза, исторгаемая
невзгодами, отражала сияние Эссекса. Ах, отчего беды способствуют усилению
страсти? Не умея объяснить причину, я свидетельствую неоспоримость
следствия. Волнения сердца — неугомонного всегда — во дни бедствий, должно
быть, особенно бурны; когда же в нем находит приют любовь, то всякое
волнение придает ей новые силы, как бы ни был далек от нее источник волнения.
И все же если сердечная слабость женщины может иметь оправдание в
достоинствах того, к кому она обращена, то, чем более я узнавала Эссекса, тем
более находила оснований для такого оправдания. Та благородная
искренность, что всю жизнь противилась придворным ухищрениям, которые он не
умел ни усвоить, ни с выгодой для себя использовать, в то время была
особенно заметна в нем. Щедрое сердце и тонкое понимание делали его не только
покровителем, но и другом талантов. Любой сторонний наблюдатель с
восхищением видел даже в его юности ту же богатую одаренность, что так полно
осуществилась в более зрелых годах Сиднея, и думал, как посчастливилось
сэру Фрэнсису Уолсингему, который мог сочетать свою дочь браком с любым
из этих двух выдающихся умов Англии. Великодушный Эссекс считал ниже
своего достоинства обмануть ожидания той, на ком он не отказывался
жениться, и, из почтения к воле покойного отца выказывая готовность
исполнить ее, положился на судьбу в надежде на благополучный для себя исход и
поклонялся мне молча.
В это время военные обязанности призвали лорда Лейстера к войскам и
знатные дворяне последовали за ним. Я разделяла твою горькую обиду, когда
он уехал, ни словом не простившись с тобой, и чувства твои были мне так
близки, что я попыталась внушить себе, будто Эссекс лишь стремится
обрести власть, которая позволяла бы ему обращаться со мной подобным образом.
Эта мучительная мысль так завладела мною, что под ее влиянием я проявила
при расставании холодность, к которой Эссекс был совершенно непривычен и
о которой, должна сознаться, я не переставала сожалеть во все время его
отсутствия.
Поражение и гибель Армады возвратили веселье и блеск королевскому
двору. Полное примирение произошло между тобою и лордом Лейстером.
Мое сердце вновь распахнулось навстречу надежде, счастью, Эссексу,
который теперь решился посвятить в свои чувства леди Пемброк. Она с жаром
приняла к сердцу его интерес и обещала помочь ему найти возможность
признаться мне. Вскоре она призвала меня к себе и с той счастливой улыбкой,
что всегда побуждала нас сделать все, чего она ни пожелает, сказала, что с
той самой минуты, как она меня увидела, ее заветнейшей целью стало
соединить меня с лордом Эссексом, единственным, по ее мнению, кто был достоин
сердца, которое она так хорошо узнала. Она вовлекла своего супруга в
сговор, целью которого было таким необычным образом представить нас друг
другу, тогда как я сочла это лишь странной причудой. Затея вполне
оправдала ее надежды, покорив сердце одной из сторон и, добавила она, не оставив,
как ей кажется, равнодушной другую. Взглянув на мои зардевшиеся щеки,
она с веселым видом встала и распахнула дверь своего кабинета.
— Словом, моя дорогая, вот сам милорд. Позвольте ему самому изъяснить
свое дело. Когда же я решу, что смогу говорить более разумно, чем он, то —
положитесь на меня — я прерву его.
С этими словами, вырвав из моих дрожащих пальцев край своего платья,
она выбежала из комнаты. В испуге и растерянности, ошеломленная тем, что
настал миг, столь давно желанный, я хотела было последовать ее примеру,
но, воспользовавшись тем самым образом, которым я безуспешно пыталась
удержать свою подругу, лорд Эссекс более твердой рукой ухватил меня за
платье. Я обернулась и, не отваживаясь задержаться взглядом на стройной
фигуре и прекрасном лице, опустила глаза и молчаливо согласилась
выслушать его. Боже, как глубоко в душе моей, как прекрасно воспоминание о той
минуте, когда слово «любовь» впервые коснулось моего слуха, произнесенное
единственным голосом, который делал его милым моему сердцу!
— Я верю, самая боготворимая из женщин, — сказал граф, — что,
почтительнейше склоняясь перед вами, я не совершаю ничего неожиданного для
вас. В ту минуту, как я впервые увидел вас, мои колени сами преклонились
перед вами в знак того, что вам принадлежит сердце, которым любовь,
зародившись в этот миг, завладела навеки. Священное чувство долга перед отцом,
чья воля во всех остальных случаях подчинялась голосу разума, заставляет
меня чтить даже ту великодушную ошибку, что побудила его заключить
договор о моем браке с мисс Уолсингем. Отец, которому суждено было во цвете
лет отказаться от всех благ, что заставляют человека дорожить жизнью,
всеми силами старался сохранить их для сына, увлажнявшего его бледные щеки
бесхитростными детскими слезами. Чтобы создать мне друзей при дворе,
которые хоть отчасти смогли бы заменить его, он формально породнил меня с
искусным политиком Уолсингемом, единственным , чье влияние могло
уравновесить влияние наших заклятых врагов — семейства Сесилов. Дальнейшие
события подтвердили справедливость его суждения. По стечению
обстоятельств я оказался бы в полном забвении и небрежении, если бы не
поддержка и привязанность сэра Фрэнсиса. Вследствие этого с моей стороны было бы
недостойно отвергнуть дочь человека, которому я обязан и своей
безопасностью, и своим положением. Но я давно изучил ее характер и, опасаясь
доверить свое счастье девушке, чей яростный нрав не позволяет ей самой быть
счастливой, я, уступая желанию лорда Лейстера, оставался за границей,
питая при этом надежду (со временем оправдавшуюся), что за это время она от-
даст свое сердце какому-нибудь более прилежному поклоннику. Прежде чем
я вернулся домой, у меня уже были основания верить, что мое желание
исполнилось. Ее склонность к сэру Филиппу Сиднею поистине слишком
очевидна для меня, чтобы думать о соединении наших судеб, если близкие с обеих
сторон пожелали бы завершить помолвку браком; но так как я склонен
верить, что решимость сэра Филиппа преодолела бы сопротивление семьи Уол-
сингем, то осмелюсь просить вас сказать мне (если вы снизойдете до интереса
к судьбе человека, рожденного, чтобы боготворить вас), есть ли у Сиднея
основания надеяться на благосклонность вашей сестры. Примите мои слова как
извинение за то, что я имел дерзость пытаться проникнуть в вашу тайну, и
поверьте, что, желая быть причастным к ней, я не стремлюсь посягнуть на
существующие у вас обязательства, перед которыми покорнейше отступлю
независимо от того, будет мне позволено понять их или нет.
Очарованная и гармоничными звуками этого голоса, и чувством, столь
благородно им выраженным, побуждаемая прямодушием его речей проявить
свою природную искренность, я всецело поддалась велению сердца, и то
косвенное признание в собственной склонности, которое я сделала ему,
согласившись объяснить твои чувства к сэру Филиппу, наполнило его прекрасные
глаза светом нежной благодарности. Незаметным образом нить разговора
привела к лорду Лейстеру, и тут, мгновенно опомнившись, я поняла, какую
совершаю ошибку. Не решаясь нарушить свое обещание хранить тайну, я резко
оборвала рассказ, вспыхнув жарким румянцем смущения. Наступило долгое
молчание. В тревоге и нерешительности я подняла на Эссекса взгляд — грусть
затуманила сияние его глаз, он понял мое смятение и, верный своим высоким
принципам, стал убеждать меня «хорошо обдумать все, что я готова ему
поведать, и помнить о том, что мое доверие тяжким грузом ляжет на его сердце,
если только я когда-нибудь упрекну себя за то, что это доверие оказала». Его
задетые чувства выразительной дрожью отозвались в голосе; эта дрожь,
деликатность, с которой он не пожелал воспользоваться моей оплошностью,
власть, которую влюбленный мгновенно обретает над поступками женщины,
решившейся признать свое неравнодушие к нему, и, увы, более всего,
пожалуй, всем знакомый мучительный страх, что избранник может хоть на миг
предположить в любимой недоверие к себе, — все это оправдывало, в моих
глазах, полное признание, к которому меня вынудили обстоятельства.
Удивительная история нашего появления на свет, тайна Убежища, открытие этой
тайны лордом Лейстером и ваш последующий брак, та уловка, которая и
королеву побудила хранить молчание обо всем, что касается нас, — словом, все
стало известно ему, завеса вымысла исчезла, и я предстала перед ним той,
кем была по праву рождения. Это волнующее признание скрепило нашу
взаимную страсть и придало очарование минуте, к которой память моя
возвращается с такой радостью. Я взяла с него клятву молча хранить тайну до тех
пор, пока твой решительный отказ не поспособствует браку сэра Филиппа с
мисс Уолсингем, а более счастливые обстоятельства не облегчат заключение
нашего брака. Время это не могло казаться нам тягостным, ибо мы могли
встречаться ежедневно, хотя и на людях, и читать в глазах друг друга не
омраченную сомнением любовь, которую каждый грядущий день обещал
увенчать счастьем. Во взаимном доверии Эссексу открылся такой
неисчерпаемый источник изумления и радости, что он не стал перечить той, на которую
с этой минуты смЪтрел не иначе как в благоговении. Мы расстались столь
восхищенные нашей встречей, что ни один из нас не пожалел бы заплатить за
нее жизнью.
Я, однако, была далека от того, чтобы считать мисс Уолсингем
единственным препятствием к нашему союзу. Осмотрительный и расчетливый лорд
Лейстер усиленно, хотя и молча, противился ему, и не без причины.
Сознавая, что многие годы царил безраздельно в сердце Елизаветы, он мог теперь
вполне обоснованно страшиться появления на своем пути соперника, в ком
все присущие ему самому достоинства соединялись со множеством таких,
которыми он никогда не обладал. Не довольствуясь тем, что был известен
красотой и утонченностью вкуса и манер, Лейстер страстно желал прославиться
полководческим талантом и отвагой и не раз давал всему королевству
убедительнейшие доказательства того, сколь мало соответствовал он своему
высокому воинскому званию. Эссекс был прирожденным солдатом. Суровые и
благородные воинские добродетели сочетались в нем с изящными манерами
придворного и тончайшим литературным вкусом. Человек, столь
блистательно проявляющий себя во всех областях, не мог не встревожить тех, кто
некогда снискал и ценил благосклонность Елизаветы. К этому надо добавить, что
граф Эссекс был от природы смел и предприимчив, а следовательно, не
склонен уступать то, чем завладел. Таковы были к этому времени опасения всех
королевских фаворитов, и кто умерил бы мои опасения, когда я вспоминала
изменчивую судьбу его благородного отца и последнее наставление, данное
им любимому сыну?
Внезапная, для всех неожиданная, женитьба сэра Филиппа Сиднея на мисс
Уолсингем оживила те надежды Эссекса, осуществление которых я так долго
старалась перенести на будущее, а вместе с ними оживило и его опрометчивый
план посвятить в свои намерения лорда Лейстера, на чье одобрение и согласие
он все еще надеялся. В ужасе я представила себе, что такой необдуманный шаг
погубит его, раздосадовав лорда Лейстера, который не потерпит, чтобы его
возможный соперник стал ему поперек дороги во всем и осмелился
претендовать на часть тех преимуществ и благ, которые он намеревался сохранить для
себя одного. Я прилагала все усилия к тому, чтобы склонить своего
возлюбленного к молчанию. Увы, с каждым днем это становилось труднее. Королева
и Лейстер, опасаясь, что из множества молодых людей, предлагавших мне
свою любовь и преданность навеки, я сделаю выбор, противоречащий их
интересам, поспешно назначили мне в мужья ничтожного лорда Арлингтона и,
всячески поощряя его ухаживания, рассеяли круг моих поклонников. Мне
было ясно дано понять, что если я когда-нибудь получу разрешение на
замужество, то лишь жертвуя своим счастьем их расчету и выгоде. Не осмеливаясь
советоваться с тобой о том, что так долго от тебя скрывала и на что мы неизбеж-
но должны были смотреть так по-разному, не желая омрачать тот краткий
проблеск солнца, которым любовь озарила твои дни, я впала в угнетенность
духа, которую даже присутствие Эссекса не в силах было развеять.
Очень скоро намерения королевы и лорда Лейстера стали очевидны
Эссексу. Пылая любовью ко мне и презрением к тому, кого меня понуждали
любить, он выказывал лорду Арлингтону столь явное пренебрежение, что лишь
нерешительность, присущая неповоротливым умам, помешала лорду
Арлингтону затеять с ним столкновение не на жизнь, а на смерть. Располагая,
вследствие моей откровенности, средством сделать лорда Лейстера более
сговорчивым, граф Эссекс просил моего позволения на то, чтобы настоять на согласии
твоего супруга в его ходатайстве за нас перед королевой, если только он
заинтересован в сохранении своей собственной тайны. Нежная любовь к тебе одна
только и могла побудить меня противиться плану, конечной целью которого
было мое счастье. Но, сознавая, что объяснение подобного рода навсегда
поссорит меня с лордом Лейстером и принесет твоей измученной душе новое
страдание, превосходящее все прежние, я согласилась еще раз свидеться с
лордом Эссексом у леди Пемброк. Во время этой беседы я употребила всю
власть, какой обладала над его смятенным сердцем, чтобы умерить его гнев и
унять тревоги любви до той поры, когда предстоящая кампания в
Нидерландах завершится, обещая стойко сопротивляться всем матримониальным
замыслам и решить его судьбу тотчас по его возвращении. Не надеясь побудить
его к согласию соображениями его собственной безопасности, я схоронила в
душе глубочайший источник своих опасений и умолила его проявить
терпение, представив в несколько преувеличенном виде опасности, которым любой
его необдуманный поступок неизбежно подвергнет меня. Бурные страсти,
обуздать которые никому было не под силу, улеглись под воздействием
звуков моего голоса, и, когда необходимость побудила нас расстаться, мне
казалось, что с ним осталось все, что делало жизнь драгоценной для меня.
Занятые чувствами и мыслями столь различными и единые лишь в том,
что ждали вестей и все помыслы устремляли туда, где находилось сейчас
войско, мы теперь редко вели с тобой наши привычные дружеские и с адушевные
беседы. Я все же время от времени находила облегчение в письмах,
получаемых через леди Пемброк. Из них я узнавала, что твой супруг, продолжая
соблюдать видимость уважительного отношения к Эссексу, втайне дает ему
ощутимые доказательства всей полноты своей власти над ним, впрочем, со
столь тонким искусством, что не оставляет ему явных оснований для
недовольства и ропота. Эссекс часто напоминал мне о моем обещании и клялся,
что сохраняет несомненное право на него всем тем, что терпеливо переносит
ради меня. Измученная тревогой и неуверенностью, я не осмеливалась
заглядывать в будущее и гадать, как распутается клубок столь сложных
обстоятельств; в страхе и волнении ждала я решения свыше. И оно громом грянуло
надо мной; тяжелое и опасное положение, в котором оказалась ты, внезапное
и неосторожное возвращение Лейстера при получении известия о нем,
хитроумное измышление, которым он оправдал свой приезд перед больной и слабе-
ющей умом королевой, ее внезапное решение сочетаться с ним браком,
необходимость немедленно скрыться из-под ее власти, мгновенно превратившее
вас обоих в жалких беглецов, — все эти события были столь странны,
стремительны и неожиданны, что я сделалась жертвою их, еще не успев осознать
происходящего.
В то роковое утро, когда вернулся лорд Лейстер, ты рассталась с ним,
чтобы присутствовать при утреннем туалете королевы, как того требовали в тот
день твои обязанности. Я с нетерпением ждала результата посещения
милордом Елизаветы, так как от этого прямо зависела и твоя и моя участь.
Доверенный слуга леди Пемброк принес мне известие, что у нее начались
преждевременные роды и опасность так велика, что в самый миг нашего разговора она,
возможно, уже при смерти, и тем не менее посланец, от ее имени, убеждал
меня поспешить к ней, если я дорожу письмами, что находятся в ее руках. В
тревоге я не раздумывая отправилась вместе с ним и на всем пути через
дворец не повстречала никого из прислуги или друзей, кого могла бы уведомить
о причине своего внезапного исчезновения. К счастью, когда я приехала,
опасность, грозившая моей горячо любимой подруге, уже миновала. В молчании я
крепко сжала ее руку, а она подала мне пачку писем Эссекса, которые
держала для меня наготове и которые я тут же спрятала на груди. Когда, торопясь
воротиться, я проходила через внешний двор, какой-то незнакомец подал мне
записку. Несмотря на волнение, я узнала почерк Эссекса, но как могло
случиться, что он в Англии? В страхе и смятении, которые охватили меня, я едва
смогла прочесть записку. Она была анонимной, но из нее я узнала, что он уже
побывал в доме леди Пемброк, но, видя, в какое горе ее состояние повергло
супруга и всю семью, понял, что не может рассчитывать на их помощь в
устройстве встречи со мной, которая, однако, совершенно необходима для
спокойствия и безопасности нас обоих. В заключение он умолял меня, если я
пожелаю избавить его от полного отчаяния, последовать за подателем
записки. Покой всей моей дальнейшей жизни, быть может, зависел от решения,
принятого в эту минуту. Несомненно, мое согласие непоправимо продлило то
роковое отсутствие во дворце, которое стоило мне многих мучительных лет
неволи, и я дорого заплатила за это первое нарушение приличий и
осмотрительности. Но всегда ли мы властны над своими чувствами? Мои чувства, по
многим понятным причинам, были в полном расстройстве, а лишь трусливый
рассудок отступает перед опасным испытанием.
Я села в наемную лодку, указанную мне подателем записки, и она быстро
понеслась вниз по течению. Во время этой короткой поездки я перебирала все
мыслимые объяснения внезапного возвращения графа, но оказалась в
Гринвиче, так и не придя ни к какому решению. Я сошла на берег в уединенном
саду, принадлежавшем лорду Саутгемптону, и вслед за проводником дошла до
нависшей над водой беседки, где и нашла Эссекса — в полном одиночестве,
бледного, небрежно одетого, с видом крайней тревоги и усталости. Объятая
невыразимым смятением, я склонилась на его плечо, когда он опустился
передо мной на колени, и меня наполнило неясное скорбное предчувствие, полно-
стью оправдавшееся всего лишь несколько часов спустя. Даже очарование его
голоса бессильно было поначалу успокоить волнение души, глубоко
удрученной столь многими тревожными обстоятельствами. Однако, когда до моего
сознания дошло, что предполагаемое, а не подлинное несчастье привело его
столь внезапно в Англию, мое угнетенное страхом сердце забилось спокойнее.
Постепенно мне прояснилось, что единственной причиной, побудившей его
проделать этот путь, был внезапный отъезд лорда Лейстера, что с помощью
друзей из окружения твоего супруга он вел постоянное наблюдение за всеми
его действиями и узнал, что пакет писем, доставленный неким доверенным
лицом из Англии, так взволновал милорда, что тот решился оставить войско
и воротиться в Англию незамедлительно. Получив это известие, Эссекс
решил отправиться вслед за своим военачальником, что, по счастью,
облегчалось его положением волонтера. Нетерпение лорда Лейстера, столь явно
обнаруженное этим поспешным отъездом, оправдывало мрачные опасения его
соперника, следовавшего за ним по пятам, и укрепило его в мысли, что или
раскрыта тайна моего рождения, или готовится некая интрига, чтобы
устранить меня, как того требуют соображения придворной политики. В полном
отчаянии от этих предположений он подготовил все для немедленного
возвращения на случай, если я, по счастью, окажусь еще на свободе или он
сможет способствовать моему избавлению от беды, если вся правда открылась.
Он более не сомневался, что я наконец соглашусь разделить судьбу того, кто,
ни минуты не колеблясь, готов был отказаться от всех надежд, которые мог
питать по праву, ради одной — добиться меня. Его поступок, вызванный
великодушным заблуждением, не мог оскорбить меня, но, считая, что положение
мое не столь отчаянно, как представляется ему, я открыла Эссексу истинную
причину стремительного отъезда лорда Лейстера, умоляя незамедлительно
покинуть Англию так, чтобы самый приезд его остался никому не известен.
Но я обращалась к человеку, который более не слышал меня. Его взгляд
блуждал по моему лицу, а сердце и мысли были поглощены заветным
планом. Им так безраздельно завладела мысль о том, что лорд Лейстер
неминуемо разрушит его надежды, по-своему распорядившись мною, если только я
вновь окажусь в его власти, что никакие мои клятвы в вечной любви и
верности, никакие обещания упорно противиться любым другим предложениям не
достигали его слуха.
— Я утрачу, я потеряю вас навеки, если сейчас расстанусь с вами, —
исступленно твердил он в ответ на все мои доводы и мольбы. — Это решающий миг
нашей судьбы, любовь моя, подчинитесь же, подчинитесь ему! Даже если
предположить, что вам не грозят испытания, коих вы не можете предугадать,
пока не столкнетесь с ними, как знать, что угроза не нависла надо мной? Сэр
Фрэнсис Уолсингем уже раскаивается, что расторг брачный контракт между
мною и своей дочерью: она овдовела, и небольшого намека лорду Лейстеру
будет довольно, чтобы заручиться его содействием в возобновлении
контракта (разве это не благоприятствует его планам?), его ходатайство убедит
королеву, а неповиновение ее приказу будет означать для меня пожизненное из-
гнание. Так, милая Эллин, — взволнованно продолжал мой возлюбленный, —
вы не только оставляете свою судьбу в руках человека, который никогда не
согласится соединить ее с моей, но, если даже решитесь противиться его воле,
отдаете в его власть несчастного, которого, как вы говорите, любите всей
душой и который безумно любит вас.
Орошая мои руки драгоценными слезами нежности и тоски, он прижимал
их то к губам, то к сердцу. Как описать мою душевную муку в эти мгновения?
Неумолимый отказ был суровым долгом, к исполнению которого меня
побуждал рассудок, а сердце переполняла нежность. Но страх навлечь
несчастье на дорогого избранника моего сердца, черной тенью омрачить начало
блистательного жизненного пути, открытого перед ним, и, быть может,
оставить на этом пути кровавый след; нелицеприятная память о том, как сурово
осуждала твое поведение в обстоятельствах не менее тяжелых, уверенность,
что мое согласие неминуемо ввергло бы в опасность тебя, — все это побудило
меня поступить как подсказывало мне чувство долга, какова бы ни была
цена. Я собрала эти доводы и многие другие, сейчас уже исчезнувшие из моей
памяти, чтобы приготовить Эссекса к разочарованию, которое, как я знала,
будет для него тяжким, и попыталась примирить его с отказом, внушая, что
вызван мой отказ прежде всего заботой о его благе. Быть может, так оно и
было, ибо солнце не расцвечивает росу большим многообразием цветов и
оттенков, чем душа — свои чувства. Я многократно заверила его, что быть
единственной владычицей его сердца для меня не большее счастье, чем видеть его
предметом любви и восхищения нации. Его блистательная юность таит в себе
столь великие обещания, говорила я, что взоры и надежды всех устремлены к
нему. Каково же будет мое горе, мое разочарование, если грядущие годы,
которые должны увенчать его славой, похоронят его в безвестности, наполнят
существование печалью? Природа наделила меня силой ума, чтобы видеть
вещи в истинном свете, и я не могу сводить все человеческие страсти к одной
только любви, хотя и считаю ее, быть может, главной.
— Заполните нашу разлуку, милорд, — воскликнула я, — чередою столь
героических деяний, что они смогут дать нашему союзу, когда Небеса позволят
нам заключить его, то единственное счастье, что не замыкается в себе
самом, — священное чувство, что мы его заслужили. Я же не премину проявить
те достоинства, что приличествуют моему полу: время, терпение и стойкость
нередко одерживают победу даже над судьбою. Я не окажу лорду Лейстеру
послушания, которым ему не обязана, но ради сестры буду снисходить до
временных уступок в делах менее значительных. Я связана с вами
нерасторжимыми узами, и церковный ритуал может лишь подтвердить ваши права,
которые с этой минуты сделали бы мою благосклонность к притязаниям другого
худшим из прелюбодеяний. Так поспешите же обратно, мой дорогой Эссекс,
скройте, если возможно, свою отлучку и остерегитесь показать лорду
Лейстеру, что усомнились в его чести, — он этого никогда не простит.
Несомненно, некая потусторонняя сила пришла мне на помощь и дала
решимость разомкнуть его руки.
— И все же не уходите, моя возлюбленная, моя обожаемая Эллинор, о, не
уходите, — молил он. — Вы покидаете меня навсегда... Никогда мне более вас
не увидеть... Никогда, о, никогда мне не назвать вас своей!
Эти исполненные страсти слова все еще отдавались дрожью в моем
сердце, когда я бегом спустилась к лодке и приказала лодочнику отвезти меня в
Лондон. Сквозь слезы, застилавшие глаза, я всматривалась в стройную
фигуру Эссекса, который, скрестив на груди руки, с видом горестным и
подавленным стоял на краю террасы, а сердце мое хранило звуки его голоса. Увы, в ту
минуту я еще не знала, какими пророческими были его слова!
Такова была моя внутренняя борьба, такова была моя решимость в те
полные событий часы, когда решались наши судьбы, сестра моя. Разум, однако,
быстро восстанавливает свои силы, когда отваживается принять решение
сообразно долгу, и я осушила слезы сердечной печали еще до того, как
воротилась во дворец. Ах, позволь мне сократить эту часть своего рассказа, чтобы я,
прервав его, не стала неразумно вопрошать Небеса, отчего самый достойный
поступок моей жизни стал причиной моей погибели. Я добралась до Лондона,
Матильда, спустя два часа после того, как вы с лордом Лейстером покинули
его. Опасаясь того, какой вид будет иметь мое долгое отсутствие даже в
твоих глазах, если ты узнаешь, как я провела это время, я решила сказать тебе,
что весь день находилась у постели леди Пемброк, а чтобы избежать
расспросов людей посторонних, пробралась во дворец в вечерний час
хозяйственными дворами, роковым образом ускользнув от бдительной заботы леди Арун-
дел, которая на всех иных подходах ко дворцу разместила преданных друзей,
с тем чтобы перехватить меня при возвращении, после того, как ее
стараниями обыскали весь Лондон в тщетных попытках найти меня.
Милосердное Небо, что почувствовала я, когда, войдя в нашу комнату,
увидела, что в ней хозяйничают прислуга и стража королевы! Беспорядок в
шкафах и комодах, все признаки опасного разоблачения... Ужас, которому
нет имени, овладел мною. Радостный возглас, встретивший мое появление, и
то, что о нем тотчас послали известить королеву, заставили меня опасаться и
за мою Матильду. На все свои вопросы я получила единственный ответ: им
поручено караулить меня, а не давать мне объяснения. Стражник, посланный
к королеве, тут же возвратился, чтобы препроводить меня к ней. У меня не
было ни единой минуты, чтобы в тишине и одиночестве привести в порядок
свои мысли и обдумать поведение; прошлое, настоящее и будущее слились
перед моим мысленным взором в безумный хаос, перед которым и дыхание
Небес оказалось бы бессильно. Бледную, испуганную, бессловесную, меня,
словно преступницу, втащили в кабинет королевы, чьи пылающие щеки и
разъяренный взгляд сразу сказали мне все то, чего я страшилась. Моей страже
было приказано удалиться. Лорд Бэрли и старая леди Летимер были
единственными свидетелями этого ужасного разговора. Я едва держалась на
ослабевших ногах и не в состоянии была вымолвить ни слова. Смерть, мучительная
смерть, смотрела мне в глаза. Что говорю я — смерть? О, если бы не надо
было мне бояться худшего! Горе, оскорбление, позор — все, что может сделать
могилу еще ужаснее, обещало предшествовать ей. Воспоминания,
содержащиеся в письмах, свидетельства о моем рождении — все, чего недоставало,
чтобы подтвердить подозрения Елизаветы или удвоить ее гнев, должно было
сию минуту обнаружиться при мне. Моему взору сквозь пелену слез являлись
дорогие мне образы Матильды и Эссекса, и в эту минуту я словно увлекала
вслед за собой всех, кого любила и чтила.
Елизавета дала волю вульгарной необузданности, отличающей ее
обращение. Не было такого уничижительного, позорящего эпитета, которым она не
воспользовалась. Лорд Бэрли, понимая, что при такой безоглядной ярости
можно скорей выдать нужные сведения, чем получить их, испросил ее
позволения поговорить со мной, на что она угрюмо согласилась. На все его искусно
построенные и коварные вопросы я отвечала правдиво, оставляя в тени лишь
те подробности твоей и своей жизни, которые злоба могла бы извратить и
вменить нам в вину. Я все время ссылалась на лорда Лейстера, который
единственный, как королеве известно, владел тайной нашей судьбы.
— Ах, вот как, предательница, — сверкая глазами, вскричала Елизавета, не
в силах более сдерживать свою ярость. — Ты, стало быть, намерена хитрить и
притворяться, что не знаешь о браке твоей мерзкой сестры с этим негодяем,
которого ты так превозносишь! Это известие, за что я ему чрезвычайно
благодарна, он счел нужным сообщить мне в письме, писанном его собственной
рукой. — Она указала на бумагу, лежащую перед ней на столе. — Это говорю
тебе я, а ты изволь рассказать все остальное, или оно будет вырвано у тебя под
пыткой.
Она продолжала говорить, но я ее более не слышала. Едва дыша, онемев,
пораженная до глубины души, я словно приросла к месту, и лишь катящиеся
по лицу слезы показывали, что я не обратилась в камень. Брак лорда
Лейстера известен... подтвержден при таком стечении обстоятельств... и не
кем-нибудь, а им самим. Боже, как смешались мысли мои при этом известии!
— Говори, негодяйка! — теряя терпение, вскричала королева, чей голос
прерывался от ярости почти так же, как мой от страха. — Ты пока еще в моей
власти. Хоть этот вероломный мерзавец, которого я возвысила из
ничтожества и осыпала милостями, ускользнул со своей фавориткой от кары, ты все
еще в моих руках. Берегись, как бы тебе не пришлось ответить и
расплатиться за все!
Увы, самый безудержный гнев ее уже не смог бы усилить мою душевную
муку. Еще одно убийственное известие неосторожно вырвалось у нее: значит,
сам лорд Лейстер увидел единственное спасение в бегстве. Он исчез, и моя
сестра — это было очевидно — последовала за ним. Оба они принесли меня в
жертву, оставили без помощи и надежды, хотя на мне не было никакой вины.
О Эссекс, я вспомнила тебя в эту минуту! Твои прощальные слова звучали в
моих ушах, душу переполняло жгучее сожаление о том, что я отвергла твой
план из напрасного — да, напрасного — великодушия. Когда Елизавета
увидела, что угрозы и пристрастный допрос не властны над девушкой, чьи чувства
были, казалось, глухи к происходящему и обращены в глубину души, на нее
нашел один из тех приступов слепой ярости, которыми она была известна.
Схватив со стола большой молитвенник, она швырнула его так метко, что
попала мне в висок, и я упала, потеряв сознание.
Мне на помощь призвали дам и разрезали шнуровку, объяснив мое
состояние обмороком, так как королева предпочла умолчать о том, с какой грубой
вульгарностью выразилось ее негодование. Лента, на которой я носила то, что
было мне всего дороже, — свидетельства о моем рождении, призванные
когда-нибудь установить мой сан и место в жизни, — привлекла взор Елизаветы.
Приближенные услужливо разрезали ленту и поднесли королеве эти бумаги
вместе с пакетом, содержащим переписку между мною и Эссексом. Я
постепенно приходила в себя, когда она принялась за первую пачку бумаг, но этот
миг почти вознаградил меня за все, что я перенесла. Никогда еще на моих
глазах дух и тело не претерпевали столь разительной перемены: гнев ее
мгновенно стих, его сменили изумление, горе, смятение; последовало глубокое
молчание. Она была бледна, едва не бледнее меня, руки ее дрожали, глаза
отказывались служить, когда вновь и вновь она просматривала свидетельства о
столь поразительном событии. Наконец, впившись на мгновение
исступленным взглядом в мои черты, она принялась рвать бумаги в клочья, которые
все казались ей недостаточно мелкими.
За это время я пришла в себя настолько, что могла говорить, но прежде,
чем я успела произнести хоть слово, она вздрогнула, страшась, в свою
очередь, того, что может услышать, и голосом прерывистым и глухим приказала:
— Заберите ее отсюда. Вы отвечаете за нее головой. Отведите ее ко мне в
малый кабинет и, если дорожите моим расположением, следите, чтобы ни
единая живая душа ее не видела и с ней не говорила.
Ее раболепные приспешники торопливо исполнили это приказание.
Комнату охраняли два стражника, отобравшие у меня все, что могло бы
способствовать побегу или смерти. Увы! Я не думала ни о том, ни о другом. Отдаваясь
на волю всеразрушающего потока, который за один прошедший час вовлек
меня в свою стремнину, я бросила вызов будущему. Я была отдана на
заклание лордом Лейстером, забыта и покинута сестрой, предана двумя людьми,
ради которых только и жила все это время, — какой же новый удар могла
нанести мне судьба? Но даже если бы она попыталась нанести его, ей пришлось
бы состязаться с моим страданием, чтобы удар попал в цель, ибо удары, уже
нанесенные, были сокрушительны. Буря чувств, бушевавшая во мне на
протяжении последнего часа, сменилась мрачным и беспросветным отчаянием. Я
ощутила себя покинутой Богом и людьми и решила, что сердце мое, став
нечувствительным от полученных ран, вынесет теперь любые удары судьбы.
Даже ошеломленная внезапным открытием, Елизавета не отказалась от
своих козней. В комнате, где я по ее приказу содержалась под стражей, была
еще одна дверь, ведущая в тайные коридоры дворца, и из этой двери в
полночный час появился стражник и именем королевы предложил мне следовать
за ним. Я молча повиновалась. У садовых ворот ждали носилки, в которые я
села, не спросив даже, куда мне предстоит отправиться. Два дня и ночь почти
без отдыха я находилась в пути. Носильщики сменялись часто и без
промедлений. Весь первый день при мне оставался стражник, но по истечении дня,
когда никаких попыток силою освободить меня не было предпринято, я
оказалась на попечении лорда Бэрли и его слуг. Глубокое душевное смятение,
владевшее мною, начало стихать, чувства и мысли возвращались в прежнее
русло, хотя воспоминание о предательстве, совершенном лордом Лейстером
и моей сестрой, все еще было непереносимо тягостно мне. Увы, могло ли
быть иначе? Когда мы позволяем страстям руководить нашими поступками,
какими бы героическими ни оказались эти поступки, мы не требуем за них
награды, которой, как говорит разум, заслуживает всякое проявление
добродетели, руководствующейся единственно рассудком. «Ах, Эссекс, милый
Эссекс, — со вздохом подумала я. — Как оправдалось твое пророчество! Зачем
так бесповоротно отвергла я твое великодушное предложение?
Неблагодарная сестра, чьей безопасности принесла я в жертву сладостнейшие надежды
своей жизни, налагает оковы на твою преданную любовь и бежит прочь, ища
укрытия в стране, куда я не посмела отправиться даже под твоим
покровительством».
Среди ночи разразилась ужасная гроза — с громом, молниями, ветром и
проливным дождем. Мой ужас, естественный для женщины в подобных
обстоятельствах, усилился вдвойне, когда я вдруг обнаружила, что на нас
напала банда разбойников. Еще минуту назад я могла утверждать, что мне более
нечего бояться, но теперь меня охватил такой страх, что в сравнении с ним
даже мстительные замыслы Елизаветы казались ничтожными. Слуги лорда
Бэрли сопротивлялись отчаянно, но тщетно, и вскоре злодеи повели всех нас
в примыкающий к дороге лес, где все, как и я, несомненно, ожидали
встретить смерть. Буря начала стихать, и луна временами просвечивала сквозь
скопление черных туч, окружавших ее. Пользуясь этими краткими
мгновениями, я пыталась разглядеть, нет ли поблизости человеческого жилья или
какой-нибудь иной надежды на спасение. Но тщетно я напрягала взгляд. Лес
плотной стеной окружал нас, и я утратила всякую надежду, как вдруг глаза
мои узрели — милосердный Боже! — наше Убежище! Да, хорошо знакомый
вход у подножия гробницы предстал моему взору, множество смутных
мыслей о спасении и опасности смешались в моей голове, и, когда разбойники
приблизились к носилкам, я вскрикнула и потеряла сознание.
Увы, сестра моя, вызови в памяти собственные чувства и представь себе
мои, когда я, открыв глаза, увидела большую комнату нашего Убежища,
комнату, некогда освященную молитвами отца Энтони и присутствием миссис
Марлоу, комнату, в которой прежде портреты родителей улыбкой дарили
мир и защиту своей — ныне безутешной — дочери: как ужасно все здесь
переменилось! Голые стены, испещренные множеством грубых и устрашающих
образов, давали лишь слабое представление о нынешних владельцах, на чьих
ожесточенных лицах мой испуганный взгляд не осмеливался задерживаться.
Видя во мне лишь случайную добычу, они были всецело заняты старым
лордом Бэрли, на котором, по-видимому, сосредоточился их особый интерес.
Я отвернулась от ужасного зрелища, призывая суровые тени дорогих мне
людей явиться и устрашить разнузданных негодяев, от чьих угроз и
кощунственной брани содрогались древние стены. Чтобы не видеть творящегося вокруг, я
опустила глаза, и вдруг взгляд мой упал на хорошо знакомый предмет. То
было кольцо миссис Марлоу, которым отец Энтони обручил тебя с лордом Лей-
стером, а я хорошо помнила, что кольцо было у тебя на пальце, когда мы в
последний раз расстались. Я поспешно нагнулась за ним и вблизи
безошибочно узнала оправу. Страшная догадка молнией озарила мой ум.
— Увы! Моя сестра и лорд Лейстер, как и я, пленники! — воскликнула я
неосторожно. — Я знаю, что они здесь! В какой темнице прячете вы их?
— Ваша сестра, прекрасная дама? — со зловещей усмешкой вопросил один
из злодеев. — Друзья, наш предводитель поблагодарит нас за такой подарок.
Не иначе, это та самая красотка, которую он так часто поминал, когда к нам
в руки попали давешние путники. Утешьтесь, госпожа, сестра ваша в
надежном месте и крепко связана.
Вся моя душевная мука не сравнится с тем, что я почувствовала в ту минуту.
— Моя сестра здесь в подземелье? — вскричала я. - О моя страдалица,
дорогая Матильда! Как сможет она, слабая, всегда беззащитная перед
жизненными невзгодами, а сейчас и вовсе беспомощная, перенести весь этот ужас?
Умоляю вас, господа, если есть еще в ваших сердцах хоть капля жалости,
отведите меня к бедной страдалице и дайте ей умереть у меня на руках!
— Все в свое время, девица, — отозвался разбойник с видом столь
угрюмым, что, даже охваченная мучительной тревогой, я принуждена была
умолкнуть.
Лорд Бэрли по-прежнему более всего занимал их, на него сыпались угрозы
и проклятья. Вдруг, в довершение всех ужасов, слуха моего коснулось имя
Уильямса. Это имя окончательно прояснило как прошлое, так и будущее, и
страх мой усилился тысячекратно. В безумном отчаянии я огляделась по
сторонам, ища средства убить себя, готовая в эту ужасную минуту, подобно
Порции, проглотить огонь, как вдруг громкий шум за дверью заставил всех
умолкнуть. Послышались пистолетные выстрелы, в комнату с грохотом
ворвались еще несколько разбойников, а следом за ними — какие-то незнакомые
люди, чей вид мгновенно убедил меня в том, что Небо посылает нам спасение
от мучителей, не столь противное природе человеческой, как то, на которое
толкало меня отчаяние. Последовала жестокая схватка, в которой наши
избавители одержали верх. Немедленно они принялись развязывать лорда Бэрли,
который, онемев от изумления, признал в них своих домашних слуг из
близлежащего Сент-Винсентского Аббатства, бывшего теперь, как я поняла,
одним из его поместий. Не менее поражены были слуги, обнаружив своего
господина в доселе не известном им подземелье. Я все поняла мгновенно: слуги
лорда Бэрли явно проникли сюда по подземному ходу, ведущему из
Аббатства, а припомнив, что Уильямсу он неведом, я уже не усомнилась в том, что вы
с лордом Лейстером смогли бежать через этот ход. Ошеломленная
счастливыми обстоятельствами нашего избавления, я почувствовала, что мне более
нечего опасаться, и видела в лорде Бэрли не стража, а лишь товарища по
минувшему несчастью. Я проворно поднялась и во главе толпы направилась в
келью, откуда открывался ход в Аббатство. Слуги, только что пришедшие
оттуда, следовали за мной в немом изумлении. Я увидела на полу веревки,
которыми ты и милорд были ранее связаны, и в радостном нетерпении
потребовала, чтобы слуги отвели меня к вам. Лорд Бэрли из моих бессвязных
радостных восклицаний понял то, что прежде я отказывалась сообщить ему: что
волею случая мы оказались пленниками в том самом месте, где ты и я росли и
воспитывались. Не замечая за собственными изъявлениями восторга
молчания окружающих, я радостно приветствовала вход в Аббатство, так долго
бывшее для нас счастливым приютом. О Небо, как жестоко эти радостные
чувства были растоптаны, когда слуги лорда Бэрли вновь схватили меня как
пленницу и приготовились увести в отдаленные покои Аббатства! Сердце мое
было удручено и сломлено страхом и тяжкими испытаниями, которые
непрерывной чередой следовали друг за другом, и я пала к ногам лорда Бэрли, не
пренебрегая изъявлением полной покорности и моля лишь о том, чтобы мне
дозволено было видеть тебя. Я напомнила ему о совместно перенесенных
опасностях и о том, что только ты могла открыть подземный ход, который
всех нас вывел на свободу. Я молила его помнить об этом, если он не имеет
намерения сделаться моим убийцей, не менее ужасным, чем те, от кого мы
только что спаслись. С холодной неумолимостью он отвечал, что мои
нечаянные признания заставляют его предположить, что от него еще многое скрыто,
и лишь когда я решусь быть искренней вполне, сможет он ходатайствовать
обо мне перед своей царственной повелительницей. Оторвав от себя мои
дрожащие и с каждым мигом слабеющие руки, он приказал слугам отвести меня
в комнату с решетками в конце восточного коридора. Ты, верно, помнишь эту
мрачную часть дома — полуразвалившуюся, опутанную плющом, в
окружении деревьев, растущих здесь с незапамятных времен, само средоточие
печали. Увы, я вселилась сюда словно воплощение печали. Едва только, обещая
надежность моего заточения, задвинулись тяжелые засовы, мои провожатые
нетерпеливо поспешили прочь, чтобы увидеть остальных домочадцев, узнать
новости. Мне в этом малом утешении было бессердечно отказано. Ты, что
несла мне и делила со мной печали, была так близко, но мне предстояло
печалиться в одиночестве, и воображение бессильно было представить, все ли еще
ты пленница, как и я, или вновь сумела бежать. Как ужасны смутные
подозрения растревоженного ума, когда не имеешь ни малейшего средства хоть в
чем-нибудь увериться! Бледные проблески луны, на миг заглядывая в келью,
тут же населяли ее смутными призраками... сердце мое билось с удвоенной
быстротой и силой... всю долгую ночь из коридора доносились отдаленные
звуки шагов, но направлялись они не ко мне. Погружаясь скорее в забытье,
чем в сон, я то и дело испуганно вздрагивала, когда моего слуха достигал
слабый отзвук голоса, который казался знакомым, но умолкал прежде, чем
память могла соединить его с определенным лицом; и хотя в уме моем
теснилось бесконечное множество образов и представлений, унылая обстановка
комнаты не явила мне ничего нового в занимающемся свете дня. Я видела,
как возвращались в свои привычные укрытия совы и летучие мыши. Луч
восходящего солнца на мгновение высветил мрачные и тесные пределы моей
тюрьмы. К этому времени я изнемогла душой и телом, разум словно окутал
туман, и, пробиваясь сквозь него, перед моим взором кружились, сменяя
друг друга, мимолетные образы, пока, сломленная усталостью, я наконец не
уснула.
Через некоторое время сон мой был прерван появлением служанки,
принесшей завтрак. Ее господин, сказала она, желает знать, не терплю ли я в чем-
нибудь нужды. Он сделает необходимые распоряжения, как только я сообщу,
чего недостает для моего покоя и удобства. Я выразительным взглядом
обвела комнату и поручила ей ответить одним словом: «Всего». Женщина
смотрела на меня с сочувствием, и, решив воспользоваться благоприятным
моментом, я вложила ей в руки свой кошелек, прося лишь сказать мне, что сталось
с лордом Лейстером и моей сестрой. С невыразимым облегчением я узнала,
что обоим удалось непостижимым образом еще раз скрыться и что
великодушная дочь лорда Бэрли содержится взаперти как их сообщница. Служанку
поспешно вызвали, и я вновь осталась одна, но полученное известие и
надежда на то, что милая Роз впоследствии, быть может, пожелает облегчить и мою
участь, придали новое направление моим мыслям, и я обрела мужество
восстановить прошедшие события и заглянуть в будущее.
Мне оставались неизвестны причины, побудившие лорда Лейстера и мою
сестру к столь поспешному бегству, но, судя по всему, это был отчаянный
шаг: на его внезапность и неподготовленность указывало само их намерение
искать приюта в Убежище. А вспоминая об опасности, грозящей Матильде в
ее положении, я преисполнилась к ней горячим сочувствием, которое
собственные горести и невзгоды так часто способны заслонить. Был ли в Сент-Вин-
сентском Аббатстве хоть малый уголок, сколь угодно мрачный, который не
напоминал бы мне о чистоте, доброте и благородстве сердца моей Матильды?
И, помня о них, как могла я усомниться в том, что, по какой бы причине я ни
оказалась покинута, это произошло не по твоей воле? Поверь, сестра моя, что
первая молитва в тюрьме, обращенная мною к Господу, была о твоей
безопасности.
Когда время и одиночество вернули мне душевное равновесие и
способность трезво оценить свое положение, я не увидела в нем явной угрозы. Даже
оказавшись жертвой страхов Елизаветы и политических козней лорда Бэрли,
я все же не могла видеть в них убийц и злодеев, а если так, то заточение было
единственное, чего мне следовало опасаться, и даже оно могло оказаться
недолгим, поскольку, несомненно, было и беззаконно и несправедливо. Ничья
злоба не могла обвинить меня в ином преступлении, кроме того, что я дочь
королевы Шотландии, но то была роковая правда, о которой Елизавета рада
была бы забыть, но которую никогда бы не пожелала обнародовать. Поэтому,
решившись терпеливо перенести наказание, которому меня столь
незаслуженно подвергли, я надеялась, что со временем смогу, ничем не запятнав себя, за-
нять подобающее мне положение. Дабы укрепить мой слабеющий дух, я
обратилась к примеру той, что подарила мне жизнь, и, быть может, смогла
бы сравниться с нею в стойкости, если бы не лелеемая мною мука, от которой
сжималось и кровоточило сердце. Эссекс, бывший мне дороже всех на свете,
мой верный возлюбленный, чьим пылким мольбам, чьим великодушным
предложениям я упорно противилась, когда встревоженная мысль его
дерзостно приподнимала завесу будущего и проникала в те многосложные
опасности, что последовали за нашим расставанием... Ах, что убережет его — когда
мое исчезновение обнаружится, — что помешает ему дать волю отчаянию
попранной и обездоленной любви? Если судьба воспрепятствует его встрече с
лордом Лейстером, как могу я надеяться, что он не обрушит упреки на саму
Елизавету, а кому, единожды вызвав ее гнев, удавалось избегнуть мщения?
Безвременная гибель моего прославленного отца, благородного Норфолка,
вспоминалась мне; тюрьма, мрачная башня, эшафот, топор палача,
окровавленное тело любимого, разбитое сердце — день за днем эти образы
нескончаемой чередой проходили перед моим мысленным взором, наполняя собою
одиночество, на которое я была столь несправедливо осуждена.
Вежливое обращение и усердие прислуги давали основание верить, что и
Елизавета, и его министр все же склонны соблюдать в отношении меня
определенные правила. Однако служанка, которая осмелилась ответить на мой
вопрос, была тут же изобличена слугами, стоявшими за дверью, а найденный у
нее мой кошелек с несомненностью установил ее вину. Разумеется, я ее более
не видела, а женщины, сменившие ее, были то ли слишком осторожны, то ли
слишком несведущи, чтобы отвечать на мои вопросы, даже если бы у меня
оставались деньги для подкупа.
Некогда я была столь привычна к одиночеству, что оно вскоре утратило
бы для меня всю свою тягостность, если бы им исчерпывались мои несчастья.
Не желая, однако, увеличивать их пустыми и бесплодными сожалениями, я
потребовала для себя книг, которые подкрепили бы и развлекли мой ум,
противопоставив таким образом мудрость веков тяготам настоящей минуты.
Часть своей пищи я уделяла птицам, обитавшим в ветвях за моим окном, и
тем собрала вокруг себя бессловесных друзей, которые более, чем те высшие
существа, что позволяют себе взирать на них с пренебрежением, способны к
благодарности и всегда отвечают привязанностью на добро.
Мое дремотное спокойствие вскоре было прервано приходом лорда Бэрли.
В учтивых выражениях опытного царедворца он похвалил то смирение, с
которым я подчинилась неизбежной судьбе, высказал восхищение тем, как
мудро я использовала время своего заточения для того, чтобы развить и
обогатить ум новыми знаниями, заверил меня, что в моем устройстве и
содержании значительно превысил полученные им приказания, но что доставленное
этой ночью письмо от королевы дает ему наконец возможность вернуть мне
свободу, которой по ее повелению он меня ранее лишил. Сердце мое
возликовало от столь нежданной перемены судьбы. Но он опередил изъявление
восторга известием, которое тяжким грузом обрушилось на меня:
— Не думайте, сударыня, что снисходительность Ее Величества ни к чему
вас не обязывает. Она пожелала, чтобы вы, если вам предстоит покинуть эти
стены, сделали это как жена лорда Арлингтона.
— Пусть же тогда эти стены станут моей могилой, милорд! — в
ожесточении воскликнула я. — Позор ей, бесчеловечному тирану, за такую
снисходительность!
— Умерьте свой гнев, — продолжал он прежним невозмутимым тоном. —
После вашей дерзкой попытки ввести ее в заблуждение с помощью
подложных свидетельств о невозможном браке и сомнительном рождении, вы
должны признать, что она обошлась с вами милостиво.
— Подложных свидетельств? — язвительно переспросила я. — Но тогда
отчего она их так старательно уничтожила? Однако старания ее, милорд, были
тщетны. Взгляните с небес вы, блаженные души тех, кто населял некогда это
благородное жилище, взгляни с небес, дорогая сестра убитого Норфолка,
взгляни с небес, свято чтимая миссис Марлоу, нежная наставница наших
юных лет, и ответьте, кому мы обязаны жизнью? Но зачем призываю я их
светлые души оттуда, где получили они свою заслуженную награду, зачем
призываю я их подтвердить права, которых не может уничтожить злоба
Елизаветы? О королева Мария, дорогая мать, которой я не знала, как
подтвердила бы любовь твоя правдивость слов гонимой дочери, если бы жестокость
тирана, творя двойную несправедливость, не разлучила в заточении мать и
дитя! Соедините же нас, и вы сами увидите...
— Я не уполномочен обсуждать столь деликатный вопрос, — прервал меня
коварный лорд Бэрли. — А вы, прежде чем предаваться необузданным речам,
подумайте, сколь роковыми они могут оказаться. Над головой королевы
Шотландии меч давно уже висит на едином волоске... Теперь это зависит от
вас. Хорошо обдумайте к нашей следующей встрече, кто вы и кем станете.
Произнеся эти зловещие слова, он поднялся и вышел. Я осталась одна. Что
чувствовала я в эту минуту? Я была потрясена, уничтожена; ужас, равного
которому я не знала никогда прежде, сковал мои члены и оледенил мысли.
«О Ты, — воззвала моя объятая ужасом душа, — единственный, чьей грозной
волею могла быть ниспослана эта мука, которой нет имени в человеческом
языке, дай мне силы вынести ее! Неужели я буду достойна зваться дочерью,
лишь отрекшись от всех прав на это имя? Матушка, моя прекрасная
царственная мать, даже под гнетом страданий сколько нежной заботы проявила ты
о своих несчастных детях! Ах, для того ли оберегалась их жизнь, чтобы
сократить твою?»
От этих мыслей я едва не утратила рассудка и решила скорее подчиниться
бесчеловечному повелению Елизаветы, чем еще хоть единый час мысленно
видеть чудовищную картину, подсказанную прощальным намеком моего
тюремщика.
Именно тогда, на этом роковом повороте судьбы, моя болезненно
разгоряченная кровь породила и взлелеяла ту непомерную возбудимость чувств,
которая с тех самых пор губительно сказывалась на уравновешенности и на до-
стоинствах моего характера. Кровь то кипела в моих жилах и, в соединении с
расстроенным воображением, населяла мир вокруг меня сонмами бессвязных
фантастических образов, на чьи голоса откликалось мое пылающее сердце,
то медленно отступала к жизненным органам, и тогда, казалось, сам процесс
жизни во мне замирал, я часами сохраняла ледяную неподвижность, и лишь
дыхание говорило о том, что я еще жива. Всякий раз, как приступ
возбуждения овладевал мною, ко мне возвращалось страстное желание спасти свою
мать. В этой смене мучительных состояний тела и души я прожила ужасные
сутки.
На другой день, в тот же час, что и накануне, лорд Бэрли явился вновь,
чтобы узнать мое окончательное решение. Я едва могла отвечать на его
вопросы, не в силах была оторвать взгляд от земли, где мне виделась лишь
могила; весь мой вид говорил о том, как я провела минувшие часы. Моя
безнадежная молчаливая покорность придала ему решимости. Он развернул и
начал читать какую-то бумагу. Это новое и неожиданное обстоятельство
пробудило мое внимание, и я безмолвно, ничего не видя вокруг, выслушала
невероятные, позорные измышления. Бумага, помнится, была озаглавлена
«Добровольное признание, сделанное Эллинор от своего имени и от имени ее сестры
Матильды». В ней говорилось, что «вскоре после того, как королева Мария
Шотландская испросила для себя убежища в Англии (под покровительством
своей сестры Елизаветы), она по различным политическим и честолюбивым
соображениям (как-то: на случай смерти своего единственного сына, что
лишило бы ее потомства, сделав необоснованными притязания на британский
трон наряду с троном покинутого ею королевства; а также дабы привлечь к
себе сочувствие тех вероломных подданных, под чьим надзором она
пребывала) решилась ложно объявить, что заключила брак с Томасом Говардом,
герцогом Норфолком, и при помощи и пособничестве его сестры, леди Скруп
(чей муж был назначен ее охранять), нескольких слуг-шотландцев, а также
некой Гертруды Марлоу (незаконнорожденной сестры лорда Скрупа)
вышеозначенная королева Шотландии притворно изобразила беременность, а со
временем — рождение двух дочерей, которые, при содействии
вышеупомянутых сообщников, тайно воспитывались означенной Гертрудой Марлоу до той
поры, когда Мария сочтет за благо публично объявить о них.
Многочисленные свидетельства были сочинены, составлены и заверены указанной группой
людей с целью узаконить по желанию королевы Шотландской упомянутых
выше тайно появившихся отпрысков под именами Матильда и Эллинор.
Оная Эллинор, поняв, с течением времени, этот искусный сговор и горько
раскаиваясь в оскорблении, чинимом Елизавете, королеве Англии, своей
законной повелительнице, от своего имени и от имени своей сестры Матильды
добровольно признает и торжественно подтверждает, что они не считают
себя рожденными вышеназванной Марией, королевой Шотландской, но имеют
основания верить, что родители их, люди низкого положения, побуждаемые
корыстью, навсегда от них отказались, предоставив вышеназванной королеве
Шотландии и ее сообщникам поступать с детьми как будет сочтено нужным.
Настоящее заявление сделано и подписано в месте, где, по признанию Элли-
нор, она и ее сестра были тайно выращены и воспитаны, а именно — в Сент-
Винсентском Аббатстве, поместье покойного лорда Скрупа, в присутствии и
проч.».
Закончив чтение этого ни с чем не сравнимого образца гнусности, он
призвал нескольких слуг и вложил в мою руку перо. Моя непокорившаяся,
возмущенная душа негодующе восстала против такого очернения и меня, и моей
матери — даже ради спасения ее жизни. Я хотела заговорить, но, прежде чем
мое горе и мой гнев обрели слова, он взглядом пригвоздил меня к месту и
поднес к моим глазам приказ — подлинный, составленный по всей форме, с
подписью и датой — о казни королевы Шотландии. Моя содрогнувшаяся душа
не вынесла этого ужаса. Я поспешно нацарапала и, выхватив из его рук
чудовищный приказ, который он держал передо мной, разорвала его в мелкие
клочки и рухнула на пол, содрогаясь от рыданий. Они были так бурны и
ужасны, что оставить меня одну было бы равносильно убийству. Слуги лорда
Бэрли, ухаживая за мной, проявили человечность, неведомую их господину.
Рыдания сменились лихорадочным бредом. Увы, в этом судорожном бреду я,
вне сомнения, непрестанно опровергала постыдный вымысел, который
скрепила своей подписью, ибо самые дорогие воспоминания неотступно
преследовали мой мятущийся, слабеющий рассудок. Мать, сестра, возлюбленный,
окровавленные, представали перед моим мысленным взором; смерть
являлась мне в обличий самых дорогих людей, а я тщетно молила ее принять мой
облик.
В изнеможении я, казалось, остановилась на самом краю могилы. Ах, если
бы я сделала этот последний шаг, от скольких мучений я была бы избавлена!
Заботами окружающих я оправилась довольно, чтобы подняться с постели;
тогда, объявив, что я вполне здорова, они оставили меня наедине с моими
мыслями — то была зловещая свита, сестра моя. Увеличивая мрачность этих
мыслей, воображение теперь представило мне мою судьбу в новом свете: что,
если это постыдное лжесвидетельство было исторгнуто у меня лишь затем,
чтобы опорочить сестру и меня самое? Эта мысль вела за собой другую, еще
более тягостную: что может помешать Елизавете положить перед несчастной
королевой Шотландии клеветническое заявление и тем нанести ей удар не
менее смертоносный, разве что более медлительный, чем тот, от которого
заявление ее спасло? И если так, то могла ли я надеяться, что когда-нибудь она
забудет и простит это позорное отступничество, на непосвященный взгляд
столь же необъяснимое, сколь и чудовищное? И наконец (о, горшее
несчастье!), не найдет ли королева удовольствия в том, чтобы уязвить возвышенную
душу Эссекса, явив его взору злосчастную возлюбленную, навеки
опороченную собственным признанием? Эти мучительные мысли и образы были
непереносимы для моего потрясенного рассудка, они исторгали у меня стоны и
вопли; недуг мой вернулся и едва не принес мне того избавления, которого я так
жаждала.
Направляемая тиранической волей, судьба теснила меня с обрыва, я стре-
мительно приближалась к краю пропасти, как вдруг возникло на пути
препятствие, внезапно остановившее меня. Я поняла, что, сломившись таким
образом под ударом судьбы, я оставлю позорное пятно на своем имени, вовеки
несмываемое, если же я останусь жить, то еще обрету возможность оправдать
свое намерение поступком, отсвет которого падет на меня и на тех, кто мне
дорог. По слабости, объяснить которой не могу, я вдруг оказалась готова
вынести скорее все тяготы длящейся жизни, чем мысль о безвестном конце и
бесславной могиле.
Мое здоровье, которому позже предстояли еще более тяжкие испытания,
не было непоправимо разрушено под влиянием случившегося, но
выздоровлению сопутствовали мрак и уныние, неизгладимые из моей памяти. Молчание
сделалось для меня не столько привычкой, сколько наклонностью, порой мне
казалось, что я утратила способность говорить. Новый визит лорда Бэрли
побудил меня собрать оставшиеся силы. С притворной жалостью глядя на мое
измененное страданиями лицо, он посетовал на тяжкую обязанность,
возложенную на него королевой. Я так давно была лишена сочувствия, что
малейший знак его вызвал у меня потоки слез.
— Несчастная девушка, — продолжал он, — во всем вам надлежит винить
себя самое. Выслушайте же то, что мне поручено вам сказать, и сами решите
свою судьбу. На чем бы ни основывалась связь между вами и королевой
Шотландии, надо ли говорить, что, проявляя должную заботу о себе и о мире и
покое Англии, моя царственная повелительница не может предоставить полную
свободу той, чья решительность и выдающийся ум существенно помогут
любому замыслу, участницей которого она станет. Но если принять во внимание
взаимную склонность вашу и графа Эссекса (который вызывает тревогу у
наиболее осмотрительных королевских советников своим честолюбием и
дерзким нравом, еще не подкрепленными какими бы то ни было воображаемыми
правами), то совершенно очевидно, что вам открыт лишь один путь к
обретению свободы.
При звуке дорогого мне имени, так давно не касавшегося моего слуха, все
чувства, медленно копившиеся в сердце, мучительным волнением сотрясли
все мое тело. Едва слышно я повторила это имя, но лорд Бэрли жестом
призвал меня к молчанию, и далее я лишь презрительным взглядом выражала
свое отношение к его речи.
— Не стану скрывать от вас, — вновь заговорил он, — что королева была
достаточно благосклонна к Эссексу, чтобы до поры относиться
снисходительно к такой ошибочности его поведения. Быть может, она положилась бы на
время в подыскании иной партии для вас, но этот нетерпеливый,
опрометчивый молодой человек...
Я молчала, сдерживая себя. Он бросил на меня внимательный взгляд и
продолжал:
— Видя, как тщетны его надежды отыскать вас (для чего, надо сказать, он
не пожалел ни угроз, ни просьб, ни денег, ни стараний), Эссекс окончательно
прогневил Елизавету, примкнув к заговору с целью освободить королеву
Шотландии. К счастью для моей царственной повелительницы, заговор был
своевременно обнаружен, изменники схвачены. Разумеется, гнев ее прежде
всего направлен против Эссекса, который был столь щедро ею взыскан. Так
как она убеждена, что единственная причина его мятежных действий
заключается в вас, то лишь избрав себе в мужья другого, вы можете спасти Эссекса
от искупления этих действий на плахе. Питая к нему сердечную слабость,
Елизавета все еще стремится сохранить ему жизнь. Признаюсь, по моему
крайнему разумению, самое надежное средство — самое лучшее...
— Ах, нет! — воскликнула я, мгновенно проникшись доводами, которые он
так искусно выстроил. — Пусть живет, хоть и не для меня! Даже Елизавете
ведомо милосердие — так я ли обреку его на смерть? Я ли лишу мир
несравненного украшения оттого лишь, что мне не дозволено владеть им? Я более не
потревожу ее сновидений. Я более не украшу его снов. Что значит имя,
которым я буду зваться те немногие дни, что остались мне в этом безрадостном
мире? Скажите мне, милорд, чем я могу спасти его?
— Те же причины, что побуждают королеву разлучить вас с графом
Эссексом, — заговорил коварный Бэрли, — не позволят ей выбрать вам в мужья
всякого другого человека, столь же честолюбивого и решительного. Но так
как она не имеет намерения совершенно унизить вас браком, то вестником ее
воли ко мне послан лорд Арлингтон. — Я содрогнулась при этом
невыносимом для меня имени. — Его ограниченные способности — одна из причин, по
которым выбор королевы остановился на нем: в них — залог ее безопасности.
Другая причина — его титул и состояние, поскольку этих благ она не
намерена вас лишать. Вы становитесь его женой, или он тотчас возвращается, и его
возвращение означает казнь Эссекса.
Моему рассудку — слабому, не окрепшему после болезни — недоставало
твердости, чтобы вникнуть во все причины и обстоятельства, направляющие
мои поступки. Увы, я не в силах была видеть свою судьбу иначе, чем
неразделимо переплетенной с судьбой моего возлюбленного. Повинуясь
великодушной безоглядности сердечного порыва, столь мне знакомой, он навлек
опасность на свою честь, свободу и жизнь. Быть может, эта опасность и
преувеличена (подсказывала мне осторожность), но — о! — если нет, если, побуждаемая
страхом и яростью, Елизавета пошлет его на плаху, как некогда моего отца за
преступление не более тяжкое... Моя израненная душа не в силах была
совладать с этой мыслью. Я вновь впала в беспамятство и бред. Фантазия наделяла
видимыми образами все лживые доводы, мне представленные: то и дело я
видела перед собой избранника моего сердца, судимого, приговоренного,
казненного; я орошала слезами обезглавленное тело, для меня по-прежнему
прекрасное, и лишь с трудом могла поверить, когда сознание мое прояснялось,
что он еще жив и судьба его еще зависит от моего решения.
Лорд Бэрли, не забывая о данном ему бесчестном поручении и устав
выполнять свои обязанности тюремщика, воспользовался болезненным
состоянием моего рассудка, чтобы добиться от меня покорности воле Елизаветы.
Меня освободили из заточения, и в присутствии капеллана и всех обитателей
дома лорд Арлингтон был мне торжественно представлен, контракты
подписаны, и совершилась краткая брачная церемония, во время которой я в
слезах перебирала в уме мысли, далекие от происходящего.
* * *
Обвенчанная, погубленная, уничтоженная, несчастная хозяйка пустынного
великолепия, где мой мысленный взор всюду различал следы священного
присутствия тех, кого нет более на свете, я знала в сердечной муке одно лишь
утешение: «Я умираю, чтобы Эссекс жил, я тяжко вздыхаю, чтобы он мог
дышать полной грудью». О эти вздохи! Казалось, они наполняют мраком и
скорбью самый воздух, в котором они растворялись. Лорд Арлингтон молчаливо
терпел это, не имея достаточно ума, чтобы или заглушить в душе своей
сожаления, или предаться им вполне. Наши мысли никогда не соприкасались, и
лишь поэтому я не ведала о катастрофе, которая, когда открылась,
сокрушила меня. Увы, сестра моя, по изощренной жестокости своей гонительницы,
наша мученица-мать взошла на эшафот едва не в ту самую минуту, когда я
опорочила тебя и себя, дабы спасти ее. Этот завершающий удар в череде
страданий и бед оказался слишком тяжел для моего рассудка: опасения и несчастья
следовали друг за другом с такой быстротой, что краткие промежутки между
ними лишь делали каждое новое еще более мучительным. За один краткий
месяц я была обманута, опозорена, принесена в жертву. Слезы горькой
жалости к себе смешивались со слезами дочернего долга и любви. Мысль об
Эссексе, неизгладимо запечатленная в моем сердце, удваивала тяжесть
страдания. Между тем лорд Арлингтон возвратился ко двору, и одиночество
принесло мне некоторое облегчение.
Я была оторвана от всех, с кем дотоле связывали меня узы природной
склонности; я дышала, но не жила; и глубокая меланхолия, завладевшая
моим рассудком, проникла мне в кровь, отравив ее. Чувства мои, в странном
помрачении и беспорядке, часто являли мне события и предметы, никогда не
бывшие, бесследно вытесняя те, что повседневно проходили перед моим
взглядом. Порой я замечала крайнее удивление слуг, когда заговаривала об
этих видениях, но чаще оставалась ко всему безучастной и бесчувственной.
Бывали мгновения, когда я словно пробуждалась от глубокого сна (а как
бездонно глубок сон души!), неуверенно осматривалась, что-то смутно
припоминая, одной рукой прикасалась к другой руке, пытаясь увериться, что я все еще
существую, вздрагивала от звука собственного голоса или, подняв
нерешительный взгляд к голубому небесному своду, смотрела на щедро сияющее
солнце как на нечто незнакомое и цепонятное...
Увы, сестра моя, не ищи более в этом печальном повествовании
спокойную и рассудительную Эллинор, какой ты некогда знала меня. Начиная с того
рокового времени, чувства, по остроте своей непереносимые и не
передаваемые словами, затмили все благородные свойства моего характера, часто
подменяя мгновенным порывом здравое суждение. Я осознавала помрачения сво-
его рассудка в тот самый миг, как они оканчивались, и стыд следовал за ними
по пятам, я же, таким образом, испытывала все страдания безумия и ясного
сознания.
Весна, обновляя всю природу, донесла свое благотворное веяние и до
моего увядшего сердца.
Непомраченные периоды сделались более спокойными и более частыми. Я
достаточно окрепла, чтобы выходить в сад, и, гуляя там, я постепенно
восстановила для себя всю роковую последовательность событий и свое нынешнее
положение и начала находить — или воображать — его менее невыносимым.
То, что я стала жертвой сговора Елизаветы и ее министра, было очевидно, но
я склонялась к убеждению, что лорд Арлингтон, слабый и бесхарактерный
человек, и без того уже наказанный такой женой, как я, не был соучастником
обмана. Я давно была предметом его устремлений, и он, совершая ошибку,
свойственную представителям его пола, не заботился о том, какими
средствами достичь желаемого — лишь бы обрести его. Но в своих слабых попытках
вернуться к жизни я нуждалась во всяческой поддержке и потому написала
лорду Арлингтону, заверяя его, что «наилучшим образом использую мой
проясняющийся разум, чтобы подготовить свое сердце к исполнению в будущем
тех мучительно тяжелых обязанностей, которые возложены на меня в
результате стечения роковых обстоятельств, но что столь трудная для меня задача
потребует большого терпения и снисходительности с его стороны». Я
заключила письмо изъявлением надежды, что «покой и уединение со временем
дадут мне силы встретить его с чувством менее ожесточенным».
С возвращением рассудка во мне ожили мои привязанности. Загадка твоей
и лорда Лейстера судьбы тщетно тревожила мое измученное воображение. В
письмо к лорду Арлингтону я вложила записку для леди Пемброк. Записка
содержала один лишь вопрос — о вас.
Отослав эти письма, я направила все свои помыслы на то, чтобы
исполнить обещание, данное в первом из них. Множество раз я на коленях молила
Господа укрепить меня в этих достойных чувствах, которые только Он один
мог мне внушить. Стремясь изгладить из памяти те человеческие действия,
посредством которых осуществлялась Его воля, восприняв происшедшее
лишь в свете Его воли, я старалась кротко подчиниться ей. Увы! Ответное
письмо леди Пемброк до основания поколебало все мои благие решения.
Изумление, ужас и любовь ко мне звучали в каждой строке письма. С
пылким нетерпением она жаждала новых вестей обо мне и о тех событиях,
которые непостижимым образом вновь привели меня в Сент-Винсентское
Аббатство и там побудили вступить в столь невероятный брак.
Из ее письма я наконец поняла отчасти причины, вызвавшие твое
внезапное исчезновение. Я также узнала, что ты благополучно достигла Франции,
судя по известиям, полученным от тебя многими друзьями, как вдруг (по
словам леди Пемброк) всякая переписка прекратилась и многочисленные
попытки возобновить ее лишь увеличивали печаль и недоумение твоих друзей. Она
также писала, что Ле Валь, выполняя распоряжение, оставленное его госпо-
дином, поспешил в Кенильворт, а оттуда — в Убежище, вход в которое
обнаружил открытым настежь, и убедился в том, что господин его там побывал.
Не получив никаких иных сведений, он возвратился в Лондон, чтобы там
ожидать дальнейших указаний лорда Лейстера, но, не дождавшись их,
встревоженный этим непонятным молчанием, преданный слуга отправился к себе
на родину на поиски своего господина. Однако страх и горе надломили его
сердце, тяготы морского путешествия обострили нездоровье, и он умер, едва
успев сойти на берег. Она писала, что и старания других посланцев, как и все
старания ваших друзей, были столь же безуспешны, хотя многим удалось
проследить ваш путь до Руана. Тайна того, что случилось с тобой, так и
осталась неразгаданной, хотя все поверили, что лорда Лейстера более нет в
живых. Сообщали, что он скончался на пути в замок Кенильворт, что там тело
его было выставлено для прощания, а затем захоронено в Варвике. И хотя
сообщению этому, казалось, поверили, так как оно подтверждалось доверием к
нему королевы, у друзей и родственников графа возникли сильнейшие
сомнения, когда она присвоила замок Кенильворт и разнообразное имущество
Лейстера якобы в возмещение причитающихся ей сумм — настолько это
поведение противоречило ее многолетней благосклонности к нему. Наконец,
подкупив слуг, занятых разглашением помпезного вымысла о похоронах,
родственники получили не вызывающее сомнений известие, что тело, преданное земле
под именем лорда Лейстера, было специально добыто для этой цели.
Потрясенная до глубины души этим загадочным, всколыхнувшим мое
сердце рассказом, я тщетно пыталась уяснить его себе. Не оставалось
сомнений в том, что лорд Лейстер скончался, но когда, где и как — невозможно
было вообразить. Однако поступки королевы доказывали, что она вполне обо
всем осведомлена. Ах, где же тогда моя Матильда? Где та, что более
несчастна, чем я? Сопоставив обстоятельства, я пришла к убеждению, что твоя
смерть, случись она, также получила бы огласку, но что, по какой-то
неизвестной случайности, тебе довелось пережить своего супруга, и это внушило
мне мысль, что ты и твоя скорбь похоронены заживо в каком-нибудь
французском монастыре, но почему похоронены там же известия о тебе,
отсутствие которых терзает столько любящих сердец? Увы, дорогая сестра моя, год
за годом тщетно повторяла я про себя исполненный любви призыв: «Явись,
молю тебя, если обитаешь ты еще в этом мире, и успокой тревогу любящего
сердца! Если же ты отошла в лучший мир, но хоть что-то осталось дорого
тебе в мире подлунном, о, подай мне знак о себе!»
Как часто глухой полночью, когда счастливцы предаются сну, я взывала к
тебе, побуждаемая любовью, не знающей страха! Но все было объято
ужасным безмолвием, ничей голос не отвечал мне, ни единый образ не возникал в
непроглядной тьме, где теряется взгляд. Но эти дни, прошедшие в
неопределенности и неведении, были не напрасны — они незаметно побуждали к
действию ту, на ком лежал долг разъяснить все сомнения.
* * *
Я видела во сне Эссекса... Ах, что я говорю? Я видела во сне Эссекса?..
Увы, я вижу его в моих мечтах всю жизнь!.. Что-то непонятным образом
вторгается между мною и смыслом моих слов... Все равно... Мой разум сейчас
бессилен, и я не могу этого объяснить.
* * *
О, эти жестокие помрачения мысли!.. Но я не решаюсь даже попытаться
исправить или избежать их, боюсь, что при этой попытке разум покинет
меня, что одно неосторожное усилие лишит смысла весь мой рассказ.
* * *
Увы, леди Пемброк, как решились вы сообщить мне, что лорд Эссекс
женат? Да еще на леди Сидней! Боже милосердный! Так я погубила себя лишь
для того, чтобы увенчать дни ее жизни ни с чем не сравнимым счастьем! При
этой мысли неодолимая страсть рушит слабые преграды разума и религии,
сметая все прочие горести и печали. Моя мать... сестра моя... Увы, эти
привязанности, столь драгоценные, столь священные, лишь пополняют собою
поток, в котором исчезают.
Прочь, мучительные чувства! Я слила их, Матильда, в один тяжкий вздох.
Ах, верно, в этот миг и сердце мое невзначай рассталось со мной и на месте
его осталась такая пугающая бездонная пустота. Да, сестра, Эссекс женился —
тот самый Эссекс, ради которого я перенесла муку, горшую смерти, женился
тайно; святой и нежный союз был украшен всеми достоинствами, кроме
чести; из-за леди Сидней он навлек на себя гнев мстительной королевы... Боже
милосердный, благодарю Тебя за эту мысль — это случилось не из-за меня.
Нет, я умирала, сердце мое изнемогало вдали от самого вероломного и —
ах! — все еще самого любимого мною... Эта мысль несет мне странное
утешение — лучше мне было умереть, чем бросить тень на это лучезарное солнце, к
которому не должен более обращаться мой потухший взор.
* * *
Я вижу, что в чрезмерных красках расстроенного воображения уже
открыла тебе ту правду, от которой едва не разорвалось мое сердце, — этим
оглушающим известием заканчивалось второе письмо леди Пемброк. Какой
глубокий и ужасный след оно оставило! Спокойствие, здоровье, рассудок —
все рухнуло под этим ударом. С несчастьями, которые несет судьба, как бы
тяжки они ни были, природа наша постепенно смиряется, но, о, когда стрелы
бедствия оперяет любовь, а ядом напитывает дружба, раны от них загнивают.
Мысль об обмане, неблагодарности и злобе возмущала и преследовала меня
постоянно. Все это погрузило меня в новую ледяную ночь, которая
растянулась на несколько долгих месяцев. Очнувшись от нее, я словно переродилась.
Вместе со спокойной рассудительностью я утратила всю мягкость характера.
Месть стала единственной опорой моего существования, и я начала втайне
вынашивать свой план задолго до того, как приступила к его осуществлению. Не
удивляйся этой перемене, сестра: несчастья служат смягчению сердца, от
обиды же оно ожесточается. Как странно, что мы мгновенно усваиваем тот
порок, от которого пострадали!
Лорд Арлингтон ранней весной вновь приехал в Сент-Винсентское
Аббатство. Так как негодование мое было обращено на дорогого мне, далекого
Эссекса, я проявляла к лорду Арлингтону, когда бывала властна над своим
рассудком, грустную учтивость, отчего он решил, что разум полностью вернулся ко
мне, и предложил взять меня с собой в Лондон, когда необходимость вновь
призовет его туда. Я с готовностью согласилась, ибо к тому и намеревалась
направить свои усилия. Моя неожиданная уступчивость представлялась лестной
этому до крайности самовлюбленному человеку: радуясь результату, он не
задумывался о причинах. Мне нетрудно было убедить его, что приличия
требуют, чтобы я была представлена ко двору, и он взялся сам ходатайствовать об
этом перед Елизаветой. Леди Пемброк, изумленная всем, что слышала и
видела, упорно противилась плану, в котором было так много тягостной неясности.
Но лорд Арлингтон жаждал унизить Эссекса и единственную возможность
видел в том, чтобы явить перед ним предмет его страстной привязанности — ту,
что была роковыми обстоятельствами разлучена с ним и, в силу обстоятельств
еще более злосчастных, сделалась леди Арлингтон. Мое желание сообщилось
ему в такой степени, словно возникло у него самого. Королева, как я и
предвидела, выслушала это пожелание с удивлением и презрительно в нем отказала,
но очень скоро ей пришлось убедиться, что я могу успешно направлять даже
глупца, выбранного ею мне в мужья. Он стоял на том, что удалится от
королевского двора, если ему будет отказано в торжественном поздравлении, на
которое дает право его титул. Спокойствие Елизаветы уже так сильно
зависело от него, что она не решалась явно восстанавливать его против себя и,
опасаясь, что мрачная история, скрытая в душе моей, будет явлена всему свету,
если она станет упорствовать в своем неосмотрительном отказе, наконец с
великой неохотой согласилась принять меня. Я услышала об этом со злобным
удовлетворением, прежде мне совершенно чуждым, и стала обдумывать свое
мрачное торжество, которое так долго готовила.
Я несколько раз откладывала свое появление при дворе до той поры, пока
лорд Эссекс не возвратился от войска. Увы, всеобщая радость, вызванная его
возвращением, усилила мою глубокую и все возрастающую враждебность.
Отличенный той же благосклонностью Елизаветы, что некогда и твой супруг,
сам удостоившийся многих почестей и способствовавший тому, что их
добывали другие, Эссекс вел себя столь благородно, что был любим даже теми,
кому не оказал услуг, те же немногие счастливцы, что были удостоены его
доверия, видели в нем существо высшего порядка. Я, я одна дерзала молчаливо
ставить под сомнение его великодушие, его честь, его моральные принципы.
Измученная повсеместным и бесконечным обсуждением его достоинств, сама
не решаясь вымолвить на эту тему ни слова, дабы оно не превратилось в стон,
я часто делала вид, что разговоры эти мне досаждают. Лорд Арлингтон
усмотрел в моих проявлениях досады знак того, что моя былая пагубная страсть к
его сопернику погасла и я подобающим образом признаю те права, которые
сам он на меня возымел. В восторге от этой мысли, лорд Арлингтон стал
щедро одаривать меня драгоценностями и иными украшениями, и то
спокойствие, с которым я готовилась к появлению при дворе, усыпило все его
подозрения. Увы, пока меня убирали дорогими украшениями, выбранными для этого
торжественного случая, я со злорадным удовольствием отмечала
разрушительный след, который горе успело оставить в моих чертах, осанке и фигуре:
лицо стало бледным, осунувшимся, изможденным, болезненную худобу тела
не мог скрыть никакой наряд. Я знала, однако, что люди, видевшие меня изо
дня в день, могли обманываться, представляя эту бледную тень взору того,
чье пылкое сердце некогда могло расцветить еще более живыми красками
облик, и без того щедро украшенный природой, юностью и надеждой... О, я
хорошо знала, какой глубокий, нескончаемый укор может вместить в себя
единственный взгляд!
Я вступила в Приемный Зал с видом столь решительным, величавым и
спокойным, что сама тому подивилась. Сердце мое мгновенно отыскало того
единственного, к кому влеклось. Эссекс стоял, опершись одной рукой на
спинку королевского кресла, в той же весело-непринужденной, изящной позе, в
какой, на моей памяти, часто стаивал лорд Лейстер. На нем был сверкающий
великолепием наряд воина. Лицо его (о, это роковое для меня лицо, которому
суждено было разрушать в прах равно мои мудрые и ошибочные решения!)
светилось обаянием юности, любезности, гордости и удовольствия. Взгляд его
прекрасных глаз, легко переходя с предмета на предмет, остановился
наконец на мне — воистину остановился — так глубоко и беспощадно отозвался в
нем этот взгляд. Его речь, обращенная к королеве, оборвалась на полуслове,
дрожащие губы бессвязными звуками силились дать выход невыразимой
боли. Удивление, нежность, скорбь — ах! более чем скорбь, — мука погасили
счастливое сияние этого лица и мгновенно заволокли взор слезами. Не помня
более, где он, забыв королеву и придворный круг, он шагнул вперед и, уже
преклоняя колено, вдруг опомнился, почувствовав неуместность этого жеста,
и кинулся прочь. Вместе с ним меня покинули остатки моего затуманенного
разума, который так упорно побуждал меня к этой странной мести. Позже
мне рассказали, что я позволила подвести себя к креслу королевы и, когда
она, по установленному обычаю, протянула мне руку для поцелуя, я
надменно оттолкнула эту руку, устремила на нее тяжелый, изобличающий взгляд и,
издав глухой стон, без чувств упала к ее ногам. Елизавета вскочила в крайнем
негодовании, выбранила лорда Арлингтона сумасшедшим не лучше меня за
то, что он навязал ей мое присутствие, и поспешно удалилась в свой кабинет.
Изумленный моим столь неожиданным поведением, он не более, чем я, спосо-
бен был рассуждать здраво, но вскоре пришел в себя настолько, что внял
совету друзей — попытаться умилостивить королеву, а меня препоручить
заботам окружающих. Только благодаря этому он не стал свидетелем сцены,
глубоко поразившей всех присутствующих. Мои друзья сочли наиболее удобным
перенести меня по центральной галерее. В комнате, ведущей в нее, сидел на
кушетке мой несчастный возлюбленный, пришедший сюда, чтобы вдали от
людских глаз оправиться от удара, который я с таким жестоким
удовлетворением нанесла ему. Движимый предчувствием, он поднялся навстречу
приближающейся толпе людей, повинуясь порыву, растолкал их, властно выхватил
меня из их рук, опустил на кушетку и, упав рядом с ней на колени, пытался
потоками жгучих слез и объятиями пробудить к жизни мои чувства,
скованные хладным сном. Он называл меня своей нареченной, своей любовью,
бесценной, загубленной Эллинор.
— Во всем этом кроется какая-то темная интрига, какое-то дьявольское
злодеяние! — воскликнул он, надменно выпрямившись и обводя всех
пылающим взором, грозно отыскивая среди них того, кто, к счастью для себя,
отсутствовал. — О, если только я прав, те, что разлучили нас, от меня не уйдут!
В этих неосторожных и малопонятных восклицаниях раскрылось главное
из несчастной истории нашей любви, и лишь я, все еще в бесчувствии, не
слышала знакомого голоса, который когда-то надеялась слышать до последнего
дня моей жизни.
Эта сцена, которая с каждой минутой могла стать роковой, была наконец
прервана появлением леди Пемброк. Проницательный ум этой
замечательной женщины с самого начала усмотрел в моем желании появиться при дворе
(хотя мотивы мои были от нее скрыты) порождение нездорового рассудка:
она тщетно пыталась просьбами и уговорами побудить меня отказаться от
своего намерения, но, видя, что план этот одинаково привлекателен для
лорда Арлингтона и для меня, перестала говорить на эту тему, но сопутствовать
мне отказалась и, страшась чего-то непредсказуемого и странного, удалилась
в свои покои во дворце, чтобы там в тревоге ожидать исхода событий.
Известие о том, что я напугала королеву и вызвала переполох среди придворных,
тотчас достигло ее.
Как ни оскорблена была она моим упрямством, случившееся потрясло ее,
и она не раздумывая кинулась мне на помощь, чтобы оберечь и спасти, если
удастся. Пробившись сквозь толпу, которая вследствие безудержных
любовных сетований лорда Эссекса продолжала расти, она узрела меня в его
объятиях и услышала его жалобы. Изумление лишь на короткий миг отвлекло ее
спокойный и уравновешенный ум.
— Что делаете вы, милорд? — вопросила она с видом, даже его
заставившим опомниться. — Разве так надеетесь вы вернуть бедняжке чувства и
разум? Проявите должное уважение к ней и к себе самому и предоставьте мне
всю заботу о ней.
Не уступая ни мольбам его, ни гневу, она приказала своим слугам нести
меня в ее барку и сама последовала за мной. В полном отчаянии Эссекс на-
сильно удержал ее, умоляя позволить ему оставаться при мне. С
достоинством, которое неизменно отличало эту превосходную женщину, она сурово
выговорила ему за его поведение, не менее безумное, чем мое, хотя и гораздо
менее извинительное, и призвала своего супруга внимательно присмотреть за
ним.
Женщины, сопровождавшие меня в барке, брызнули мне в лицо холодной
водой — это и свежий воздух постепенно вернули мне ощущения, так долго
погруженные в сон, что они казались навсегда утраченными. Я с трудом
приподняла голову с груди леди Пемброк и некоторое время не могла понять, где
я и как здесь оказалась. Тысячи мрачных сомнений одолевали меня, и
наконец, найдя облегчение в потоке слез, я смогла обратиться мыслями к
действительности. Леди Пемброк, видя, что я в состоянии слушать ее, избавила меня
от необходимости спрашивать о случившемся, рассказав мне, что произошло,
и сопроводив рассказ замечаниями, продиктованными просвещенным умом и
любящим сердцем. Лихорадочное возбуждение не владело мною в эту
минуту, и ее мягкие порицания нашли во мне должный отклик.
— Оглянитесь на весь свой безумный замысел, моя дорогая Эллинор, —
сказала она, — и, я думаю, вы согласитесь со мной, что он воистину безумен.
Королева (недосягаемая для вашего мщения в этом мире) может жестоко
отплатить любому из тех, кто вам дорог, за мгновенную тревогу и неприятность,
причиненную ей вами. Вы сорвали с глаз благородного Эссекса повязку,
которая сохраняла и его и вас от опасности. До этой минуты я позволяла вам
верить, что он обманщик и виноват перед вами, лишь потому, что в вашем
положении гнев куда менее опасен, чем любовь. Душа его вновь пробудилась, и
я напрасно пыталась бы скрывать правду от него или от вас. Он настоит на
том, чтобы его выслушали, он даже настоит на том, чтобы видеться с вами,
если пылкой решительности его нрава вы не противопоставите самое суровое
благоразумие. Увы, милый друг мой, какая мучительная борьба предстоит
вам! Борьба, от которой пожелала бы уклониться даже сильная, еще не
испытанная горем душа... Как же ваш надломленный дух...
— Не бойтесь за меня, моя добрая бдительная наставница, — сказала я,
обретая мужество перед лицом опасности. — Душевная борьба суждена мне от
рождения, и, мне кажется, лишь в умственном напряжении этой борьбы я
черпаю силы для существования. И хотя, вместе с вами, я горько сожалею о
неодолимом упрямстве, которое так далеко завело меня, поверьте — мне
легче будет стерпеть любое несчастье, которым может грозить оправдание
Эссекса, чем сгибаться под тяжким бременем его предполагаемой
неблагодарности. Ко всякому другому горю я привыкла готовить свое сердце. Это
сердце, взлелеянное слезами и нежностью, оказалось во власти невоздержанности
и безумия лишь тогда, когда источники эти иссякли. Ах, дайте же вновь
пролиться потоку радости! Скажите мне, что Эссекс невиновен, что он не
переменился! Скажите, что он прежний, несравненный Эссекс, которого
боготворило мое юное сердце! Словом, скажите мне всю правду, и вы увидите, что мое
спокойствие будет достойно вашего доверия.
— Как мало оснований для такой уверенности дают мне эти пылкие
восклицания, эти бурные слезы, этот жаркий румянец, — печально заметила
добрая леди Пемброк. — Будь на то моя воля, я все же предпочла скрыть от вас
правду, но, открывая ее теперь, я лишь опережаю того, кто, нежностью
добившись заслуженного оправдания, вернул бы себе место в вашем сердце и тем
безвозвратно разрушил бы ту малую долю покоя, что Небо даровало вам.
Тяжелое состояние моего здоровья в то время, когда вы сами и ваша
сестра так необъяснимо исчезли из Лондона, заставило моего мужа с великим
тщанием оберегать меня от всяких известий об этом. Поначалу тревога
возникла у меня в связи с неожиданным возвращением и постоянными
визитами графа Эссекса. Они часто приходились на странное и неподобающее для
визитов время и обычно начинались или заканчивались секретными
разговорами наедине. Продолжение такого неуместного поведения и тогда, когда я
была уже в состоянии выходить из своих комнат, внушило мне неприязнь к
вашему поклоннику, которую я не скрыла от супруга. Он объяснил и
извинил поведение Эссекса его несчастьем и тем самым дал мне повод для
подробных расспросов, которые вскоре вынудили его открыть мне всю правду.
Увидев, как тяжело подействовал на меня его рассказ, лорд Пемброк
порадовался, что все это время скрывал от меня происходящее. Тревога и
привязанность вскоре помирили меня с Эссексом, и его заботы стали близки мне.
Надежда отыскать вас завладела нами безраздельно. Каждый день рождал
новые планы. Сколько разочарований постигло нас! Но неуемность его
воображения могла сравниться лишь с жаром его сердца, никакие трудности не
обескураживали его, и, принимая все фантастические планы Эссекса, я
поощряла его упорство, с радостью раздувая пламя, которое благоразумие
скорее требовало умерить. Пришла счастливая весть о лорде Лейстере и
Матильде, которая в нас обоих оживила надежду. Охотно разделяя иллюзию,
которой он тешил себя, я предсказывала, что ему суждено возвратить вас
благородным изгнанникам и, испросив вашей руки, соединиться с ними в
общей счастливой судьбе.
Романтический героизм, присущий его характеру, побуждал его с
готовностью отдаваться этим приятным заблуждениям, как вдруг до нас дошло
странное известие, что вы вступили в брак с лордом Арлингтоном в
присутствии лорда Бэрли и оставлены им в Сент-Винсентском Аббатстве. Эссекс с
большой горячностью утверждал, что непоколебимо полагается на вашу
верность данному обещанию, и готов был незамедлительно мчаться туда, где,
согласно слуху, вы находитесь. Бледность, покрывшая мое лицо, была укором
его нерассуждающей уверенности. Упоминание о лорде Бэрли, то, что лорд
Арлингтон недавно покинул королевский двор, интуитивное чувство, которое
выстраивает и сочетает тысячи важных мелочей, складывающихся в
печальную уверенность задолго до того, как мы можем высказать суждение,
говорили мне, что слух правдив. Лорд Пемброк вызвался пойти к министру и тем
разрешить все сомнения. Мы охотно согласились, и, пока он отсутствовал,
Эссекс в волнении шагал по комнате, находя все новые и новые доводы в под-
держку своего мнения; между тем само усердие, с которым он подыскивал
эти доводы, указывало на тайные опасения. Наконец лорд Пемброк вернулся
и подтвердил роковое известие, добавив, что лорд Бэрли показал ему
брачный контракт, подписанный обеими сторонами. Что была бледность моего
лица в сравнении с той, что покрыла цветущее лицо вашего возлюбленного при
этом бедственном подтверждении! Его душевная борьба вместила все
смертные муки, кроме облегчения, даруемого смертью. Речь вернулась к нему,
бледность сошла с лица; оно теперь пылало негодованием, губы дрожали от
горя и обиды. Он стремительно вышел, а мой муж, чье внимание и забота в
эту минуту были направлены на то, чтобы утешить меня, не сразу заметил
уход нашего друга. Увы, могли ли мы предположить, какая судьба, какая
злосчастная судьба ожидает его?
Покинув так поспешно наш дом, лорд Эссекс тотчас направился в дом
сэра Фрэнсиса Уолсингема, где застал только леди Сидней, которая втайне
была столь же чувствительна к его достоинствам, как прежде к достоинствам
моего брата, и встретила равно с удивлением и радостью. Не входя ни в какие
объяснения, он с пылким нетерпением тут же просил ее руки. Ее возражения
ясно показывали, что она лишь ждет настойчивых уговоров, но он не желал
слышать ни о каких колебаниях и отсрочках. Был срочно призван его
капеллан, и брачная церемония, почти столь же внезапная и малолюдная, как
ваша, состоялась. Ах, эти два роковых брака, начавшиеся и кончившиеся в
слезах! Известие это обрушилось на нас поутру. Лорд Пемброк был ошеломлен.
Я просила его поспешить к несчастному новобрачному и постараться
примирить его с тем бедственным выбором, который он так безоглядно сделал,
чтобы неосторожным проявлением сожаления или разочарования он не
пробудил этот разнузданный нрав, от которого даже философское спокойствие
моего снисходительного брата сменилось отвращением. Мы слишком хорошо
знали, что пылкая душа Эссекса взбунтуется против такого рабства, сколь бы
добровольно он его на себя ни навлек.
Презрение и холодность, которые лорд Пемброк и я всегда выказывали
этой высокомерной женщине, впервые внесшей разлад в нашу семью,
известную своей сплоченностью, делали это поручение нелегким. Исполнить его
можно было лишь во имя дружбы. Время, которое мы потеряли, пытаясь
подчинить свои чувства необходимости проявить снисходительность, лишило
поручение всякого смысла. Милорд застал сэра Фрэнсиса в растерянности и
недоумении и узнал, что дочь его в истерическом припадке, а лорд Эссекс
исчез. Не в силах совершенно скрыть гнетущую его тоску и льстя себя
надеждой, что благородная откровенность по отношению к молодой жене со
временем скрепит их союз, Эссекс вполне открылся ей. В эту минуту ей не хватило
благоразумия заглушить в себе ту смертельную ненависть, что она питала и к
вам, и к вашей сестре. Опечаленный Эссекс, искавший сочувствия, а не
страсти, неосторожно защитил ту, кого так безоглядно обличал. Мстительный
характер его жены проявился во всей мелочной низости, и ссора приняла такие
размеры, что рано утром он приказал седлать лошадей и, объявив жене, что
«в ней его ошибка и его наказание», собрался в путь, на прощание с горечью
заметив, что «во всем повторяет судьбу сэра Филиппа Сиднея». Такой укор не
мог не задеть даже самого черствого сердца — с леди Эссекс сделалась
истерика. Невзирая на это, ее супруг сел в седло и умчался прочь с такой
быстротой, что вскоре был уже недосягаем и для друзей, и для врагов.
Королева, которая с каждым днем становилась к Эссексу более
благосклонна, чем была некогда к его предшественнику, постепенно позволила ему
занять и в своем сердце, и при дворе место лорда Лейстера. Многие считали,
что она намеревается вступить с ним в брак, и та ярость, которую вызвал у
нее этот его шаг, придала убедительности такому ни с чем не сообразному
предположению. Одинаково негодуя на его поспешный брак и внезапный
отъезд, она отлучила от королевского двора его жену. Не избежал порицания и
сэр Фрэнсис, хотя ничем его не заслужил.
Эссекс вскоре снарядил несколько кораблей и с ними присоединился к
Дрейку и Норрису. Слава делала Эссекса ото дня ко дню все более дорогим
сердцу Елизаветы, и она, с трудом соблюдая видимость неудовольствия,
которое он, по ее мнению, заслужил своим сумасбродством, изнывала в ожидании
его возвращения.
Через короткое время мы получили письма от Эссекса, в которых он
признавал, что брак его был шагом безрассудным и что, не желая краснеть за
него в нашем присутствии, он отправился в добровольное изгнание. И хотя
гордость побуждала его отзываться о вас в язвительной манере, из общего тона
письма было очевидно, что он покинул Англию столько же для того, чтобы
не видеть вас, сколько и для того, чтобы не жить рядом с женщиной, которой
сам предоставил законное право делать его несчастным. Великодушная
забота, которую он проявил о вашей сестре, даже при этих обстоятельствах
направив сэра Уолтера Кертиса во второй раз в Руан с поручением не жалеть ни
трудов, ни денег, чтобы разыскать Матильду, была еще одним примером
благородства натуры, которое украшало собой даже его ошибки. Направляя свои
помыслы к более высоким целям, чем любовь, он всеми силами старался
заполнить пустоту — ту мучительную пустоту, — что оставила в его сердце
поруганная страсть.
От природы бездействие было ему чуждо, и скоро его дерзкая отвага
обратила к нему мысли всей нации. Елизавета, хорошо знавшая, что источник его
нынешних отважных предприятий — разочарование и отчаянье, мгновенно
смягчила свою показную суровость и вновь призвала его ко двору. Мысль о
возвращении все еще была ему отвратительна, он медлил, и лишь властный
приказ королевы вынудил его вернуться. Когда со дня на день ожидали его
приезда, я получила ваше первое письмо. В нем ничего не говорилось ни о
вашем истинном положении, ни о причинах столь странного поступка, как ваше
согласие на брак с лордом Арлингтоном. Ваше долгое молчание, туманное и
лаконичное письмо и мое величайшее желание вернуть душевное
спокойствие вам и вашему возлюбленному, хоть в счастье вам и отказано судьбой, —
все это заставило меня решиться показать ему письмо, где не было ни едино-
го упоминания не только его имени, но и того, что с ним связано. Случай
вскоре представился, и я убедилась в правильности своего решения. Лорд Эссекс
читал в безмолвном изумлении, и убеждение, которое он вынес из
прочитанного, произвело разительную перемену в его образе мыслей и в манерах. Ни
следа уязвленной гордости, страсти, разочарования с этой минуты не
оставалось в его поведении. Сразу примирившись со своей судьбой, он использовал
во благо расположение королевы и принял решение жить с женой достойно,
если уж не счастливо. Никогда более я не слышала, чтобы он произнес ваше
имя. Я верила, что он изгнал его и из своего сердца, и, видя, как преуспела я в
своем замысле с одним из вас, я решилась прибегнуть к нему и по отношению
к другой. Когда вы поведали мне о жестоком обмане, посредством которого
лорд Бэрли воздействовал на ваши чувства, разумно ли было бы сообщать
вам, что Эссекс не участвовал ни в каком заговоре, не был заточен в тюрьму
и тем более осужден? Убежденность в том, что вы принесли себя в жертву
ради Эссекса, который явно не оценил этого, исключала всякую возможность
объяснения или даже просто беседы между людьми, столь справедливо
почитавшими себя глубоко оскорбленными друг другом. Каково же было мое
огорчение, когда по приезде вашем в Лондон я увидела, что вы заботливо
лелеете некий тайный план, который угрожает целиком разрушить мой! Видя,
что все мои советы напрасны, я сочла за благо предоставить вам решать по-
своему в надежде на то, что ваша природная мягкость возобладает над
болезненно-раздраженными чувствами. Увы, моя дорогая, этот роковой день
показал мне, как непоправимо я ошиблась, как много ран предстоит вам теперь
нанести благородному сердцу Эссекса! Терзаемый муками несчастной,
загубленной любви, мелочными подозрениями своей неумной жены и
высокомерным надзором королевы, он будет с этого мгновения лишен в своей жизни
покоя, как давно уже лишен надежды.
Нежная забота, которой было продиктовано это позднее признание, как и
сокрытие правды, грустное пророчество, которым заключила свой рассказ
леди Пемброк, глубочайшим образом подействовали на меня, вызвав поток
слез, к великому облегчению моего сокрушенного, выжженного страданиями
сердца.
— Нет, мой великодушный, добрый друг, — ответила я тоном более
спокойным, чем могла ожидать леди Пемброк. — Я не могу ложно истолковать
поведение, которое всегда проистекало из благороднейших намерений, и,
явив передо мною в истинном свете побуждения несчастного Эссекса, вы
открыли мне цель, которая сделает посильной тяжелую задачу, возлагаемую
мною на себя. Обязанность предотвратить хотя бы часть того зла, которое
может стать следствием моего неблагоразумного поступка, вновь обратит
меня к велениям разума, чести и к своей истинной природе. О ты, — вскричала
я, давая волю слезам, — нежно любимый, горько оплакиваемый, прости, если
я, словно темное дождевое облако, заслонила яркую звезду твоей славной
судьбы, — скоро она засияет вновь во всем неомраченном великолепии, и
лишь я, пролившись дождем слез, напою землю, которая сокроет меня. А ты,
счастливейшая из женщин, кому дано разделить его судьбу, попытайся
сделать эту судьбу счастливой — и та, которой в жизни осталось лишь плакать о
твоем жребии, поможет увенчать его всеми земными радостями. Я чувствую,
что мой шаткий рассудок долее не в силах углубляться в этот предмет, —
заключила я, уже оказавшись дома. — Прощайте же, моя дорогая леди Пемб-
рок, пусть это объяснение будет залогом нашего взаимного прощения.
Поверьте, в первый и последний раз вам пришлось краснеть за своего бедного
друга — или я вновь не властна над лучшей частью своей натуры.
Она прижала меня к чистейшему сердцу, которое когда-либо билось в
груди человеческой, и вновь оставила наедине с этим ненадежным советчиком —
моим заблуждающимся сердцем.
Возвращение лорда Арлингтона, раздосадованного яростью королевы и
пересудами при дворе, подвергло нелегкому испытанию мою решимость.
Быть может, даже она оказалась бессильна, если бы я не помнила об
обещании, данном леди Пемброк, и о своем намерении подать достойный пример
моему благородному возлюбленному, кого теперь считала равно со мной
несчастным. Все это время я безвыездно оставалась дома, не без надежды,
однако, получить какую-нибудь весть от лорда Эссекса, хотя, как он смог бы мне
ее переслать, я не знала. Весть эта была мне доставлена самым неожиданным
образом. Леди Пемброк воспользовалась первой представившейся
возможностью поговорить со мной наедине.
— Запутанные обстоятельства порождают странных посланцев, — сказала
она со вздохом. — Кто бы мог вообразить, что я возьмусь передать письмо от
Эссекса вам, Эллинор? Но, узнав, что он намеревается обратиться к вам с
письмом, я добровольно вызвалась передать его — как для того, чтобы верно
судить о происшедшем, так и для того, чтобы помешать Эссексу унизить себя
и вас перед слугой, которого ему удастся подкупить. К тому же если бы он
ошибся в выборе посланца, то погубил бы ваш покой и репутацию.
Едва слыша это великодушное объяснение, я с жадностью устремила
взгляд на письмо и запечатлела на прекрасной руке, держащей его,
порывистый поцелуй, преодолев искушение поцеловать драгоценное послание. Ах,
как невыразимо подействовал на меня вид знакомого почерка! Эссекс писал
взволнованно и несвязно, винил себя, меня, своих и моих друзей, всевластную
судьбу, распорядившуюся нами. Им владело убеждение, что подлоги, тайны и
тысячи доселе неизвестных гнусных ухищрений соединились, чтобы
разлучить нас. Он заклинал меня открыть ему, каковы были эти люди и средства.
О лорде Арлингтоне он говорил скорее как о ничтожном орудии в руках
своих более коварных недругов, чем как о человеке, достойном его ненависти,
глубокой и безграничной, дремавшей до той поры, пока я не указала ей
направление. «Отбросьте узкие предрассудки обычая и вашего пола, —
продолжал он. — Не будьте беспомощной жертвой обстоятельств. Осмельтесь быть
искренней и считать верность Вашим первым священным обетам (обетам,
драгоценным своей нерушимостью) истинным следованием закону чести,
религии и морали. О, вспомните ту роковую минуту, когда Вы неумолимо разо-
рвали кольцо рук, которым, должно быть, никогда более не суждено обнять
этот прекрасный стан. Самая малость доверия и откровенности сделали бы
тогда нас обоих счастливыми; сейчас, увы, они могут сделать нас лишь менее
несчастными. И все же говорите, моя нареченная, любовь моя, — заканчивал
он письмо, — скажите мне все. Еще раз заклинаю Вас теми правами,
уничтожить которые могут лишь Ваше вероломство или смерть, скажите мне все и в
Вашей заботе о жизни, что еще теплится в этой истерзанной груди, дайте мне
обрести желание длить ее».
Вникая в эту волнующую исповедь его сердца, я чувствовала, как мое
переполняет нежность. Тем не менее я была тверда в намерении поступить так,
как решила, и, взяв перо, ответила ему следующим образом:
«Отдав Вам свое сердце, милорд, признаю, я дала Вам право и власть над
каждым моим поступком, и хотя обстоятельства могут приостановить
осуществление этого права, уничтожить его они не могут. Увы, единственное право,
которое я оставила за собой, — это право скрывать от Вас то, что может
сделать Вас несчастным. Так позвольте же мне навсегда скрыть в сердце своем
то стечение роковых событий, которые оторвали нас друг от друга. Надо ли
говорить, что они истерзали мне сердце и довели меня до помрачения
рассудка, ибо ничем иным нельзя оправдать тот намеренно жестокий удар, который
я нанесла Вам. То, как подействовало на Вас мое присутствие, быть может, и
то (к чему скрывать?), как подействовало Ваше присутствие на меня, вместе с
чувством сурового долга, убеждают меня, что мы не должны более видеться.
Свет, этот докучливый и пристрастный судья, всегда упивается зрелищем
исполнения жестоких приговоров, им выносимых. Ах, избранник души моей,
помните, что довершить ее страдание можете только Вы, не вынеся того
сурового испытания, которое я решилась во что бы то ни стало выдержать. Не
лишайте меня печальной радости, все еще дозволенной мне судьбой, — в каком
бы уединении я впредь ни похоронила себя, верить, что тот, кого избрала я из
всех людей, подобен ангелу.
Не подчиняясь тирании людского мнения, я не знаю иного :оветчика, чем
нравственное чувство, и оно говорит мне, что самим Небесам угодны те
старания, которых я не оставляю, чтобы внушить Вам любовь к жизни, величию и
славе...
О грозный Отец всего сущего, чья воля одна только может лишить любого
из нас того единственного в мире, кто дорог ему, направь к благороднейшей
цели веления моего разума, дай силы нам обоим принять раздельный
жребий, назначенный нам. Возвысь чувства Эссекса над мелочными заботами
мести и злобы, обрати любовь его в милосердие, а гнев — в героизм. А слабому
сердцу, что ныне истекает кровью перед Тобою, ниспошли терпение и
смирение, чтобы проживать каждый долгий день так, словно следующий навечно
соединит меня с ним. Я не прошу силы, чтобы изгнать его из своего сердца,
нет, пусть он всегда остается его единственным властелином. Но пусть
поступки его воссияют благородством, чтобы, когда оба мы вместе со всеми людьми
будем призваны на Твой Страшный Суд, я могла пренебречь их ошибочным
мнением и правдиво сказать: «Отец Небесный, не Эссекса я любила, но саму
Добродетель в его облике».
Это восторженное заключение, сколь высокопарно оно ни показалось
сдержанной леди Пемброк, было всецело рассчитано на романтический
характер того, кому предназначалось. Я горячо просила Эссекса смириться с
тем, что моим письмом завершится переписка между нами, не допускавшая
никаких уступок, помимо тех, которые содержались в письме. Я отдала его в
руки леди Пемброк с приятным чувством самоуважения, которое всегда
сопутствует сознанию достойно исполненного тяжкого долга.
Да, это драгоценное чувство все еще остается при мне, порой пронизывая
своими лучами густой мрак, что затопляет мою душу и мертвит разум... Я
боюсь, что мысль моя опять начинает блуждать, потому что собственный
почерк вдруг кажется мне почерком Эссекса... О, как стиснута моя голова, как
стеснено сердце!.. Почему никто не ослабит эти тугие волокна? Чу! Не
королева ли это?.. Нет... Это только мрачный гул зимнего ветра.
* * *
Бедный Эссекс! Поразило ли мое письмо его так глубоко? Прижимал ли
он его с такой нежностью к губам? Орошал ли его слезами? Те слезы, что я
пролила о тебе, Эссекс, утопили бы тебя, если собрать их вместе...
«Несравненная Эллинор... о, боготворимая! Да, я буду следовать за яркими
блужданиями этого чистого ума, помрачению которого способствовал, и с этой
минуты я стану всем, чем она пожелает...» (Кто сказал ему тогда, что разум мой
помрачен и мысль блуждает, хотела бы я знать? Право, при нем я всегда
сопротивлялась этому.) Ах, прекрасные, драгоценные чувства! Как душа моя
жадно впитывает их очарование!.. А есть у вас маленький ножичек, леди
Пемброк, чтобы врезать мне в сердце эти слова, вырезать их на самом моем
сердце?.. О, я хочу, чтобы они вошли в сердце глубоко-глубоко... Я хочу
чувствовать их, а не только видеть... И ты, память, предательница память, хоть
раз сохрани приятный звук голоса, повторяющего их... Даже у леди Пемброк
голос не так музыкален...
* * *
Вы говорите — в браке с лордом Арлингтоном? О, этот брак! Что приобрел
он злодейством и обманом? Невыносимое общество несчастной безумицы,
чья усталая душа может в любую минуту ускользнуть, оставив в его руках
грязные обноски, которые он купил такой ценой. И все же мне говорят — я в
браке с ним... Он все еще возит меня за собой, называет меня своей, своей, о,
Боже! Но я более ничья — помните об этом, помните, иначе может произойти
убийство, и меня не окажется рядом, чтобы стать между смертоносными
клинками и узнать, какой из них окажет мне услугу.
Матильда, мне кажется, я еще не сказала тебе об этом, но едва ли я в си-
лах сделать это сейчас — такой тяжелый сон обволакивает меня... И все же,
если я не сделаю этого сейчас... знаешь, ведь я могу никогда более не
проснуться... Но теперь я вспоминаю, что уже просыпалась вновь и вновь, так что
совсем устала, и сейчас наконец спокойно усну и буду видеть во сне тебя.
* * *
Позволь мне воспользоваться минутой возвращения рассудка и памяти и
продолжить свой рассказ. Следуя принятым мною благим решениям, я
испросила у лорда Арлингтона позволения удалиться в Сент-Винсентское
Аббатство и в будущем жить там безвыездно, на что он с готовностью согласился.
Если мое добровольное затворничество не истребило полностью его ревнивых
подозрений, то, во всяком случае, не оставляло ему поводов терзать меня
ими. Натуру этого человека я всегда считала самой заурядной: он был
легковерен и переменчив, но своеволен и вспыльчив. Тщеславясь правами,
даваемыми знатностью рода, но не имея достоинств, которые отличили бы и
прославили бы его, он всегда чувствовал себя обойденным, если предпочтение
выказывалось другим, и благосклонность Елизаветы к его сопернику
оскорбляла его почти так же, как та, которую я столь очевидно проявила.
Великодушный Эссекс, уважая мой душевный покой и добродетель, после
еще одной бесплодной попытки убедить меня свидеться с ним, согласился
следовать предначертанным мною путем, удовлетворяясь моей верностью ему,
поклялся свято беречь те чувства, которые я позволила ему сохранить. Я не
нуждалась в дружеских известиях о человеке, голос которого был голосом
королевства. К счастью, мне внятен был этот голос, подхваченный молвою.
Поэтому я нежно простилась с леди Пемброк и, мешая слезы прощания с
сотнями невысказанных благословений, поддерживая себя сознанием, что
поступаю как должно, и гордясь собой за это, я обратилась лицом к своей судьбе,
решившись не жалеть усилий, чтобы сделать ее приемлемой.
Сент-Винсентское Аббатство вновь приняло меня. Лорд Арлингтон купил
поместье сразу после свадьбы не столько из-за присущего ему очарования,
сколько оттого, что прилегающие земли давали простор для всевозможных
сельских развлечений. Здесь я наконец перевела дыхание и, отдавшись
грустному покою, которым одаривает даже плачевная судьба, когда обретает
определенность, призвала себе на помощь спасительные нравственные и
религиозные принципы. Я направила свои еще нетвердые шаги к тем жилищам,
которых не миновали невзгоды, и, помогая дарами и словом утешения
несчастным, поверженным судьбою, согревала свое сердце отраженным светом той
заботы, которую проявляла о них. Я собрала в Аббатстве болезненных и
убогих детей и, пока их сверстники, которых природа наделила крепким
здоровьем, приобщались к крестьянскому труду, обучала их ткать гобелены,
плести кружева, читать, писать, играть на музыкальных инструментах —
сообразно их полу и возрасту. В окружении этих трогательных созданий, которые в
щедрости искусства находили теперь прибежище от несправедливости к ним
природы, я порой прикасалась к струнам лютни с чувством столь
возвышенным, что воображение устраняло все телесные несовершенства моих
маленьких слушателей, окрашивало их лица нежнейшим цветом утренней зари, и я
словно видела, как падают с них жалкие одежды несчастного человеческого
жребия и легкие крылья бессмертия увлекают их к небесам. Стремясь этими
и всеми иными доступными мне средствами заглушить бесплодные
сожаления об утраченном счастье, которые продолжали яростно осаждать мое
сердце, я заполнила неустанными занятиями долгий-долгий год. Часто ноги сами
приводили меня к моей келье и к Убежищу. Часто на знакомых извилистых
тропинках в лесной чаще, где некогда вдвоем мы распевали беззаботно и
звонко, как птицы вокруг нас, я останавливалась, сестра моя, и орошала
горькими слезами драгоценные напоминания о невозвратных днях.
Зная, что не смогла бы вынести малейшего сомнения или расспросов
относительно моих поступков, я взяла себе за правило не выходить за ворота без
сопровождения, и все же лорд Арлингтон возымел неприязнь к этому
одинокому приюту, и неприязнь его с каждым днем возрастала: я не пожелала в
угоду ему совершенно отречься от тех немногих невинных развлечений,
которые доступны в уединении. Увы, из его поведения мне стало ясно, что
ревность, эта самая неутомимая и ненасытная из всех наших страстей,
становится привычкой, даже будучи изгнанной из сердца. Если бы в любви его
присутствовала утонченность, свойственная страсти благородных натур, он бы
почувствовал, что несчастная привязанность черпает силы в одиночестве, среди
домашних стен; когда же человек отваживается покинуть эти стены, он
являет благородную решимость бороться со своим чувством. Множество раз он
следовал за мною по пятам, он вторгался в мое уединение. Ему словно бы
доставляло удовольствие наблюдать мои слезы и горестные сожаления,
виновником которых он некогда стал.
Старческое слабоумие королевы с каждым днем становилось все
очевиднее, и даже пощечина, данная ею Эссексу в одном из ее припадков бешеного
гнева, более посрамила ее, чем его. Его бесстрашное негодование, его
дерзкая, неслыханная при дворе откровенность, его надменный уход — каждый
его поступок утверждал меня в том восхищении, на которое, как я считала, я
все еще имею право. Безграничная власть, которой он впоследствии, после
примирения с ним Елизаветы, пользовался, свидетельствовала о том, как
безгранична была ее привязанность. Елизавета, жестокая, безжалостная ко мне
во всем остальном, на этот раз ценою своего унижения даровала мне
исполнение единственного желания, которое мне дозволено было сохранить.
После нескольких безуспешных попыток добиться высокого положения
при дворе лорд Арлингтон почел себя обойденным и, удалившись в поместье,
докучал мне своим присутствием круглый год. Но, не имея ни вкуса к ученым
занятиям, ни тех интересов, которые сам собой подсказывает развитой ум, он
должен был постоянно искать, чем бы занять себя. Соколиная охота, охота с
гончими, рыбная ловля заполняли собою однообразные годы, и редкий вечер
не завершался пьянством в охотничьей компании. Ту апатию, в которую по-
грузились мои чувства, он по недалекости ума принял за полное довольство.
По мере того как его любовь шла на убыль, он вообразил, что моя возрастает,
и пришел к убеждению, которого не разделил бы с ним даже самый жалкий
из его прихлебателей, что мы с ним наконец вполне счастливы.
Для полноты этого неожиданного счастья (которое существовало только в
его воображении и зародилось, надо думать, в винных парах) он решил
уничтожить те развалины, где, как я призналась, прошло мое детство. Он полагал,
что именно они не дают угаснуть горестным воспоминаниям, которые без них
время сотрет бесследно. Управляющий убедил его, что камень необходим
для строительства поблизости мануфактуры, а вырубка леса, разросшегося
вокруг, даст ценное строительное дерево и с избытком окупит все расходы. К
тому же сквозь новые посадки будет открываться вид на другую сторону
Аббатства, а я лишусь этого неодушевленного предмета привязанности, к
которому лорд Арлингтон все еще испытывал ревность, столь же непомерную,
сколь и нелепую.
Намерение это вызвало мое сильнейшее противодействие по многим
причинам. Меня страшила мысль, что исчезнет всякое напоминание о днях моей
юности, всякий след того, что и я некогда имела близких и была любима.
Ужасно было думать о том, что священные останки моих опекунов и
защитников будут потревожены и над ними станут властны ветры и заступ
работника. Но более всего меня страшила опасность, грозящая тому непрочному
покою, который я выстроила на обломках своих надеж, опасность, что
проснутся желания, которые пребывали в оцепенении, быть может, лишь оттого, что
были тщетны, опасность побудить лорда Эссекса нарушить то обещание, что
я вынудила у него, — иначе говоря, меня страшила даже самая отдаленная
возможность встретиться с ним, ибо во избежание сожалений, которые я
испытывала бы, ежедневно наблюдая тягостные для меня изменения любимых
мест, лорд Арлингтон вознамерился увезти меня на это время в Лондон. Все
мои протесты были напрасны. Чем более я проявляла отвращения к
предстоящей поездке, тем менее он мог вообразить причин для своих опасений, и ни
разу, среди прочих опасений, ему не пришло в голову, что я могу страшиться
самой себя. Печальный опыт прошлого говорил мне, что малейший намек на
истинную причину будет губителен, все же прочие доводы скорее укрепляли
его в принятом решении, и я вынуждена была подчиниться.
Как легко, с каждой оставленной позади милей, возвращались ко мне
милые сердцу, привычные впечатления! Кровь быстрее текла по жилам,
подчиняясь ожившему сердцу, и даже дворец я узрела без отвращения, потому что
там царил Эссекс. Леди Пемброк приняла меня в объятия, которых не
охладили ни время, ни мое отсутствие. Она с радостью отметила, что в
наружности моей не осталось и следа нездоровья, и решила, что я более не похожу на
привидение и, следовательно, счастлива. Ах, дорогой мой, заблуждающийся
друг, тлеющие угли рокового пожара, почти залитого слезами, постепенно
вновь наливались жаром! Я была едва ли не опечалена, услышав о том, что
Эссекс все еще в море, что он увенчан победой при Кадисе, где его мужест-
во уступало только его флотоводческому таланту. Чувство, испытанное мною
при этом известии, заставило меня осознать, на краю какой бездны я стою, и,
горячо возблагодарив Небеса за его отсутствие, я признала, что только в этом
отсутствии заключается мое спасение.
Те немногие друзья, которых судьба оставила мне, радостно
приветствовали мое возвращение, и в их обществе моя угнетенная душа, быть может,
нашла бы некоторое облегчение, будь мне дозволено пользоваться этим
обществом неограниченно. Но лорд Арлингтон по-разному видел свет, живя в нем и
наблюдая его издали. Привычка знать о каждом моем шаге, когда я не
нахожусь у него на глазах, настолько укоренилась в нем, что он лишил меня права
распоряжаться собственным временем и не допускал, чтобы хоть малая
толика его, проведенная вне дома, проходила в его отсутствие. Возмущение
против запретов было одним из основных свойств моей натуры. Увы, сколько
страданий оно успело навлечь на меня! Это вопиющее оскорбление
одинаково затронуло мои чувства и мои принципы. Ожесточенность и
неподвластность голосу разума, от которых я пыталась избавиться в тишине и
уединении, вновь появились в моем характере. Я сделалась угрюмой и замкнутой;
ради себя самой я воздерживалась от греховных и яростных поступков, но
меня более не заботило, обязана ли я это делать... Быть может, вина лорда
Арлингтона была не так велика, как поначалу казалась, ибо меня неотступно
преследовала ненависть к леди Эссекс. После моего рокового обморока во
дворце она сочла оправданными свои оскорбительные предположения,
которые давно перешли всяческие границы; и теперь, со дня на день ожидая
появления супруга, она окольными изощренными инсинуациями* отравляла мои
мысли, дабы оградить себя от опасности, когда вернется Эссекс.
Жалкая, неразумная женщина! Прояви она великодушное сочувствие к
той, у кого жестокая судьба грабительски вырвала счастье, чтобы ненароком
кинуть ей, — и я всем сердцем, до последнего вздоха, желала бы ей несконча-
емости этого счастья. Только чистый ум притягивает к себе ядовитую
людскую злобу, как воздух — земные испарения, но, если волнения не породят в
нем бури, он, как и воздух, вскоре вновь обретает ясность и постепенно
возвращает благотворными дождями тяжкие земные испарения. Не замышляя
дурного против самой графини Эссекс, я слишком уважала душевный покой
ее мужа, чтобы напоминать ему о несчастной, чьим роковым
предназначением было этот покой разрушить.
И все же я полагала, что сама добродетель не отказала бы мне в одном
малом утешении, которого я желала всей душой. Взятый в плен испанский
живописец написал картину, изображавшую штурм Кадиса, и Эссекс прислал ее
лорду Пемброку. Среди многих лиц, запечатленных на этой картине,
особенно выделялось лицо Эссекса, и все в один голос утверждали, что это лучшее
из его изображений. Картина возбуждала любопытство у людей всякого
звания, и галерея, где она была выставлена, никогда не пустовала. О картине
говорили так много, что всеобщий интерес, вероятно, вызвал бы и у меня жела-
ние взглянуть на нее, не будь мое сердце затронуто. Однако безосновательная
ревность лорда Арлингтона вынуждала меня молчать. Не решалась я и
предложить, при таких обстоятельствах, нанести визит леди Пемброк, чтобы мое
желание не было истолковано как доказательство того, что я повинна в
недозволенных мыслях. Природа моя возмущалась против этого запрета, и, мой
добрый друг, леди Пемброк (опасаясь, что самоограничение может иметь
более тяжелые последствия для моего душевного равновесия, чем уступка
этому желанию) нашла, как ей казалось, способ избежать опасности, грозящей и
с той, и с другой стороны.
Королева устраивала в Гринвиче празднество по случаю свадьбы одного из
своих фаворитов, куда был приглашен весь двор. Ожидалось представление
масок и многие другие развлечения. Леди Пемброк не могла манкировать
присутствием на празднестве. Не мог и лорд Арлингтон. Зная, что на этот раз
его определенно не будет дома, она предложила приехать за мной в своей
барке, и, прежде чем отправиться в Гринвич, препроводить в свой дом и
оставить в галерее, отдав распоряжения слугам отвезти меня назад, когда я
пожелаю.
В предложении этом не было ничего бесчестного или опасного, и я с
радостью приняла его. Я знала, что лорду Арлингтону как родственнику жениха
надлежало быть в Гринвиче с утра, и ждала назначенного часа с
нетерпением, судить о котором способен лишь тот, кто, как я, целые годы живет одним
кратким взглядом.
Леди Пемброк осуществила свой план с такой же легкостью, с какой его
задумала, и, отправляясь в Гринвич, оставила меня на попечение своих
домашних, которым было объявлено, что я намереваюсь скопировать
превосходный рисунок их госпожи, находящийся в галерее. Как тяжелы тайные
уловки истинно благородным душам! Я остановилась на пороге, и если бы
могла, не возбудив недоумения, тут же повернуть назад, то не вошла бы в
дом. В доме было тихо и безлюдно: все, кроме младших слуг, отправились
вместе с господином и госпожой. Слуги, проводившие меня в галерею,
заперли за мною двери, дабы оградить меня от незваных посетителей, которые, со
времени присылки картины, стали здесь явлением привычным. Ах, с каким
чувством взирала я на черты, неизгладимо запечатленные в моем сердце и
увековеченные на холсте почти с такой же ясностью и правдивостью!
Вырывая клинок из рук того, кто, судя по его яростному взгляду, миг назад
направил его в грудь английскому полководцу, Эссекс с надменной гордостью
смотрел на окружающих его испанцев, чьи выразительные жесты молили
сохранить жизнь нападавшему на победителя.
— О, Боже! — вскричала я в страхе и слезах. — Неужели я так долго
грезила о величии, почестях и бессмертной славе и ни разу не задумалась, ценою
каких опасностей они достаются?
— Не расточай эти драгоценные алмазы на бесчувственный холст, —
раздался голос, от которого всегда суждено трепетать моему сердцу. — Взгляни
на Эссекса, на твоего верного Эссекса, столь же безраздельно твоего, как в
тот миг, когда впервые эта нежная рука ответила на мое пылкое пожатие.
Ах, сестра моя, при этом неожиданном появлении я застыла в
неподвижности. Целый вихрь чувств овладел моей душой. Но более всего я ощутила
страх, который, казалось, заслонил даже счастье вновь видеть его, и, хотя я
не отрывала от него глаз, сердце мое впервые закрылось перед ним,
погрузившись в беспросветную тьму.
— Вы молчите, моя любимая, — продолжал он. — О, умерьте муку моего
сердца — позвольте мне верить, что вы узнаете меня!
— Узнаю вас? Ах, Эссекс, — отозвалась я дрожащим голосом, и слезы с
новой силой хлынули из моих глаз. — Что, кроме могилы, может изгладить эти
черты из моей памяти? Быть может, бессильна даже могила... Но сотни
безымянных бед понуждают меня страшиться этого мгновения, заставляют мою
душу в ужасе отшатнуться даже от вас...
— Успокойтесь, моя боготворимая Эллинор, — вновь заговорил он. — Я
пришел сюда не как бесчестный и коварный соблазнитель. Случай, и только
случай, увенчал желание, так долго послушное вашей воле. Случай не
допустил, чтобы священные для меня вздохи бесследно растворились в воздухе,
чтобы драгоценные слезы кропили землю; случай привел меня сюда, где я
воспользовался теми милостями, которыми вы готовы были одарить мою
тень.
— Если я лишаю вас этих милостей, — ответила я, силясь овладеть своими
взволнованными мыслями, — то не приписывайте это моей воле, а лишь
всесильной судьбе, разлучившей нас. О Эссекс, не будем более оглядываться на
прошлое, обратимся мыслями лишь к настоящему — время, место, ваше
присутствие запятнают меня позором, если станут известны, лишив единственной
гордости, единственного утешения, что оставила мне судьба. Я давно
перестала существовать для света и для себя, но перед Богом и перед вами мой
долг — соблюдать те принципы, которые Он дал мне, а вы вызвали к жизни.
В полном смятении я поднялась с места и попыталась высвободить свою
руку, но его более сильные пальцы упорно удерживали трепещущую
пленницу, и, уступая его взволнованным мольбам, я согласилась остаться еще на
несколько минут и снова села подле него. Боже милостивый! Сейчас, когда я
рассказываю об этом, мне трудно поверить, что все происходило на самом
деле. Действительно ли я видела Эссекса? Действительно ли чувства мои были
пробуждены звуком этого голоса, так давно забытого, воскрешаемого лишь
моим воображением? Ах, слишком печальна неопровержимость
случившегося, каким бы странным и невероятным оно ни казалось.
— Верьте мне, любовь моя, — заговорил он, — я не имел намерения
расставлять вам ловушку. Я только что возвратился в Англию и предположить не
мог, когда, поддавшись досаде, решился на тайный приезд, какое великое
счастье мне выпадет при этом. Возмущенный несправедливостью выжившей из
ума королевы (которая увенчала Говарда лаврами, завоеванными мною), я
решил втайне созвать своих друзей, за которыми сейчас отправился Пемброк. В
полночь мы должны собраться здесь и обсудить, как лучше всего ответить на
ее пристрастное решение. По случайности, оказавшейся счастливой, о чем
Пемброк не догадывался и чего я не мог предвидеть, мы разговаривали,
прогуливаясь по галерее, и, оставшись один, я под влиянием дорожной усталости
прилег на кушетку в нише окна, задернул штору и отдался сморившей меня
дремоте. Как сладостно был прерван мой сон тою, которая наполнила
печалью столько бессонных ночей! В радостном удивлении я видел, как она
вошла, как заботливый слуга, словно движимый любовью, закрыл за нею дверь
и удалился. Объятый блаженством, в полной неподвижности я наблюдал, как
ее прекрасные глаза остановились на моем безжизненном изображении. Я
видел, вернее чувствовал, те проявления нежности, которые вырывались из
глубины души, незаметно для нее самой. Долгие, томительные века прошли с
тех пор, как мои глаза могли не отрываясь смотреть в ее глаза, с тех пор, как,
сжимая эту милую руку, я обретал благо, способное составить смысл и
счастье всей моей будущей жизни!..
— Увы, милорд! — прервала его я. — Вспомните, что эти прекрасные дни,
эти отрадные надежды, эти радостные желания сокрушила могущественная
власть, и, пока существуют те узы, которые лишают вас права на эту
дрожащую руку, я не могу позволить вам так сжимать ее. Но вспомните также и о
той власти, что сохраняете вы над моим сердцем, власти, которую одна
только добродетель может оспаривать у вас. Ах, милый Эссекс, не смотрите на
меня с гневом... вы не знаете, какую рану наносите мне, какие ужасные
последствия можете вызвать...
Исступленное звучание моего голоса поразило даже мой слух. Не решаясь
более произнести ни слова, я пыталась в молчании скрыть свое волнение и
свои чувства. Увы, возбуждение оказалось для меня непосильным. Я ощутила
удушье, более мучительное, чем обморок. Пораженный неожиданностью,
охваченный нежностью и страхом, Эссекс хотел было крикнуть на помощь
слуг. Я сохранила еще достаточно разумения, чтобы остановить его. Он
распахнул окно и, пытаясь успокоить меня, клялся во всем беспрекословно
повиноваться мне. Чувства почти вернулись ко мне, как вдруг шум в дверях
заставил меня пожелать, чтобы они навсегда угасли. Не в силах более различать
позволительное и недопустимое, я кинулась, ища укрытия, в объятия,
радостно распахнувшиеся, чтобы принять меня, и спрятала лицо в складках
шелкового плаща Эссекса. Голос, которого я страшилась, раздался в моих ушах,
усиливая ужас и заставляя меня еще крепче прижаться к своему защитнику.
Опасность, не оставлявшая времени на извинения, заставила моего
великодушного возлюбленного отбросить меня в сторону. В страхе я открыла глаза
и, охваченная ужасом, увидела, что лорд Эссекс и лорд Арлингтон нацелили
клинки в грудь один другому. Почему в эту гибельную минуту мой слабый,
колеблющийся разум не покинул меня? Увы, никогда более ясно я не
ощущала муку и ужас. Мне показалось, что крик, который я издала, должен стать
для меня последним, но, видя, что его недостаточно ни чтобы убить меня, ни
чтобы помешать кровавому поединку, я вскочила и стремительно бросилась
между клинками. Шпага мужа пронзила мне плечо, а его более искусный
противник ранил и обезоружил его. Приученная ко всяческим несчастьям,
кроме этого, я смотрела на струящуюся кровь с испугом, до сей поры мне
неведомым, и, испытывая от потери крови слабость, не сомневалась, что
приближается миг, которого я так часто желала. Я объявила, что умираю.
Потом, подняв глаза на бледного, неподвижного, как статуя, Эссекса, который,
опершись на обе шпаги, в безмолвном страдании склонялся надо мной, я
просила его восстановить мое доброе имя и обратилась ко Всемогущему с
мольбой принять мою безвинную душу и увенчать его дни честью и счастьем, коим
я одна была помехой. Затем, повернувшись к несчастному глупцу, с чьей
струящейся кровью смешивалась моя, я угасающим голосом подтвердила свою
невиновность, прося и его простить меня. Однако мне уже недостало сил
принять его прощение. Чрезвычайная слабость слила воедино предметы, до того
столь различные, и я перестала испытывать нежность к возлюбленному и
страх перед мужем.


Когда на смену после обморочной истоме ко мне вернулось
сознание, я увидела, что лежу в своей постели, куда, как я
поняла, меня перенесли по распоряжению лорда Арлингтона, как
только остановили кровь, текущую из раны. Его рана оказалась
столь незначительной, что не давала повода для опасений. В
нетерпении я просила позвать ко мне леди Пемброк, как вдруг с
невыразимым гневом и изумлением узнала, что перед ней
закрылись двери, когда во имя дружбы она пришла, даже рискуя
встретить недоброжелательный прием. Казалось бы, даже
лорду Арлингтону должен был внушать уважение безупречный
характер этой восхитительной женщины, но, не дав себе труда выяснить
истинные обстоятельства непредвиденной встречи, прерванной столь ужасным
образом, он, придавал ей самый низменный смысл, отнесся к двум
благороднейшим и высокочтимым людям королевства как к пособникам, если не главным
участникам заговора против его чести. Та кровь, что еще оставалась в моих
жилах, словно обратилась в желчь при этой мысли. Я подстерегала момент,
чтобы сорвать свои повязки, и, презрительно обрекая себя безвременной
гибели, старалась забыть о тех, чьи благородные сердца этот безрассудный
поступок поразит горем. Творец, в чьей справедливости я таким образом
усомнилась, в милосердии своем не отвернулся от меня — мое опасное состояние
было своевременно обнаружено внимательными слугами, которые были
привязаны ко мне несравненно более своего хозяина и не жалели сил, чтобы
продлить мою жизнь, тогда как он, быть может, желал, чтобы она оборвалась.
При тяжелом состоянии рассудка, побудившем меня к этому отчаянному
решению, поступок мой принес печальную пользу: поскольку урон оказался
нанесен лишь моему здоровью, разум не пострадал.
Прошло много месяцев, прежде чем мне достало сил пройти из одного
конца комнаты в другой, прежде чем я собралась с духом задать вопрос. За
это памятное время я собрала все оставшиеся силы и, поставив свою совесть
арбитром между собой и лордом Арлингтоном, определила и утвердила
права обоих. Даже собственным сердцем убеждаемая в неосмотрительности
своего поведения, я не удивлялась, что он принял мою ошибку за вину, и,
чувствуя себя в состоянии судить беспристрастно, привела ему все объяснения и
все мыслимые доказательства своей невиновности. Но лорд Арлингтон был
рабом своих страстей и капризов и, не обладая достаточной душевной
твердостью, чтобы выработать суждение и придерживаться его, из года в год с
неодолимым упрямством цеплялся за впечатление первой минуты. С тех пор он
неизменно обращался со мной как с хитрой и лживой женщиной, чье
распутное поведение вынудило его рисковать жизнью в тщетной попытке защитить
честь, уже запятнанную и утраченную мной. Он не пытался настоять на своем
законном праве единственно ради того, чтобы разделить меня и лорда
Эссекса. Его поведение и клеветнические измышления леди Эссекс сделали
роковую случайность достоянием всего королевского двора и оставили на моей
репутации пятно, стереть которое время оказалось бессильно. По счастью,
пятно это не коснулось ни натуры моей, ни сердца, а столь тяжкая
несправедливость со стороны лорда Арлингтона дала мне право простить себе ошибку,
приведшую к этой случайности.
В этих обстоятельствах взором, застланным слезами, я вновь огляделась
вокруг, ища защитника, который встал бы между мною и моей судьбой, столь
же незаслуженной, сколь суровой. Увы, не было никого, к кому добродетель
позволила бы мне воззвать о помощи, и я положилась на способность,
которую Небеса нежданно даровали мне, и решила терпеливо сносить страдания.
Элизабет Верной (давняя наша приятельница), прелестная и кроткая
кузина лорда Эссекса, вознамерилась непременно повидаться со мной и с
настоятельной просьбой об этом обратилась к лорду Арлингтону. Зная, как
благоволит к ней королева, он не решился отказать и дал разрешение с
чрезвычайной неохотой. Милая девушка оросила меня слезами невинности и
привязанности. Она рассказала, что только страх своим присутствием побудить лорда
Арлингтона к еще большей жестокости заставил Эссекса, когда я лишилась
чувств, удалиться от зрелища, разрывавшего ему сердце, и та же причина
вынуждала его оставаться вдали от меня. За все долгое время мрачной
неопределенности, сопровождавшей мою болезнь, он едва осмеливался дышать;
собственная душа неустанно внушала ему, сколь чиста была моя. В его
воображении я навсегда запечатлелась бледной, безмолвной, расстающейся с
жизнью, устремив на него печальный взор, нежность которого сама смерть не
могла погасить. И хотя не по его вине пролилась моя кровь, каждая капля,
сочившаяся из раны, казалось, падала, застывая на его сердце. Одним
словом, вознесенная на недосягаемую высоту моими страданиями, глубоко
осознанными им, я безраздельно царила в его чувствах, которые с этой минуты
были благоговейно посвящены мне одной, чему он дал неоспоримое
доказательство.
Употребив немалое искусство и упорство, чтобы выяснить, как лорд
Арлингтон так быстро прознал о его тайном возвращении в Англию и о нашей
непредвиденной и внезапной встрече, которую прервал почти в начале, хотя
ему и надлежало быть в это время в Гринвиче, лорд Эссекс обнаружил, что
его шталмейстер, бывший среди слуг, с которыми он приехал в Пемброк-
хаус, едва только Эссекс сошел с коня, отлучился и поспешил в Гринвич д,ля
встречи со своей возлюбленной — служанкой леди Эссекс. Благодаря ей и
госпожа ее узнала о тайном приезде супруга, не ведая о его причинах. Эта
подозрительная женщина уже успела в свите жениха заметить лорда Арлингтона
и у него на слуху объявила о приезде своего мужа, добавив к этому известию
все свои злонамеренные предположения, которым злая судьба на сей раз
придала видимость правды. Намека довольно было лорду Арлингтону — он
вскочил на самого быстрого коня и помчался в дом лорда Пемброка. Леди Эссекс
была тотчас уведомлена о происшествии, которое ей следовало предвидеть, и,
кидаясь в другую крайность, стала исступленно умолять всех друзей
немедленно последовать за лордом Арлингтоном и предотвратить столкновение,
угрожающее ее супругу. Но когда дружба могла сравниться в быстроте с
любовью и мщением? Порознь отправившиеся в путь посредники успели стать
лишь свидетелями события, предотвратить которое было не в человеческих
силах. Ярость Эссекса, вызванная поведением его супруги, не знала границ, и
под влиянием ее он совершил тот поступок, который окончательно сгубил
меня в глазах света. Вознамерившись заставить леди Эссекс принять на себя
долю тех бед, причиной которых она стала, он расстался с нею раз и навсегда.
Напрасны были все ее последующие заверения в сожалении и раскаянии.
Напрасны оказались надежды на то, что он успокоится и примирится с нею. Его
нрав, до того рокового времени столь же податливый, сколь вспыльчивый,
теперь обрел холодную философскую суровость. Он счел справедливым, чтобы
скорбь и разочарование, на которые леди Эссекс обрекла себя, жестоко
покарали ее за низкие подозрения и в недалеком будущем освободили ее супруга
от необдуманно принятого на себя бремени, под тяжестью которого он
изнывал до сей поры.
Так прелестная Элизабет закончила свой рассказ, столь ясный, стройный
и волнующий, что я не преминула предположить в ней посланца ее кузена, но
ее горячий румянец опроверг мою догадку и выдал некий секрет, вскоре
разъяснившийся. Она была тайно любима отважным Саутгемптоном, героем,
другом Эссекса, преданным ему почти так же безраздельно, как я, и от него
узнала многочисленные подробности, которых ей не могла бы сообщить людская
молва. Я была бесконечно признательна ей за дружбу и через нее послала
прощальный привет леди Пемброк, с которой мне не дозволено было
проститься.
Из рассказа Элизабет было совершенно очевидно, что я оказалась
жертвой клеветы, и не в силах человеческих было оправдаться. Меня застали в
объятиях Эссекса — факт был неоспорим, а в истинную причину этого
рокового порыва навряд ли кто поверил бы, несмотря ни на какие убеждения.
Моя молодость, моя рана, мое прошлое безупречное поведение, вызывая
сочувствие, смягчали резкость суждения многих людей, но даже самые
снисходительные не решались оправдать меня. Страстные доводы в мою защиту,
приводимые Эссексом, диктовались, по мнению окружающих,
соображениями чести и были необходимы для его оправдания не менее, чем для моего,
ставя, таким образом, клеймо вины на нас обоих. О, опрометчиво судящий
свет, какие суровые решения дерзаешь ты выносить на основании самых
поверхностных наблюдений! Оставь зазубренную стрелу несчастья в груди,
раненной ею, вместо того чтобы, бесчеловечно вырывая ее, дабы узнать, кем
она пущена, терзать сердце, уже пораженное.
Опозоренная, отвергнутая и забытая всеми, кроме великодушных сестер
из рода Сидней, я вновь покорно последовала за своей судьбой в лице лорда
Арлингтона и вновь очутилась в Аббатстве, которому суждено было укрыть
меня в своих стенах как в беззаботном детстве, так и в загубленной
молодости. Та же надменная воля, что погубила меня, лишила это древнее
благородное жилище его тихого, одинокого очарования: священное место, где
опутанные плющом стены, ставшие добычей времени, поддерживали руины —
свидетельство религиозной розни, превратилось в плоский, бесплодный пустырь;
величавый лес, столько времени дававший защиту живым и умершим,
уступил место молодым посадкам, в которых не на чем было остановиться
усталому взгляду. С отвращением отвернувшись от этого унылого зрелища,
запершись в самом отдаленном и мрачном из покоев Аббатства, я проводила
свои дни в размышлениях обо всем, что было мною утрачено.
Лорд Арлингтон, для которого я теперь представляла ценность лишь как
приложение к его фамильной спеси, встречая мое неприкрытое отвращение,
утешался как умел и не заботился о том, чем я занимаю себя, при условии,
что я все еще остаюсь его законной пленницей. Увы, у меня более не было
решимости с чем бы то ни было связать свои надежды, посвятить себя какому-
нибудь подневольному замыслу, предаться подневольным удовольствиям.
Дети бедняков, о которых я еще продолжала заботиться, в моем присутствии
более не касались лютни. Некогда пальцы мои бродили по ее струнам с
вольным изяществом безмятежной юности, теперь же, ненужная, утратившая лад,
она висела на стене как символ расстроенной души своей владелицы. Вкус,
талант и наука — эти мощные опоры, на которых в спокойных умах пылкая
фантазия возводит сотни легких, воздушных строений, рухнули и распались в
сердце моем, являя мысленному взору картину более ужасного запустения,
чем могут представить себе благороднейшие умы. Мизантропия*, темноликая
мизантропия царила там, как одинокий варвар, не знающий цены тем
сокровищам, что изо дня в день гибнут от его грубой руки.
Как-то ночью меня разбудили известием, что любимый слуга лорда
Арлингтона, уже давно угасавший от чахотки, сейчас почувствовал себя у
смертного порога и настоятельно добивается разговора со мной, но, не будучи в то
время расположена даже к исполнению обязанностей, налагаемых добротой
и человеколюбием, и убежденная, что он не имеет сказать мне ничего,
представляющего интерес, я отказала в его просьбе. Однако, узнав, что господин
его пребывает в глубоком опьянении и не в силах что бы то ни было
понимать, в ответ на его повторную просьбу я поднялась с постели и в
сопровождении преданной мне служанки вошла в комнату больного. Холодно и
неприветливо я огляделась вокруг, почти не замечая изъявлений его благодарности,
отослала всех, кроме упомянутой мною служанки, и приготовилась
выслушать его, полагая, что лишь какое-то дело, касающееся его обязанностей
управляющего и землемера, не давало ему покоя в его последние часы.
— Госпожа, — сказал он глухим и прерывистым голосом человека, чьи
минуты жизни сочтены, — я не мог бы отойти с миром, если бы вы не снизошли
к моей просьбе... Простите меня, молю вас, за то, что я предложил милорду
уничтожить руины, которые, как я с тех пор ясно понял, были так дороги
вашему сердцу... Увы, предложение это стоило мне жизни. Согласитесь
выслушать тайну, которая всякий раз не отпускает мою душу, когда она порывается
покинуть свою темницу: быть может, само мое преступление несет в себе
наказание. При расчистке места разрушенной по распоряжению господина
искусственной Пещеры Отшельника я раз увидел, как один из работников
огромным усилием извлек из-под обломков некий предмет и, кинув вокруг
быстрый и испуганный взгляд, забросал его землей. Я отослал работавших
поблизости в другую часть развалин и, схватив за руку работника, за которым
наблюдал, потребовал показать мне, что он пытается спрятать. Это оказался
маленький железный сундучок, накрепко запертый. Я условился с
работником, что унесу сундучок до вечера, когда он придет ко мне и мы вместе
откроем его и разделим содержимое. Он согласился скорее в силу
необходимости, чем выбора, и я унес находку с целью, за которую Господь сурово
покарал меня. Среди множества доверенных мне ключей нашелся один, сразу
отворивший замок. Под слоем бумаг и ничего не стоящих пустяков я
обнаружил крупную сумму в золоте и несколько драгоценностей. Зная, что мой
сотоварищ успел заметить тяжесть находки, я положил на место золота и
драгоценностей железное распятие и множество ржавых ключей, закрыл сундучок
и стал с нетерпением ожидать вечера. Бедный работник, видя, как я
возвращаюсь, пытливо всмотрелся в мое лицо, но, не отваживаясь высказать вслух
сомнение, ясно читавшееся в его лице, молчаливо ожидал назначенного часа.
Я предоставил ему долго трудиться над сундучком, зная, что тот нескоро
поддастся его усилиям. Велико было разочарование бедняги, когда он наконец
раскрыл сундучок и высыпал содержимое. Я притворился столь же
огорченным, но, полистав бумаги, предложил ему двадцать ноблей, из чего ему
легко было заключить, задумайся он хоть на миг, что я его обманываю. Он с
готовностью принял предложение, согласился, по моему настоянию, никогда не
упоминать о случившемся и ушел с многочисленными изъявлениями
благодарности. Я радостно положил на место свою неправедную добычу, про себя
решив при первой же возможности оставить службу у своего господина и
сделаться строительным подрядчиком в Лондоне, но страх некоторое время не
позволял мне решиться на этот шаг. Увы, после этого здоровье так и не
позволило мне ничего... С той самой минуты покой, аппетит, сон покинули меня.
Если, измученный постоянным бдением, я засыпал, мысль, что мое
сокровище украдено, поднимала меня с постели, и, невзирая на холодный пот,
вызванный единственно этим опасением, я среди ночи кидался удостовериться,
что оно сохранно. Воображаемые голоса постоянно шептали что-то у моей
постели, чьи-то смутные очертания скользили по комнате. Занимающийся день
никогда не приносил мне облегчения: казалось, каждый глаз стремится
проникнуть в мою тайну, каждая рука тянется завладеть моим богатством.
Словом, госпожа, это до срока привело меня к нынешней печальной минуте.
Много месяцев, уже не веря, что мне суждено жить, я размышлял, как
распорядиться этим богатством, которым сам я потерял надежду воспользоваться.
Несчастный работник, которого я так низко обманул, вскоре погиб,
придавленный упавшей колонной, и вернуть богатство ему уже невозможно. Нынче
вечером мне пришло на ум, что вы, как говорят, выросли в этих развалинах,
да я и сам часто видел, как вы бродили и плакали в том самом месте, где был
найден сундучок. Быть может, отдав его вам, я лишь возвращу его законной
владелице. Примите его, госпожа, и поклянитесь, что никогда не расскажете
о моем даре господину.
Эта просьба казалась излишней, поскольку сокровище не было
мошеннически добыто у лорда Арлингтона, и хотя я по собственному разумению,
возможно, хранила бы молчание, обещать его казалось мне ниже моего
достоинства. Заметив мои колебания, он продолжал:
— Не усматривайте дурного намерения в этой просьбе, госпожа.
Когда-нибудь вы будете рады, что согласились на нее, и лишь ради вашего блага я
прошу об этом. Рука господина моего скаредна, ваша — щедра, как рука
Провидения. Так не лишайте себя возможности быть щедрой, которая сейчас
предоставляется вам, но лишь при условии, что вы поклянетесь об этом молчать,
смогу я дать вам эту возможность.
Странное желание прочесть бумаги скорее, чем стремление заполучить
деньги, побудило меня наконец согласиться. Моя служанка, следуя его
указаниям, вытащила из укромного угла железный сундучок и достала из него
деньги, драгоценности и бумаги, которые мы с ней, разделив и не без труда
спрятав на себе, донесли до моей комнаты. Умирающий, казалось, лишь
ждал возможности открыть свою тайну — спустя несколько часов он искупил
свое прегрешение смертью.
В то время как он пытался убедить меня в необходимости хранить
молчание, я старалась вникнуть в суть происходящего. Затрудняясь истолковать
странную волю Провидения, я вдруг подумала, что сокровище, быть может,
отдано в мои руки для того, чтобы помочь сестре и облегчить ее участь. Как
знать — в эту самую минуту не спешит ли она ко мне, возможно — измученная
нуждой, несомненно — угнетенная горем? О, каким утешением было бы для
меня избавить ее от лишений, хотя утолить ее сердечную боль и я была бы не
в силах! Мое презрение к лорду Арлингтону было так глубоко, что я не смог-
ла бы для этой цели воспользоваться его богатствами, даже будь я их полной
хозяйкой; потому я сочла разумным и подобающим принять и утаить этот
дар, который, казалось, само Небо столь странно вложило мне в руки, словно
предваряя им некое неизвестное событие.
Бумаги, по преимуществу, представляли собой переписку между миссис
Марлоу и отцом Энтони, когда они еще были женихом и невестою и позже,
когда ужасное открытие отменило их номинальный брак. Я перечитывала
эти бесценные письма, согреваемая нежностью, на которую, как мне
казалось, я более неспособна; они возвращали меня к жизни, воскрешали мои
чувства, я черпала силу духа у тех, что уже обратились в прах. Я поднимала взор
к небесам в поисках их чистых, преображенных душ и, переходя от светила к
светилу, воображала себе планету, отданную влюбленным, которые более не
несчастны. В письма были вложены сотни безделиц, дорогих лишь сердцу
тех, кто их хранит: монограммы, локоны, сонеты — милые хранители светлых
часов юности, на которые с радостью оглядываемся мы до последней минуты
угасающей жизни. С благоговением целовала я невинные реликвии любви,
столь несчастной, и видела в них едва ли не драгоценнейшую часть своего
наследства.
Время рассеяло радостные надежды на возвращение сестры, которыми я
тешила себя. Мой разум погрузился в привычное дремотное бездействие, а
обретенное мною сокровище оставалось если и не забытым, то ненужным.
Из этого глубокого оцепенения меня вывел удар, подобный
землетрясению. Лорд Арлингтон, упав на охоте с коня, порвал кровеносный сосуд и был
принесен домой в состоянии почти безжизненном. Совесть и долг
человеколюбия повелевали мне забыть свои обиды. Я сделала все возможное, чтобы
выходить его, и некоторое время казалось, что он поправляется, но его
обычная невоздержанность в выпивке, которую он сохранял даже в это время,
оказалась сильнее и моих забот, и медицины, и, претерпев череду страданий, при
виде которых навсегда исчезла моя неприязнь, он скончался в расцвете лет.
Боже милосердный, какой переворот в моей жизни означало это событие!
Привыкнув к неволе и к мысли, что лорду Арлингтону суждено пережить
меня, я наблюдала за невероятной переменой в немом изумлении. Ужас,
вызванный зрелищем его страданий, сменился, когда они прекратились, сладостной
мыслью о свободе. «Свобода, — отзывалось вздохом мое усталое сердце. —
Для чего теперь мне возвращена моя свобода?» Я видела себя в положении
пленника, которого, освободив от оков, тут же бросили в безграничном
океане в утлой лодке без весел и руля, без пропитания. На что было мне
опереться духом? Где в бескрайнем мире была благородная рука, чью великодушную
помощь я могла принять без страха и стыда?
Родственник лорда Арлингтона, наследовавший титул и владения, был
безграмотный и грубый морской офицер. Только болезнь лорда Арлингтона
удерживала его в Англии, и, получив известие о кончине, он тут же приехал в
сопровождении двух сестер покойного, которым было отказано все его
имущество. Я ждала лишь оглашения завещания, чтобы уехать из этого печаль-
ного дома, от которого намеревалась навсегда отказаться. Всемилостивый
Господь! Как велики были мое возмущение и мой гнев, когда я узнала, что
упомянута в завещании как несчастная безумная, которой он назначил
жалкое содержание и жизнь под надзором его сестер в Сент-Винсентском
Аббатстве, которое, как им самим приобретенное, отходило к ним. Никогда, ни в
каких испытаниях, выпавших до той поры на мою долю, не обрушивалось на
меня потрясения, подобного этому. И за могильной чертой он длил свой
тиранический гнет! Низкий, презренный негодяй! В то самое время, когда я в
неустанном уходе за ним напрягала остатки сил и здоровья, подорванных его
жестокостью, он осознанно обрекал меня на столь неслыханное, позорное
заточение и превращал его в бессрочное! Человеческая природа бессильна перед
таким сокрушительным ударом: он вызвал то несчастье, за которое карал. Я
вновь погрузилась в мрачную бездну, из которой в последнее время начала
выбираться... Мозг мой пылает при едином воспоминании об этом... О сестра
моя! Каковы бы ни были беды и горести твоей таинственной судьбы, мои,
несомненно, могут притязать на печальное превосходство!
Ликующий Эссекс, как только весть о смерти лорда Арлингтона достигла
двора, отправил с нарочным письмо, умоляя меня оставить унылую тюрьму,
где я так долго томилась, и переехать в имение лорда Саутгемптона в
Херефордшире, куда немедленно отправится молодая жена этого вельможи,
чтобы там принять меня и окружить заботой. Леди Саутгемптон была та
прелестная кузина лорда Эссекса, о которой я уже упоминала. Тайно вступив в
брак, она утратила благосклонность королевы. Ухудшающееся состояние
здоровья леди Эссекс, добавлял он, обещает ему в скором будущем обретение
свободы, ставшей вдвойне желанной теперь, когда свободна я. Леди
Саутгемптон давно намеревалась последовать за своим супругом в Ирландию.
Эссекс писал, что мог бы быть спокоен, лишь зная, что я нахожусь в обществе и
под покровительством его кузины, и торжественно обещал, что не станет
навязывать мне свое присутствие до тех пор, пока законы общества не позволят
ему открыто заявить о тех чувствах, что так давно живут в его сердце.
Родственники лорда Арлингтона, наделенные, в силу его завещания,
безграничной властью, перехватили и вскрыли это письмо. Вместо того чтобы
пролить бальзам его в мое истерзанное сердце, они утаили это драгоценное
свидетельство привязанности, не знающей себе равной, и отослали гонца
назад с печальным известием о моем безумии и заточении. Но лорд Эссекс уже
бывал обманут и потому не мог с легкостью поверить этому известию. Он
отправил Генри Трейси, молодого офицера, пользующегося его доверием,
выяснить мое истинное положение, приказав ему не поддаваться ни на какие иные
способы убеждения, кроме как на личную встречу со мной. Увы, еще до того,
как было принято это решение, обида вновь воспламенила мой шаткий
разум, и теперь новый лорд Арлингтон мог, не опасаясь, позволить Трейси
войти в мою комнату. Погруженная в глубокое оцепенение, я не отвечала на его
вопросы и, опустив на глаза траурную вуаль, сидела, как отдавшаяся молитве
восточная женщина, добровольная жертва своего отчаяния. Верный Трейси,
все еще опасаясь обмана, потребовал мой портрет и прядь моих волос, дабы
доказать своему господину, что видел именно меня в столь прискорбном
состоянии, и, получив требуемое, уехал.
Но что сталось с Эссексом, когда Трейси привез ему это печальное
подтверждение? Свидетельства, доставленные посланцем, придали сил
неугасимой страсти, владевшей его душой. Сотни раз он заставлял Трейси описывать
комнату, мое платье, мой вид: то ему казалось, что даже его осторожный друг
был обманут, то он предполагал, что злодеи, в чью власть я отдана, на то
короткое время, когда Трейси позволено было свидеться со мной, одурманили
мои чувства: сотни предположений, догадок и вымыслов он пытался
противопоставить устрашающей истине.
Угнетенный этими мыслями, лорд Эссекс выступил в Ирландию,
наделенный безграничными полномочиями, во главе армии, верной ему как в
благодарность за прошлое, так и в надежде на будущее. Пройдя лишь часть пути,
он принял внезапное решение: поставил на время похода во главе войска
лорда Саутгемптона, сам повернул вспять и поспешил в Сент-Винсентское
Аббатство, дабы по свидетельству своих чувств судить о состоянии моих. Он
прибыл туда за полночь и потребовал, чтобы его провели ко мне. Тон его не
допускал ни отказа, ни промедления, и хозяева с неохотой повиновались. В
комнате моей мерцала тусклая лампа, и навстречу более ярким светильникам
вошедших я зажмурила глаза и в бессмысленном молчании замахала руками,
чтобы их убрали. Порыв горя и изумления, охвативший благородного
Эссекса, когда все известия обо мне так ужасно подтвердились, едва не сокрушил
его собственного рассудка. По непостижимой милости Провидения, мое
застывшее и, казалось, ко всему глухое сердце пробудилось при звуках
знакомого голоса, солнце взошло над моею душой, и глаза раскрылись, чтобы
узреть предмет моей любви. Этот поразительный результат его присутствия
мог бы убедить его, что рассудок никогда не покидал меня, если бы бурная
радость моих бедных служанок при виде такой неожиданной перемены не
была столь искренней и неподдельной. Они упросили Эссекса дать мне время
укрепиться в возвратившейся способности чувствовать и мыслить, прежде
чем эти чувства и мысли вновь обратятся к нему, и всю страсть, все планы,
что теснились в груди его, он выразил лишь приглушенными восклицаниями
и молчаливыми знаками нежности.
Алисия, бывшая в течение многих лет моей любимой служанкой, поведала
Эссексу (когда он, вняв уговорам, удалился и оставил меня отдыхать) о
жестоком и несправедливом завещании, которое, сделав меня пожизненной
пленницей, вызвало этот ужасный возврат болезни. Его гордость, всегда
пренебрегавшая осторожностью, а сейчас пренебрегшая и приличиями, побудила его
заявить семейству Арлингтон, что он скорее даст убить себя, чем допустит,
чтобы я вновь оказалась в их власти. Поставив у моих дверей самых верных из
своих слуг, с тем чтобы они не пропускали никого, кроме моих личных
служанок, он удалился в отведенные ему покои обдумать, как действовать дальше,
чтобы подвергнуть наименьшей опасности мой возвратившийся разум.
Алисия благоразумно распорядилась отворить мне кровь, после чего я
заснула глубоким и сладким сном, какого давно уже не знала. На следующее
утро я проснулась слабой, но с совершенно проясненным сознанием. Я
помнила, или воображала, что видела Эссекса; Алисия открыла мне правду и
пролила слезы радости, услышав от меня разумный ответ. Я уступила ее
просьбам отложить до послеполуденного часа встречу, столь радостную и
волнующую, послушно приняла от нее целебный настой и пищу, которую она для
меня принесла. Эти несколько часов удивительно укрепили мои силы, и наконец
мне дозволено было видеть великодушного возлюбленного, к которому
стремилась душа моя. Пока он в пылких клятвах изливал свою неугасимую
любовь и с нежной печалью взирал на разрушительный след, оставленный горем
и обманутыми надеждами на моем изможденном лице и в болезненной
худобе тела, я с удивлением видела, как щедро одарили его прошедшие годы:
нежный расцвет юности сменился в нем мужественной зрелостью, белая
кожа с тонким румянцем покрылась походным загаром, облик его, обретя силу,
не утратил изящества, взгляд был исполнен прежнего очарования и новой
властности, и он, казалось, обводя повелительным взором весь остальной
мир, обращал взор, полный нежного очарования, ко мне одной.
Ах, мужчина, счастливец мужчина, насколько благосклоннее к тебе
природа! Ты наделен научными знаниями, отвагой, тебе доступны дела и
занятия, неведомые утесняемой женщине. Из твоих различных жизненных
неудач всякий раз возникает бодрая, неувядающая надежда и незаметно
затягивает раны — те раны, что у слабых созданий неостановимо кровоточат,
истощая жизненные силы; а когда судьба, смягчившись, дарует тебе исполнение
желаний, с неомраченной радостью встречаешь ты дорогой ценою купленное
счастье, едва ощущая своей щекой холодную росу слез на щеке той, что
слишком поздно обрела возможность разделить твою судьбу.
Прошло несколько дней, прежде чем я отважилась на долгие беседы с
Эссексом, который все это время занимал меня разговорами о забавных и
незначительных предметах, в то же время строя свои планы на будущее. Видя, что
я сохраняю спокойное расположение духа, он наконец решился развернуть
передо мной весь грандиозный замысел, наполнявший его воображение.
— В неуклонном противостоянии моей воли силам судьбы, дорогая Элли-
нор, — начал он, — никогда, с минуты первой нашей встречи, не строил я ни
единого плана, который не включал бы вас, и тот, что я намерен теперь
открыть вам, с давних пор был моим излюбленным детищем. Соберитесь же с
силами, выслушайте, не удивляясь, и — если можете — одобрите его. Как
только я узнал, что низкие хитрости были пущены в ход, чтобы разлучить нас,
мне стало очевидно, что нам никогда не соединиться с согласия Елизаветы.
Но какими отличиями и благосклонностью я ни был бы ей обязан, здесь даже
ее власти я не признаю над собой. Не должности и блага, доставляемые ее
склонностью, дают гордость моей душе. Имея более прочную опору, душа
моя шла дорогою славы, и, смело могу сказать, слава эта придала
достоинство пристрастию королевы. Само же пристрастие, хотя и несообразное ее го-
дам и сану, было неизменным и великодушным, и потому я поклялся до
последнего дня жизни Елизаветы сохранять преданность ей во всем, кроме
жизни сердца, и хранить верность вассальной присяге, подчинив ей все, кроме
своего счастья. Трудно примирить обязанности и склонности, столь
противоположные, но, я думаю, вы согласитесь, что мне это удавалось.
Слепому пристрастию ко мне и своему вопиющему эгоизму королева
бесчестно принесла в жертву вашу юность, ваши надежды, ваше счастье, но она,
увы, забыла, что, поступая так, сделала их всецело моей заботой. Ни минуты
не задумываясь о муже, которого она для вас избрала, об этом жалком
создании, которое мог уничтожить единым взглядом, я целиком посвятил себя
тому, как освободить вас из неволи, для меня не менее непереносимой, чем для
вас. Среди множества других планов я решился известить короля Шотландии
о вашем существовании и нынешнем положении, прося его из братского
сочувствия предоставить вам надежный приют, покой и защиту, которых сам я,
в силу своей молодости и жизненных обстоятельств, предложить вам не мог.
Я нашел способ сообщить ему всю вашу печальную историю, но как опишу я
вам его недостойное поведение? Я был глупец, полагая, что человека,
который мог покорно снести убийство матери, тронет мысль о каких бы то ни
было иных узах. Отнюдь не пытаясь спасти дорогую несчастную сестру, о
сострадании к которой я молил его, он притворился, что не верит рассказу о
браке матери с герцогом Норфолком, хотя графиня Шрусбери клятвенно
заверила меня, что сама передала ему от королевы Марии бесспорнейшие о том
свидетельства, как только он избавился от власти регента и смог действовать
как суверенный монарх. Несомненно, стремясь единолично наследовать все
права своей матери, он добровольно отрекся от забот и о ее прахе, и о ее
потомках, с постыдной покорностью целуя руку, сократившую ее дни. Чего же
после этого ожидать от короля Шотландии? И зачем ради брата,
отрекшегося от вас, жертвовать лучезарным будущим, открывающимся перед вами? Вы
дочь первого пэра Англии и царственной принцессы, ближайшей наследницы
трона, вы уроженка этой страны. Одно лишь необходимо, чтобы установить
права, на которых вы можете справедливо основывать самые высокие
устремления: нужны подлинные документы, подтверждающие эти факты. Они
существуют, как мне доподлинно известно, и, хотя они рассеяны между
католиками — родственниками и друзьями Марии, я не теряю надежды их
заполучить. Англичане всегда ревниво относились к своим национальным правам,
всегда страшились самой отдаленной угрозы их уничтожения и уже сейчас
обращают взоры к семейству Суффолк, дабы избежать воцарения
иноземца . Эта несчастная ветвь королевского рода, представители которой
становились жертвами то страха, то политических интриг, истекала кровью из
поколения в поколение, так что сейчас ее представляют лишь женщины, из
коих ни одна не обладает достаточным мужеством, умом и талантом, чтобы
вступить в борьбу, даже имей она то преимущество по праву рождения,
которое принадлежит вам. Так примем точку зрения лорда Лейстера, который,
несомненно, предполагал с помощью умелой и осторожной политики вымос-
тить путь к престолонаследию для вашей сестры после кончины Елизаветы.
Ваша судьба связана с судьбою человека, гораздо более способного
осуществить задуманное. Елизавета с каждым днем приближается к краю могилы.
Склонная ненавидеть того, кому нанесла столь непоправимую обиду, она все
еще отказывается признать своим наследником короля Шотландии. Она
наделила меня всей полнотою власти, дающей возможность воспользоваться
той популярностью, которую я честно завоевал. И хотя по рождению я не
принадлежу к прямым потомкам королевского дома, род мой был
благороден во многих поколениях, а в нескольких — знатен. Обстоятельства и
достоинства, таким образом, дают мне возможность сравняться с вами. Не
сомневайтесь в успехе этого замысла. Вас, рожденную для королевской власти,
способную украсить и облагородить ее своей красотой и своим величием, с
неоспоримым свидетельством вашего высокого рождения, на отыскание
которого я не пожалею сил, вас смело представлю я народу Англии как новую
королеву во цвете юных сил — и он примет вас радостно, и никакие жалкие
попытки ребячливого шотландского педанта противостоять армии, привлеченной
моею щедростью, повинующейся мне с радостью, полагающейся на мою
отвагу, не пошатнут права, которое опирается на столь мощную поддержку. Разве
наша история знает мало примеров, когда мужество и популярность свергали
монархов, щедро наделенных всеми иными преимуществами? Теперь вы
знаете, что уже долгое время составляет главную цель моей жизни. Все это
время каждый мой поступок, каждая мысль были тайно связаны с ними. Не
растрачивая попусту юность среди разнообразных удовольствий, которые
веселый двор Елизаветы мог предложить ее любимцу, я бороздил моря,
присматривался к войску в лагерях, укреплял армию, всеми средствами увеличивая
свою полководческую славу, военные знания и популярность в войсках, зная,
что придет день, когда от них будет зависеть более, чем одна только судьба.
Именно поэтому я так стремился воевать в Ирландии: в этой стране я буду во
главе армии, что позволит мне без труда воспользоваться по своему
разумению кончиною королевы, не потревожив ее преклонные годы грозным
признаком интриг, тайн или мятежа. Смело решайтесь, любовь моя, последовать
туда за мною — только там вы будете в полной безопасности. Я помещу вас в
одной из неприступных крепостей вместе с леди Саутгемптон, сам же
останусь в лагере и не приближусь к вам без вашего дозволения. Я требую этого
доказательства вашего доверия и вашей любви и в ответ клянусь нерушимо
соблюдать честь и повиновение. О, не спешите с ответом, милая Эллинор,
лучше вспомните ту роковую минуту, когда, упорствуя в своей осторожности,
вы навлекли на нас обоих столь долгие и тяжкие страдания. Помните:
сегодня снова от вас зависит решение своей и моей судьбы.
Эссекс поднялся и, оставив меня погруженной в глубокое раздумье,
удалился. Разум мой мгновенно принял грандиозный замысел, развернутый
передо мной. Сквозь темные, тяжелые тучи, издавна нависшие над моей душой,
проглянуло солнце любви и золотом залило все вокруг. Взойти на престол,
разделить его с избранником моего сердца, ему вручить ту власть, обретени-
ем которой я буду обязана его отваге, — меня поражало, что самой мне эта
мысль до сей поры не приходила в голову, но непрерывная череда несчастий,
следовавших за моим рождением, вполне могла заглушить во мне всякое
сознание прав, им даваемых.
— Жалкий и недостойный сын, — со вздохом промолвила я, — бесчестный и
жестокий брат, отчего ради тебя должна я пожертвовать единственной
возможностью, открывшейся мне по эту сторону могилы?
Подлое смирение Иакова перед ударом, который меня едва не заставил
поднять руку на коронованную убийцу, еще прежде оскорбило мои чувства и
навсегда оттолкнуло от него; я могла объяснить его недостойное поведение,
лишь предположив, что он все еще был во власти врагов своей матери, хотя
даже тогда благородная душа решительно противилась бы злу, которое не в
силах предотвратить, но, узнав, что нерушимый долг и все человеческие
чувства он принес на алтарь этого чванливого идола — себялюбия, я отказала ему
во всяком праве на те чувства и те обязательства, от которых сам он отрекся.
В решительном замысле благородного Эссекса все говорило в его пользу, к
тому же согласие мое было ему необходимо не столько для успеха замысла,
сколько для счастья, да и могла ли я колебаться, если отвергнуть этот
замысел означало отдать себя в руки неумолимого врага? И все же, поскольку
открытый отъезд вместе с Эссексом или даже вслед за ним пробудил бы у
Елизаветы опасные подозрения и подтвердил бы все клеветнические вымыслы
света, я уделила немало времени одной весьма необычной мысли, возникшей
у меня, которая обещала возможность избежать и того, и другого. И само
состояние моего здоровья было бы достаточной помехой для нашего
одновременного отъезда даже при отсутствии иных препятствий.
По возвращении Эссекса я заметила, что он старается подавить в себе
гнев, причину которого я убедила его открыть мне.
— Дело, не стоящее внимания, — ответил он со свойственной ему
прямотой. — По счастью, те немногие друзья, что сопровождают меня, люди
бывалые и храбрые, и сила на нашей стороне. Негодяи, которые держат вас здесь,
любовь моя, утверждают, что уполномочены на то не только покойным
лордом Арлингтоном, но и королевой. Придется нам прибегнуть к силе, чего я
пытался избежать, но это пустое.
— О, не говорите «пустое» о том, что хоть отдаленно угрожает вашей
безопасности! — воскликнула я. — Остерегайтесь, как бы я, подчинившись вашему
отважному замыслу, не стала причиной его крушения — да, не глядите на
меня с таким изумлением: всей душой я принимаю и разделяю ваши мысли. Я
наконец послушаюсь своего сердца и тем самым соединю его с вашим. Всю
мою жизнь неотрывно следуя взором за вашей судьбой, я с радостью
соглашаюсь разделить ее, а потому поклянитесь, что мое доверие побудит вас к
большей осмотрительности. Заботясь о своей чести, я лишь оберегаю вашу.
Дайте же мне слово не противиться моему плану, а я в ответ поклянусь, что
все, что я с этой минуты предприму, будет направлено к общей с вами цели.
Едва поверив своим ушам, Эссекс охотно дал мне заверения, которых я
желала. Намереваясь соблюдать право первенства моей сестры, не имея
возможности судить о причинах ее долгого отсутствия, я настояла на том, чтобы
он отдал предпочтение ее праву престолонаследия перед моим и поддержал
его, если она когда-либо появится. Он согласился, должно быть, с тем
большей готовностью, что был убежден в смерти моей сестры, а решение мое счел
чистой фантазией.
Не желая открывать моему решительному дорогому возлюбленному,
каким способом я намерена сопутствовать ему, я просила его принять скорбный
и неутешный вид, который убедил бы родственников Арлингтона, что я
вернулась в состояние безумия. Между тем одну из моих служанок поразила
опаснейшая эпидемическая лихорадка. Я нетерпеливо торопила Эссекса с
отъездом, чтобы страшная болезнь не передалась ему, и уговорила его ждать
вместе с леди Саутгемптон, пока я не присоединюсь к ним в порту, где войска уже
погрузились на суда. Мой вид спокойной уверенности убедил его подчиниться
даже вопреки собственному разумению. Арлингтоны, обрадованные его
отъездом не менее, чем предполагаемым возвратом моей болезни, страшась
распространения лихорадки, закрыли в отведенной мне части дома тех, кто мне
прислуживал, сами же избегали ее так, словно в ней воцарилась чума.
В этом уединении я и осуществила необычный план, который уже давно
обдумывала. С той минуты, как мне стало известно о ложном погребении
лорда Лейстера, мысль об этом не покидала меня. Я считала, что нужно
лишь упорядочить столь невероятный и фантастический план, и каким бы
немыслимым он ни казался на первый взгляд, со временем он обретет
законченный вид и сможет осуществиться. Сокровище, переданное мне управляющим,
теперь воистину сделалось сокровищем. Размышляя о нем, я пришла к
убеждению, что дар этот объяснялся причастностью покойного — и в качестве
конфидента, и в качестве свидетеля — к бесчеловечному завещанию своего
господина; распорядившись же таким образом сокровищем, он дал мне
возможность спастись от чудовищных оков, налагаемых завещанием, и при этом не
нарушил своих обязательств.
Служанка, бывшая единственной свидетельницей получения мною этого
таинственного наследства, ни разу не проговорившись о столь необычном
событии, несомненно доказала, что я могу довериться ей вполне. По счастью, к
ней благоволили и те, в чьей власти я находилась, и потому иной и лучшей
помощницы я не могла желать. Обратив против королевы ею же изобретенную
хитрость, я могла ускользнуть из-под ее власти и из-под власти тех, кому она
поручила стеречь меня, и могла исполнить пожелание Эссекса, не подвергая
его опасности.
Алисия радостно одобрила мой план и в исполнении его заручилась
помощью своих родителей, скромных тружеников, живших неподалеку. Как
только в состоянии больной служанки появились признаки приближающейся
смерти, я сделала вид, что меня поразила та же роковая болезнь, и когда
вскоре после этого она скончалась, ее тело было уложено на мою постель. Ее
волосы, рост, цвет лица, годы были настолько сходны с моими, что мне уда-
лось ускользнуть от наблюдения окружающих, а общий страх перед заразой
избавил нас от чересчур пристального разглядывания. Так как считалось, что
девушка умерла в одно время со мной, умелыми хлопотами Алисии ее
предполагаемые останки должно было доставить к родителям моей верной
помощницы. Поместившись, вместе с оставленным мне сокровищем, в простом
гробу, я, подобно королеве Матильде, храбро проследовала сквозь толпу
недругов и была перенесена в смиренную хижину, откуда я предполагала,
отдохнув и окрепнув, последовать за Эссексом.
Алисия теперь оповестила о моей смерти семейство Арлингтонов, которые
встретили это известие с радостью. Безоглядное поведение благородного
Эссекса навело их на мысль, что может настать день, когда то, что они
выполняли королевский приказ, окажется неубедительным оправданием. Эта мысль
добавила страх к той ненависти, что они издавна испытывали ко мне, и
теперь они с радостью похоронили оба эти чувства в моей могиле. Пересмотрев
мой гардероб, драгоценности и бумаги и не обнаружив ни в чем недочета, они
приготовились к погребению и распустили всех моих слуг, в их числе и мою
преданную помощницу, и с ее возвращением в родительский дом сердце мое
успокоилось.
В смиренной хижине, принадлежащей родителям честной и верной
девушки, я и заканчиваю эту часть своих воспоминаний. Отсюда, словно из иного
мира, наблюдала я мрачную процессию, которой мои обманутые тюремщики
ошибочно почтили женщину низкого происхождения. Торжественно
поместив ее бок о бок с лордом Арлингтоном, они, должно быть, бессознательно
погрешили против требований приличия. Глядя из своего окна на траурный
кортеж, я задумалась об этой церемонии, проникнутой помпезным
тщеславием. «О ты, тихо спящая в гробу, — вздохнула я, — пусть в нем и вместе с моим
именем будет навсегда похоронена вся мучительная часть моего
существования! Пусть в мире, который все еще открывает передо мной цветущую тропу,
воспряну я обновленной и счастливой, с исцеленным духом, твердым
разумом, нравом, неподвластным ударам судьбы!..»
* * *
Сердце, прихотливое и непостоянное, вполне наслаждается лишь теми
радостями, что само создает для себя. Мне часто кажется, что в этом простом
сельском приюте, скрытая грубым мужским нарядом, ожидая часа, когда
дальнее королевство станет мне родным домом, я была так богата надеждой
и счастьем, как никогда не бывала в дни юности и здоровья...
* * *
Моя судьба вновь вернула меня к мыслям о судьбе Матильды. Я много
думала о своей милой сестре. Увы, должно быть, прав Эссекс, и более нет в
живых той, кого могу я звать этим именем. Долгие годы идут чередой, а эта не-
постижимая тайна остается тайной. Это ужасное молчание продолжается —
не может быть тому иной причины, кроме смерти... Так прощай, имя столь
сладостное для моих уст, сокройся в моем сердце и навеки останься
запечатленным там. Прощай, чистый дух, слишком беззащитный для этого грубого
мира. Я не стану более искать тебя на поверхности земли, я не стану
воображать тебя в глубине ее — нет, теперь я буду устремлять уверенный взор к
небесам, «где беззаконные перестают наводить страх», и представлять, что на
некой еще не открытой звезде я вижу тебя. Ах, если это так, снизойди к
скиталице и направь мои робкие шаги, а случись жестокой судьбе подвести меня
к краю пропасти — освети дорогу и оборони меня от опасности!..
Душа моя в волнении, торжественный восторг, который бессильны
выразить слова, владеет всем моим существом... Я должна заглушить их сонным
забытьём, дабы вновь обрести душевное равновесие...
* * *
Счастье, неопределимое благо! В чем исчислить тебя? Нет, я не верю, что
счастье можно оценить в золоте, и все же каким восторгом от горсти этого
презренного металла осветились изборожденные заботами лица почтенных
родителей Алисии! Земле, отдавшей сокровище, я вернула его оставшуюся
часть. Оно погребено с восточной стороны у корней раскидистого каштана,
посаженного Эдуардом Четвертым. Это хорошо известное дерево,
защищенное и от прихоти владельца поместья, и от лопаты работника; оно охранит
клад, но если когда-нибудь под сенью его вырвется вздох из благородного
сердца, угнетенного нищетой, пусть добрый ангел шепнет: «Здесь, у тебя под
ногами, лежит то, что облегчит твою участь».
Теперь все готово для моего отъезда. Я отказалась от услуг Алисии; в ее
отсутствие мне будет утешением мысль, что она счастлива: милостью Небес
ей дарованы родители, состарившиеся в покое и добродетели, возлюбленный,
незнакомый с коварством и честолюбием, и чистая душа, исполненная
благодарности за эти сокровища, которым нет цены. Преданная девушка
отсрочила счастье своего любимого до той поры, пока он не доставит леди Пемброк
эти бессвязные записки, которые я не колеблясь вверяю ему.
Дорогой, благородный друг, вновь душа моя с любовью приветствует Вас.
Помяните предстоящий мне путь в благочестивой молитве, которой
добродетель освящает наши начинания, и верьте — я молюсь о Вас неизменно.
Помните: если мы увидимся вновь, эта встреча будет радостной.
ПИСАНО РУКОЙ ЛЕДИ ПЕМБРОК:
Едва я справилась от изумления и горя, вызванного вестью о
предполагаемой кончине этого прелестного создания, как некий крестьянин, испросив
позволения видеть меня, таинственно вручил мне этот удивительный пакет.
Увы, как поразило и опечалило меня то, что я прочла! Не осушив слез при из-
вестии о том, что она жива, я с ужасом смотрела в будущее, опасаясь, что
каждый новый день умножит ее несчастья или положит им страшный конец.
Ах, дорогая Матильда! Я не могу согласиться с милой мечтательницей,
которая так легко поддается романтическим вымыслам своего возлюбленного.
Что-то говорит мне, что Вы еще живы, что страдания Ваши не кончились, и
ради Вас я сохраню эти печальные записки. Увы, быть может, проявлением
истинной доброты было бы уничтожить их.
Письмо первое
Послано из Дрогеды
С безопасных берегов иного королевства вновь приветствую я своего
друга... Увы, как мало можем мы поручиться за себя, дорогая леди Пемброк! Для
меня сыскали быстрого коня, и я отправилась вослед Эссексу, но после
первого же дня пути мое расстроенное здоровье (для которого теперь малейшее
усилие чрезмерно) потребовало двух дней отдыха. За время пребывания на
постоялом дворе моя молодость, утонченность облика и манер, сдержанность,
которую я вынуждена была проявлять, возбуждали любопытство, умерить которое
могла лишь моя щедрость, но она подала повод к подозрениям, почти столь
же опасным. Мне стало казаться, что я не сумею осуществить свой план.
Однако я наняла по рекомендации двух крестьян — одного в качестве проводника,
другого как телохранителя, хотя, проезжая по пустынным горам Уэльса, я
порой не решалась оглянуться через плечо на своих спутников из страха, что
увижу убийц. Мое подорванное здоровье сделало путешествие долгим и
утомительным. Я выдавала себя за бедного юношу в жесточайшей чахотке,
который направляется вслед за своим отцом. Наконец, измученная дорогой, я
добралась до порта, где в неописуемом отчаянии узнала, что Эссекс отплыл в
Ирландию неделю назад. Увы, почти тотчас я поняла причину этого, казалось,
странного и вероломного поступка: стремясь сохранить в тайне свой заветный
план, я не предусмотрела возможности, что милорд может получить известие
о моей предполагаемой смерти прежде, чем я сама доберусь до него. Из
расспросов я поняла, что, уезжая из Сент-Винсентского Аббатства, Эссекс
оставил поблизости от него своих наблюдателей, которые, разделяя общее
заблуждение, поспешили к нему с печальным известием. Я узнала, что в течение
некоторого времени он медлил с отплытием, не объясняя причины, но, когда его
подняли среди ночи два спешно прибывших офицера, он распорядился тут же
собрать моряков и отплыл, как только позволил прилив.
Хотя это известие показывало, что винить мне следует лишь себя, оно не
облегчило моего отчаяния. Чтобы обдумать все без помех, я выходила на
берег. Он был заполнен солдатами и их снаряжением. Предоставленные самим
себе, солдаты предавались пьянству и буйному разгулу. Все, что я видела,
усиливало мой страх перед дальнейшим путешествием. Меня ужасала мысль о
том, что надо взойти на корабль вместе с огромной толпой разнузданных
солдат, направляясь в незнакомую страну, в окружении тайны, без покровителя
и защитника. Что, если, движимые любопытством или побуждениями более
предосудительными, они догадаются, что я женщина, станут выпытывать
мою историю? Тогда и имя их генерала, быть может, не защитит меня. Я
вновь стала женщиной, и дрожь охватила меня при единой мысли об этом.
Все еще не зная, на что решиться и как поступить в этих несчастных
обстоятельствах, я увидела приближающуюся кавалькаду путников и с радостью
догадалась, что то была леди Саутгемптон со свитой в сопровождении
отборного войскового отряда, прибытие которого ожидали уже виденные мною
солдаты. Я благословила милосердное Небо, избавляющее меня от последствий
моей опрометчивости, и попросила позволения видеть леди Саутгемптон.
Свидеться с нею было достаточно, ибо с чисто женской зоркостью она тут же
узнала меня и, обвив мою шею руками, с простодушной горячностью
попеняла мне на то, что я задержала ее в пути, вынудив напрасно ожидать моего
приезда, а потом поразила в самое сердце ложным известием о своей смерти.
Я объяснила ей мое необдуманное поведение и его причины. Она высказала
серьезные опасения по поводу того, как подействовало это известие на моего
возлюбленного. Лорд Саутгемптон успел лишь написать ей, что Эссекс в
отчаянии от утраты, что сам он не решается оставить его и потому просит ее
довериться заботе названных им офицеров и следовать вместе с войсковым
отрядом. То, что я узнала, усилило мучительное раскаяние, уже владевшее
мною. Однако, чтобы избежать подозрений и расспросов, я решила вновь
воспользоваться мужским платьем и выдавать себя за одного из пажей леди
Саутгемптон до тех пор, пока мы не обоснуемся благополучно в Ирландии.
Сюда мы прибыли прошлой ночью, и здесь нас ожидало письмо от лорда
Саутгемптона, в котором он выражал сожаление, что не смог дождаться
своей супруги, так как опасается покинуть Эссекса, которого горе побуждает к
безоглядным и отчаянным поступкам. Он просил жену оставаться в этом
городе, пока он не решит, как наилучшим образом позаботиться о ее
безопасности. О судьба, судьба, как несправедливо обвиняем мы тебя, когда лишь
собственное безрассудство ведет нас к ошибкам! Я не в силах выразить свое
отчаяние. Леди Саутгемптон склонна убеждать меня, что моя ошибка может в
конечном счете оказаться благом, так как не позволит мне увидеться с
Эссексом, пока еще жива его супруга. Ах, что может изменить ее смерть в моей
судьбе? «Поверьте, мой осторожный друг, вы не можете заботиться о моей
чести более, чем я забочусь о его безопасности. Между ним и мною — еще более
неодолимое препятствие. Разве брак моей сестры с любимцем Елизаветы не
стоил ему жизни? Увы, быть может, и она заплатила за это жизнью!..»
Над ее загадочной судьбой рано опустилась мрачная завеса, окрашенная,
может статься, кровью ее возлюбленного... Лучше видеть, как кровь вытекает
из моих открытых ран, чем пережить такое несчастье... А что, если оно уже
обрушилось на меня, и в эту самую минуту я умираю в Эссексе, еще не ведая
своей судьбы?.. О, какой ужас охватывает мою душу при этой мысли!..
Леди Саутгемптон запечатывает свои письма в Англию, и я успеваю лишь
проститься.
Письмо второе
Послано из Дрогеды
Привязанная к этому месту, страшась всего, что происходит за его
пределами, едва ли могу я, мой великодушный друг, сердцем принять
поздравления, что Вы мне посылаете. В окружении врагов, в безрассудстве отчаяния,
Эссекс отказался от грандиозных замыслов, которыми наполнил мое
воображение, и всецело обратился к своим воинским делам... Ах, если бы не я
своими руками наточила стрелу, что пронзает мне сердце!.. Крутом тревога,
неуверенность и смятение; каждый день мы обретаем и вновь теряем связь со
своими друзьями и не решаемся отправлять этим путем сколь-нибудь
значительных сообщений. Вчера сэр Коннерс Клиффорд с отборным отрядом
попал в окружение. Он сам и полсотни человек погибли, среди офицеров был
родственник леди Саутгемптон; весь день она, не осушая слез, оплакивает его.
Я же, не в силах лить слезы об общих бедах, коплю их в сердце, чувствуя,
каким потоком хлынут они, если подтвердится хоть одно из многих опасений,
терзающих меня. Вам не вообразить, сколько нужды, горя и ужаса мы видим.
Рожденные и выросшие среди роскоши и довольства, мы едва ли
задумываемся о далекой войне, но какой грозной и всеобъемлющей предстает она,
когда мы оказываемся втянутыми в ее безудержный вихрь! Смерть, кровавая
гибель, принимает множество ужасных обличий, и повсюду ей предшествуют
грабежи, голод, болезни, нищета.
До сей поры я считала судьбу сестры более несчастной, чем моя
собственная, но как всякая беда бледнеет в сравнении! Дорогая Матильда, даже ты,
рожденная для печали, видела лишь часть той необъятности ее, что мир
являет нам. Нет покоя той, что спит под звук барабана и в каждом ударе его
слышит голос судьбы. Можно ли назвать это жизнью? Ах, нет — лишь
нескончаемой смертью.
Эта страна, так близко связанная с нашей, тем не менее предстает перед
нашими глазами как иной мир: разделенная на мелкие государства,
питающие друг к другу закоренелую ненависть, она не знает блага единения, лишь
иногда собирая вместе разобщенные части против общего врага; но, по
необходимости объединяясь, они не сливаются, и малейшее ослабление общей
опасности тотчас пробуждает их узкие пристрастия и предубеждения,
которые то и дело выливаются в кровавый разгул жестокости. Выгоды торговли,
очарование литературы, все блага цивилизации, которые обогащают ум и
облагораживают нравы, почти неведомы этим людям. С дикарской гордостью
самую обездоленность свою они почитают добродетелью и нищете обязаны
своей неуправляемой отвагой, которая нередко дает им силы противостоять
хорошо обученным войскам и порой наносить им поражения единственно в
силу неожиданности; порой же они, напротив, рвутся в неравный бой, и там,
где рассудительный ум отворачивается от сцен кровопролития, тщеславятся
тем, что земля усеяна их изувеченными телами; все это лишь оттого, что еще
никто не сделал милосердной попытки одержать победу над их умами.
Как глубоко должны воздействовать такие мысли на сердце, нераздельно
связанное с жизнью отважного военачальника! Его силы не превышают сил
человеческих, наравне со всеми ему грозит опасность и от меча, и от стихий,
и ему, даже ему, суждено когда-нибудь погибнуть. Оплакивая тех
несчастных, что каждый час теряют своих возлюбленных защитников, я не могла
знать, не принадлежу ли и я к их числу. Ах, если отчаяние побудит Эссекса...
а его природная храбрость и не нуждается в таком побуждении... если он
погибнет, не зная о том, что я еще жива, то его гибель я всегда буду связывать
со своим роковым, хотя и искусным, планом и расстанусь с жизнью оттого,
что осуществила этот план.
Странная фантазия неудержимо овладела мною... Леди Саутгемптон
говорит, что это безумие. Быть может, она права, но я не могу думать ни о чем
ином. Впрочем, она слишком робка, чтобы верно судить об этом... Я охотно
верю, что сама она готова остаться здесь на всю жизнь.
Хотя бы на миг увидеть это выразительное лицо... словно воскресшей
вновь явиться перед ним!
Что-то неодолимо влечет меня в дорогу... сейчас выступает отборный
войсковой отряд... я буду сохранна под их защитой. Что, если меня так
настоятельно зовет предчувствие грозящей ему опасности? Никогда, никогда я не
простила бы себе, если бы оставила его мучиться от ран, умирать на руках
людей чужих и равнодушных.
«Не спорьте более, дорогой мой настойчивый друг; я еду, но верьте моему
слову — я вскоре вернусь...»
Леди Саутгемптон не смогла бы стать подругой Эссексу — она боязливей-
шая из женщин, но ей и не суждено делить судьбу этого неустрашимого
героя.
Часть V
Столь долгое молчание заставит Вас числить меня среди
погибших — утешьтесь, мой милый друг: я родилась на свет для
непрестанной борьбы с враждебной судьбой и еще не поникла
под ее гнетом. Я собиралась с мыслями, чтобы продолжить
свое повествование, ото дня ко дню все более странное.
На пути в Ольстер мы подверглись нападению мятежных
ирландцев и завязалась отчаянная схватка. Как решиться мне
на признание и зваться при этом возлюбленной Эссекса, но тем
не менее это так — я, которая была так отважна в своем
воображении, вдали от поля брани, я, которая мысленно вздымала
меч с силою Голиафа и ограждала Эссекса щитом, тяжелее и больше себя
самой, совершенно потерялась от одного только вида сражения, и лишь
обморок, укрывший меня среди поверженных тел, помешал мне пополнить собою
их число. Я очнулась от прикосновения рук нескольких свирепого вида
женщин, которые, обирая мертвых, сразу обнаружили, что я еще жива и одного с
ними пола. Побуждаемые то ли человеколюбием, то ли надеждой на выкуп,
они выслушали мою горячую мольбу о пощаде и препроводили меня в
хижину неподалеку, куда вскоре привели священника, и он отворил мне кровь.
Медленно приходя в себя, я огляделась вокруг в немом изумлении, не зная,
считать ли свое спасение благом. Я была окружена людьми, которые лишь
цветом кожи походили на меня; языком, манерами, образом жизни они были
схожи со мной не более, чем жители жарких стран. Я тщетно пыталась
понять их речь или объясниться сама и совсем было отчаялась, когда на помощь
мне пришел уже упомянутый мною священник. Через него я объявила, что
лорд-наместник внесет за меня любой выкуп, если только я буду ограждена
от опасностей и оскорблений. Я полагаю, что мне удалось бы обеспечить
безопасность для себя, если бы толпа победителей не узнала со слов какого-то
солдата, отставшего от своих товарищей, что среди тел убитых была найдена
высокородная дама-англичанка. Они поспешили вернуться и потребовали
передать меня им, а поскольку те, в чьих руках я находилась, не желали
расстаться с надеждой на выкуп, последовало столкновение не менее яростное (хотя и
не столь кровавое), чем то, при котором мне уже довелось присутствовать.
Ожесточение сторон делало спор неразрешимым, и наконец, дабы избежать
кровопролития, они согласились, что меня должно передать в руки их
военачальника Тайрона, или — как некоторые его называли — О'Нийла. Мольбы и
сопротивление были бы одинаково бессмысленны, и мне оставалось
радоваться, что они считают меня персоной достаточно значительной, чтобы обойтись
со мною столь достойно.
Пока происходили описываемые события, некий слуга, особо посланный
леди Саутгемптон, чтобы сопутствовать и прислуживать мне, замешкавшись
на несколько минут, отстал от английского отряда, последовал за ним и
нагнал в самый момент нападения. Звуки выстрелов донеслись до него, прежде
чем он повстречался с дозорными, и, пришпорив коня, он помчался назад, в
деревню, нами недавно покинутую, чтобы там в безопасности дождаться
исхода событий. В деревне он узнал, что банда мятежников напала на нас из
засады, устроенной в окрестных горах, и, пока он колебался, не зная, что
предпринять, до него дошло известие, что я оказалась женщиной и что я в плену.
Пораженный мыслью, что здесь кроется некая важная тайна, на что
указывало и мое мужское платье, и предосторожности его госпожи, он поспешил
вернуться к ней со странными вестями. Великодушная, но робкая, леди
Саутгемптон, думая лишь о грозящей мне опасности, незамедлительно написала
Эссексу, кратко изложив все то, что ему было неизвестно, и горячо моля его
сделать все, что в его власти, дабы уберечь меня от оскорблений.
Но кто опишет чувства Эссекса, когда поразительное известие было им
получено? Под влиянием этого известия в душе его ожили все источники
нежности, до той поры заглохшие под ледяным покровом отчаяния и скорби. Знать,
что я жива, было бы безграничным счастьем, не окажись я столь
непостижимым образом отторгнута от него в самый миг своего чудесного воскрешения.
Такое злополучное стечение обстоятельств едва не лишило его рассудка,
превратив душевное волнение в нестерпимую муку. Быть может, это мое
последнее злоключение оказалось необходимым толчком, который оберег его разум
от разрушения в круге тягостных мыслей. Измученный неутолимой душевной
болью, утомленный заботами управления и бременем командования, получив
известие о том, что я жива и в плену, он увидел в своем высоком положении,
бывшем до той минуты тяжкой обузой, единственную возможность вновь
обрести сокровище, которое заключало в себе всю ценность и смысл его
будущей жизни.
Из знаний, обретенных за время военной кампании, Эссекс мог составить
себе точное представление о характере Тайрона и справедливо полагал, что
это человек, лишенный принципов и не склонный кому бы то ни было
подчиняться: в какой же трепет повергала его мысль, что судьба моя в руках Тай-
рона! В обстоятельствах столь опасных он всецело подчинился диктату своего
пылкого сердца и отрядил офицера высокого ранга к главе мятежников с
предупреждением, чтобы тот, во избежание кровопролития, остерегся
вызвать гнев англичан, и прежде всего самого лорда Эссекса, дурным
обращением с дамой, которая волею судьбы оказалась в его власти и за которую будет
внесен любой выкуп, назначенный захватившими ее людьми.
Следствием этого решительного и резкого послания стала едва ли не
большая опасность, чем та, которую оно стремилось предотвратить. К
сожалению, Тайрон мгновенно догадался, что он властен над счастьем
лорда-наместника, и, время от времени успокаивая его посулами достойного
обращения, про себя, несомненно, решил, что если и расстанется со мной, то на своих
условиях.
Лишь после весьма длительного обмена посланиями любопытство
побудило Тайрона посетить меня. Заметив внимание, привлекаемое моим мужским
платьем, я тотчас попросила достать мне другой наряд, более
приличествующий моему полу, и, так как щекотливое положение, в котором я оказалась,
требовало от меня крайне осторожного поведения, я сочла великой удачей то,
что оставалась не замеченной генералом Тайроном.
Многократное повторение его докучных визитов, последовавших за
первой встречей, изобилие предоставленных мне средств удобства и роскоши,
какие только можно было добыть в этой разоренной стране, так же как и
упорное молчание о том, как обстоят мои дела, и утомительно многословные
рассуждения о своих собственных делах — все это вскоре убедило меня, что ни
гордыня его, ни честолюбие, ни свирепость не уберегли сердце Тайрона от
той же могучей страсти, что давала силы жить его славному сопернику.
Мысль о том, что я нахожусь целиком в его власти, приводила меня в трепет.
Обо мне уже сложилось ошибочное представление как о наложнице Эссекса,
я не желала раскрыть своего имени и, даже объявив его, не avorta бы ничем
подтвердить своих прав на какое бы то ни было имя или титул - положение
мое поистине было ужасно. Мне была запрещена любая переписка с
англичанами, и лишь по тому, как бдительно меня стерегли, я догадывалась, что кто-
то заботится о моем освобождении.
Какими последствиями ни грозила бы мне видимость удовольствия от
знаков внимания, расточаемых Тайроном, я с каждым днем все острее
чувствовала, что у меня нет иного средства избежать дерзких домогательств его
подчиненных, которые почитали свои военные заслуги столь значительными, что
ими склонны были оправдывать любые вольности поведения.
Тайрон изыскивал возможности прерывать, возобновлять, длить
секретные сношения, в которые втянул Эссекса, но эти продолжительные
переговоры не отвечали нетерпеливым устремлением несчастного героя.
Расстроенной душою, он не мог более вникать в обязанность командующего; война
близилась к концу, а Эссекс уже не был хладнокровным и осмотрительным
генералом, умело использующим всякое преимущество, зорко
подстерегающим малейший промах противника; увы, он был теперь безумным и
безрассудным влюбленным, готовым поступиться чем угодно, лишь бы вновь
обрести единственное обожаемое им существо. Терзаемый любовью, страхом,
тоской, подверженный всем мучительным крайностям болезненно
напряженных чувств, великодушный Эссекс в это роковое время постепенно принес в
жертву страсти честь и доблесть жизни, до той поры столь блистательно
славной. Известие о вспыхнувшей любви Тайрона увенчало собой его
несчастья. Этот низкий предатель, дабы принудить лорда-наместника принять его
условия, окольными путями извещал его о кознях, якобы чинимых им
против меня, и об отпоре, к которому они меня якобы вынуждают, а затем
отрицал подобные намерения таким образом, чтобы укрепить соперника в его
подозрениях. С помощью всех этих ухищрений он держал в полном
подчинении гордый ум и воинские таланты Эссекса, который, не решаясь дать волю
отваге, полыхавшей в его груди, подавляя все чувства, не согласные с
любовью, вел тайные и опасные переговоры. Опрометчивое предложение Эссекса
свидеться с Тайроном и вести с ним переговоры, стоя на противоположных
берегах неширокой реки, я приписала страстному желанию всякого
влюбленного составить свое суждение о личности и достоинствах того, кто
дерзает соперничать с ним. Встречу эту невозможно было сохранить в тайне —
увы, она, верно, и решила судьбу лорда-наместника. Превратно толкуемый с
этой минуты докучной молвой, неспособной вникать глубже поверхности
явлений, этот поступок приписывался то трусливой нерешительности, то
корысти, то преступной праздности, то честолюбию, тогда как в одной лишь
любви заключались достоинство или постыдность его. Ах, если бы огульно
судящее большинство задумалось хоть на миг, оно несомненно усмотрело бы
некую тайну в поступках Эссекса. Что могло пожелаться его гордости и
честолюбию, чем бы он еще не владел? Если только безграничное влияние на са-
мовластнейшую из монархов могло даровать исполнение этих желаний, они
уже были бы исполнены. Не осуждай, докучная толпа, но научись сострадать
благородному безумию кровоточащего сердца, смело жертвующего всем
ради всеподчиняющей, неодолимой страсти. Отвечая на эту страсть, сердце
мое может разорваться. И разорвется. О, как неуправляемо блуждают мои
расстроенные мысли!..
* * *
Радостные видения высших, счастливейших сфер, где вы?
Ах, окрасьте на мгновение вашим золотым сиянием этот мрачный мир!..
Забота, печаль, страдание, самая смерть — все забыто, все растаяло в
светящемся тумане; все чувства и ощущения, обостренные до предела, гордо парят
на границе вечности. Как жалка эта бренная оболочка, как тянет она к земле
мою душу, мою воспаряющую ввысь душу!..
* * *
Я пробуждаюсь от этих грез наяву и возвращаюсь к моему повествованию.
В бесплодных и долгих переговорах расточались дни, которые тщетно
пожелали бы мы вернуть, дни, когда неотвратимо складывалась участь
благороднейшего из людей.
Долгие отсрочки, бесконечные разочарования истощили мое терпение;
разбуженное бесчисленными опасениями о судьбе возлюбленного не менее, чем о
моей собственной, страдание вновь впилось железными когтями в мое
трепещущее сердце. Вынужденная смирять свою душу, исполненную справедливого
сознания собственной чистоты, сохранять видимость спокойствия, носить
тягостную для меня личину, терпеть заблуждение Тайрона, убедившего себя в том,
что между мною и Эссексом связь постыдного свойства, — сколько скрытых
унижений я терпеливо перенесла! Преследуемая его низкими
домогательствами, осыпаемая подношениями столь же роскошными, сколь и ненавистными, я
могла уклониться от его притязаний лишь с помощью притворства, против
которого восставала моя натура. В ответ на его щедрые посулы и пылкие
заверения я однажды напомнила ему, что во всем этом он не может превзойти моего
великодушного поклонника, с которым пытается соперничать, ибо во власти
Эссекса предоставить мне все, кроме своего титула. Тайрон негодующе
умолк, и сердце мое возликовало: я надеялась, что хитрость моя удалась и его
мысленному взору явилась вереница предков, в чьих жилах текла
королевская кровь, что делало недопустимой всякую мысль о столь недостойном
союзе. Прочность его положения и успешный ход войны зависели, как мне было
хорошо известно, от того, насколько он сумеет сохранить любовь к себе
народа, а как мог он надеяться на это, осквернив кровь О'Нийлов? Он едва мог
поверить дерзости мысли, заключенной в моем намеке, и, исполнившись
убеждения, что я, по-видимому, принадлежу к очень высокому роду, если
отваживаюсь так возомнить о себе, он вновь попытался проникнуть в тайну, столь
тщательно и упорно скрываемую. Я, однако, была настороже и поспешила
укрыться за своими обычными неопределенными отговорками. Стремясь все же
завладеть женщиной, которую не мог уважать, он наконец заверил меня
(заметив предварительно, что лишь помолвка с некой дамой, принадлежащей к его
роду, сохраняет единство в партии его сторонников), что готов втайне
соединиться со мной любыми узами, какие будут мне желательны. Я неосторожно
ответила, что поведение и любовь Эссекса были столь безупречно
благородны, что только торжественным и публичным бракосочетанием смогла бы я
оправдать даже перед собою разрыв с ним. Вид и ответ Тайрона показали мне,
как опасно было вести такие речи: лишая его надежды, я лишалась защиты. С
этой минуты я сочла себя обреченной. Под предлогом нездоровья (на которое
я имела полное основание пожаловаться) я добыла у лекаря, приходившего
отворять мне кровь, некоторое количество настоя опия и, делая вид, что
понемногу принимаю его каждую ночь, на самом деле сберегала весь для той
единственной роковой ночи, когда должны будут подтвердиться мои опасения.
Таковы были страдания Эссекса и мои, а между тем два лагеря
находились в противостоянии, и ничто, кроме строжайшей бдительности, не могло
помешать разгневанным англичанам вступить в бой. Раз вечером я была одна
в отведенной мне палатке (недоверие не позволяло Тайрону держать меня в
городе или в крепости по соседству) и с вершины холма, где стояла палатка и
откуда открывался вид на всю долину, смотрела в слезах на далекие костры,
загорающиеся в лагере англичан, как вдруг неожиданно появился Тайрон.
Лицо его пылало от выпитого вина, в глазах и в манере выражалась
решимость, от которой все существо мое содрогнулось. Он более не выказывал
почтения, не соблюдал приличий, и при виде его мне подумалось, не слишком
ли долго я медлила принять свой сбереженный опий... Мысль, к которой я не
переставала возвращаться, вновь пришла мне на ум, и, колеблясь про себя
между возможностью и невозможностью ее осуществления, я сумела немного
унять хвастливого негодяя, от чьих разнузданных клятв меня бросало в
дрожь. Вино развязало ему язык, и он забыл о своей обычной скрытности:
воображая, что возлюбленная Эссекса уже принадлежит ему, он не в силах был
умолчать о том, как ловко добился этого. С изумлением и ужасом я узнала,
что долгие отсрочки и промедления в военных действиях, вызванные моим
пленением и последовавшими за ним переговорами, были согласованными
частями дьявольского замысла, имевшего целью погубить доброе имя и
воинскую славу лорда-наместника. Пока длились эти роковые переговоры, Тайрон
самолично отправлял Елизавете неоспоримые доказательства нарушения
воинского долга ее главнокомандующим и имел все основания ожидать, что тот
будет незамедлительно отозван и понесет позорное наказание, тогда как
Елизавета едва ли сможет найти другого командующего, столь же любимого
армией, что имело решающее значение для хода войны. С невыразимым
презрением я обернулась к этому чудовищу. О, если бы взгляд мог убивать!
Однако, поглощенный своими многообразными соображениями, исполненный
самовлюбленности и довольства собой, утратив ясность мысли под влиянием
вина, он не заметил взгляда, который мгновенно открыл бы, что я чувствую к
презренному, низкому предателю, недостойному рода, к которому
принадлежит, меча, который носит. Он продолжал распространяться о своих
надеждах на то, что англичане будут полностью изгнаны из страны, а сам он
взойдет на ирландский престол, но что мне было до его надежд после этого
неосторожного и чудовищного признания? Сотни опасностей тяготили мое
сердце, сотни планов теснились в голове — где было взять хладнокровия и ясности
мысли, чтобы упорядочить их? Пока он продолжал упоенно раскрывать
передо мною свои тщеславные и честолюбивые стремления, ненависть и ужас
придали мне смелости осуществить дерзкий план, подсказать который могло
лишь отчаяние этой минуты. По его виду, речам и поведению я понимала, что
смогу избежать гнусных притязаний, лишь притворившись, будто готова
уступить им, и потому, судорожным усилием подчинив улыбке черты своего
лица, искаженного горем, я пожаловалась на жажду. Я отпила воды из
стоявшей поблизости чаши, и он, побуждаемый, ни много ни мало галантностью,
стал добиваться, чтобы я позволила ему допить за мной, но, отказываясь
дать ему чистую воду, я с упорством, быть может, слишком очевидным,
настояла на том, чтобы смешать ее с вином, и добавила туда весь опийный
настой, припасенный для себя. Моя поспешность и дрожь в руках,
сопутствовавшие этой опасной операции, вполне могли возбудить его недоверие во
всякое время, в такую минуту — тем более, но в его теперешнем состоянии он
был неспособен внимательно наблюдать за мною и в восхищении от моей
снисходительности, непривычной и неожиданной, он в восторженном порыве
галантности рухнул на колени и, соединив в тосте наши имена, скрепил их
пожеланием счастья — слово это эхом отозвалось в моем сердце, когда он
залпом выпил приготовленное мною питье. Сон и раньше отягощал его веки,
сейчас его взор на короткий миг выразил тупое недоумение. Наступило
время отдыха, но служанки, которые обычно спали в соседней палатке, не
появились — я не сомневалась, что их отсутствие было вызвано
заблаговременным распоряжением генерала Тайрона. Упав на колени, я вознесла молитву
Тому, кто укрепил отвагою сердце Юдифи, добровольно решившейся на
то, к чему я оказалась, вопреки желанию, вынуждена. Я молила помочь мне
смело и благополучно пройти через это испытание. Казалось, этой молитвой
и обстоятельствами мне была дарована сила духа, равная грозящей
опасности. Военный плащ, сброшенный Тайроном, когда он вошел в палатку, скрыл
мой мужской наряд, который я вновь стала носить в походе: этот приметный,
всем в лагере знакомый плащ обещал мне почти полную
неприкосновенность. На виски, в которые тяжко ударяла кровь, я надвинула его шлем с
пышными перьями и, стянув с его пальца перстень, чтобы предъявить в
случае необходимости, я храбро зажала в руке кинжал Тайрона, готовая сама
решить свою судьбу, если вдруг окажусь обнаруженной, и отправилась в
путь, подобно второй Юдифи.
Я настороженно отмечала про себя ход ночного времени. В последний раз
сменились дозорные, прошел тот час, когда поблизости мог оказаться офицер
настолько высокого ранга, чтобы обратиться к командующему. Тайрон не раз
говорил мне, что имеет обыкновение бродить ночами по лагерю, и, твердо
зная это, я решилась выдать себя за него. Не успела я пройти и сотни шагов,
как приветствия часовых убедили меня, что подмена осталась незамеченной.
С бьющимся сердцем я шла от одного дозора к другому, направляемая в
пути лишь дальними огнями (Тайрон всегда разбивал лагерь на холме), пока
не приблизилась к передовым постам. Здесь, отступив в тень большого
шатра, я сняла генеральское одеяние и надела простую шляпу, взятую с собой для
этой цели. Сколько страха натерпелась я, когда добралась до границы
лагеря, где наблюдение велось вдвое тщательнее, и предъявила перстень в знак
того, что послана по важному делу. Часовые было усомнились, но после
томительно долгих переговоров, бывших для меня сущей пыткой, сочли за благо
признать этот пропуск, который один только и мог дать мне возможность
добраться до них, и мне было дозволено пройти. Миновав эту ужасную черту, я
ринулась вперед со скоростью пущенной стрелы, не решаясь даже остано-
виться и обратить молитву к Небесам из опасения, что любая потерянная
минута может меня погубить.
То ли глаза меня обманули и лагерь англичан представлялся мне ближе,
чем был на самом деле, то ли, устав и не зная дороги, я зашла далеко в
сторону—не знаю, но я сбила ноги в кровь, прежде чем приблизилась к его
границе. Продираясь сквозь густые заросли, которые изорвали мое платье и
исцарапали тело, совершенно пав духом, я вдруг услышала, как дозорный
произнес пароль по-английски. К несчастью, я не успела собраться с мыслями и
промолвить хоть слово, и бдительный часовой, приняв меня за лазутчика,
мгновенно пронзил мне бок своим клинком. У меня не оставалось более
душевных сил для борьбы с опасностью и смертью, и, страшась превыше всего
разоблачения, как это свойственно представительницам моего пола, я
слабеющим голосом упросила солдата, если он желает заслужить прощение,
доставить меня в шатер лорда-наместника. Незадачливый солдат уже успел с
удивлением заметить нежность и белизну моей кожи и изысканность наряда. Он
быстро созвал нескольких товарищей, которые помогли уложить меня на
носилки и отнести к шатру Эссекса. Наступило утро. Я видела, как первые лучи
солнца огнем зажглись в золотых украшениях шатра командующего...
Несколько офицеров вышли из шатра, пока я приближалась к ним. Сердце, из
которого с каждой минутой жизнь вытекала по каплям, сделало героическое
усилие, чтобы целиком вобрать в себя всю сокровенную суть того, с кем,
казалось, в этот миг мне предстояло навеки расстаться. Мне почудилось — еще
прежде, чем он заговорил, — что я слышу голос, столь дорогой мне.
Почудилось ли? Ах, я видела, как он ринулся вперед, едва только догадка осенила
его, но, не дойдя до меня, вдруг остановился как вкопанный, и самая душа
его, излившись стоном, устремилась мне навстречу.
— Да, Эссекс, — вымолвила я, протягивая слабеющую руку, — несчастной,
которой Небеса не дозволили жить в твоих объятиях, дарована иная
милость — умереть в них.
Но как описать мне слезы восторга, муки сердца, с которыми чувства его
возвращались к жизни? Блаженство этой минуты оказалось непосильным для
меня, наступило долгое беспамятство, вызванное потерей крови, и я вновь
приблизилась к самому краю могилы.
Добрая леди Саутгемптон мгновенно отозвалась на зов своего кузена, и ее
присутствие сообщило моему положению благопристойность, которой оно
так давно было лишено. Все ухищрения медицины были направлены на то,
чтобы уврачевать мою измученную душу и укрепить изнуренное тело. Тот,
кто один только мог придать действенность лекарствам, не отходил от меня
ни на шаг, и, пока на разговоры был наложен запрет, его любящий взгляд
поддерживал мои силы. Ах, как сладостны были мне даже эти страдания,
каким счастьем было вновь открыть свое сердце для тех нежных побуждений и
чувств, которые были вытеснены оттуда войной и ужасами существования,
молчаливо соединиться душой с единственным ее властелином и верить, что
отныне, какова бы ни была его судьба, моя будет с нею нераздельна.
Как только позволило мое окрепшее здоровье, я во всех подробностях
рассказала о том, что произошло с тех пор, как лорд Эссекс оставил меня в
Сент-Винсентском Аббатстве. Он, в свою очередь, сообщил мне, что
бесчувствие, в которое Тайрона погрузил настой опия, столь решительно поданный
мною, едва не стало роковым для него, так как лишь неослабный уход и
усилия врачей сохранили ему способность дышать; с тех пор, стоило
потревожить его тяжелый и нездоровый сон, как он неизменно впадал в опасный
бред. Эссекс добавил, что о смелом поступке, посредством которого я обрела
свободу, не переставали говорить в обоих лагерях во все то время, пока
судьба моя оставалась неясной. Я возблагодарила Небеса, не допустившие меня
совершить грех убийства — даже такого злодея, и не сразу заметила, что
ничего более Эссекс мне не рассказал.
Я вскоре узнала от леди Саутгемптон прискорбную правду, которую
милорд пытался скрыть от меня. Елизавета непрестанно побуждала его
продолжать военные действия, от которых, из страха за меня, он до сей поры
воздерживался, но, видя наконец, что и просьбы ее, и приказы равно бессильны, она
прониклась к Эссексу холодностью и враждебностью. Сообщения друзей из
Англии дали ему немало веских оснований полагать, что его недруги
постепенно обретают в сердце Елизаветы главенствующее положение, которое он
столь же постепенно утрачивает, поскольку ее благосклонностью теперь
щедро отличены сэр Уолтер Ралей, семейство Сесил и граф Ноттингем — партия,
давно готовившая падение Эссекса и Саутгемптона и теперь говорящая о нем
как о свершившемся факте. Они сообщали также, что даже простой люд
недоволен медлительностью войны в Ирландии и что Эссекс не может более
полагаться на свою былую популярность.
Моя подруга неосмотрительно поведала мне об этом, поглощенная той
стороной происходящего, что имела отношение к ней, забыв, как близко это
затрагивает меня. Я припомнила сведения, отправленные Елизавете Тайроном,
вполне объяснявшие гнев и враждебность королевы, и мне мгновенно
представились все их возможные последствия. Не в пример всем прочим
фаворитам, Эссекс всегда твердо верил, что лишь достоинства дают право на
отличия. Неспособный на те мелкие ухищрения, с помощью которых более
низменные натуры окружают себя лицемерной свитой прихлебателей, коими
постоянно изобилует королевский двор, он во все времена презирал
единоличные пристрастия, расчетливое распределение постов и должностей. Жалкие
корыстолюбцы, прежде тщетно пытавшиеся подольститься к нему, с
большим успехом искали расположения его врагов и, осведомленные ими о
малейшей слабости фаворита, всегда готовы были усилить любое
предубеждение, возникшее против него у королевы. Многочисленные страхи и
опасения, неотделимые от подступающей старости и убывающего могущества,
поддерживались и взращивались в ней и, подогреваемые страстями, умерить
которые оказалось бессильно время, вполне могли подлым наветам Тайрона
придать в ее глазах роковую убедительность правды и сообщить бездействию
Эссекса видимость измены. Такая череда обстоятельств неизбежно смутила
бы и самый уравновешенный и непредвзятый ум; чего же могли ожидать мы
от правительницы, над которой всегда были властны предубеждения, с
каждым днем усиливающиеся и постепенно помрачавшие ее рассудок? По
счастью, вследствие непомерности ее пристрастия, которое словно было ей
послано в наказание за ошибки юности, эти предубеждения до сих пор
складывались в пользу Эссекса, однако стоило мне подумать о единственном
обстоятельстве, говорящем против него, как сердце мое отвергло всякую
возможность доверить королеве его жизнь.
Чтобы дать лорду Эссексу возможность оправдать себя перед Елизаветой,
я решилась объяснить ее поведение и поведала ему о неосторожных
признаниях, сделанных мне Тайроном, о его вероломном притворстве во время
нашего последнего памятного разговора. Лицо Эссекса запылало гневным
румянцем, он осыпал проклятьями предателя, но тотчас же, представив себе все
возможные последствия этого подлого доноса, принял невероятное
решение — вернуться в Англию и отстоять свою честь.
Это решение удивило, более того — неприятно поразило меня; я никак не
предвидела, что мой рассказ может породить столь безумный план: скорее я
предполагала, что он приведет Эссекса к мысли о полной невозможности
возвратиться в Англию впредь до окончательного подавления Ольстера. Правду
сказать, я не решалась признаться в своем опасении, что даже тогда остаться
с армией было бы для него единственным средством обезопасить себя. Любой
довод, который я отваживалась привести, а Саутгемптон — поддержать,
казался ему менее убедительным, чем его собственное суждение: была задета
его честь, и ничто не могло воспрепятствовать ему вступиться за нее. Веря,
что столь смелый шаг уже сам по себе убедит Елизавету в его невиновности,
привыкнув к тому, что всякий раз по возвращении ко двору он вновь обретал
свое влияние, на которое недруги неоднократно посягали в его отсутствие, он
убедил себя, что ему достаточно появиться, чтобы восторжествовать, и
заключил перемирие, готовясь к отъезду.
Женская гордость, разум и честь боролись с величайшей страстью души
моей и учили меня не навязывать свою волю тому, кого я не сумела убедить,
но я почти лишилась сил в этой борьбе. Бедственное положение, в котором я
оказалась с тех самых пор, как приехала в Ирландию, заставляло меня
упорно противиться тому, чтобы оставаться здесь и в отсутствие Эссекса, а
любопытство, вызванное и моим смелым побегом, и полученной мною раной,
делало небезопасным поручить меня попечению кого-нибудь из остающихся здесь
военачальников. В окружении друзей, родственников, подчиненных Эссекс
(такова печальная особенность, сопутствующая слишком высокому
положению) не знал никого, кому мог бы без опаски доверить столь щекотливое
поручение. Великодушный Саутгемптон, решивший разделить судьбу друга,
сопровождая его, предложил мне присоединиться к его супруге и вместе с нею и
слугами, отобранными им и Эссексом, отправиться — еще до их отъезда —
морем якобы во Францию, на самом же деле — на побережье в Камберленде. В
самой живописной и уединенной части этого графства семейство Райотсли с
давних пор владело замком, где сама злоба едва ли стала бы искать и уж
конечно никогда не нашла бы нас; здесь, как заверил он Эссекса, мы могли бы
жить в мире и спокойствии до самого их возвращения в Ирландию. Я
понимала все преимущество этого плана, для осуществления которого добрый Саут-
гемптон жертвовал обществом своей милой жены, дабы оказать достойный
прием возлюбленной друга, и приняла его с большой готовностью в надежде
на то, что, если хлопотливые осведомители о поступках лорда Эссекса и
упомянут обо мне, это расставание успокоит ревность Елизаветы, которой, как я
хорошо знала, легче было примириться с потерей армии, чем утратить сердце
Эссекса.
Хотя Эссекс не знал, как найти для меня безопасный приют в Ирландии,
он с великой неохотой согласился на мой отъезд оттуда; но, видя, как упорно
я отстаиваю план лорда Саутгемптона, он смирился с тем, что я вновь надела
мужское платье, сам выбрал корабль, капитан которого был ему предан, и
приказал снарядить более легкое судно для себя.
В то утро, на которое было назначено отплытие, душа моя содрогалась от
такого горестного предчувствия, что лишь усилием воли, призвав на помощь
мои нравственные принципы, могла я смириться с тем, чтобы Эссекс
поступил сообразно своим. Накануне я настояла на том, чтобы он отплыл в тот же
час, что и мы, и тем успокоил мой страх перед этим свирепым варваром —
Тайроном. Когда он вошел ко мне в комнату, чтобы сопроводить меня на
корабль, дрожь сердца передалась моим губам, которые силились и не могли
выговорить ни слова. Он уговаривал, он умолял меня не падать духом; с
видом искренности он уверял меня, что его дух окрылен самыми светлыми
надеждами, что всегда его гордостью и радостью было заслуженно носить те
отличия, которыми щедро награждала его королева, и что, какие бы замыслы
ни связывал он с тем временем, когда Господь призовет ее к себе, никогда не
сможет он хотя бы неблагодарностью, не говоря уже об измене, сократить
дни той, что увенчала его почетом.
— Не сомневайтесь, любовь моя, — заключил он, — я верну себе все былое
влияние, и когда мы встретимся снова, то более уже не расстанемся никогда.
Дурное предчувствие коснулось меня при этих словах. Мне почудилось,
что и голос его звучит неубедительно — только ли почудилось? Увы, все
мрачные фантазии, какие воображение способно явить любящему сердцу,
завладели мною. Но так как пытаться оказать на него хоть малейшее влияние в столь
решительный момент означало бы взять на себя ответственность за его
будущее, я противопоставила непокорной страсти все чувства, облагораживающие
душу, и мужественно предоставила Эссексу следовать велению долга.
Мы покинули порт одновременно — он направлялся в сторону берега,
ближнего к Ирландии, я — на север Англии. По взаимному уговору мы оба
оставались на палубе, душой устремленные друг к другу, пока даль не скрыла
любимый облик, а корабль не слился с образом, столь дорогим моему сердцу,
потом он уменьшился, превратившись в дальнее облачко, облако сжалось в
точку, точка растаяла... Я упала на постель и дала волю слезам, которые сдер-
живала до той минуты. Я молила Всевышнего оградить от опасностей того,
кто был им так высоко вознесен.
Из сострадания Эссекс дал согласие на то, чтобы мы взяли с собой тяжело
раненного старого офицера. Мучительное недомогание, вызванное
разбушевавшейся стихией, привело к тому, что раны его открылись, и нам пришлось
повернуть назад и высадить его в порту, иначе он поплатился бы жизнью за
наше благополучие. Эта непредвиденная задержка сделалась причиной
бедствия — столь же длительного, сколь и прискорбного.
Мы отплыли вторично по беспокойному морю, сравниться с которым
могла лишь буря, сотрясавшая мою душу; на следующий день сходство это еще
усилилось. Разразился ужасный шторм, а мы были одинаково далеки от
любого порта. Воющий, яростный ветер раз за разом своевольно швырял
накренившийся корабль в глубокие провалы, а бурные вспененные волны вновь
кидали его вверх с той же свирепой силой. Ужас происходящего оглушил нас; в
закрытой каюте, где мы находились вместе со своими служанками, под топот
ног и крики матросов, оглушительный треск и скрежет обшивки корабля,
яростный рев рассвирепевшей стихии, самая гибель, приближавшаяся с
каждой минутой, становилась безразлична. Мысленно готовясь к неотвратимому,
я все же успела подумать, возблагодарив Небеса, что легкое судно, на
котором отплыл Эссекс, без сомнения, еще до начала шторма достигло ближнего
порта и благополучно пристало к берегу.
Я вновь задумалась над этим удивительным характером, к которому так
часто обращалась в мыслях. Я видела, что, как ни властна была над лордом
Эссексом его слабость, она все же отступила перед честью и долгом, и,
опасаясь, что страсть, которая влечет его ко мне, может когда-нибудь поставить
под угрозу его безопасность и жизнь, я склонилась перед грозной волею Бога,
в громовых раскатах призывавшего к себе слабый и беспомощный предмет
этой страсти. Я не могла не подивиться необычности судьбы, которая,
погребая меня в океане, навсегда скрывала тайну моей ложной смерти и
поддельного погребения.
Укрепленная, если и не утешенная этими мыслями, я старалась ободрить
мою спутницу, которая выносила не менее тяжкие страдания и, отвергая
отдых и пищу, всецело отдалась на волю слабости, страдания и скорби... Ах,
кто решится сказать, что мы страдаем напрасно? Наши чувства, подобно
боевым мышцам, обретают силу, лишь находя себе применение, и тогда мы
дерзаем проникать в суть своего жребия, хотя прежде не отваживались
задумываться о нем. Острое и облагораживающее чувство душевной муки,
позволяющее нам возвыситься над житейскими невзгодами, часто придает видимость
величия усилиям, которые мы сами не склонны оценивать высоко... Леди Са-
утгемптон, щедро обласканная природой, судьбой и любовью, не в силах
была отрешиться от этих драгоценных даров и взглянуть в лицо грозной
вечности, готовой в любой миг прийти им на смену. Она слушала меня пораженная,
и этот пример душевной стойкости внушил ей столь глубокое почтение к силе
моего характера, что время оказалось над ним не властно.
Внезапное прекращение шторма не обещало нам спасения, так как
корабль, не приспособленный к подобным испытаниям, ударился о подводную
скалу и теперь так быстро наполнялся водой, что никакие усилия команды не
могли спасти его. Вид берега, показавшегося перед самым наступлением
вечера, вряд ли мог хоть на миг ободрить несчастных, которые не надеялись
увидеть свет утра. Оглушительный шум и штормовая качка сменились
безмолвным ужасом и оцепенением, не менее страшными. Около полуночи по
всеобщему отчаянному воплю мы поняли, что корабль тонет. Леди Саутгемптон
беспомощно обвила меня руками. Усиливая ужас этой минуты, в каюту
толпой ворвались самые безнравственные и буйные из матросов и, распахнув
наши дорожные сундуки, принялись вытаскивать оттуда наиболее ценные
предметы. Вслед за ними появился офицер и, ухватив нас обеих за руки, вывел на
палубу: там спешно готовились две шлюпки — наша последняя, слабая
надежда на спасение. Капитан, который всем в своей жизни был обязан Эссексу,
сказал нам, что большая из шлюпок надежнее и потому он намерен
поместить нас туда, не дожидаясь, пока соберется весь разбежавшийся экипаж,
чтобы, перегрузив шлюпку, они не лишили нас последней возможности спастись.
Еще прежде, чем он договорил, нас перенесли в шлюпку и матросы ринулись
следом так стремительно, невзирая на протесты и приказания капитана, что
наше положение стало едва ли не опаснее прежнего. Однако появилась
надежда, которая, ободряя каждого, побуждала его к усилиям, из коих
складывалось общее спасение. Завернувшись вдвоем в единственный плащ
вахтенного, взятый с тонущего корабля, леди Саутгемптон и я (единственные из
женщин, оставшиеся в живых) лишь по голосам спутников могли судить, жизнь
или смерть поджидает нас в следующий миг. На море был прилив. Серый
рассвет явил нашим нетерпеливым взорам недалекий берег: то был, как
пояснили матросы, берег Шотландии. На береговом мысу нашим глазам
открылся старый замок, чьи внушительные зубчатые стены, казалось, способны
были оградить от бедствий как стихийных, так и изобретенных человеком. Но
отмели, скалы и полоса прибоя, разделяющие нас, грозили так и оставить нас
зрителями, безнадежно созерцающими замок издали, если только мы не
сумеем привлечь к себе сочувственное внимание его обитателей.
В течение нескольких часов все подаваемые нами сигналы бедствия были
тщетны, пока не закончился прилив и не появились, медленно приближаясь к
нам, две рыбачьи лодки. Нестройный крик радости вырвался у наших
спутников, оглушив мою измученную подругу и меня. Я восславила силы,
сохранившие нас. Благожелательные незнакомцы приблизились, и по их одеждам и
неизвестному нам языку стало очевидно, что это жители берегов Шотландии.
Мужчин в шлюпке они щедро оделили галетами и виски, нам же с леди
Саутгемптон предложили по глотку холодной воды, которая гораздо более
освежила нас своей чистотой.
Воспрянув духом при этом неожиданном повороте судьбы, мы обе
одновременно сбросили с себя тяжелый матросский плащ, защитивший нас от
беспрестанного дождя и холодных соленых брызг, и когда лодка наконец прича-
лила к подножию грубых каменных ступеней, ведущих к замку, мы покинули
ее с благодарной поспешностью. Поднимаясь по лестнице, мы на миг замерли
от удивления: у ворот замка стояли двое, показавшиеся нам некими высшими
существами — так необычны были их одежды, красота и благожелательность.
Юноша и его сестра призывали нас к себе жестами грациозной учтивости. На
девушке был легкий наряд из шотландской клетчатой ткани с поясом
зеленого атласа, скрепленным золотой пряжкой. Резкий ветер сорвал покрывало с
ее волос, разметав длинные каштановые локоны; вздымая край одежды,
приоткрыл стройные щиколотки в невысоких башмачках; окрасил ее щеки
свежим и чистым румянцем, который дается лишь юностью, здоровьем,
невинностью и природой. Юноша, чертами лица очень похожий на сестру, был в
охотничьем костюме, с копьем в руке и кинжалом у пояса. Оба с улыбками,
выражавшими гостеприимство, поспешили нам навстречу. Девушка взяла за
руку мою подругу, юноша с пылкой радостью пожал мне руку, тут же бросив
взгляд — полуудивленный, полупрезрительный — на мой некогда богатый,
теперь же помятый и испачканный наряд, более отвечавший вкусам моего пола,
чем того, на принадлежность к которому я претендовала. Старинный холл, в
который они привели нас, был увешан ветхими знаменами, потемневшими
гербами и другими гордыми напоминаниями о войнах и старине. Перед нами
были заботливо поставлены еда и питье, вознаградившие нас за перенесенные
лишения, и из врожденной учтивости, всегда присущей возвышенным
натурам, ни брат, ни сестра не позволили себе выразить любопытство прежде,
чем с искренней готовностью не удовлетворили наше. Мы узнали, что место,
куда привела нас судьба, — остров у побережья Шотландии, а приютившее
нас жилище — замок Дорнок, который принадлежит лэрду, носящему это
имя; что сами они — брат и сестра лорда, находящегося сейчас в отъезде по
очень важному семейному делу: говоря коротко, их старшая сестра Мэйбл, по
всей стране прославленная своей красотой, имела несчастье показать эту
красоту при дворе, и теперь король не соглашается на ее отъезд домой, а брат,
опасаясь, как бы она не уступила распутным домогательствам короля,
отправился потребовать ее возвращения. Природное обаяние этих двух юных
существ отразилось в их бесхитростном повествовании: когда прелестная Фиби
заговорила о красоте сестры, она еще более похорошела сама, залившись
нежным и мягким румянцем, когда же она упомянула об опасности, которую
красота навлекла на сестру, гордая вспышка благородного стыда придала
мужественное достоинство юному облику ее брата Хью. Как ни привычны были
моя подруга и я к светской любезности и изящным манерам, здесь, в глуши, в
этих неискушенных детях природы нашли мы обаяние простоты и
благородства, которое губят ухищрения света.
Когда пришел мой черед рассказывать, я прибегла ко всяческим
вымыслам, дабы уберечься от любой непредвиденной опасности. Оставив прежнее
имя леди Саутгемптон, я назвалась Верноном, до недавнего времени пажом в
свите лорда Эссекса, а теперь его секретарем. Присутствующая здесь дама,
сказала я, приходится родственницей лорду Саутгемптону и недавно обвенча-
лась со мной. Мы вместе следовали за двумя упомянутыми вельможами,
попали в шторм, прибивший нас к этому берегу, где мы оказались в неоплатном
долгу перед ними за их добросердечный прием. Узнав, что мы возвращаемся
с места военных действий и причастны к жизни английского двора, брат и
сестра задали нам сотни вопросов о том и другом, сообразно своему полу,
возрасту и простодушию, и из наших рассказов в их неискушенном воображении
сложилась картина, исполненная величия, блеска и веселья.
Удачная мысль выдать себя за супружескую пару позволила нам с леди
Саутгемптон поместиться в общей комнате, и часы, отведенные для отдыха,
мы посвятили обсуждению нашего нынешнего положения и скорейшей
возможности возвратиться в свою страну, в то окружение и к тем связям, от
которых морская буря отторгла нас. Моя подруга справедливо заметила, что
матросы, потерпевшие крушение вместе с нами, и окрестные жители — это
единственные люди, которые могут посетить отдаленный и безлюдный
остров, и если мы не воспользуемся возвращением матросов, то придется
всецело довериться великодушию лэрда Дорнока, о ком мы едва ли можем судить
по этим дружественным молодым людям, проявившим к нам такое горячее
сочувствие. После того, как ходатайство Эссекса обо мне было отвергнуто
моим братом, я могла опасаться самого худшего, доведись мне в силу
каких-либо обстоятельств оказаться в его власти, и потому, лишь держа в строжайшей
тайне наши имена и положение, могли мы надеяться обрести свободу. Как,
при таких стеснениях, могли мы ясно представить свои нынешние
обстоятельства тем двум людям, для которых они составляли ближайший интерес, ни
одна из нас не ведала. Однако необходимость побуждала нас принять какое-
то решение, и, уверенные, что почерк каждой из нас знаком ее адресату, мы,
несмотря на крайнюю усталость, посвятили часть ночи составлению двух
писем, чтобы передать их отплывающим матросам. Пришло утро и с ним —
горестное известие о том, что мы опоздали на несколько часов, так как
спасшиеся с нами люди наняли рыбачье судно и отплыли при перемене прилива; о
том же, куда они направились, станет известно владельцу лишь по
возвращении судна. Я не поручилась бы, что наши молодые покровители не утаили
намеренно от нас столь важное обстоятельство в надежде продлить наше
пребывание в замке, но будь это даже и так, гораздо непростительнее были
собственные наши беззаботность и нерасторопность. Мы наняли лодку и послали
следом с письмами, но после нескольких дней мучительного ожидания
получили свои письма назад вместе с печальным известием, что поиски и
расспросы оказались тщетными. Теперь нам оставалось только надеяться на
великодушие лэрда Дорнока, и мы приготовились терпеливо ожидать его
возвращения.
Юные брат и сестра проявили живейшую озабоченность нашим
положением, но не в их силах было помочь нам. Мы оказались пленниками без
тюрьмы, в окружении ревущего океана, и лишь случай мог вернуть нам свободу.
Дни тянулись с тяжелой медлительностью. Порой я со вздохом вспоминала,
что нахожусь в Шотландии, в королевстве, где по праву рождения могла пре-
тендовать на сан, который дал бы мне возможность самой решать свою
судьбу, если бы стечение обстоятельств, предшествовавших моему появлению на
свет, не сделало все дары судьбы и природы одинаково бесполезными для.
меня. Я пыталась узнать об истинном характере шотландского короля, но даже
из отзывов его друзей явствовало, что я могла бы назвать его добрым, только
считая слабым и зная, что в таком случае он должен быть окружен
искусными интриганами, готовыми использовать его слабость к своей выгоде —
словом, я поняла: как ни близки мы по крови, мы от рождения различны так,
как только могут быть различны два человека, и наша встреча грозила бы
бедой слабейшему. Сердцем и мыслями обращаясь к Англии, я не находила
облегчения. Не имея никаких вестей оттуда, словно вокруг простиралась
Аравийская пустыня, я тщетно пыталась узнать, какой прием встретил Эссекс
при дворе. Имя, которое я в гордыне сердца считала известным всему миру,
здесь, в сопредельной стране, было, как поняла я, смиряя гордость, не ведомо
почти никому: я одна вновь и вновь повторяла его, и даже те, кто искренне
желали помочь мне, лишь эхом откликались на звук его, столь дорогой, столь
милый моему сердцу. У меня были все основания страшиться того, что
сомнения в моей безопасности заставят Эссекса пренебречь своей, и я отреклась бы
от любого блистательного будущего, являвшегося мне в воображении, лишь
бы ничто не угрожало жизни графа.
Слишком поздно я горько пожалела о гордости, заставившей меня
противиться желанию удержать его в Ирландии, и не могла не признать, что
именно из гордости, а не в силу высоких принципов, смирилась с его отъездом;
однако, в столь необычном положении, как наше, пожелание означало бы
требование, а жертву, приносимую не по велению души, я принять не могла.
Мой ум осаждало такое множество противоречивых мыслей и чувств, что
я перестала бы замечать, как проходит время, если бы большая часть их не
порождалась самой медлительностью его хода.
Часто, сидя на парапете замковой стены, о подножие которой разбивался
прибой, я настраивала лютню, принадлежавшую Фиби, и пока она напевала
дикие песни с непостижимой мелодией, на непонятном мне языке, душа моя
проливала слезы о таинственной судьбе сестры. Ах, как легко жить в
безвестности, похоронив себя при жизни!.. Если даже в цивилизованной стране, в
сопредельном королевстве, более того — на родине своих предков я оказалась
столь беспомощной, каково же было бедной Матильде? Лучше не давать
воли мрачным предположениям...
С каждым днем мы убеждались, какую непоправимую ошибку совершили,
допустив, чтобы моряки отправились в путь без нас. Леди Саутгемптон, как
вскоре стало очевидно, была в таком положении, которое требовало особой
заботы и исключало возможность любого переезда, даже если бы усилиями
любимых пристанище наше было обнаружено. Мы проводили дни в
беспокойстве, и если бы не постоянная возможность находиться в обществе друг
друга, не знаю, как мы справлялись бы с беспрестанной тревогой. Мы
лишены были даже обычных средств занять себя: скудная библиотека, лютня, не-
сколько простонародных баллад и родословная, восходящая чуть не к
сотворению мира, ограничивали владения и познания наших молодых друзей и
ничего не могли добавить к нашим.
Наконец в замок возвратился лэрд Дорнока. Ах, как непохож он был на
своих добрых юных родичей — холодный, самовластный, спесивый.
Надменная резкость отражалась во всем его облике. Мы тотчас поняли, как тщетна
наша надежда на его помощь и участие. Он, несомненно, упрекнул брата и
сестру за то, что в его отсутствие они так дружески сблизились с незнакомцами
явно низшего положения, и, хотя он часто давал нам почувствовать, что
общество наше для него обуза, не предпринял ни единого шага, дабы от него
избавиться. Еще до его приезда Фиби начала совершенствовать свои
музыкальные навыки, и он пожелал, чтобы занятия эти продолжались, но такой холод
исходил от него, сковывая и угнетая всех присутствующих, что музыка,
бывшая для меня отдохновением, превращалась в тяжкий труд. Оскорбительное
высокомерие брата приводило в отчаяние чистосердечную и благородную
девушку, и она не извлекала ни радости, ни пользы из некогда желанных
уроков. Часто слезы градом падали на струны ее лютни, ослабляя их, и под звуки
песен о безнадежной любви ее печальные глаза останавливались на мне с
таким проникновенным выражением, что ошибиться было невозможно: я
поняла, что, не замечая опасности, ибо помнила лишь о вынужденности своего
мужского обличия, покорила нежное сердце, которое стремилась развить и
воспитать. В моих обстоятельствах это не могло не внушить опасений, и по
несчастному совпадению вскоре оказалось, что старший брат девушки
воспылал любовью к леди Саутгемптон. Он не скрывал своей склонности и с
самого приезда смотрел на меня с видом крайнего сомнения в истинности нашего
брака, но полнеющий стан моей подруги и наше привычное размещение в
одной комнате, казалось, опровергали подозрение, от которого, впрочем, он так
и не отказался.
Желая воспользоваться единственным часом в течение дня, когда мог
позаботиться о своих интересах, он оказался вынужден предоставить другим ту
возможность, какой искал для себя, и позволить мне давать уроки его сестре
под надзором одного лишь младшего брата, Хью, пока сам он проводил
время в обществе леди Саутгемптон. Всем пришлось одинаково по душе такое
устройство. Что до меня, то, узнав о любви прелестной Фиби, я решилась при
первой же возможности открыть ей тайну моего пола, прежде чем стыд за
свою ошибку породит у нее враждебность к предмету этой любви. Меня не
пугала необходимость посвятить в тайну и ее брата: если от этого не
возрастет его сочувствие и желание помочь мне, то, по крайней мере, исчезнут
всякие возможные опасения за сестру, которую он сможет спокойно оставлять в
моем обществе. Моя искренность имела многочисленные последствия. Милая
Фиби вздрогнула при первых моих словах, залилась румянцем, подняла
полные слез глаза к небу и тут же закрыла лицо руками; когда же я кончила
говорить, она устремила на меня робкий взгляд.
— Ах, отчего вы не были так искренни с самого начала? — воскликнула эта
великодушная девушка. — Тогда все было в наших руках. А нынче... — Она
покачала головой, и этот выразительный жест договорил невысказанное.
Обеспокоенная и встревоженная, я стала умолять ее поведать мне
причины, по которым наше положение представляется ей теперь столь
безнадежным. Она не могла противиться моим просьбам и признала, что с момента
возвращения старшего брата Хью, не менее, чем я, почувствовала
высокомерие и суровость в его обращении и большую, чем обычно, резкость речей;
наконец, им стало известно, что их сестра Мэйбл, не прислушиваясь к велению
добродетели и наставлениям лэрда Дорнока, уступила домогательствам
короля и, чтобы защитить себя от гнева семьи, вынуждена была публично
обнаружить свой позор, отдавшись под покровительство любовника. Дабы
примирить лэрда Дорнока со столь тяжким бесчестьем, ему был предложен титул и
любая должность при дворе, какую он пожелает занять. Прекрасная Мэйбл
между тем утешилась в утрате истинного достоинства временной честью
царить в сердце короля и называться графиней.
Я с удивлением спросила, как может повлиять на нашу участь событие, к
которому мы никоим образом не причастны. Хью поведал мне, что брат,
решительно отвергнув почести, предложенные ему в возмещение бесчестья,
покинул королевский двор в великом негодовании; что поначалу сам он и Фиби
принуждены были с презрением возвращать все письма и подарки,
посылаемые сестрой; но что в последнее время под влиянием некоего соображения,
для них необъяснимого, чувства лэрда Дорнока разительным образом
переменились. Им было отправлено несколько курьеров к графине-фаворитке,
но в чем состояли их поручения и какие были получены ответы, брату и
сестре осталось неизвестным, хотя многие обстоятельства давали им основание
полагать, что писанные нами письма ни разу не были отправлены по
назначению.
Кровь отхлынула у меня от лица при мысли о таком изощренном
предательстве, и я возблагодарила Небо, что мне одной сообщили о нем: леди Са-
утгемптон, которая часто бывала не в силах совладать ео своими чувствами,
неизбежно каким-нибудь неосторожным словом выдала бы, что ей все
известно. Молодой Хью, видя мое смятение, заверил меня, что, хотя найти
преданного гонца — дело безнадежное, сам он считает своим долгом освобождение
тех, чьему пленению невольно способствовал, и что я могу располагать им,
если только сочту возможным ему довериться, что никто не заподозрит
истинной причины его отсутствия, ибо лэрд Дорнока, хорошо зная особую
привязанность Мэйбл к младшему брату, естественно, решит, что тот вознамерился
использовать себе во благо то влияние, которое она имеет при дворе... Есть ли
на свете что-нибудь прекраснее и трогательнее великодушия? Благородный
юноша умолк. Весь его вид говорил о том, как страстно он желает, чтобы
предложение его было принято, чтобы оно не было сочтено за похвальбу. Я
взяла за руки своих молодых друзей и, должным образом выразив свою
благодарность, отказалась стать виновницей ссоры между ними и их угрюмым
братом, у которого нет недостатка в средствах сделать наше положение го-
раздо более невыносимым, если только он заподозрит, что мы пытаемся
отвратить его семью от чувства долга. Я старалась убедить их (а равно и себя),
что наши друзья начнут неутомимые поиски в тот самый миг, как обнаружат
хоть одного члена экипажа, спасшегося при кораблекрушении, что капитан,
несомненно, известит их, если только он не утонул вместе с кораблем.
Однако день проходил за днем, подтверждая неосновательность и
тщетность этой надежды. Тоскливая зима тянулась в этом уединенном замке, в
который беспрепятственно врывался воющий ледяной ветер. Частые штормы
вздымали океанские волны, и нашему испуганному слуху рев бури нередко
представлялся стонами умирающих.
Я почти утратила надежду, когда однажды, пока наш хозяин охотился, я
вышла по обыкновению к парапету крепостной стены и оттуда увидела, что к
острову направляется небольшое судно, лучше построенное и более опрятное,
чем те, что я привыкла видеть. Когда оно приблизилось, я различила на
людях английское платье... Судно подошло еще ближе... Я узнала плащи солдат
Эссекса. Стон безграничного восторга вырвался у меня, я качнулась вперед и
упала бы в волны, если бы молодой Хью, стоявший позади, не подхватил
меня. Офицер поднял голову, и я мгновенно узнала Генри Трейси, любимого
адъютанта лорда Эссекса, однажды уже отправленного им на мои поиски.
Разочарование смешалось с разнообразными и бурными чувствами этой
минуты... Я протянула руку, указывая Хью на незнакомца, вздохнула и лишилась
чувств.
Меня отнесли к леди Саутгемптон, которая, пораженная моим
безжизненным видом, не догадываясь о причине, сама, казалось, была близка к
беспамятству. Хью, очевидно поняв по моему жесту, как близко затрагивало меня
появление этого незнакомца, поспешил провести его к нам, пока не вернется
брат, и тут же удалился, предоставив нам полную свободу.
— Трейси? — вскричали мы в один голос («Эссекс?», «Саутгемптон?» —
эхом отозвалось сердце каждой). — Скажите одно лишь слово!
— Живы, — ответил он, — и для счастья им нужно лишь видеть вас.
— Ах, благодарение Господу! — воскликнула я, поднимая глаза к небу, и
тут же от всего сердца протянула руку верному посланнику. — Примите мою
восторженную признательность. Теперь мы можем вздохнуть спокойно. Не
томите же нас: расскажите, что последовало за опасным путешествием
Эссекса и Саутгемптона.
— Я едва ли осмелился бы сделать это, не заверь я вас сначала в их
благополучии и безопасности, — заговорил Трейси. — Я вижу, что печаль давно
уже омрачает вашу молодость и красоту, которые, быть может, подверглись
бы еще большим испытаниям, если бы вы провели это тревожное время в
Лондоне.
Опасаясь, что разговор наш в любую минуту может быть прерван
возвращением лэрда Дорнока, я попросила Трейси отбросить все предисловия и
поспешить с рассказом.
— В страхе и тревоге, — вновь заговорил он, — последовал я за милордом
на корабль, который должен был доставить его домой. Страх и тревога не
уменьшились, когда я увидел, что лорд-наместник стал часто подвержен
приступам сомнений и мрачных размышлений, которые порой замечал за собою
сам. Временами он пытался утопить их в веселом обществе и в вине и
впервые в жизни стал напускать на себя показную храбрость. В часы отдыха,
отказавшись от задушевного дружеского общения, издавна существовавшего
между ним и лордом Саутгемптоном, в котором и я нередко бывал
скромным и благодарным участником, он впадал в рассеянность и молчаливость,
тревожившие его верного друга не менее, чем меня: этот вельможа видел, что
он «поставил жизнь свою на карту и вверил жребий свой игре»; я сделал это
заключение, когда он как-то раз выразительным кивком привлек мое
внимание к милорду, который стоял у борта с видом глубокой задумчивости,
устремив взгляд на бегущие волны и, по всей вероятности, не видя их.
— Неладно на сердце у вашего господина, Трейси, — сказал его
благородный друг и, немного помолчав, тихо добавил: — Ах, Эссекс, «aut Caesar aut
nihil!»
Тут лорд-наместник подошел к нам с веселым видом и избавил меня от
необходимости согласиться с мнением, принять которое мне было мучительно.
Без привычного ликования узрели мы приветливые берега родной страны:
сомнения и тревога отбросили мрачную тень даже на те живые и радостные
чувства, которые на время могут заглушить и страдания. Лорд Эссекс, не
теряя ни минуты, отправился ко двору с такой поспешностью, что обогнал все
известия о своем приезде и оказался собственным вестником. Мы прибыли
ранним утром, еще до того, как королева покинула опочивальню, но, увы,
двор был не тот, каким мы его оставили: повсюду нас окружали незнакомые
лица — было очевидно, что ненавистные Сесилы торжествовали при дворе.
Лорд Грей, их ставленник, встретившийся нам по пути, осмелился пройти
мимо лорда Эссекса, словно не замечая его, но тот лишь бросил на него беглый
взгляд и поспешил навстречу своей судьбе. Этикет отступил перед
обстоятельствами, и Эссекс стремительно ворвался в покои Елизаветы и предстал
перед нею в тот самый миг, как о нем было доложено. Привыкнув видеть его
с радостью и принимать с благосклонностью, королева, застигнутая врасплох,
поддалась многолетней привычке и предоставила ему, как он просил,
приватную аудиенцию. Она выслушала его смутные и неубедительные оправдания
своих действий в Ирландии и в своем сердечном пристрастии была
мимолетно польщена при мысли, что вернуть себе ее расположение он счел более
важным, чем восстановить свою репутацию полководца. После долгой беседы
Эссекс возвратился к друзьям. Лицо его сияло радостной гордостью, и мысль
о том, что он вновь обрел былое влияние, сообщила его обращению те
благожелательность и любезность, что составляют одновременно суть и
очарование его манеры. Ярость и злоба никогда не были свойственны ему, и, даже
сам пострадав от них, он тут же предал это забвению. Друзья осыпали его
поздравлениями, устрашенные недруги толпились вокруг — отважный Эссекс
был выше своего желанного торжества. Лица окружающих переменились на
глазах: те, что совсем недавно не решались узнавать его, теперь с
подобострастным восторгом ловили звук его шагов. Этот роковой час
кратковременного могущества был последним, дарованным ему судьбой. Хитрый Сесил и
его приспешники, воспользовавшись той самой минутой, когда он
неосмотрительно покинул королевские покои, сумели внушить королеве, что сверх
меры обласканный фаворит не только поступил вопреки полученным приказам,
осмелившись самовольно возвратиться, но и привез вместе с собою отборную
группу своих приверженцев и целую толпу беспокойных честолюбцев,
готовых усилить его могущество и потеснить королевское. Они сумели затронуть
душу Елизаветы, коснувшись самого больного места, противопоставив друг
другу две главные слабости ее натуры, и, бросив на одну чашу весов влияние
всей придворной партии, вскоре восторжествовали. К несчастью, как всякий
человек, чьи годы идут под уклон, она становилась капризна и нерешительна.
Страх уже коснулся ее, и скоро она оказалась в плену многочисленных
известий, услужливо поставляемых ей придворными интриганами. Со всех сторон
ей внушали, что Эссекс завел собственный придворный круг прямо у нее во
дворце и что, каким бы дерзким и наглым ни было такое поведение, оно все
же менее опасно, чем то влияние, которым оно неизменно пользуется в
народе и которое угрожающе возрастет, стоит ему показаться в Лондоне. Они «не
думали о себе, готовые стать мучениками своей чести и вассальной присяги, и
лишь трепетали при мысли о королеве». Этого Елизавета не могла
отважиться допустить; страх и злоба одержали в ее сердце верх над слабо
сопротивлявшейся нежной привязанностью, и она решила, во имя собственной
безопасности и сохранности королевства, заключить своего любимца в тюрьму.
Этому решению не следует удивляться: оно не противоречило даже ее любви,
если любовь была уязвлена воображаемым проявлением неблагодарности.
Еще юношей граф Эссекс сделался ее кумиром, но он был не из тех, кто
довольствуется незаслуженным восхищением, — чем более он обретал, тем
больше старался заслужить обретенное, и наконец, положив в основу своей
счастливой судьбы врожденное благородство, он поднялся над отличиями,
даваемыми пристрастием, а ей осталось лишь жалеть о той высоте, на которую
она его некогда возвела. С этой поры во всем, что касалось Эссекса, она была
слаба и нерешительна, то осыпая его почестями, которых он не заслужил, то
лишая справедливой награды. Он ясно видел причину этой
непоследовательности, но, веря, что привязанность, столь твердо противостоящая ее
собственным суждениям, непобедима, забывал, как стремительно подступает к ней
старость, когда благороднейшие страсти, постепенно мельчая, превращаются
в себялюбие.
— Вы, сударыня, столь хорошо зная сердце моего господина, — воскликнул
Трейси, оборотясь ко мне, — вообразите лучше, чем я могу описать, как
глубоко поразило его это публичное и преднамеренное унижение. Эта
неожиданная интрига лишила его способности судить здраво, и, поддавшись
безудержному порыву, он выхватил шпагу и приказал посланцу отдать ее королеве,
умоляя ее «в награду за его службу дополнить более решительным ударом
тот, которым она одарила его прежде, поскольку оба они кажутся ему менее
оскорбительными и позорными, чем такое открытое и незаслуженное
поношение». Он не слушал друзей, пытавшихся умерить его гнев, не замечал
врагов, теснящихся вокруг в жадной надежде услышать, сохранить и, извратив,
использовать ему на погибель любое резкое слово, неосторожно
произнесенное им. Было затронуто самое дорогое для него — честь, и ничто на свете не
могло бы заставить его молчать. Поддавшись обиде и возмущению, он вслух
заявил с беспощадной правдивостью, которая была более язвящей и опасной,
чем самое непомерное преувеличение, что «королева пережила все
благороднейшие качества своей натуры, и душа ее так же утратила прямоту, как ее
кривой стан». Этот разящий сарказм был незамедлительно донесен до слуха
Елизаветы, и она, пренебрегая гордостью Эссекса, когда ее собственной
нанесен такой удар, поручила его наблюдению лорда хранителя печати, чей дом
стал для него, по существу, тюрьмой.
Великий Боже! Какое неистовство охватило милорда при воспоминании о
неосмотрительной готовности, с которой предал он себя, беспомощно и
безоглядно, в руки своих врагов! Он метался, как лев в тенетах, кровь билась в
его висках, грозя безумием. Я не решался ни на миг оставить его одного.
Не надеясь иным способом усмирить его бушующие страсти, я приводил
ему на память любимый образ прекрасной путницы, для которой известие об
этом событии и страх того, что может за ним воспоследовать, будут едва ли
не горше смерти. Но, смирив одну бурю, я лишь позволил разразиться
другой: слеза нежности блистала на пылающей щеке гнева; им овладела скорбь,
при виде которой сердце разрывалось. «Избавь меня от убийственного
воспоминания! — восклицал он. — Опозоренный, опороченный, брошенный в
тюрьму, как решусь я поднять взор на прекрасную, на благородную страдалицу?
Поверь мне, Трейси, скорее я умру, чем перенесу эту постыдную минуту...»
Помня о неизменной преданности, которую я хранил ему, угнетенный
сознанием своего положения, милорд решился наконец облегчить свое сердце,
раскрыв передо мною самые задушевные мысли, зная, что они навсегда
останутся заключены в моем сердце, которое скорее разорвется, чем я злоупотреблю
столь великодушным доверием, о коем сейчас отваживаюсь упомянуть лишь
в доказательство того, как неразрывно связана моя судьба с судьбою
человека, которому я служу, — я сам пожелал этого, и Небеса могут поразить меня,
лишь разделив наши судьбы.
Верный друг, лорд Саутгемптон, посещал милорда ежедневно. Хотя сам он
не находился под стражей, сознание того, что каждый его шаг является
предметом постоянного наблюдения и доносов, побуждало этого вельможу к
чрезвычайной осторожности. Сесилам более нечего было желать:
неосмотрительная резкость лорда Эссекса вновь и вновь подливала масла в огонь
негодования королевы, не давая ему угаснуть, и время, охлаждая страсти, не склоняло
милорда к покорности — он почитал себя оскорбленной стороной, и его ярость,
утихнув, сменилась презрительным отвращением. Силы его, однако, были
значительно подорваны бурным кипением страстей, когда одна из них затмила
собою все остальные и окончательно сокрушила его здоровье — горе, более
непоправимое, чем то, что могут породить превратности славы и честолюбия,
поразило его. Наступило время, которое должно было принести ему и лорду Са-
утгемптону долгожданное подтверждение, что их возлюбленные подруги
обрели безопасное пристанище в Камберленде... Наступило время, сказал я?
Увы, оно миновало!.. Каждый из них опасался поведать другому о страхе,
одинаково терзавшем обоих. Лорд Саутгемптон понапрасну отсылал одного
гонца вслед за другим. Медлительно тянущиеся дни превратили все же сомнения
в уверенность. Лорд Эссекс более не в силах был сопротивляться нервной
горячке, приковавшей его к постели. С одра болезни протягивая слабую руку
своему сокрушенному другу, он прервал наконец тягостное молчание.
— Их нет, их более нет на свете, мой дорогой Саутгемптон, — тихо
произнес он с безграничным отчаянием. — Небеса оберегли эти нежные и
беззащитные души от испытаний, которые посильны, быть может, лишь для нас, более
твердых духом... О, любовь моя, и все же я жалею, что не на этой груди
отлетел твой последний вздох, что, хотя бы похоронив нас вместе на дне океана,
смерть не увенчала союз, в котором нам упорно отказывала судьба. Но я
спешу, нетерпеливо спешу к тебе, о Эллинор, моя первая, моя единственная
любовь!
Мучительное воспоминание, всецело поглотившее его мысли, сделало
легкий поначалу недуг угрожающим; милорда сочли обреченным. Королева
долгое время отказывалась слушать рассказы друзей о тяжелом состоянии лорда
Эссекса — так глубоко укоренилось в ней убеждение, внушенное его
недругами, что его болезнь — лишь хитрая уловка, чтобы вынудить ее к унижению.
Тем не менее, повинуясь одному из тех неодолимых чувств, которые порою
одерживают верх над самыми изощренными хитросплетениями интриганов,
она внезапно решила сама удостовериться в том, каково его положение, и
послала к нему своего лекаря. То, что он сообщил, убедило королеву в
опасности болезни, и лекарь получил приказ заботиться о графе со всем возможным
тщанием и даже дать ему понять, что все его отличия вернутся к нему вместе
со здоровьем. Но, увы, ничье сочувствие более не имело для него ценности, и
одно лишь присутствие лорда Саутгемптона, казалось, приносило некоторое
облегчение. Этот достойный друг, не менее, чем он, терзаемый их общим
горем, в отличие от него не имел причины молчать о своей беде. Гонцы
многократно посылались в Камберленд, а также в тот порт, из которого вы
отправились в путь, сударыни. Те, что вернулись из порта, подтвердили опасения,
бывшие до той поры неопределенными, сообщив возлюбленному и супругу,
что жена капитана корабля оплакивает его как погибшего и что, вне всяких
сомнений, и команда, и пассажиры стали жертвами шторма, столь внезапного
и ужасного. Души энергичные и деятельные нередко, предвидением
опережая чувство, сглаживают его остроту. Уверенность ничего уже не могла
добавить к горю, вызванному предположениями, и погибшая надежда погрузила
друзей в холодное и угрюмое отчаяние, худшее из состояний, ибо оно обычно
безысходно. Запоздалые надежды, с помощью которых королева пыталась
вернуть к жизни своего угасающего любимца, нимало не коснулись его души.
Сесилы с изумлением видели, что ни их мнения, ни их поступки, ни его
унизительное заточение уже не задевают лорда Эссекса, что, более того, даже
выздоровление не способно воскресить те наклонности, которые все вокруг
приучены были считать необоримыми. Друзья же, напротив, благословляли
искусство врача, продлившего столь драгоценную жизнь, и со счастливыми
надеждами видели, что опрометчиво-романтические порывы, которые —
усилиями врагов — едва не привели его к гибели, исчезли из его характера, уступив
место грустной благожелательности, располагавшейся скорее к
философским, нежели военным интересам. Простой люд, по природе своей склонный
принимать сторону гонимого, открыто утверждал, что Эссекс — безвинная
жертва интриг Сесила. Между тем Сесил и его сторонники, совершив ряд
неудачных политических шагов и нанеся урон своей репутации, тем самым
прибавили популярности своему поверженному сопернику. Самой Елизавете
сделалась невыносима мысль, что человек, все еще любимый ею, в расцвете лет
сокрушает себе сердце в незаслуженном и позорном заточении. Она вняла
настояниям врача, считавшего, что Эссексу для восстановления здоровья
необходим свежий воздух, и послала графу разрешение удалиться в любое из его
поместий, с тем чтобы он не пытался появляться ей на глаза. Запрет отвечал
скорее его желаниям, чем ее, в том тягостном состоянии ума, которое
владело им при отъезде.
Из поместья он отправил королеве благодарственное письмо, полное
красноречия, признательности и апатии — правду сказать, апатия с каждым днем
обретала над ним все большую власть. От рождения лорд Эссекс был
наделен способностью деятельно следовать разнообразным и благородным
интересам на том пути, какой укажет ему судьба, но даже он не в силах был жить
вне всякой деятельности. Я нередко содрогался от ужаса при виде его
мрачности и безразличия ко всему. Оказавшись вдали от обычного для него круга
людей и дел, от привычных ему удовольствий, он не мог освоиться с грубым
обществом соседей, с буйными деревенскими развлечениями — они
оскорбляли просвещенный и впечатлительный ум. Целыми днями он в одиночестве
бродил по лесам, возвращаясь к вечеру усталый, не обретя ни бодрости, ни
свежести, и отдыхал, лишь восстанавливая силы для такого же унылого
времяпрепровождения.
Мне представилось, что в таком положении ложная надежда не станет для
него опасней, но, быть может, разбудит убывающие с каждым часом
жизненные силы. Однажды я решился пересказать ему якобы виденный мною сон,
смутно указывающий на то, что вы живы. Самые здравые умы, находясь в
подавленном состоянии, подвластны вкрадчивому воздействию суеверия. Его
душа так живо откликнулась на мой вымысел, что тысячу раз я испытывал
искушение во всем признаться, но не посмел открыть ему, что решился
воздействовать на его расстроенные чувства. Вернувшись к жизни под влиянием
этой туманной и неопределенной надежды, он нетерпеливо отправил меня на
поиски, которые, как мне подсказывало сердце, будут бесплодными. Я даже
подумывал, уже отправившись в путь, не переждать ли мне в Англии до того
времени, пока прилично будет воротиться из моего воображаемого
странствия, как вдруг сновидение, более отчетливое и многозначительное, чем
некогда придуманное мной, пробудило во мне те надежды, что я поселил в душе
милорда. Но стану называть его «сновидением», ибо события подтверждают —
то было знамение свыше... Великий Боже! Какой радостью мое возвращение
наполнит два тоскующих сердца! Какое счастье будет заключено для меня в
изъявлениях их признательности!
Во время всего этого долгого рассказа мои смятенные чувства следовали
за любовью сквозь все тяжкие испытания. Сердце терзала скорбь, дыхание
стеснялось в груди, и лишь услышав наконец, что он свободен и здоров,
смогла я глубоко и облегченно вздохнуть. Эссекс в бесчестье, в опасности, в
тюрьме... Я обвела взглядом мрачные стены, которые в последнее время
представлялись мне тюремными, потом, возведя глаза к небу, возблагодарила судьбу,
заключившую меня здесь, в неведении о бедствиях, знать о которых было бы
мне непереносимо. Ах, Эссекс! Что были враждебные стихии, полуночное
крушение, бесконечное долгое одиночество, грозная неопределенность, что я
так горестно оплакивала, в сравнении с мыслью увидеть тебя хоть на единый
миг во власти Елизаветы, хоть на единый миг в руках твоих недругов! И все
же твоя благородная душа являлась мне не омраченной даже этими
несчастьями; гордость, тщеславие и величие напрасно посягали на тебя: истинная и
высокая страсть билась неизменно в твоем сердце, собрав в единую
всеобъемлющую печаль те властные побуждения, что некогда направляли твою
разнообразную и неустанную деятельность на благо людей.
Но сейчас не время было предаваться восторженным мечтаниям. Леди Са-
утгемптон вернула меня к заботам настоящей минуты, и мы поспешили
сообщить Трейси, какое имя, какие отношения и обстоятельства почли мы
необходимым в интересах осторожности себе приписать, а также осведомили его
об имени, характере и положении хозяина замка. Едва успел он освоиться с
этими важными сведениями, как вернулся лэрд Дорнока без предупреждения
и в гневе, скрыть которого не пытался. Вид английского офицера несколько
умерил его негодование. Трейси, действуя как мы условились, назвал леди
Саутгемптон своей сестрой и с многочисленными изъявлениями
благодарности за гостеприимный кров, который хозяин так долго предоставлял нам,
предложил весьма значительное вознаграждение, которое у него, к счастью,
было предусмотрительно заготовлено. Пока шотландец оставался в
нерешительности, не зная, что отвечать, осторожный Трейси обернулся к нам и
голосом, не допускающим возражений, заявил, что ему придется держать ответ
перед королевой при малейшем промедлении, и потому мы должны быстро
проститься с друзьями и поспешить с отъездом в Англию. Эта решительная
речь усилила замешательство и неудовольствие, ясно читавшиеся в лице
нашего хозяина; однако отъезд наш оказался столь непредвиденным для него,
что, не в силах найти достаточный повод, чтобы задержать нас, он молчаливо
согласился.
Сердце мое ликовало при нежданном освобождении, и я готова была
отплыть в тот же миг, не считаясь ни с ветром, ни с приливом, но, так как
моряки сочли это невозможным, отъезд был отложен до утра. То ли
разнообразные события этого дня ускорили час, назначенный природой, то ли леди Саут-
гемптон, вопреки своим представлениям, дождалась его — я не знаю, но около
полуночи у нее начались родовые муки и страдания ее были столь тяжелы,
что едва не стоили ей жизни. К концу следующего дня она разрешилась
мертвым младенцем, и в долгом промедлении, которое было неизбежно вызвано
случившимся, мне приходилось утешаться мыслью о том, что подруга моя по
судьбе не оказалась безвременно разлучена со мной. Горе ее было столь
велико, что я вынуждена была заглушить свое, дабы не отягчить ее состояния.
Судьба, позолоченная лучом надежды, хотя бы с отдаленного края
горизонта, никогда не бывает непереносима. Присутствие Трейси и мысль о
возвращении в тот мир, с которым он казался нашим единственным связующим
звеном, скрасили для нас немало долгих, томительных часов, и утешение это
было отнюдь не лишним, ибо с момента появления Трейси лэрд Дорнока
сделался еще более угрюмым и непроницаемым, чем прежде... Себялюбие было
сутью его натуры. Рано наделенный ограниченной, но непререкаемой
властью, которая чаще порождает и взращивает тиранию, чем более широкое
поле деятельности, он до сей поры ни в ком не встречал противодействия. Разве
редко слепая страсть калечила и благороднейшие натуры? Возможно, для
него не было ничего противоестественного в том, чтобы присвоить себе власть
удерживать в своих руках прелестную и любимую супругом женщину, на
которую он не вправе был притязать. Давно привычные для меня страх,
подозрительность, душевная тревога с готовностью возвратились в свое
пристанище — мое трепещущее сердце. Мне часто казалось, что я различаю
смертельную угрозу в мрачных чертах лица нашего хозяина, и, хотя Трейси спал
поблизости, в покое, соседствующем с нашим, мне трудно было поверить в то,
что его сон там не потревожен, и даже в то, что он еще жив и может
защитить нас. Все же я старалась гнать от себя эти мрачные фантазии, которым
слишком легко поддается живое воображение.
Лэрд Дорнока более не докучал нам и не пытался решать нашу участь;
при этом он не стал лишать нас общества своей сестры. Эта милая девушка,
никогда прежде не знавшая общества, в радостном упоении, свойственном
юности, наделяла каждого собственными своими добродетелями и
чарующими качествами. Плененная достоинствами Трейси, она перенесла страсть,
которую я так неосторожно внушила ей, на того, чье сердце способно было
отозваться на ее чувство, и новый ее выбор оказался счастливым. Трейси,
воспитанному и возмужавшему в походах, еще только предстояло познать
невыразимое очарование любви, и чувство это захватило его безраздельно. Со
сладостным, хотя и горестным, чувством наблюдала я за чистыми и невинными
обетами любви, что постоянно приводили мне на память дни, когда я,
подобно Фиби, завороженно взирала на многоцветную картину жизни, озаренной
ранними лучами надежды, не думая о цветах, которые опадут, о тяжелой ноч-
ной тьме, которая скроет их от глаз. Трейси, охваченный не меньшим
восторгом, чем его возлюбленная, более не торопился с отъездом в Англию и был,
казалось, поражен тем, что мы неспособны оценить всей прелести
существования в этом унылом изгнании.
Я, однако, вместе с леди Саутгемптон нетерпеливо ждала, когда ее
окрепшее здоровье позволит нам отправиться в путь. День этот наконец настал, и
мы радостно готовились к отъезду, когда лэрд Дорнока прислал нам для
прочтения приказ, которым король Шотландии уполномочивал его задержать
нас. Из всех ударов судьбы, выпавших прежде на мою долю, я не помню ни
одного, который столь сильно поразил бы меня. Тем не менее я сохранила
присутствие духа настолько, чтобы заметить по дате приказа, что он был
получен еще во время родов моей подруги. В крушении надежд и отчаянии,
испытанном нами, единственным утешением была мысль о том, что,
злоупотребив властью короля для осуществления своих недостойных притязаний, лэрд
Дорнока оказался в ответе перед законами своей страны за нашу
безопасность, поскольку признал, что такие люди находятся в его замке. Трейси тут
же обратил на это его внимание и, хотя ради прелестной Фиби не дал воли
своему гневу, все же потребовал от лэрда Дорнока достойного обращения с
нами, предупредив, что ему придется держать ответ перед своим королем и
перед королевой Англии, чьим именем мы скоро будем потребованы. В ответ
на его браваду, ибо, говоря по правде, только так и можно было назвать речь
Трейси, надменный шотландец холодно заметил, что «рискнет навлечь на
себя гнев старухи, которая, возможно, уже сейчас уступила все свои права его
повелителю». Трейси, будучи не в силах долее сдерживать свое благородное
негодование, отвечал язвительно и гневно. Лэрд Дорнока посоветовал ему не
упускать возможности и немедленно уезжать, если он не намеревается
остаться в качестве пленника. Эти слова оказались последним, завершающим
ударом в нашем отчаянном положении, и, как ни страшились мы потерять
единственного друга и защитника, леди Саутгемптон и я в один голос стали
побуждать его к отъезду и, отклоняя все его возражения, торопили взойти на
корабль, на палубе которого еще час назад мысленно видели себя. Он
успокаивал нас, обещая скоро вернуться, так как был твердо убежден, что король
Шотландии никогда не допустит столь несправедливого и беззаконного
деяния, стоит только подробно и непредвзято представить ему все
обстоятельства. Я вздохнула при мысли, что знаю его лучше, но так как объяснение было
не ко времени, то не стала напоминать о безграничном влиянии прекрасной
Мэйбл, через посредство которой — благодаря ее беззаконной связи с
королем — этот приказ, несомненно, был получен. Как можно убедить этого
монарха, что вдали от него совершают неправое дело, если в самый миг его
совершения сам он нарушает нравственный и религиозный долг? Человек,
согрешивший сознательно, должен быть или слаб, или порочен; в одном случае
он оказывается в подчинении у чужих страстей, в другом — у собственных. И
в том, и в другом случае он едва ли способен вернуться на узкую, но прямую
стезю добродетели.
Не с ним связывала я надежду на обретение свободы, ах, нет — мысленный
взор мой был устремлен в сторону возлюбленного, к которому сердце мое,
подобно стрелке компаса, обращалось, какие бы расстояния ни разделяли нас.
«Пусть только известят Эссекса, — думала я, вздыхая, — пусть только узнает
он, где меня найти, и ради моего спасения он обойдет земной шар». Когда
улеглась печаль этой тягостной минуты, я напомнила себе, какое бесконечное
душевное облегчение принес нам приезд Трейси, какую перемену внес он в наше
положение, освободив нас от мелочных обязательств, что всегда унижают
благородный ум, если только он не встречает родственную душу в своем
покровителе. Я вскоре заметила, что лэрд Дорнока не осмеливается воспользоваться
плодами совершенного им низкого беззакония. Подчиненное положение, в
которое Трейси ставил себя в нашем присутствии, глубокая почтительность, с
которой повиновался каждому нашему пожеланию, не отвечающие ни званию, в
котором мы были известны обитателям замка, ни офицерским регалиям
Трейси, поселили в уме нашего хозяина смутную мысль о некой тайне, но ум его
был не настолько пытлив и деятелен, чтобы постараться глубже вникнуть в
эту мысль. Он с опозданием понял, что в Трейси, позволив ему уехать, обрел
наблюдателя за своим поведением, и теперь жалел о нерешительности,
помешавшей его задержать. Он, однако, временами еще заговаривал о любви с
леди Саутгемптон, предлагая купить ответное чувство якобы принадлежащими
ему несметными сокровищами: нам, привычным к утонченности и роскоши,
все его достояние представлялось лишь крикливо раскрашенной скудостью.
Однажды, когда эти хвастливые и нелепые предложения были сделаны в
моем присутствии, я не могла смолчать. Он, однако, прервал меня, посоветовав
остеречься и не побуждать его переменить свои привязанности, и предложил
мне заботиться лишь о своей защите, ибо не могу же я быть столь низкого
мнения о его наблюдательности и своей красоте, чтобы полагать, будто обманула
его своим нарядом. Сомнение такого рода было высказано впервые, и мое
замешательство мгновенно подтвердило его. Растерявшись, я не сразу собралась
с духом для ответа, но наконец сказала, что он разгадал лишь часть нашей
тайны, лежащую близко к поверхности и потому оказавшуюся доступной ему,
что обнаруженное им — лишь наименьшая часть тайны и что настанет день,
когда наши имена и положение станут известны ему и он по всей строгости
ответит за все, что окажется в его поведении оскорбительным нам и
недостойным его. Я смело заявила, что для нашей безопасности требуется лишь одно —
чтобы при английском дворе узнали, где мы находимся; теперь же, с помощью
Трейси, это установлено, и у нас есть высокопоставленные друзья, готовые
потребовать нашего возвращения. Величавый вид, от природы свойственный
мне, когда гордость моя затронута оскорблением, поразил его; в уме его
возникли смутные и неопределенные опасения, и так как все попытки проникнуть
в тайну, скрытую лишь в глубине сердец, стремящихся ее сохранить, были
тщетны, он уже почти раскаивался, что осуществил неоправданный произвол,
плодами которого более не надеялся воспользоваться.
Леди Саутгемптон сочла себя в долгу передо мной за проявленную мною
твердость духа. Не имея более причин проявлять подчинение и покорность,
мы обе вернулись к привычкам, приличествующим нашему положению в
обществе, и наняли собственных слуг до того времени, когда наступит наше
освобождение.
Устав от нашего присутствия, лэрд Дорнока, как мне часто казалось,
подумывал о том, чтобы предложить нам свободу. Как-то раз я пыталась
незаметно подвести его к этой давно желанной цели, когда ему было подано письмо,
посланное от королевского двора. В полной уверенности, что оно содержит
известия о нашем освобождении, я, пока он вскрывал письмо, бросила на него
торжествующий взгляд и в его лице прочла ту же мысль, но в следующее
мгновение выражение его лица заметно изменилось. Лэрд прочел письмо
вслух, и мы в невыразимом изумлении узнали, что в нем содержится приказ
неусыпно содержать под стражей английских пленников, за которых он
отвечает перед своим королем, содержать, впрочем, с должным почтением. Я тут
же обратила его внимание на эту часть приказа, словно бы не замечая первой,
которая тем не менее глубоко запала мне в сердце. Надо заметить, что и он
не остался нечувствителен к заключительной части приказа. Чувство
усталости и отвращения, которому он начал поддаваться, усилилось, гордость его
возмутилась при мысли, что замок превратили в государственную тюрьму, а
его самого — всего-навсего в тюремщика; он был раздосадован, унижен и
оскорблен. Никто не подчиняется власти с большим недовольством, чем тот,
кто неправедно воспользовался ею, и когда на себе он ощущает ее суровые
ограничения, то простое воздаяние становится, по существу, жестокой местью.
Вновь последовал томительный промежуток времени без известий из
Англии. Нежная, кроткая Фиби часто внушала себе, что ее возлюбленному не
удалось туда добраться, и необъяснимость положения, когда мы, казалось,
были всеми забыты, порой склоняла мою подругу и меня, чтобы разделить ее
мнение. Но как много могли мы справедливо предположить иных причин,
причин более грозных! И тогда, ища утешения, мы вновь обращали свои
мысли к острову, на котором находились.
Бесконечное ли разнообразие и непрестанные перемены в моей жизни
приучили меня не терять надежды, молитвы ли, неизменно обращенные к Тому,
кто один мог дать мне облегчение, укрепили мой разум — не знаю, но я
действительно открыла в нем доселе не известные мне возможности. Каждый
проходящий день, казалось, оттачивал и укреплял способность к восприятию и
мышлению, так что бурные страсти, еще недавно сотрясавшие, подобно
горному обвалу, все мое существо, теперь, войдя в спокойное, здоровое русло,
ровным потоком несли жизненную силу моему сердцу.
От Фиби нам было известно, что Мэйбл посылала множество писем
старшему брату, который тщательно скрывал их содержание, из чего мы
заключили, что письма касались нас. Эта новость утвердила нас в предположении,
что Трейси благополучно достиг Англии, и позволяла при этом льстить себя
надеждою, что друзья не жалеют усилий для нашего освобождения, как бы
их действия ни замедлялись препятствиями, о которых мы не могли ни знать,
ни догадываться. Предположения наши оправдались. Наконец был получен
приказ передать нас офицеру, который предъявит подтверждение этого
приказа. О, каким ликованием, благодарностью и нетерпением наполнила нас
уверенность в близком освобождении! От первого проблеска дня до того
часа, когда ночная тьма опускалась на океан, мы по очереди, в радостном
ожидании высматривали в волнах обещанный корабль. Наконец он появился, и
даже при виде самого Эссекса я вряд ли могла обрадоваться больше.
Трейси вторично сошел на этот берег и был со всех сторон встречен
приветствиями. Каждой из нас он вручил письма. Дорогой моему сердцу,
бесценный почерк — не глаза, сама душа моя устремилась к нему. С безграничной
нежностью Эссекс благословлял мое второе воскрешение из мертвых и
клялся, что возблагодарит судьбу за это чудо, безоговорочно подчиняясь моей
воле. «Вам не придется более жаловаться на ужасы военной жизни, любовь
моя, — продолжал он. — Я навсегда покончил с этим кровавым занятием.
Двор ничем более не привлекает меня. Вдохновляемый более достойными
чувствами, открытый для более чистых радостей, в Вашем и в своем сердце
впредь буду искать я этого своевольного скитальца — счастье. Я более не тот
Эссекс, милая Эллинор, которого Вы знали; я сделался настоящим сельским
жителем, скромным философом. С Вами я откажусь от света и в
каком-нибудь отдаленном уголке посвящу себя любви и наукам. Любовь моя, подобно
мне, закройте сердце прошлому — смотрите только в будущее. Я жду с
нетерпением известия о Вашем благополучном прибытии в Камберленд и с этой
минуты отсчитываю наше счастье».
Эти слова были для моей души то же, что теплое дуновение весны для
скованной холодом земли, когда стихают ветры, снег уходит в глубины почвы,
свежая зелень вырывается из раскрытых почек, природа забывает о
перенесенных страданиях.
Трейси приехал нагруженный дарами, более отвечающими душевному
складу самого дарителя, нежели одариваемого, но все же они нашли доступ к
сердцу лэрда Дорнока, который выслушал признание и просьбу Трейси без
негодования и в конце концов обещал ему руку своей сестры, если по
истечении двух лет его воинский чин даст ему право претендовать на нее. Слезы
молодых влюбленных навсегда скрепили те клятвы, что он утвердил своим
соизволением. Радость расположила мое сердце к тому, чтобы принимать лишь
светлые впечатления нежных чувств, закрывая доступ всему остальному, и
мне бесконечно странно было вспоминать то время, когда я с готовностью
разделяла честолюбивые планы Эссекса. Сан, богатство, слава — что в вас?
Вы — яркие украшения, которые сообщают великолепие веселью, но
обременяют и клонят к земле душу в ее борьбе с нашествиями бед, и мы радостно
освобождаемся от этих ненужных даров, обретая в спокойствии и любви
скромную, но драгоценную основу своего достояния.
В жизни, как и при созерцании картин природы, длительную радость может
доставить лишь ограниченный обзор, а все, что являет уму или взору сразу
множество предметов, как бы величественны и прекрасны они ни были, утом-
ляет чувства и разрушает покой. Отвергнув разом весь мишурный блеск,
которым тешится тщеславие — от далекого трона до всесильной толпы, готовой,
быть может, когда придет время, возвести меня по его ступеням, душа моя
призвала одного лишь возлюбленного и, поместив его подле меня в безопасном и
смиренном уединении, вопросила: что утратили мы при этой перемене? —
утратили? — ах, лучше спросить: чего мы не обретем? И как сладостно было узнать,
что сам лорд Эссекс лелеет точно такие же мысли; что, устав от войны,
честолюбия, зависти и всех бурных превратностей жизни, отрекшись от двора
Елизаветы, он утратил, вместе с властью, желание власти; что время, одиночество,
размышления и даже само разочарование скорее изменили, чем уничтожили
его наклонности, которые таким образом вновь обрели свое истинное
направление, ища в возможностях разума и побуждениях сердца то счастье, что
недостижимо на земле, если эти два источника перестают питать его.
Навсегда покидая это унылое место изгнания, я оставляла там лишь один
предмет своих сожалений, но в надежде, что Трейси скоро возвратит милую
Фиби в мои дружеские объятия, я быстро осушила слезы, которыми отвечала
на целые потоки их, пролитые этой прелестной девушкой при нашем
расставании. Быстрый бег корабля не отвечал моему нетерпению: когда бы я ни
обращала взор в сторону ненавистного острова, он все еще был виден —
казалось, он никогда не исчезнет из глаз.
О, с какой радостью предвкушала я блаженный покой, ожидавший нас в
зеленом уединении Камберленда! Я надеялась, что Эссекс будет уже там,
хотя Трейси и уверял меня, что соглядатаи все еще следят за каждым его
шагом и лишь длительное подтверждение его мирных намерений сможет
избавить его от слежки.
Наконец завиднелись прекрасные берега Англии — крик, оповестивший об
этом, наполнил мое сердце ликованием. Наши сердца, вслед за взглядами,
устремились навстречу родной стране. В порту нас ждали слуги, и все было
приготовлено д,ля того, чтобы сделать путешествие легким. Ах, как
прекрасно было это путешествие! Сотни многообразных примет величавой простоты
соединились в совершенное целое, восторг заново поражал чувства при
каждом повороте нашего пути через долины, осененные развесистыми лесными
кронами, отраженные в глади водных просторов, порой погруженные в
густую тень высокими горами, чьи оголенные вершины, казалось, тянулись к
солнцу, бросая ему вызов.
В глубине этих зеленых лабиринтов перед нами предстал замок, из
которого я и пишу. Он обветшал и пришел в упадок, не утратив красоты; его
следовало бы назвать жилищем отшельницы по имени Уединенность. С
печальной радостью прекрасная владелица обвила мою шею руками и благословила
те силы, что позволили нам добраться наконец до этого приюта.
Из этого старинного жилища посылаю я свое повествование и дописываю
его, лишь стремясь заполнить часы, еще не озаренные присутствием того,
кому суждено наполнить собою каждый час моей будущей жизни. Дорогая леди
Пемброк, не могу выразить всю божественность покоя, снизошедшего нако-
нец на мои истерзанные чувства. С удивлением оглядываюсь я на все
прошедшие горести, жестокие столкновения, в которых выстояла моя слабая плоть.
А сейчас мое благодарное спокойствие так чисто, так совершенно, что его,
кажется, не может коснуться несчастье. Никогда более мое бьющееся сердце,
мой пылающий мозг... но к чему эти мрачные воспоминания?
Покоясь в материнских объятиях природы, защищенная безвестностью и
уединенностью этого увитого плющом приюта, моя испуганная душа, как
боязливая птичка, тихо складывает свои усталые крылья, радуясь одиночеству,
счастливая своей безопасностью. Мне кажется, я никогда не упьюсь вполне
счастьем и благодарностью — сердце мое изнемогает от блаженства, а я все
побуждаю его к новым восторгам, для него непосильным. Гордость, страсть,
тщеславие — все самые резкие и грубые свойства моей натуры — сразу
покинули меня, а все чистые, человеколюбивые добродетели раскрывают и
расправляют навстречу весеннему солнцу лепестки своих цветов, опережая даже
ранний подснежник.
О, это ослепительное благословенное светило! Каким новым видится мне
его могущество! Какая темная пелена скрывала его доселе от моих глаз!
Простите, мой дорогой друг, эти причуды фантазии — так ребячески своеволен
становится разум, когда он в мире с собой!
Поспеши, великодушный Трейси, поспеши к моему любимому, извести его
о нашем прибытии! Но разве Трейси уже не отправился в путь? О, тогда
спеши, мой Эссекс, покинь суетный свет, где путь добродетели неизменно
пролегает над краем бездны, куда сотни рук готовы столкнуть ее; раздели со мной
глубокий покой уединения — не думай более о Елизавете: даже ее власть не
настигнет нас здесь. Природные гиганты стражи, неприступные горы,
вздымают ввысь свои вершины в грозном строю, посрамляя всякую иную стражу, а
между ними, в веселых долинах, счастье покоится на груди матери своей,
Природы. О, приди же и пусть
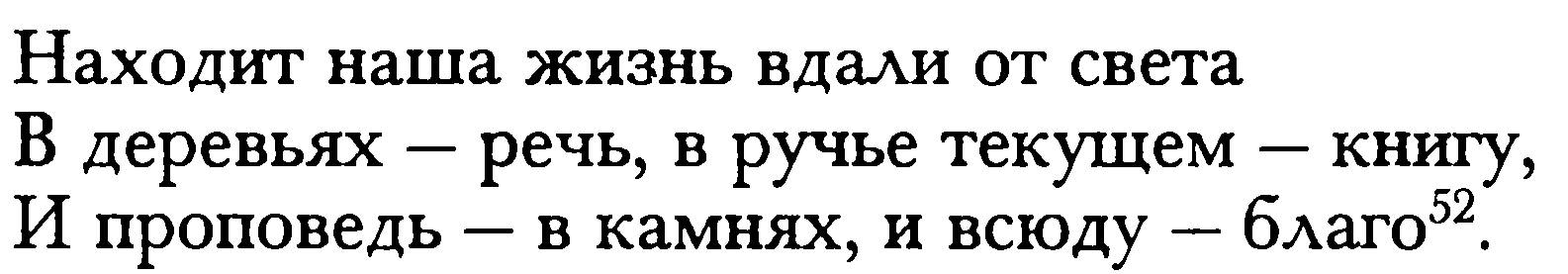
* * *
Удар грома поразил мой мозг! О мстительные Небеса! Отчего не
раскололи вы мою голову? Его судили — приговорили — обрекли, — а я между тем в
ненавистном мне теперь уединении радостно грезила о нескончаемом счастье.
О, дайте мне еще раз стремительно и безумно ринуться в мир, ошеломите
мои истерзанные чувства воплями битвы, стонами раненых, потоками крови,
реками слез; найдите, если сумеете, в природе такой ужас, который заглушил
бы ужас, разрывающий мою душу... Лишь гибель всего сущего может
сравниться с ним... Но пусть разрушение будет безгранично — зачем стану я
желать умерить его?.. О леди Пемброк!
ПИСАНО РУКОЙ ЛЕДИ ПЕМБРОК
Дрожащая рука друга в последний раз принуждена взяться за перо, чтобы
завершить описание невзгод прекрасной страдалицы, которой не суждено
более рассказать о себе. Увы, сейчас ее душа достигла предела человеческой
скорби.
Причудливый склад ума, который помог милой Эллинор создать
фантастический план ложной смерти и погребения, изумил меня; изумление мое
возросло, когда я узнала об искусном осуществлении плана. Однако ее
неуклонное следование одной-единственной идее отнюдь не внушало друзьям
Эллинор уверенности в том, что разум ее вновь обрел здоровье и
уравновешенность.
Когда эти печальные записки попали в мои руки, я не могла не заметить,
что прелестная возлюбленная Эссекса имела крайне пристрастное
представление о его характере и была неточно осведомлена о его действиях. Эссекс
был наделен самым справедливым и великодушным сердцем, какое
когда-либо билось в человеческой груди, и нередко его достоинства представали в
ложном свете вследствие корыстных толкований тех, кому удавалось хоть
раз найти путь к его сердцу. Доверчивость его была столь велика, что из нее
даже извлекали выгоду враги, которых он всякий раз переставал считать
таковыми, как только они давали себе труд обмануть его лживыми знаками
уважения.
Следует сказать, что природная снисходительная мягкость Эссекса
постоянно пересиливала честолюбие, бывшее его единственным пороком,
пронизывая его характер светом мирных добродетелей, окружая его сиянием, более
чистым, мягким и непреходящим, чем блеск, окружающий победителя. Тем
не менее рано обретенные власть и отличия заняли прочное место в его
сердце, и, так как даже его любовь способствовала этому взлелеянному
недостатку, они росли одновременно.
Дерзновенный замысел Эссекса ни в коей мере не был беспочвенным, если
бы только он умело приступил к его осуществлению. Ему принадлежали все
сердца в королевстве, за исключением горстки завистников. Но Эссексу была
неведома хитрость; те же, кого оскорбляло его превосходство, были искушены
в этой науке и, к несчастью, составляли ближайшее окружение королевы,
имея возможность обратить те подозрения, что порой возникали у нее в
отношении действий Эссекса, в уверенность. Однако глубоко укоренившаяся в
душе Елизаветы любовь к несчастному фавориту долго боролась с ее
собственными сомнениями, и в слезах неразумной нежности часто растворялось
ожесточение, которое недруги могли обратить к его погибели. Одна лишь эта
слабость могла побудить столь мудрую и опытную правительницу, как Елизавета,
наделить полнотою власти, едва ли уступающей ее собственной, вельможу
отважного, любимого войском и народом, честолюбивого. Соглашаясь послать
Эссекса командовать войском в Ирландии, Елизавета отказалась от
собственных желаний (которым отвечало его неизменное присутствие подле нее) в уго-
ду стремлениям Эссекса; а может статься, в действительности оба они
бессознательно уступили тайной политике, неизменно направленной к тому,
чтобы разделить их. Убежденная, что Эссекса привязывают к ней неразрывные
узы благодарности, чести и доверия, могла ли Елизавета, при ее нетерпеливой
горячности, не быть поражена, оскорблена, раздосадована тем, что он
бездеятельно проводит время в Ирландии, пренебрегая и ее увещеваниями, и
людским осуждением? Постепенно она прониклась предубеждениями семейства
Сесилов, непримиримых противников графа, которым доверила управление
государством — не столько в силу высокого мнения об их талантах, сколько из
тайного желания досадить непочтительному фавориту, чья неприязнь к
Сесилам не уступала их враждебности к нему. Время укрепило влиятельность
партии Сесилов, которой поначалу они были обязаны лишь королевскому
недовольству. Досадное бездействие лорда-наместника сменилось поведением
подозрительным и загадочным. Его секретные переговоры с главой мятежников
Тайроном, неизвестная пленница, ради которой он вступил в переговоры, —
все это с преувеличениями было доведено до сведения Елизаветы. Ее
негодование, вызванное военными просчетами Эссекса, удвоилось, когда ей стало
известно о непокорности его сердца; ревность овладела ею, она решила дать ему
почувствовать всю суровую полноту своей власти, но ее убедили, что отзывать
Эссекса небезопасно. Впервые в жизни ей пришлось сдержаться, задуматься о
том, как вновь подчинить его себе, и нрав ее сделался совершенно
невыносимым. Ее фрейлины хранили грустное молчание — все, за исключением
нескольких искусных интриганок, подученных (не без выгоды для себя)
разжигать ее гневную досаду. Судьба Эссекса, казалось, всецело зависела от хода
войны, до той поры неблагополучного, как вдруг, одинаково изумив друзей и
врагов, не добившись никакого сколько-нибудь значительного успеха,
который позволил бы ему надеяться на благосклонный прием, Эссекс поспешил
домой и предстал перед Елизаветой с видом полной уверенности в своей
правоте. То ли изумление этой минуты действительно воскресило великую
страсть, которую она так долго питала к нему, то ли страх за свою жизнь
заставил ее затаить горечь и гнев, переполнявшие сердце, — я так никогда и не
узнала. Достоверно известно, что королева приняла Эссекса милостиво и
выслушала его весьма неубедительные и бессвязные доводы в свою защиту. Они
расстались друзьями, и Эссекс, мгновенно поддавшись тому легковерию,
перед которым часто оказывались бессильны все способности и таланты,
дарованные ему природой и воспитанием, счел, что вполне вернул себе ее
расположение. Он верил, что восторжествовал над своими недругами, и не
скрывал ликования.
Каким же ударом стало для него мгновенно разразившееся над ним
бесчестье! Он не мог не сознавать, что причиной этого бесчестья стала его
собственная опрометчивость, что, возвратившись в Англию, ни с кем не советуясь,
он добровольно предал себя в руки врагов. К позору долгого и унизительного
ареста вскоре прибавилось сокрушительное несчастье — уверенность в гибели
прекрасной Эллинор. Погрузившись в безмолвное и угрюмое отчаяние, он бо-
лее не снисходил до того, чтобы представить Елизавете дальнейшие
оправдания своего поведения, и отказывался проявить хоть малейший знак
покорности. Эти потрясения, однако, пошатнули не только его душевное, но и телесное
здоровье. Последовала нервная горячка, вскоре принявшая опасную форму.
Упрямо отвергая всякую врачебную помощь, он твердил, что желает лишь
умереть, и желание это вполне могло осуществиться, если бы королева,
которая неспособна была до конца подавить в себе нежность, так долго царившую
в ее сердце, не прислала к нему собственного лекаря и с ним — предложение
мира и прощения. О тяжелом состоянии, в котором тот нашел Эссекса, было
подробно доложено Елизавете, и она, глубоко потрясенная, задумалась, не
следует ли ей оживить его немедленным посещением — так во все времена
трудно будет политическим ухищрениям одолеть неподдельные природные
впечатления. Сесил и его сторонники вдруг ощутили себя на краю гибели и
использовали все доводы, какие только могли быть подсказаны страхом,
гордостью и осторожностью, дабы отсрочить эту встречу. В этом Елизавета
уступила их искусно подобранным доводам, но не смогла отказать себе в
удовольствии переписки с Эссексом, когда здоровье его улучшилось, и вскоре
позволила ему представить оправдания своему поведению и даже снизошла до
того, чтобы попенять ему на ту неизвестную даму, что повлияла на него столь
роковым образом. На этот мучительный для него намек, возразил он, его
горе должно остаться единственным ответом, и меланхолический строй его
жизни настолько соответствовал этому заявлению, что Елизавета более не
покушалась проникнуть в тайну, должно быть, скрытую могилой, а вместо этого
попыталась с помощью доброты укрепить и ободрить его дух, чрезмерно
угнетенный враждебностью судьбы.
То было самое светлое время в жизни Эссекса. Стремительный поток
победоносной войны некогда смыл и поглотил те благодатные науки, те мирные
добродетели, которые теперь, в опале, время наконец извлекло из этого
потока. Щедро наделенный красноречием, вкусом, знаниями, разумом и
чувством, он предался радостям философии, поэзии и математики Эти невинные
и спокойные занятия — верное прибежище для огорченного ума, если только
он свыше наделен счастливой способностью извлекать из них радость.
Сесилы никогда еще не считали Эссекса более опасным для себя. Преклонный
возраст и недуги побуждали теперь Елизавету к тому, чтобы искать мира за
границей и спокойствия внутри страны, и потому единственной встречи
между нею и столь сильно изменившимся Эссексом было бы довольно, чтобы она
вернула ему свое расположение, но этой встречи его враги, объединившись,
решили ни в коем случае не допустить. Они начали с того, что убедили врача
Елизаветы предписать графу отдых в деревне. Подготовка такого тонкого
хода, как его освобождение, не сразу обнаружилась в политике придворных
кругов, и королева, успокоенная своим намерением принять его с почетом по
возвращении, допустила, чтобы он уехал, так и не представ перед нею. Устав
от войн, походов, политических интриг и споров, опечаленный Эссекс ничего
не желал от свободы, кроме обретенного им одиночества, когда Трейси воз-
вратился с ошеломляющим известием, что возлюбленная, по-прежнему им
боготворимая, жива. Известие стало роковым для его мира и покоя.
Невозможность открыто предъявить права на Эллинор воскресила — вместе с его
страстью — все его опасные и гибельные замыслы. Его попытки добиться
возвращения Эллинор не имели успеха, пока он не прибегнул тайно к
содействию короля Шотландии, который всегда слишком ревностно соблюдал свои
интересы, чтобы оказать кому-нибудь милость, не заручившись ответными
обязательствами. Иаков страстно желал, чтобы сама Елизавета объявила его
своим наследником, и не желал ни подарков, ни обещаний, ни лести, дабы
привлечь на свою сторону тех людей из окружения королевы, кто мог
повлиять на ее выбор. Неожиданное обращение к нему с просьбой человека, чье
мужество и честолюбие внушали Иакову сильнейшее опасение, было
обстоятельством чрезвычайной важности. Не зная ни подлинных имен, ни
положения пленников, освобождения которых лорд Эссекс так упорно добивался,
король Шотландии направил лэрду Дорнока распоряжение усилить их
охрану. Безудержный нрав Эссекса всегда побуждал его приносить в жертву
главной цели все остальные соображения и интересы, но переговоры такого рода
не могли вестись столь секретно, чтобы избежать подозрительного внимания
министров. С каким злобным торжеством наблюдали они в молчании за
ходом этих переговоров, ожидая той минуты, когда, придав их огласке, смогут
вызвать у королевы давно желанный гнев!
Эссекс вновь счел, что в его интересах оказаться в окружении дел,
восхищения, популярности. К нему вернулись все его прежние привычки, и,
добившись королевского разрешения, он воротился в Лондон. Не
воспользовавшись, однако, ее снисходительностью, чтобы получить прощение, он
оставался в своем доме, широко распахнув его двери всем обедневшим офицерам и
лицам духовного звания, среди которых затесалось множество
предприимчивых авантюристов, чьи громкие восхваления, казалось, создали ему большую
популярность, чем когда-либо.
Елизавета с негодованием видела, что Эссекс полагает совершившимся
восстановление его в милости королевы, тогда как сама она только еще
обдумывала такую возможность. Втайне она держала его поведение под
неусыпным надзором. С коварством, ведомым лишь в политической борьбе,
противники Эссекса ввели в круг его сторонников своих людей, поручив им вникать
во все его намерения и повсеместно распространять мятежные и
изменнические замыслы, якобы доверенные им самим графом. Этот злонамеренный
план осуществился вполне. Разгоряченный лестью безрассудных друзей,
безмерным восхищением толпы и коварными происками врагов, Эссекс в
слепоте заблуждения сам подготовил взрыв, уничтоживший его.
Открытый раздор начался со столкновения между Саутгемптоном и
Греем, напавшим на него на улице, и, хотя зачинщик понес официальное
наказание, дух противостояния прорывался сотнями мелких ежедневных стычек.
Королева, уже убежденная в том, что Эссекс, надменный и своевольный,
презирает ее власть и неуважительно относится к ней самой и только ждет удоб-
ного момента, чтобы нанести открытое оскорбление и власти королевы, и
самой правительнице, пришла в крайнее негодование, когда в столь накаленной
обстановке ее вниманию был искусно представлен его секретный сговор с
королем Шотландии. Его истинная подоплека была ей неизвестна, а проступок,
хотя сам по себе незначительный, был таков, что скорее всего мог
раздосадовать правительницу, чей взгляд неизменно отвращался от наследника,
которого она отказывалась признать. Известие это оказалось решающим.
Елизавета вознамерилась предать неблагодарного фаворита в руки закона и
назначила судебное расследование его поступков. Партия Сесила только того и
желала: им было хорошо известно, что Эссекс согласится скорее умереть, чем
перенести намеренное бесчестье. Лорды, назначенные в комиссию, собрались в
доме Эссекса в воскресенье, полагая, что в такое время они не рискуют
подвергнуться оскорблениям расположенных к нему лондонцев. Эссекса они
застали в великом гневе. Поклявшись, что никогда более не будет
добровольным пленником, он запер в своем доме лорда-хранителя печати и всех
остальных и в полном вооружении, сопутствуемый лишь несколькими друзьями и
слугами, бросился искать защиты у народа.
Роковым образом (как случалось не с ним одним) мыльный пузырь
популярности, что так долго рос и радужно переливался перед его обольщенным
взором, мгновенно лопнул, оставив его в пустоте. Враги его рассудили здраво,
выбрав воскресный день. Без подготовки, почти без друзей, несчастный
Эссекс стремительно двигался по лондонским улицам, заполненным лишь
мирными и скромными ремесленниками, которые стекались из прилегающих
переулков в окружении жен и детей, радуясь еженедельному отдыху от трудов.
Людям этого сословия отважный Эссекс был почти неизвестен и, во всяком
случае, безразличен. Они оборачивались, с тупым любопытством глядя, как
воинским шагом благородный Эссекс, за которым никто не отваживался
следовать, стремительно идет навстречу гибели. Неудача, однако, лишь
увеличивала его отчаянную решимость, и, когда горожане, отважившись на слабое
противодействие, пытались остановить его, произошло столкновение. Верный
Трейси окончил жизнь как сам того желал — пал, сражаясь рядом со своим
господином, который даже в эту суровую минуту пролил слезу о гибели
дорогого ему юноши. Почет, честь, счастье, самая жизнь уходили от Эссекса, но,
расставаясь безоглядно с этими благами, он оставался верен обязательствам
дружбы. Из сострадания к немногочисленным великодушным
приверженцам, которым суждено было погибнуть за него, продли он свое
сопротивление, граф наконец отдал шпагу.
Все было кончено для этого фаворита, некогда окруженного восхищением
и жестоко заблуждавшегося. Заключенный в Тауэр, он теперь имел время
обдумать все те события, что привели его туда. То, что он оказался в
одиночестве, открыло ему глаза на истинное положение вещей. Он ясно увидел, что
люди, пока он содействовал им в их нуждах, гордости и удовольствиях, готовы
были сотрясать воздух приветственными кликами, но стоило ему в свой черед
воззвать к их чувствам, как они неизменно становились холодны, вялы и рав-
нодушны. В напрасном раскаянии он понял, что на путь оскорбления законов
общества его завлекло не только собственное легковерие, но и изощренное
коварство врагов. Однако он не в состоянии был извлечь для себя урок из
этих прискорбных открытий: они лишь исполнили его искреннее сердце
глубоким отвращением. Он, тем не менее, утешал себя мыслью, что самозащита
была единственной целью его решительного выступления и что за всю свою
жизнь он ни одним поступком не нарушил присягу верности, принесенную
королеве. Он мужественно приготовился встретить решение, которое вынесут
равные ему по званию, и лишь печалился о том, что дружба сделала
причастным к его судьбе великодушного Саутгемптона, без сожалений и ропота
делившего заключение со своим другом.
Королева между тем испытывала все мучительные, противоречивые
чувства, которые неизбежно должны были возникнуть из такого столкновения
страстей. Как обычно, заточение ее любимца, казалось ей, само по себе
искупило его проступок, но он уже был неподсуден ей, он находился во власти
закона, в руки которого она, к несчастью, сама отдала его, лишив себя всех
привилегий, кроме привилегии помилования, воспользоваться которой едва ли
сможет, так как гордая душа Эссекса не позволит ему просить об этом. Она
раскаивалась слишком поздно, что довела его до столь губительной
крайности, и, пока судьба его оставалась неясной, выстрадала не меньше, чем он,
когда участь его решилась.
Друзья графа, убежденные, что противники не пожалеют усилий, чтобы
отправить его на плаху, в один голос умоляли его склонить на свою сторону
королеву своевременным раскаянием и покорностью, но они не знали
величия сердца, которое пытались побудить к унижению. Эссекс, которому
суждено было особенно блистательно отличаться именно тогда, когда он
оказывался лишен блеска внешних отличий, в такие времена был склонен к
наибольшей ясности мысли.
— Можно ли зваться моим другом, — возмущенно вопрошал он, — и при
этом желать, чтобы я униженно вымаливал для себя жизнь в безвестности и
позоре? Как! Угаснуть в расцвете сил в одиночестве и бесчестье, оставленным
людьми, однако не заклейменным правосудием! Самому сторониться тех
людей, возвышенных судьбой и характером, с которыми я не осмелюсь более
состязаться! Оставаться наедине с мучителями — собственными мыслями — до
той поры, пока, быть может, в отчаянии не приму от своей руки то, что
трусливо уклонился принять из рук закона! Нет, друзья мои. Я арестован как
изменник — если измена будет доказана, мне надлежит искупить свое
преступление; если же я буду оправдан, я знаю цену жизни, которой до сего дня
рисковал лишь ради блага своей страны.
Никакие доводы, никакие мольбы не могли сломить его решимость, и он с
беспримерным мужеством ожидал приговора, который, как продолжал
утверждать, отмене не подлежал. Напрасно перед его живым воображением
яркими красками рисовали дорогие и волнующие образы. Лишь от образа
пораженной горем Эллинор, слишком поздно обретшей свободу и в отдаленном
уединении строящей в мечтах волшебный приют любви и счастья, сердце его
содрогалось от скорби.
— Вы можете истерзать мое сердце, — отвечал он, вздыхая, — но решение
мое неизменно. Даже ради самого дорогого для меня существа я не смирюсь с
бесчестьем. Нет! Когда я устремлял взор на тебя, дорогая Эллинор, в своей
душе я находил все, что давало мне право верить, что я достоин тебя. Сейчас
я не могу решиться даже поднять глаза на женщину, которую боготворю.
Пусть лучше она оплакивает мертвого, чем втайне презирает живущего.
Чисты и бесценны будут слезы, падающие на мою могилу, тогда как сам я в
каждой слезе ее различал бы скрытый укор... Предоставьте меня моей судьбе,
друзья мои. До сих пор честь неизменно руководила моими поступками, и
мне поздно меняться.
С той минуты, как вынесенный Эссексу приговор стал известен королеве,
она лишилась сна и покоя. Избранник ее сердца стал жертвой закона, и
сердце ее готово было изойти кровью вместе с ним, если только его не удастся
убедить прибегнуть к ее милосердию. Сотни посланцев уверяли его в
несомненном прощении — слова, единого желания довольно, чтобы получить его.
На это он всякий раз отвечал с неизменным спокойствием, что, «будь
королева к нему столь снисходительна раньше, его жизнь не оказалась бы под
порицающей властью закона, но, поскольку теперь ее наивысшая милость может
выразиться лишь в продлении для него права дышать, он — ради ее
безопасности и во исполнение своего приговора — готов отказаться от этой
привилегии, которая стала бременем с той минуты, как оказалась единственной
доступной ему». Такой ответ, способный тронуть самое безразличное сердце,
пронзил сердце Елизаветы. Но так как даровать ему помилование без его
просьбы о том означало бы запятнать свои преклонные годы проявлением
непростительной слабости, она ежечасно терпела самые невыносимые терзания.
Ах, отчего я говорю «самые невыносимые»? Увы, в глуши Камберленда
была прекрасная страдалица, которую жестокое известие, дошедшее до нее,
обрекло на участь, горшую смерти. Приговор Эссексу подразумевал и его
друга Саутгемптона, чьи родственники тотчас отправили гонца к его жене в
надежде, что она успеет прибыть в Лондон и ходатайствовать перед
королевой о помиловании. Посланец застал не ведающих о несчастье женщин
душевно бодрыми, утешенными безопасностью, уединением, светлыми
надеждами. Перестук конских копыт, донесшийся издалека, не вызвал у них иного
чувства, кроме радостного затаенного трепета, порожденного надеждой сей
же час увидеть одного, а может быть, и обоих графов (к тому времени уже
осужденных). Как же ужасна была перемена чувств и мыслей, когда им
вполне открылась вся отчаянная безнадежность положения, когда они лишены
были даже той защиты, что таится в ожидаемом бедствии! Несчастная жена
Саутгемптона, поглощенная своей долею беды, не заметила, как глубоко и
ужасно горе поразило рассудок ее не менее тяжко страдающей подруги, не
заметила, пока чувства и мысли Эллинор явно и окончательно не погрузились в
оцепенение, пока беда не сделалась непоправимой.
Для человеческого разума, даже самого возвышенного, непосильно
одновременное воздействие двух противоборствующих страстей — одна должна
быть принесена в жертву другой, дружба вынуждена отступить перед
любовью. Леди Саутгемптон поспешила в дорогу, не зная ни промедления, ни
устали, поручив свою подругу заботам верных слуг, которым было приказано
везти ее более спокойно и неспешно. Глубокий мрак, в котором пребывал разум
милой Эллинор, в пути сменился смутным и неровным весельем, но так как
прежде такая перемена порой предшествовала ее выздоровлению, то же
могло случиться и на этот раз, будь она в окружении людей, знакомых с ее
недугом. От тех же, на чьем попечении находилась она сейчас и кому неизвестно
было ни имя ее, ни положение, ни страдание ее души, едва ли разумно было
бы ожидать, что они сумеют оберечь ее от событий, предвидеть которых
никак не могли. Случилось так, что в один из дней пути, во время отдыха,
взгляд Эллинор обратился на обширное строение, отлично видное с дороги, и
в ее блуждающих мыслях оно представилось ей Кенильвортом. Не в меру
усердный слуга сообщил ей, что это замок Фозерингей. Она пронзительно
вскрикнула, выразительным жестом протянула руки в сторону рокового
замка, а затем, вырывая пряди своих прекрасных волос, которые еще прежде
пострадали во время ее недуга и едва успели вновь обрести свою прежнюю
пышность, бросилась наземь и с этой минуты окончательно погрузилась в
безумие.
Когда леди Саутгемптон вошла в тюремную камеру к своему супругу и на
его измученной груди излила в слезах свою любовь и скорбь, Эссекс
почувствовал, как все струны его сердца отозвались стоном, и, в тревоге и нетерпении
устремив взгляд к дверям, с невыразимым ужасом увидел, что следом за нею
не вошел никто. Ей недостало присутствия духа скрыть от друга своего мужа
истину, завершающую собою его судьбу, истину столь ужасную, что он готов
был счесть ее милосердным обманом друзей, призванным примирить его со
смертным приговором. Убедившись наконец в правдивости известия, он
горестно воскликнул:
— Только теперь я по-настоящему ощутил свои оковы, только теперь я по-
настоящему стал пленником. О Эллинор, несравненная Эллинор! Если бы я
мог устремиться к тебе! Если бы мог вновь вернуть твою бесценную душу,
которая, как испуганная птичка, всякий раз покидает свое жилище, когда над
ним мрачной тенью нависает беда! Ты, ты одна сокрушила дух, не
подвластный никакому иному несчастью, ты превратила меня в труса: чтобы спасти
тебя, моя любовь, я могу решиться вступить в жалкий торг за свою
опозоренную жизнь, могу пожелать пережить свою честь.
Веря, что его присутствие могло бы возыметь такое же действие, как
некогда в Сент-Винсентском Аббатстве, он стал страстно добиваться
возможности увидеть Эллинор. Эта мысль целиком завладела им, превратилась в его
единственную просьбу, в его предсмертное желание. При том безнадежном
состоянии, в котором пребывала Эллинор, опасения внушали лишь
последствия этой встречи для Эссекса, но, видя тщетность всех доводов и просьб,
друзья наконец решились уступить его страстному, его единственному
желанию.
Был объявлен день казни Эссекса и даровано помилование Саутгемптону,
как того и желал его друг. Так как всем друзьям Эссекса был открыт
свободный доступ в тюрьму, не представило труда привести в камеру его любимую в
наряде юноши, сопровождаемую леди Саутгемптон... Ни за какие блага не
согласилась бы я присутствовать при этой встрече... Ах, дорогая Эллинор! Был
ли утраченный рассудок, который они так страстно желали вернуть тебе,
действительно потерей? В здравом уме — как смогла бы ты перенести
мучительное зрелище, наблюдать которое тебя вынудили усилия погибающей любви и
услужливой дружбы? Какими глазами глядела бы ты на мрачную башню, на
охраняемые стражей ворота, через которые скоро предстояло твоему
возлюбленному пройти и никогда более не вернуться? Как истекало бы кровью твое
сердце при виде прекрасного лица, от которого всего через несколько часов
отлетит душа, чья мука сейчас выразилась в каждой черте его? Но это
безмерное испытание не выпало тебе на долю. Все силы и богатство прекрасной души
были уже недосягаемы даже для любви. Твой блуждающий взгляд не признал
того, к кому прежде был неизменно устремлен, твое ухо не внимало его
голосу, грудь твоя ни единым вздохом не отозвалась на бурю скорби, вздымавшую
грудь твоего возлюбленного, чье сердце еще живо откликалось на все
человеческие горести. К тебе, прощаясь с жизнью, льнула его душа; когда же ты
скрылась из глаз его, взор Эссекса без сожаления отвратился от мира.
После ухода Эллинор Эссекс не видел ни друзей, ни родных, но, обратясь
мыслью к грозной и столь близкой будущности, умер для этого мира еще
прежде, чем совершилась казнь.
В ночь накануне события была доставлена эта записка, адресованная
одновременно моей сестре (поселившей у себя дорогое несчастное создание)
и мне:
«Дорогие великодушные хранительницы загубленного ангела, мысль о
котором заставляет кровоточить мое сердце, примите в этом письме мои
прощальные благословения и простите, о, простите недоверчивость, слишком
сурово наказанную достоверностью, достоверностью столь ужасной, что она
примиряет меня со смертью, которую несет мне грядущий день. Да, моему
ошеломленному взору явилась бледная и недвижимая фигура моей
возлюбленной — она дышала, но не жила, лишенная речи и мысли. Ждущая толпа,
роковой помост, топор, что отторгает душу от тела, — к ним я с облегчением
обращаюсь мыслью, когда это воспоминание настигает меня.
Прощайте, достойные сестры доблестного Сиднея. О, если разум с
опозданием возвратится к милой страдалице, завещанной вашей дружеской заботе,
милосердно уврачуйте раны ее души. Но более не пробуждайте к страданию
мою обожаемую Эллинор.
Пусть тихо дремлет твоя чистая душа в своей дышащей гробнице до того
заветного часа, что наконец соединит тебя с твоим Эссексом.
Тауэр».
Казалось, это послание вместило в себя все те слабости, с которыми
медлительно расстается бренная оболочка, ибо оставшиеся часы его жизни были
посвящены единственно исполнению религиозного долга. В расцвете сил, в
возрасте тридцати трех лет, этот возбуждавший всеобщую зависть фаворит
не ропща отрекся от всех земных отличий и благ и взошел на эшафот со
спокойствием, даруемым лишь сознанием своей правоты и милостью Небес.
Растроганная толпа с запоздалой скорбью смотрела, как его цветущая молодость
идет навстречу кровавому концу. Слуха его коснулся всеобщий ропот печали
и хвалы. Умудренным взглядом он обвел зрителей, а затем, обратив взор к
небесам, спокойно предался в руки палача, и тот единым ударом разлучил
голову и сердце, которые, будь они в постоянном согласии, могли обрести
мировую славу.
О той, что была так любима и так великодушно и трагически верна, не
много осталось рассказать. Время, забота и медицина оказались бессильны
возвратить ей рассудок, который, впрочем, мог принести ей лишь новое горе.
Однако даже во власти безумия Небеса позволили ей стать орудием
небывалого и поучительного возмездия.
Минуло немногим более года, и за это время ее болезнь выразилась во
всех многообразных и ужасных проявлениях, ей свойственных. Желая иметь
постоянную врачебную помощь, я взяла Эллинор к себе в Лондон, где как-то
вечером она, проявив известную долю сообразительности и хитрости, что так
часто вплетаются в безумие, сумела ускользнуть от приставленной к ней
прислуги и, зная все покои и переходы дворца, прошла по ним с удивительной
легкостью.
Королева, всецело погруженная в леденящее уныние безысходного
отчаяния и беспощадно наступающей старости, окончательно покорилась их
власти. Фрейлинам часто поручалось читать ей вслух, и это было единственное
развлечение, с которым мирилась ее тоска. В ту памятную ночь был мой
черед. Елизавета отпустила всех остальных в тщетной надежде дать себе покой
и отдых, которые давно безвозвратно утратила. Исполняя свою обязанность,
я читала уже долгое время, когда вследствие позднего часа и королевского
повеления воцарилась такая глубокая тишина, что если бы, изредка
вздрагивая, она тем не заставляла меня очнуться, мои полузакрытые глаза едва ли
могли бы различать строки, по которым скользили. Дверь внезапно
распахнулась, и на пороге возникла фигура столь легкая, столь хрупкая и столь
трагическая, что мое бурно забившееся сердце едва решалось признать в ней
Эллинор. Королева приподнялась с болезненной поспешностью, но смогла лишь
невнятно и приглушенно вскрикнуть. Мне мгновенно пришло на ум, что
Елизавета убеждена в ее смерти и воображает, будто видит перед собою призрак.
Прекрасная тень (ибо поистине никогда еще смертный не походил так на
существо из иного мира) опустилась на одно колено среди плавно струящихся
складок длинного черного одеяния, возвела к небу взор, исполненный той
невыразимой безмятежности, той безграничной, непостижимой
благожелательности, что сообщается лишь безумием, и кротко склонилась перед Елизаве-
той. Королева, пораженная до глубины души, откинулась в кресле, не в силах
произнести ни слова. Эллинор поднялась, приблизилась и несколько
мгновений стояла молча, задыхаясь.
— Когда-то я испытывала гордость, страсть, негодование, — наконец
заговорила несчастная тихо и горестно, в невыразимой тоске, — но теперь Небеса
запрещают мне это... О ты, воистину рожденная лишь для того, чтобы
преследовать мой несчастный род, прости меня... У меня не осталось иных чувств,
кроме печали.
Она рухнула на пол и дала волю рыданиям, которые тщетно пыталась
сдержать. Королева судорожно притянула меня к себе и, пряча лицо у меня
на груди, бессвязно воскликнула:
— Спаси, спаси меня, о Пемброк, спаси меня от этого ужасного
призрака!
— Эссекс, Эссекс, Эссекс! — простонала распростертая на полу Эллинор,
выразительно воздевая бледную руку при каждом горестном возгласе.
Бурная дрожь, охватившая королеву, показала, как глубоко поразил ее
звук этого рокового имени.
— Мне сказали, — продолжала милая страдалица, — что он в Тауэре, но я
искала его там так долго, что совсем устала... Значит, есть тюрьма холоднее и
надежнее? Но разве тюрьма — место для вашего фаворита! И разве можете
вы отдать его могиле — ах, милосердный Боже! — и отрубить ему голову, эту
прекрасную голову, и погасить навеки этот сверкающий взгляд? О нет, я так
и не думала, — произнесла она изменившимся голосом. — Значит, вы все же
скрыли его здесь, лишь бы мучить меня... Но Эссекс не допустит, чтобы я
страдала — верно, милорд? Так значит... значит... — Ее взгляд медленно
обводил комнату, следуя в воображении за его шагами. — Да, да, — продолжала
она, оживляясь, — я думала, что этот голос возобладает — когда и кто мог
устоять перед ним? И значит, только мне надо умереть. Что же, я согласна... Я
проберусь в его тюрьму и пострадаю вместо него, но только не говорите ему,
потому что он любит меня... Ах, он очень любит меня, но, знаете, я одна
должна вздыхать об этом.
Она и в самом деле вздохнула. О, какое бесконечное страдание было в
этом единственном вздохе! Последовавшее долгое молчание побудило
королеву поднять голову. Перед ее глазами была все та же скорбная фигура, но
только теперь бедняжка снова поднялась с пола и стояла, приложив одну
бледную руку ко лбу и приподняв другую, словно требуя внимания, хотя
отсутствующий взгляд показывал, что мысль ею утеряна.
— Ах, теперь вспомнила, — вновь заговорила она. — Мне все равно, как вы
прикажете меня умертвить, но пусть похоронят меня в Фозерингее и пусть
непременно при мне будут служанки... непременно... вы знаете почему. — Это
несвязное упоминание о беспримерной участи ее матери болезненно поразило
Елизавету. — Но неужели вы не дадите мне еще раз взглянуть на него перед
смертью? О, какой радостью было бы мне увидеть его на троне! Но я вижу его
на троне! — воскликнула она с удивлением и восторгом. — Милостивый, царст-
венный! О, как он величественно прекрасен! Кто не согласится умереть за
тебя, мой Эссекс!..
— Увы! Никогда, никогда, никогда не увидеть его мне\ — простонала
измученная Елизавета.
— Я жена ему? — продолжала Эллинор, отвечая на воображаемые речи. —
О нет: судьба сестры — урок для меня! Не хочу больше кровавых браков.
Видите, — она неистовым жестом протянула руки, — у меня нет кольца, только
черное... поистине черное... если бы вы знали все... Но ведь мне не надо
говорить вам об этом — верно, милорд? Смотрите — вот мой возлюбленный, он
сам скажет вам.
Она схватила Елизавету за руку, которую та в страхе вытянула перед
собой, но тут же, слабо вскрикнув, отдернула свою руку и принялась
разглядывать ее с невыразимым ужасом.
— О, вы окунули мою руку в кровь, — воскликнула она, — в кровь матери!
Она теперь во мне... холодным током она течет к самому сердцу. Ах, нет...
это... это кровь Эссекса... Так вы все-таки погубили его — при всей своей
любви, при всех обещаниях? Погубили благороднейшего из людей! И все потому,
что он не мог любить вас. И эти морщины... фу, какой стыд!.. Разве можно
любить старость и безобразие? О, как ему были противны эти фальшивые
локоны и все ваши румяна и белила!.. Как мы смеялись над этими нелепыми
причудами!.. Но теперь я уже больше не смеюсь... Поговорим о могилах, о
саванах, о кладбищах... Если бы я могла узнать, где похоронена бедная моя
сестра... Вы, верно, скажете — в моем сердце... Да, в нем погребены все, кого я
люблю. И все же должен быть где-то на земле неведомый уголок, который
можно назвать ее могилой, лишь знать бы, где найти его. Там она наконец
покоится рядом со своим Лейстером... Он тоже был ваш фаворит... Кровавая,
кровавая это честь.
Королева, которая до этой минуты с трудом сохраняла присутствие
духа, при последних язвительных словах Эллинор поникла в глубоком
обмороке.
Трудно передать весь ужас моего положения. Я опасалась, что любая моя
попытка призвать кого-нибудь на помощь может побудить объятую горем
Эллинор к чудовищному акту мщения — мне было неизвестно, как и насколько
она была готова к нему. Если бы Елизавета в этот миг не лишилась чувств, я
уверена, что сама потеряла бы сознание. Я помнила, что королева верит,
имея тому много подтверждений, будто несчастная, столь устрашающе
явившаяся перед нею, давно скончалась в деревне; для тех же, кто некогда ввел ее
в заблуждение, сейчас было бы неразумно и небезопасно признать, что
известие было ложным.
— Так вот как? — вздрогнув, воскликнула Эллинор. — Кто бы подумал, что
это жестокое сердце все-таки можно разбить? Однако я разбила его... и она
ушла вслед... нет, не за Эссексом.
— Уйдем отсюда, милая Эллин, — сказала я, спеша увести ее из комнаты,
чтобы можно было оказать помощь королеве.
— Тише! — вскричала она, впадая во все большее исступление. — А то
скажут, что мы ее тоже обезглавили... Но кто ты? — Она устремила на меня
печальный, затуманенный взгляд. — Я где-то видела тебя раньше, но сейчас, из-
за этого бледного лица, я забыла все другие лица... Я не знаю, где я и куда ты
хочешь меня вести, — добавила она, печально вздыхая, — но ты похожа на
светлого ангела и, может быть, ты возьмешь меня с собой на небо.
Я воспользовалась этой благословенной минутой покорности и, опустив ей
на лицо черный траурный капюшон, провела ее в малый дворик, где мои
слуги дожидались, когда я освобожусь. Поручив ее их заботам, я вернулась и
разбудила в приемной фрейлин, чей несвоевременный сон позволил Эллинор
незамеченной пройти в королевский кабинет, — это обстоятельство в
сочетании со многими другими придало странному посещению видимость
сверхъестественного.
Все обычные средства оказались бессильны привести королеву в чувство, и
лишь стараниями врачей она очнулась, но перенесенный ужас навсегда
оставил след в ее сознании. Трепеща от страха, объяснить который могла бы
лишь я одна, она часто ведет с кем-то непостижимые для окружающих
беседы, жалуется на посещение гостьи из иного мира, приказывает запирать все
двери и все же воображает, что видит ее, и тщетно запрещает впускать.
Предполагаемое непочтительное безразличие окружающих разжигает
вспыльчивость, присущую ее характеру, который по многим причинам сделался
раздражительным, и ее неоправданный гнев порождает то самое непочтение, на
которое она жалуется. Так гнев и страх терзают ее преклонные годы, ускоряя
разрушение естества. Когда эти бурные чувства утихают, скорбь и отчаяние
наполняют ее душу. Не менее жестоко страдает она и оттого, что чувствует,
как приходит в упадок ее власть. Не желая расстаться с благом, которое ей
уже не в радость, в каждой протянутой руке она усматривает стремление
вырвать у нее скипетр, который, даже умирая, не хочет никому завещать.
О милая Матильда! Если бы ты действительно дожила до сей минуты и
стала свидетелем этого возмездия свыше, твои кроткие слезы пролились бы
даже над твоим смертельнейшим врагом! Ты не смогла бы без жалости
видеть царственную Елизавету, которой недоступны простые утешения света,
воздуха, пищи, радости. Та, чей могучий ум в будущем долго будет вызывать
изумление, как вызывал в прошлом, сейчас — лишь дышащее напоминание о
слабости и бренности человеческой.
Ах, если бы вокруг нее собрались все честолюбцы, жаждущие
главенствовать и повелевать; если бы единожды взглянули на эту царственную жертву
неуправляемых страстей, которая умела править всеми, но не собой, — каким
грозным примером стало бы это для них! Ах, если бы к ним присоединилось
великое множество тех, кто, презирая любовь к ближнему, на себя самого
обращает благословенное чувство привязанности, которое одно только и может
усладить слезы, что всем нам суждено проливать в этой жизни!.. Собравшись
у бессонного ложа, где изможденная королева угасает в царственном
одиночестве, они, быть может, научились бы благожелательности и своевременно
исправили те ошибки, которые, если в них упорствовать, сами для себя
становятся суровым наказанием.
* * *
Захваченная и поглощенная многочисленными и горестными событиями
скорбной истории, развернувшейся перед моим мысленным взором, всем
сердцем соучаствуя в каждом новом несчастье, я словно вновь прожила
печальные годы разлуки, вселившись в свою сестру. Собственные мои горести,
моя милая дочь, весь мир — все исчезло из глаз моих, обращенных к той,
что более не существовала или существовала так, что это лишь удваивало
мою скорбь. Я словно обратилась в статую отчаяния, прикованная мыслями
и чувствами к запискам, раскрытым передо мной, погрузившись в такое
глубокое раздумье, что леди Арундел сочла за разумную предосторожность
прервать его. Слова утешения, продиктованные ее дружбой, едва коснулись
моего слуха и не достигли сердца, неотступно следующего за печальной
чередой мыслей, явленных ему. Наконец, вздрогнув, словно пробудившись от
страшного сна, я пала на колени, возвела взгляд и воздела листы рукописи к
небесам.
— О всесильный Творец всего сущего, — промолвила я с тяжелым
вздохом, — Ты, что дал мне силы бороться с беспримерными испытаниями,
поддержи мою изнемогшую душу перед этим последним, этим величайшим... Не
позволяй губительной мысли, что все эти несчастья исходят от людей,
замутить чистый источник веры, где только и может усталая душа почерпнуть
утешения... Напротив — укрепи меня в благочестивой уверенности, что это —
Твое испытание для неких мудрых и избранных, дабы враги мои покоились в
своих могилах непроклятыми, а сердце мое не разбилось в сотрясенной
страданиями груди. О, как знать — быть может, Божественным соизволением мне
со временем дано будет собрать воедино рассеянные чувства и мысли моей
дорогой несчастной сестры, уврачевать глубокие раны этой измученной
души? Ах, Эллин! Ах, сестра моя!.. — простонала я, разражаясь наконец
спасительным потоком слез. — Как бы ты ни переменилась, где бы ни была, куда
бы ни исчезла, я и моя неизменная любовь будем неразлучны с тобой. Мне
нет нужды спрашивать, здесь ли она... Ваши сострадательные слезы, дорогая,
великодушная леди Арундел, говорят мне, что один и тот же кров приютил
двух наследниц горестной судьбы.
Хотя леди Арундел подтвердила, что сестра моя находится на ее
попечении, она усердно убеждала меня отложить встречу, столь волнующую, до той
поры, пока она не станет для меня посильной; однако глухая к голосу разума
природа, властная природа предъявила свои права, и душа моя подчинилась
ее страстному порыву. Глубокое, неизгладимое впечатление этой
мучительной встречи по сей день потрясает меня с прежней силой. Я некогда
содрогнулась при вести об убийстве моей матери, я стенала над гробом мужа, сотни
раз я проливала слезы над беспомощным младенцем, вздрагивающим у меня
на груди; но все эти скорбные чувства слились воедино, когда мой печальный
взгляд остановился на этих, по-прежнему любимых мною глазах, когда я
увидела, что угас их веселый блеск, сменившись бессмысленностью выражения,
когда я ощутила, как сердце, некогда заключавшее в себе все достоинства,
все очарование женственности, бьется неистово и неосмысленно рядом с
моим, готовым, казалось, в любую минуту расстаться со своей тесной тюрьмой...
Но позвольте мне не продолжать — эта сцена слишком тягостна для
воспоминаний, слишком мучительна для описаний. О, Эллинор, сестра моя!
Часть VI
Время, делающее привычным любое страдание, наконец дало
моему разуму силы противостоять глухой тоске, в которую его
повергла судьба дорогой страдалицы, не ведающей о своем
несчастье. Постепенно я обретала мужество обдумывать
прошлое, размышлять о будущем. С грустью и искренней
благодарностью я думала о леди Пемброк, узнав, что Господь
призвал к себе великодушную и щедро наделенную талантами
сестру леди Арундел. Она простудилась, ухаживая за больной
королевой, простуда перешла в чахотку и унесла ее жизнь
несколько месяцев спустя после смерти Елизаветы. До
последнего часа движимая возвышенным состраданием и дружбой, леди Пемброк
дополнила оставшуюся долю сокровищ управляющего (которую она
распорядилась выкопать в обозначенном месте) значительной суммой, которая
обеспечивала несчастную всеми благами, какие она в своем бедственном состоянии
способна была почувствовать, поместила к ней в услужение Алисию, ту
самую прислугу, о которой с такой нежностью упоминала Эллинор, и поручила
обеих попечению леди Арундел, с таким же великодушием принявшей на
себя эту многотрудную заботу. Добродетель столь совершенная служит сама
себе наградой и не ищет ни славы, ни благодати через посредство человеческой
благодарности, но признательность сердца, подобно благовонному курению,
восходит даже к Небесам! Так прими же ее, о нежнейшая из Сиднеев, там,
где ты сейчас обретаешься!
Странное и необъяснимое расхождение мнений — моего и моей сестры —
относительно лорда Лейстера служило для меня предметом бесконечных
размышлений. Все же, поскольку расхождение это стало очевидным лишь
начиная с того времени, как мы приехали в Лондон, я не могу не объяснить ее
слепоту той же причиной, которую она приписывала моей... Несомненно, она ус-
воила необоснованные предубеждения лорда Эссекса, чье честолюбие (как
бы трагически он его ни искупил) всегда склоняло его относиться
недоброжелательно к вельможе, в чьей тени ему неизменно приходилось оставаться. По
раздражительности и горячности, которым стал подвержен ее нрав с того
времени, я увидела ясно, как много женщина незаметно перенимает из
характера того, кому отдает свое сердце. Я, однако, не смотрела на ее выбор с той
презрительной суровостью, с какой она оценивала мой. Лорд Эссекс — я
охотно признаю это — еще до того, как вошел в милость, был, как и она сама,
щедро и многообразно одарен природою. Пылкость и прямодушие, которые
впоследствии проявились в его характере, в то время жили лишь в его глазах,
а разносторонне образованный ум придавал его взгляду проникновенную
выразительность. Нужно было любить лорда Лейстера, чтобы смотреть на
Эссекса с безразличием, и нужно было, должно быть, любить его так
всепоглощающе, как любила я, чтобы не заметить той привязанности, о которой
пишет сестра. Многочисленные свидетельства ее вспыхивали теперь в моей
памяти, и я поражалась тому, что в свое время они ускользнули от моего
внимания. Если она и в самом деле была проницательнее меня... Но зачем пускаюсь
я в эти тщетные предположения? Увы, дорогая Эллинор, возлюбленный Лей-
стер! У меня не осталось иного права, кроме как оплакивать вас!
И еще одно мучительное сомнение извлекла я из истории моей сестры.
Англия обрела короля в сыне Марии Стюарт, но ее несчастные дочери не могли
надеяться обрести брата. С той минуты, как мне стало известно, что брат мой
взошел на английский престол, любящее материнское сердце трепетало при
мысли представить ему мою прелестную девочку, так близко связанную с
ним узами родства. Хотя сама я не претендовала на права, даваемые
обстоятельствами моего рождения, я не могла, глядя на прекрасную дочь лорда
Лейстера, не желать для нее всех доступных человеку благ... Не желая
поддаваться предубеждению, я посоветовалась поодиночке с теми немногими
друзьями, что оставила мне судьба. Их отзывы совпали, составив у меня
впечатление о короле как о человеке недостойном уважения, если не вовсе
презренном. В их рассказах он представал ограниченным, тщеславным,
педантичным, легковерным и пристрастным, убоявшимся расходов на королевское
захоронение священных останков своей несчастной мученицы-матери и в то же
время повседневно обираемом до скудости фаворитами и прихлебателями.
Подавляемый властным призраком королевы, которую он не мог ни любить,
ни по достоинству ценить, он привлек к себе сердца тех, кем правит, лишь в
силу непостоянства человеческой природы, склонной ликовать от всякой
перемены. Поскольку мои собеседники не имели личных причин чернить и
принижать его, я вынуждена была, хотя бы отчасти, положиться на их суждения
и своей первейшей заботой почла увидеть короля, надеясь, что в его лице
прочту опровержение всех обвинений. Какое разочарование я испытала, когда
собственные впечатления заставили меня согласиться с его
недоброжелателями! С изумлением я увидела в Иакове молодость без свежести, царственность
без величавости, знатность без достоинства; хитрость и скрытое искательство
читались в лице, черты которого, не напоминая красотой ни одного из
родителей, были, однако, не лишены правильности; сутулость и развалистая
походка сообщали неисправимую неуклюжесть фигуре, от природы стройной.
Сердце мое оскорбленно отвергло его и уединилось в своем малом мире, не
ища ни малейшей близости к его миру. Я решила не спеша наблюдать его
характер и поступки и не отважилась поручить его заботе то единственное
сокровище, что Небесами дано мне было сохранить из всего, чем некогда они
меня одарили. Намереваясь дать дочери образование, подобающее тому
жребию, для которого она была рождена, я решила, что поступлю разумно,
скрыв в сердце своем, хотя бы на время, тайну ее прав на высокую судьбу. Те
странности, что с каждым днем становились все очевиднее в складе ума и в
понятиях короля, не раз заставляли меня порадоваться сдержанности и
предусмотрительности, которые я проявила тогда.
Я, однако, сочла необходимым открыто принять тот титул, на который
никто иной притязать не мог, который некому было у меня оспаривать. Чтобы
иметь возможность носить его подобающим образом, не обращаясь к
ценностям, доставшимся моей дочери, мне необходимо было отправиться в замок
Кенильворт, принадлежащий теперь другой семье. В одном из помещений
замка находились никому не известные тайники, столь надежные, что лорд
Лейстер всегда оставлял в них, отправляясь в Лондон, все те бумаги и
драгоценности, которые считал небезопасным везти с собою. В памятную ночь
накануне нашего отъезда из этого чарующего жилища я помогала ему
поместить в самый изощренный из этих тайников несколько шкатулок, о
сохранности которых он, казалось, более обычного заботился и к которым я добавила
свою, содержащую бумаги миссис Марлоу и свидетельства о моем рождении.
Словно повинуясь печальному предчувствию, что ему никогда более не
суждено вернуться сюда, мой супруг не пожалел времени на то, чтобы
ознакомить меня с действием потайных пружин, и дал мне в руки дубликаты
ключей. Среди всех превратностей моей судьбы ключи непостижимым образом
сохранились, словно напоминая мне, как важна может оказаться для
благополучия моей дочери возможность когда-нибудь вернуть себе эти шкатулки.
Лишь такая веская причина могла победить мое нежелание вновь увидеть это
место, освященное для меня памятью о муже, так горячо любимом. Быть
может, вы сочтете это ребяческой слабостью — после всего, что выпало на мою
долю; увы, душевные силы, убывая от несчастья к несчастью, порой иссякают
под влиянием пустяка после того, как мужественно отражали тяжелейшие
удары судьбы.
Леди Арундел, с обычной своей добротой, предложила сопутствовать мне,
и мы печально отмерили вновь мили пути, оживившие в моей душе столько
волнующих воспоминаний. В Ковентри мы задержались, чтобы разузнать о
нынешних владельцах замка Кенильворт. Нам рассказали, что это
великолепное жилище, которое в пору моего отъезда оттуда достойно было
принимать королеву, уже давно находилось во владении некоего скряги, чья
алчность лишила Кенильворт всех его царственных украшений — не только ради
того, чтобы обратить их в деньги, но и для того, чтобы лишить замок всякого
очарования, способного побудить любознательного путешественника
постучаться у его негостеприимных дверей. Но даже после такого разорения замка
само строение оставалось столь совершенным творением архитектуры, что
привлекало множество нежеланных посетителей, и, чтобы избавиться от них,
хозяин сдал его внаем под мануфактуры, а сам разместился в отдаленном
покое. Огорчение, вызванное такими разительными переменами, усилилось,
когда я поняла, как, должно быть, трудно будет добиться разрешения
посетить замок, и, даже если такое разрешение будет получено, мы не знали,
обитаема ли сейчас та единственная комната, в которой я желала остановиться.
Леди Арундел, как всегда предусмотрительная, посоветовала мне сделать
вид, что единственная цель моего визита — это желание откупить назад
замок, и как только я окажусь в комнате, где находятся тайники, изобразить
приступ болезни, настолько жестокой, что переносить меня в другое место
показалось бы опасным; ей же предоставить, с помощью безграничной
щедрости, примирить владельца со столь беспокойным вторжением. Лишь с
помощью такой хитрости могла я надеяться достичь желаемого, а мой
болезненный вид, как я полагала, вполне соответствовал этому замыслу.
Мы отправились незамедлительно, чтобы, приехав к вечеру, иметь
основания просить о ночлеге. Душа моя отвращалась от хорошо знакомых картин, и
ей было одинаково мучительно видеть свежую зелень деревьев и
великолепное строение, ставшее для меня, увы, лишь прекрасным мавзолеем.
Смиренно попросила я разрешения проникнуть за ворота, которые прежде
распахивались настежь при моем появлении. Но — ах! — если снаружи здание и
казалось прежним, то какие странные изменения претерпело оно внутри! Толпа
усердных слуг в ливреях более не спешила навстречу при отдаленных звуках
охотничьего рога. Мне более не суждено было отдыхать в позолоченных
галереях, где картины услаждали взгляд, а прохлада овевала свежестью. Я не
могла более, даже в мечтах, узреть возлюбленного, благородного владельца
замка, чья изысканная любезность придавала особое очарование его
гостеприимному привету. Во всем произошли перемены, ранящие и оскорбляющие все
чувства. Множество прилежных работников трудилось в залах, где некогда
пировала Елизавета, и трудно было сейчас представить себе на этих
нечистых, покрытых трещинами стенах роскошные гобелены. Шум сотни ткацких
станков мгновенно поразил мой слух. На отдаленном озере, прежде
заполненном пышно убранными прогулочными лодками и отзывавшемся радостным
эхом на звуки веселья, теперь шла хлопотливая хозяйственная жизнь,
странная и удивительная.
События такого рода заставляют нас внезапно и мучительно осознать, как
стремительно надвигается возраст. Когда мы только еще пускаемся в
плавание, не замечая течения времени, поглощенные грозящей нам опасностью или
очарованные своими радостными ожиданиями, мы быстро несемся вперед,
почти не чувствуя своего продвижения, пока поток не прибьет нас вновь к
знакомому берегу. Увы! Так очевидны становятся плачевные перемены, слу-
чившиеся за столь короткое время, что мы стареем мгновенно и вновь
отдаемся на волю потока, готовые скорее разделять разрушение, чем наблюдать
его.
Среди немногочисленных слуг, оставленных скаредным владельцем
опустелого замка, оказался человек по имени Габриэль, тут же напомнивший мне
о себе. Я сразу признала его и вспомнила, что он был смотрителем наружных
строений. Мой объявленный титул, вдовий наряд, который я продолжала
носить, поразили сердце бедняги, согнутого почти до земли старостью,
болезнями и нищетой, когда же к этим обстоятельствам добавились воспоминания о
мирных и изобильных днях, которые он знавал на службе у хозяина,
неизменно щедрого к своим слугам, благодарность его обратилась в скорбь, и
несчастный старик, рыдая, припал к моим ногам. Это не оставило бы равнодушным
даже стороннего наблюдателя, и я была потрясена не менее старика. Тревога
быстро распространилась среди работающих и достигла сэра Хамфри Моур-
тона. Он нерешительно появился из своих покоев и, когда толпа работников
смиренно расступилась перед ним, издалека смерил меня взглядом, очевидно
теряясь в догадках относительно цели моего посещения. Мой кошелек все
еще был у меня в руках, а часть его содержимого — в руках тех, кто с
готовностью оказал мне помощь. По этой ли причине или потому, что усталая
утонченность моего облика привлекла его, — не знаю, но его изборожденное
заботами лицо, пока он приближался ко мне, постепенно разгладилось, тщетно
силясь изобразить благосклонную улыбку. Я поднялась, чтобы ответить на
его изысканно-любезное приветствие, и поведала ему, что когда я в последний
раз покидала стены этого замка, то была его хозяйкой, горячо любимой и
счастливой женой лорда Лейстера. Однако, заметив, что под влиянием
смутных предчувствий неких отдаленных притязаний брови его опять начали
хмуриться, я добавила, что, вполне сознавая, что давно утратила все права на это
дорогое для меня место, приехала узнать, не пожелает ли он расстаться с ним,
а также с целью спасти из нищеты тех достойных слуг покойного
благородного владельца замка, которые пережили и свою способность трудиться, и того,
кто должен был вознаградить их за службу. Какое сердце нечувствительно к
той добродетели, в которой единственно мы можем походить на своего
Творца? Благотворительность, подобно религии, внушает почтение даже тем, кого
не может привлечь на свою сторону. Скупец воздал громкую хвалу моей
щедрости и, сделав над собой величайшее усилие (если учесть различие наших
характеров), пригласил меня провести ночь в замке. Комнату, в которой я
прежде жила, он назвал лучшей в замке, и туда я была препровождена. У меня
было с собой все необходимое, чтобы обеспечить себе хороший прием, и когда
сэр Хамфри увидел, как слуги уставляют стол холодными кушаньями,
которые мы взяли в дорогу, его дух воспрянул при виде роскоши, за которую ему
не придется платить. Столь приятный соблазн надолго задержал его в нашем
обществе. Наконец я поняла, что положить конец затянувшемуся визиту
можно лишь одним способом: почтительнейше просить его принять все, что
осталось несъеденным. При виде того, что слуги, по моему знаку, собираются
выносить кушанья, страх, что по дороге что-то может пропасть, возобладал в
нем над весельем этой минуты, и он поспешил вслед за выносимым вином.
С нетерпеливо бьющимся сердцем я приподняла шпалеру, которая в этой
комнате, по счастью, сохранилась — не столько из-за красоты, сколько из-за
старости: она так обветшала, что была заплатана во многих местах. Позади
кровати мы обнаружили секретную пружину потайного шкафа, который я
открыла без всяких затруднений. С помощью леди Арундел я достала хорошо
памятные мне шкатулки, время от времени останавливаясь и проливая слезы
над дорогими воспоминаниям, которые вид их с такой силой пробудил во
мне. И когда, обратив взор к небесам, я горячо возблагодарила Творца за
благоприятствие в осуществлении моих немногих оставшихся желаний, мне
почудилось, что я вижу светлый дух того, кто укрыл для меня эти сокровища.
Леди Арундел не желала слышать об отдыхе, пока мы не проверим
содержимое шкатулок. Первая была наполнена фамильными бумагами,
долговыми обязательствами, контрактами, закладными, которые по большей части
были для меня непонятны и все бесполезны. Следующая содержала письма и
небольшие украшения, ценные не сами по себе, а из-за воспоминаний, с ними
связанных. Под ними оказалась позолоченная шкатулка с несметно дорогими
украшениями и с тем, что имело еще большую ценность — с формально
удостоверенными обязательствами и расписками касательно всех сумм, которые
лорд Лейстер, как он сам поведал мне, столь предусмотрительно разместил в
других странах. Я даже не знала о существовании этих документов. Все это
было таким щедрым дополнением к наследству, уже обогатившему мою
милую Марию, что мне представилось, будто отец ее даже из могилы радуется
возможности одарить ее, а Всемогущий, милостивый даже тогда, когда мы
почитаем Его суровым, таким образом сберег ей на благо сокровища,
которые мне было бы не под силу сохранить среди моих многочисленных и
тяжких испытаний. В следующей шкатулке хранился дар нежной матери
любимому чаду: в ней были все свидетельства королевы Шотландии и других лиц,
посвященных в тайну моего рождения, и брачный контракт лорда Лейстера и
мой. Я почувствовала себя беспредельно богатой, вновь обретя эти права, и
хотя осторожность никогда, быть может, не позволила бы мне заявить о
своем родстве с королем Иаковом, завещать своей дочери возможность сделать
это в иное, благоприятное время было большим утешением для меня.
Леди Арундел и я провели часть ночи, укладывая эти ценности в пустые
сундуки, специально для того привезенные, потом, закрыв потайной шкаф и
уничтожив все следы наших поисков, легли спать. Мы отправились в путь
ранним утром, увозя с собой старого слугу лорда Лейстера, на которого так
горестно подействовали воспоминания о былом, и двух других, давно уже
отосланных прочь из замка и живших в беспросветной нужде в деревушке по
соседству. Мое сердце радовала возможность возместить этим беднякам
потерю, непоправимую для меня самой, и их глубокая привязанность ко мне в
немногие оставшиеся им годы с избытком вознаградила меня.
Благодаря посредничеству тех друзей, что у меня еще сохранились, не-
сколько именитых лондонских купцов взялись добиться формального
подтверждения обязательств, расписок и прочих бумаг, в результате чего со
временем были востребованы и получены такие значительные суммы, что они
обеспечили мне с дочерью жизнь в богатстве и изобилии. Годы и несчастья
скрепили давнюю дружбу между мною и леди Арундел. Мы соединили свои
семьи и доходы. Дом ее был, по счастью, так близко к Лондону, что я имела
возможность пригласить первых наставников к своей дочери, и так как
пошатнувшееся здоровье леди Арундел делало ее такой же пленницей своего
дома по необходимости, какой я была по собственному выбору, обе мы
постепенно обрели в успехах моей дочери мирное и все возрастающее довольство,
вполне заменившее собою интересы света, от которого мы отгородились.
Ах, могла ли я желать большего счастья? Простите, сударыня,
чрезмерность материнской любви и гордости и позвольте мне представить Вам
сокровище моего сердца, какой она была в свои пятнадцать лет.
В эти годы Мария уже была чуть выше меня ростом. С фигурой,
соединившей в себе безупречную стройность с вольной и изменчивой грацией расцвета
юности, в ней сочетались совершенные черты ее отца, женственно
утонченные полупрозрачной белизной кожи и румянцем — живым и нежным. Волосы
того золотисто-каштанового цвета, что прежде я видела только у него,
спускались ниже пояса пышной массой природных кудрей, сообщая ее красоте вид
чрезмерного богатства. Если она что-то унаследовала от меня, то лишь
спокойно-скромное выражение лица, а от моей сестры ей досталась та
покоряющая, чарующая улыбка, которой ни у кого, кроме них двоих, я более не
встречала. Увы, теперь эта улыбка принадлежала ей одной. При легкости и
гибкости фигуры все линии ее были совершенны в своей плавной округлости, и
всякий раз, глядя на мягкий изгиб ее белых рук, когда она брала лютню, я
думала, что руки ее даже прекраснее лица.
Голос ее звучал одинаково сладостно в речи и в пении — с той лишь
разницей, что речь ее смягчала душу, наполняя тихой радостью, а пение увлекало в
восторженный полет. Ум ее был силен и проницателен, но возвышен и
утончен. Душевная чувствительность (развившаяся прежде всех ее прочих
свойств души) отличалась более глубиной, чем пылкостью. Материнский
жизненный опыт умерил восторженность, присущую юности, но проявлялось это
лишь в ее любви к знаниям. Среди упорных и неустанных занятий книги
были ее единственной роскошью, музыка — единственным отдыхом. Восполняя
отсутствие тех светских удовольствий, которых осторожности ради сочла
благоразумным ее лишить, я в изобилии одаривала дочь теми радостями, к
которым влекла ее природная склонность. Я держала музыкантов,
специально чтобы аккомпанировать ей.
В эти годы, заполненные ею и ее интересами и занятиями, я познала то
сладостное, хотя и грустное удовольствие, которое известно лишь родителям и
которое, быть может, вознаграждает нас за все более живые радости, что
приходят нам на память. И чем пленительнее она становилась, тем более
необходимым считала я скрывать ее от чужих глаз. Вознося за нее ежедневные
молитвы Богу, я всецело вверяла свою дочь Его воле, решив, что ни гордость
моя, ни тщеславие, ни честолюбие не посягнут на то счастье, о котором я
молила для нее.
Перечитав это описание, я поняла, что Вам будет нелегко поверить ему, но
я не склонна упрекать себя в пристрастности и могла бы сослаться на всех,
кто когда-либо видел мою дочь, чтобы они подтвердили, что я не погрешила
против истины. С какой готовностью сделала бы это леди Арундел — питая к
Марии любовь, уступавшую лишь моей, эта преданная подруга обрела на
склоне лет глубочайшую сердечную привязанность, за которую не уставала
благодарить меня.
Поскольку ничто так не лишает нас доверия юности, как видимость тайны,
едва только нежный ум моей дочери обрел способность к размышлениям, я
неспешно и постепенно поведала ей о всех тягостных событиях,
воспоминания о которых Вы побудили меня доверить этим запискам. Поступив так, я
навсегда завоевала ее сердце и лишь страшилась, как бы глубокие
впечатления минувших несчастий не повлияли на ее здоровье, ибо глубокая душевная
чувствительность была основным свойством ее натуры. Ее нимало не
прельстили те обещания, что могли таиться для нее в будущем; манящие
возможности, которые ее блистательное происхождение и еще более блистательные
достоинства могли открыть перед нею, даже легкой тенью не коснулись ее
души: ее взор был устремлен только к матери. Сотни раз она с благоговением,
трогающим сердце, покрывала поцелуями мои руки, а слезы, часто
проливаемые ею над судьбою отца и памятью о нем, почти вознаградили меня за мою
утрату. С той поры ее выразительный взгляд был неотрывно устремлен на
меня с таким печальным восхищением, словно мои несчастья сделали меня в ее
глазах едва ли не святой. Она стала еще внимательнее к тому, что доставляло
мне радость, еще послушнее моей воле, еще заботливее о моем покое —
словно, узнав о том, что, кроме нее, у меня никого не осталось на земле, она
задумала сосредоточить в своем сердце всю любовь и заботу, которых я
лишилась. Но сочувствие было и природным свойством ее натуры, ибо не меньшую
заботу она проявляла о своей несчастной тетке. Всякий раз, как неизлечимый
недуг принимал формы меланхолии, Эллинор охватывала неутолимая
жажда музыки. В эти промежутки болезни моя милая Мария склонялась над
своей лютней с кротким терпением и добротою сошедшего на землю ангела и
извлекала из нее торжественные звуки, напоенные равно покоем и печалью,
которые незаметно несли умиротворение смятенному духу и нежили сердца
тех, чей дух не потревожен. И эта тонкая суть нашей природы,
чувствительность души, которую безумие может нарушить, но не истребить, часто
бессознательно останавливалась на удовольствии и тихо погружалась в покой.
Пленительное дитя сосредоточило в себе всю мою любовь, внушало мне истинное
уважение, пользовалось моим безграничным доверием — словом, давало
смысл моему существованию. Ах, как возвышенна, как трогательна дружба,
основанная на материнской и дочерней привязанности, когда, зная, что
сердце ее свободно от слабостей и ошибок, мать безбоязненно являет его своей до-
чери как чистое и верное зеркало и с гордостью, не порицаемой даже
Небесами, созерцает невинную и стойкую в добродетели душу, отраженную в нем!
Священным и неизгладимым из памяти становится лишь то наставление, что
выражено собственным примером. Счастливы те, кому удалось взрастить
привязанность, укрепляемую отсутствием жизненного опыта, с одной
стороны, и знанием жизни — с другой. Ни порывы юношеской страсти, ни
леденящий холод старости не смогут погубить растение, так глубоко укорененное в
общей добродетели, — с течением времени оно лишь обретает стойкость, и,
милостью Всемогущего, самая возвышенная из наших добродетелей приносит
плод самого совершенного наслаждения.
Уверенная в том, что уже обрела на разум дочери влияние, которое даст
мне возможность руководить ее нравственными принципами, я предоставила
времени и обстоятельствам воззвать к ней. Главный труд моей жизни казался
мне теперь завершенным, и я всем сердцем отдалась манящим
предчувствиям, подсказанным материнской любовью, погрузившись в полузабытые
видения счастья и царственного великолепия, что скользили перед моим
мысленным взором, порою едва не вводя его в обман.
Переменчивые недомогания леди Арундел в конце концов вылились в
чахотку. То был наследственный недуг в семействе Сидней, и, возможно,
заботы и уход — мои и моей милой Марии — не привели бы к ее выздоровлению,
даже если бы жестокое потрясение, от которого одинаково пострадали все
мы, не решило ее судьбу.
Среди бессознательных причуд, которые, сменяя друг друга, управляли
поступками моей несчастной сестры, была страсть сидеть подолгу под
открытым небом. Время и погода для нее ничего не значили: она упорно настаивала
на своем и в декабрьский снегопад, и в палящую июльскую жару. Этому ее
своеволию я, несомненно, сильно способствовала сама. С момента своего
возвращения в Англию я решительно воспротивилась тому суровому догляду,
под которым она содержалась, и приучила приставленных к ней слуг
уступать ей во всем, что прямо не угрожало ее безопасности, твердо решив не
делать беспросветно несчастным существование, которое никакими
человеческими усилиями нельзя было сделать счастливым. Но так как умы неразвитые
ни в чем не знают середины, люди, приставленные к ней, постепенно
позволили ей почувствовать свою власть над ними, что вскоре привело к ничем не
ограниченному попустительству. Стояла середина зимы, и она провела
несколько часов на морозном воздухе, неподвижно наблюдая обильно
падающий снег. Ее охватил жесточайший озноб, сменившийся жаром, который
перешел в нервную горячку, едва не сведшую ее в могилу. Однако болезнь
неожиданно оказала на нее благотворное действие: ее душевное состояние было
крайне подавленным, но сделалось более ровным, и в ее поступках нередко
можно было различить некоторые проблески разумности. Если она не
помнила, то все же старалась узнать меня и порой с трогательным вниманием
вглядывалась в мое лицо. Я сочла это признаком перелома в ее судьбе, ее
последней возможностью по эту сторону существования, и ни на миг не решалась
оставлять ее одну. Я доверила заботу о леди Арундел (чье положение было
хотя и много опаснее, но не так печально) своей дочери, опасаясь тяжело
ранить ее юную душу тягостным зрелищем. Но я забыла, как подорвано мое
собственное здоровье и как непосильны для него усталость и тревога,
связанные с уходом за сестрой. Как-то вечером со мной случилось подряд несколько
обмороков. Слуги перенесли и уложили меня в постель, я же, не желая
волновать леди Арундел, не велела сообщать дочери о своем состоянии. Мой
последний обморок сменился наконец такой тяжелой сонливостью, что ее
можно было назвать оцепенением. Так я пролежала несколько часов, как вдруг
очнулась от смутно почудившегося мне звука падения чего-то тяжелого, за
которым последовал протяжный стон. Ужас мгновенно пробудил все мои
дремлющие чувства, и я опрометью кинулась через комнату, разделявшую наши
спальни, но тут же упрекнула себя за паническую поспешность, так как из
спальни сестры не доносилось ни звука. Обе сиделки крепко спали, а огонь
ночника, колеблясь, угасал в холодном свете занимающегося утра. Я
осторожно отвела полог кровати... Милосердный Боже, что я почувствовала,
когда увидела, что кровать пуста! Мучительный крик, вырвавшийся у меня,
разбудил обеих небрежных служанок, и они, пораженные одной и той же
мыслью, кинулись к двери, которая, как я только теперь заметила, была открыта.
Она вела в галерею, украшенную теми из наших фамильных портретов, что
пережили потерю семейного состояния. Среди них был неосторожно
помещен уже оставивший по себе роковую память портрет графа Эссекса при
штурме Кадикса — печальное наследие, которое леди Пемброк завещала Эл-
линор. Все мыслимые ужасные последствия разом представились мне.
Неверными шагами я вошла в галерею... Увы! Худшие мои опасения
подтвердились. Та, что прежде звалась Эллинор, бледная и изможденная, как призрак,
лежала распростертая на полу перед картиной, одной рукой судорожно
сжимая на исхудалой груди беспорядочные складки одеяния, другую руку
выразительным жестом протянув к безжизненному изображению того, кто был
столь любим ею. С нетерпеливой поспешностью я приложила ладонь к ее
сердцу — оно не отозвалось моему дрожащему прикосновению, странница-
душа отлетела с последним дыханием. Эллинор навсегда перестала страдать.
Твоя прощальная молитва, о Эссекс, оказалась пророческой — ее душа, вновь
обретя память, разорвала свою смертную оболочку и устремилась ввысь.
Едва мы успели скромно предать земле милый прах, как следом
скончалась добрая леди Арундел. Я перенесла эти утраты с благочестивым
смирением. Слезы, что льются, когда Небеса призывают к себе несчастных,
умиротворяют бурные порывы скорби тех, кто остался жить, и глубоко ранят лишь
душу, еще непривычную к страданию. С оживающей в сердце тревогой я
видела, как подействовали эти первые утраты на нежную душу моей дочери. Это
не означает, что я стремилась совершенно заглушить в ней все живые
впечатления, неотделимые от естественных привязанностей: слезы юности подобны
мягким майским дождям, избавляющим садовника от лишних трудов, они
помогают вызревать плодам разума; когда же те и другие проливаются слиш-
ком часто, они истощают почву и губят еще не раскрывшиеся бутоны. Моя
душа не располагала разнообразием светлых и радостных впечатлений, с
помощью которых я могла бы надеяться ободрить и укрепить нежную душу
своей Марии. Не желая искать новых дружеских привязанностей, я сочла более
благоразумным переменить жилище и новизной и разнообразием, которые
дарит перемена мест, постепенно утешить и развлечь ее. Я послала своего
управляющего подыскать для нас новый дом. Я возвращалась мыслью к тому
давнему дню, когда мрачные аркады разрушенного монастыря, обладая
простым достоинством новизны, развлекли мой угнетенный ум даже в несчастье,
лишившем меня моей приемной матери. Увы, в пору неопытной юности все,
что ново, соединяет собственные чары с чарами воображения, а в зрелые
годы сердце не в силах оторваться от того, что некогда его радовало, не надеясь
найти в будущем отрады, которая могла бы сравниться с той, что
воображение рисует ему в прошлом. Для моей дочери, однако, весь мир был нов, и,
выбрав место, привычное моим чувствам, я была уверена, что не разочарую ее.
Я наняла дом близ Темзы, в Ричмонде, куда мы и переехали ранней весной.
Возможно, в своем выборе я, сама того не замечая, имела некую
отдаленную цель. Как ни уединенно я жила вдали от света после своего возвращения
в Англию, молва о принце Уэльском дошла и до меня. Этот утонченный и
образованный юноша поднялся над слабостями своего отца и предрассудками
своего сана, посвятив сердце добродетели, разум — наукам, а тело — тем
достойным, мужественным занятиям, что закаляют и укрепляют человека,
готовя его и к радостям мирной жизни, и к испытаниям войны. Меня восхищала
мысль о том, что появился Стюарт, который сумеет вернуть былую славу
угасающему роду, и я страстно желала увидеть, узнать принца Генриха и
заслужить его уважение.
Король, недостойный столь прекрасного сына, не находил радости в его
обществе и с юных лет доверил его придворному кругу, от лести и
угодничества которого оградить могла лишь добродетель, превышающая хвалу.
Генрих, подобно мне, питал привязанность к красотам Ричмонда и всегда
проводил часть летних месяцев во дворце на берегу Темзы. Мне было приятно
думать, что лишь узкая полоса леса отделяет мои сады от садов его дворца. С
тактом, необычайным в столь молодом возрасте, принц умел быть
приветливым, не поступаясь достоинством, и хотя в своем придворном кругу сохранял
властную манеру повелителя, с бедняками, обращавшимися к нему, он был
братски добр — так говорили о нем в Ричмонде, жители которого
боготворили его и находили удовольствие в разговорах о прекрасных качествах,
которыми он был так щедро наделен. Сладостные надежды, порой возникавшие в
моей душе под влиянием его достоинств, были неотделимы от
многочисленных опасений и страхов, и все же сердце мое не могло не лелеять этих
надежд.
Смена времен года окрасила этот прелестный уголок всеми оттенками
молодой зелени, волны Темзы были чисты и прозрачны, природа вновь
пробудилась во всем своем совершенстве, когда принц Уэльский поселился в своем
дворце неподалеку от наших владений. При этом известии нежный румянец
окрасил щеки моей дочери и даже слегка коснулся моих увядших щек. Не
решаясь высказать ей свое страстное желание видеть принца и не имея
обыкновения отправляться куда бы то ни было без нее, я проводила дни в
неспокойном ожидании. Моя кроткая Мария, со скромностью, не перестававшей
радовать меня, теперь неизменно выбирала для наших прогулок или очень
ранние, или очень поздние часы, что делало маловероятной встречу с принцем, а
ее вуаль так тщательно скрывала лицо, что, случись нам даже встретить его,
она могла надеяться остаться незамеченной.
Однако я почувствовала, как появление в этих местах принца Генриха
странным образом заполнило пустоту, образовавшуюся в нашей жизни.
Предположения о том, что он будет и чего не будет делать, постоянно определяли
собой наши планы и занимали мысли моей дочери даже больше, чем мои. Его
тонкий вкус доставлял нам разнообразные развлечения, хотя он и не
догадывался о нашем в них участии. Иногда это бывал концерт при лунном свете,
иногда великолепный фейерверк, а порой на Темзе устраивались
празднества, во время которых принц по-прежнему радовался зрелищу
многочисленных мелких судов, построенных и оснащенных для его забавы в детские годы
и управляемых детьми. Порой они оказывались так близко, что нам
слышался голос Генриха, и тогда мы обе, мать и дочь, повинуясь одному и тому же
чувству, поспешно удалялись к себе. Так могло бы пройти все лето, но случай
способствовал нашему желанию более решительно, чем мы отважились бы
сами.
Как-то утром мы возвращались домой в дурно устроенной новомодной
карете, придуманной специально для прогулок, с неудобством которой я
мирилась, поскольку вследствие своей памятной лихорадки не могла подолгу ни
ходить, ни ездить верхом. Слуга, который правил лошадьми, остановился,
как обычно, на склоне прелестного холма, чтобы мы могли несколько минут
полюбоваться его красотами, как вдруг отдаленные звуки рогов, говорящие о
том, что принц Уэльский возвращается с охоты, одинаково встревожили
лошадей и нас. Моя Мария, действуя под впечатлением этой минуты,
торопливым жестом приказала слуге ехать дальше, и лошади, еще раньше
испуганные, своенравно отзываясь на легчайшее прикосновение поводьев, рванулись
с места с опасной стремительностью. Неуклюжее строение кареты и плохая
дорога ежесекундно грозили бедствием — для меня спасения не было, но я
понимала, что дочь будет в безопасности, если только я сумею уговорить ее
выпрыгнуть. Не повинуясь ни мольбам моим, ни даже приказаниям, она обвила
меня руками, твердя, что боится лишь за меня. Наконец, попав колесом в
дорожную выбоину, карета опрокинулась и мы выпали из нее, ударившись о
землю с такой силой, что я едва не потеряла сознание; моя милая Мария была
без чувств. Я видела, как приближается свита Генриха, но мое давнее
желание увидеть его отступило перед желанием вернуть к жизни дочь. Я
оказалась окружена толпой охотников, но едва замечала это, пока их изъявления
заботы и участия не заставили меня, подняв глаза от безжизненного лица до-
чери, взглядом выразить свою признательность. С удивлением, не
подвластным даже отчаянию этой минуты, я увидела по обе стороны от себя двух
молодых людей с Орденами Подвязки, и оба были так хороши собой, что я не
знала, кто из них принц Уэльский, и лишь переводила взгляд от одного к
другому с видом безумным и потрясенным. Мой вид, однако, остался почти не
замеченным ими: все их внимание было устремлено на неподвижную фигуру
моей дочери. Правду говоря, судьба позаботилась представить их взорам
Марию в самом привлекательном виде. Я успела откинуть с ее лица вуаль,
чтобы ей легче дышалось, и открыть ее прекрасные руки, ослепительной
белизной напоминающие паросский мрамор. Легкий ветерок играл перепутанными
каштановыми кудрями, прикрывающими ее юное лицо, подобно желтой
осенней листве, в которой прячется запоздалый персик. Лицо ее поражало
правильностью и тонкостью, и в эту минуту отсутствие выражения делало лишь
заметнее безукоризненное совершенство черт, а линии тела и поза (она
покоилась, прислонившись к материнским коленям) могли послужить моделью для
скульптора. Заботливыми стараниями — незнакомцев и моими — к ней
наконец вернулось сознание. Она открыла глаза, столь любимые мною, и
устремила их на незнакомых людей. Только румянец, окрасивший ее лицо, показал,
что она увидела их, — с такой быстротой она повернулась к матери. Видя, что
я не пострадала, она обратила исполненный благодарности взгляд к небесам
и, обвив мою шею руками, в порыве облегчения разразилась слезами у меня
на груди.
— Ангел душою, как и телом! — воскликнул один из незнакомцев. —
Заверьте же меня, сударыня, что этот ужас — единственное злосчастное
следствие моего внезапного появления, иначе я никогда не смогу простить его себе.
По этой речи я с уверенностью признала в нем принца Уэльского, и он
один завладел моим вниманием. Ах, где найти мне слова, сударыня, чтобы
расположить Вас полюбить этого царственного юношу, перед которым
мгновенно распахнулось мое сердце? Генрих только еще стоял на пороге зрелости,
но рост и осанка его были величавы, фигура мужественна. В красоте лица
была лишь малая доля его очарования — казалось, сама добродетель отражается
во всех его гармоничных чертах, избавляя наблюдателя от труда
распознавать его характер — он открывался с первого взгляда. В его мужественном
голосе мужская твердость соединялась с проникновенностью, свойственной
нашему полу. При виде его смутная череда печальных воспоминаний
пронеслась передо мной и восхищение им странно соединилось с сожалением. Я
позабыла о том, что он обращался ко мне, и продолжала взирать на него в
молчании. Время от времени я обращала к небесам взор, застланный слезами,
которые не переставало струить мое сердце, и вновь возвращалась к нему
взглядом. Благожелательный Генрих, в чьей натуре сострадание всегда
преобладало над иными чувствами, взволнованный столь загадочным поведением,
почти забыл о моей дочери, целиком поглощенный моим состоянием. Заметив
мою злосчастную хромоту, когда я попыталась встать, он немедленно счел ее
следствием случившейся катастрофы, и мне едва удалось разубедить его. Со-
зерцая возвышенную душу, отраженную в его лучезарном взоре, какие
потоки слез проливала я, думая о том, что, обладай его отец половиной
достоинств своего сына, я могла бы сейчас быть окружена любовью, почтена
законным саном; не знала бы ни вдовства, ни горестной судьбы, ни печали! А моя
мать!.. Несчастнейшая из родительниц и королев, и о тебе проливала я слезы
в эту незабываемую минуту!
Почтительность к незнакомым людям побудила принца сдержать
любопытство, которого не могло не пробудить мое поведение, но, узнав от слуг
мой титул, он обратился ко мне сообразно ему и настоял на том, чтобы
сопроводить нас домой. Я уже поняла, что придворный, которого я увидела
одновременно с принцем, был виконт Рочестер — презренный королевский
фаворит, чьим единственным достоинством была красота. Явная холодность моего
обращения удержала его от дерзкой фамильярности, которую я в нем
заметила, и вынудила откланяться, как только мы добрались до дому.
С каким глубоким и тайным восторгом душа моя приветствовала
Стюарта, достойного носить это имя, прославленное в веках! Принц, казалось, был в
восхищении от нового знакомства. Мягкая сдержанность моей дочери,
румянец, расцветающий все ярче на ее щеках, тихий звук ее мелодичного голоса,
когда вежливость заставляла ее отвечать принцу, под чьим оживленным
взглядом она часто потупляла глаза, являли моему ликующему сердцу все
приметы той страсти, что одна только и может искупить приносимые ею
страдания. Поток радостных впечатлений, новых для моей дочери и почти
позабытых мною, сообщил веселье и приветливость часу, который Генрих провел
у нас и после которого удалился с явным сожалением.
Из этой случайной встречи возникло знакомство, уже через несколько
дней перешедшее в дружбу. Отличая принца и вследствие присущих ему
достоинств, и в силу родственных уз, тайно связывающих меня с ним, я с
нежной радостью видела, как бережно хранит он зародившуюся в нем склонность
к моей дочери. Однако душевное благородство не позволяло ему принять на
себя обязательства, которые он не видел возможности исполнить, и потому к
ней он обращался исключительно через меня. Я же, зная, что в моей власти
доказать, что она достойна даже такого возлюбленного, положилась на
судьбу, заботясь лишь о соблюдении разумной осмотрительности.
Зная, что до сих пор Генрих общался с очень узким кругом людей, я
понимала, что, расширив этот круг, он непременно привлечет пристальное
внимание к тем, кого отметил своей благосклонностью. Дабы предупредить
злоязычные пересуды, я отвела время посещений принца для верховых прогулок
моей дочери. Его слуги, всякий раз видя, как она выезжает на прогулку,
недоумевали, что привлекает их царственного господина в слабой и больной
женщине — вдове лорда Лейстера. Секрет же состоял в простой привязанности.
Генрих с ранних лет привык встречать всяческие изъявления преданности, но
не сердечного участия, и обладал слишком большой душевной тонкостью,
чтобы не ощутить своей обделенности, не зная, как ее восполнить. Душевно
ценя то истинное уважение, что я питала к нему, находясь под впечатлением
моего ума, моих манер и моего облика, подозревая некую тайну, желая
заслужить мое доверие, он лишь с помощью собственной искренности старался
расположить меня к ответной. Медленно и постепенно решился он поведать
мне те сожаления и тревоги, от которых никого не избавят ни щедрость
природы, ни благосклонность судьбы. Он часто жаловался на опасную честь —
быть первенцем в семье, ибо это отличие стоило ему всех остальных.
Отделенный от родителей едва ли не с младенчества, окруженный корыстными
льстецами, которые стремились войти в милость к королю, пристрастно
представляя и ложно толкуя перед ним поступки сына, он вырос без любви и
заботы и видел, что те нежные чувства, на которые от рождения и он имел права,
постепенно целиком сосредоточились на том сыне, который не внушал
родителям никаких опасений. Не было недостатка и в коварных льстецах,
которые стремились подорвать его чувство сыновнего долга, указывая ему на те
слабости отца, что должны были особенно больно ранить его. Он наказал
себя за то, что поддавался впечатлению этих рассказов, полной покорностью
власти отца, но с горечью вспоминал, что теперь это — единственная связь
между ними. Я не стану этому удивляться, продолжал он, если задумаюсь о
том, что, рожденный для королевской власти, исполненный пылкого
стремления к славе, он все эти годы был скован узкими границами придворного
круга, растрачивая цвет юности, не имея ни выбора, ни друга, ни достойного
дела, — все это до той поры, когда презренный Карр соблаговолит решить, от
какого иноземного правителя принять мзду и какому фанатичному паписту
пожертвовать сыном своего господина.
Слушая, как принц Уэльский, предмет всеобщего восхищения, любимец
народа, наследник престола, щедро одаренный Небесами, поверяет мне
простые и понятные горести, омрачающие судьбу столь блистательную, как
могла я не задуматься о равенстве всех перед волею Провидения? Даже самой
низкой доле оно милостиво дарует толику счастья, даже властелина гнетет
печальным чувством неблагополучия.
Юность губительным образом склонна ярчайшим светом озарять всякое
тайное горе и изнывать под бременем, тяжесть которого удвоена
воображением. Излечить от этой наклонности может, следовательно, лишь жизненный
опыт. Я всеми силами старалась внедрить в сознание Генриха тот
единственный принцип, который разум вынес из всех моих страданий: что
благороднейшее применение, которое мы можем найти для понимания, — это обратить
его в счастье, и всякий талант, который не ведет к этой великой цели, должно
считать скорее бременем, чем благом, для его обладателя. Что ум, как и глаз,
всегда преувеличивает предмет страха или отвращения, который при
внимательном рассмотрении не вызовет иного чувства, кроме презрения. Наконец,
что ему не подобает выказывать свое отношение к ошибкам отца иначе, чем
представив безупречный пример собственной жизнью, и если он хочет
сохранить ее незапятнанной, ему следует отвратить свои склонности и устремления
от того русла, где их ждет противодействие, и направить туда, где течение их
будет свободно. Что развитие и поощрение наук одновременно заполнит пус-
тоту в его жизни, столь мучительную в юные годы, и привлечет к нему всех,
кто любит науки, тех, чье влияние остается незаметным до той поры, пока
противодействие не вызывает к жизни всей мощи их красноречия.
Принц был слишком рассудителен, чтобы не увидеть благоразумности
этого совета, слишком благороден, чтобы не оценить его искренности, но это
был язык совсем непривычный для его слуха. В свое время его, не жалея сил,
изобретательно учили править другими, но властвовать собою — этого урока
ему никто не решился преподать. Как жалела я о том, что душа, столь
податливая к руководству, с детства была неблагоразумно предоставлена самой
себе, обречена день за днем впитывать все новые предрассудки, которым
предстояло, может быть, на всю жизнь наложить отпечаток на его характер и
которые честный и умелый наставник мог бы так легко искоренить!
Принц не мог не заметить материнской осмотрительности, побуждавшей
меня отсылать дочь из дому всякий раз, как он удостаивал меня посещением,
однако это обстоятельство в течение некоторого времени, казалось, никак не
влияло на его поведение. Он довольствовался тем, что видел ее в начале или
в конце своего визита, и желание излить сердце в беседе со мной,
по-видимому, преобладало над иными стремлениями. Тем не менее глубокая
задумчивость после каждой, самой мимолетной, встречи и внезапные долгие паузы
среди самой занимательной беседы со всей очевидностью показывали, что
мысли его поглощены неким планом, до той поры таимым из гордости или
благоразумия.
Быть может, я никогда бы не отважилась заговорить на столь деликатную
тему, если бы дочь не пожаловалась мне, что она сделалась предметом
всеобщего любопытства и что сопровождающая ее свита не раз бывала неучтиво
окружена в пути и подвергнута допросам со стороны тех придворных из
свиты принца, которым не пошел во благо его пример поведения. Выехав
неожиданно вместе с нею, я убедилась, что жалоба ее небезосновательна, и
понимая, что неосторожно поставила под угрозу ее безопасность, ,я пришла к
решению скорей лишить себя удовольствия частого общения с принцем, чем
платить за него, подвергая опасности дочь. Я выразила желание, чтобы она
на время удалилась к себе, когда Генрих посетил меня в следующий раз, и
прежде, чем он оценил необычность ее присутствия в доме, я приступила к
щекотливому объяснению. Признавшись, что питаю к нему привязанность,
превзойти которую способна лишь моя любовь к дочери, я предоставила ему
самому судить, может ли оказаться чрезмерной моя забота о том, чтобы
оградить ее от недоброжелательных пересудов и оскорблений, когда она лишена
предназначенного ей природой защитника и покровителя. Благородный
Генрих, помедлив в нерешительности, внезапно собрался с духом и прервал
молчание.
— Простит ли мне леди Лейстер, — заговорил он, — мои навязчивые
визиты, которые она терпела с такой благожелательностью? Согласится ли она
стать моей поверенной в единственном обстоятельстве моей жизни, которое я
от нее скрыл? Выслушает ли она меня со снисходительностью?
Он умолк, но, прежде чем я решила, как отвечать, заговорил снова:
— С самого детства мне были привычны завлекающие взгляды
легкомысленных и прелестных созданий; под влиянием постоянных, следующих друг за
другом предложений матримониальных союзов я приучился воображать себя
старше своих лет; так удивительно ли, что сердце, от природы влюбчивое,
созрело до срока? Среди множества красавиц, стремившихся увлечь меня, я
вскоре отличил одну, которая едва не погубила мой душевный покой, мою
честь, мою невинность: я утратил бы их, не открой я для себя, что она
эгоистична и честолюбива. Надо ли говорить вам, что этой прелестной
соблазнительницей была графиня Эссекс? Тщеславясь своим влиянием на меня, она
любила повсеместно выставлять его напоказ и рано приучила меня краснеть
за свой выбор, но я не мог допустить, чтобы это продолжалось. Я принял
смелое решение вступить в борьбу с собственным сердцем и удалился сюда, дабы
подчинить его себе или умереть. Леди Эссекс, взбешенная и униженная моим
поведением, лишь укрепила меня в нем, перенеся свою привязанность на
виконта Рочестера и тем обнаружив, что никогда не любила меня. Покоренный
ее красотою, этот жалкий фаворит послушен ее малейшему капризу, а тот,
кому от рождения я обязан послушанием, потворствует всякому капризу
Рочестера. Хотя сейчас я не знаю, как именно леди Эссекс намеревается отомстить
мне, я убежден, что мщение ее зреет, и всякий день ожидаю удара, от
которого не ведаю, как защититься. При таких обстоятельствах как отважиться мне
связать ваши судьбы с моею? Как могу я просить у вас позволения на то,
чтобы предложить вашей прелестной дочери сердце, что неотлучно пребывает
рядом с нею? Мое счастье в ваших руках, сударыня. Ответьте — решитесь ли
вы рисковать своим счастьем, дабы способствовать моему?
Это прямое и искреннее признание принца в своем заблуждении и в
привязанности к моей дочери отвечало первейшему и заветнейшему желанию
моего сердца, которое раскрылось навстречу высокородному юноше, и я
торжественно поклялась без сожалений разделить любые невзгоды, которые могут
воспоследовать из союза, столь дорогого моему сердцу. В душе я не
преминула с радостью отметить, что по праву рождения моя Мария достойна даже
такой чести.
Чтобы скрепить наше взаимное доверие и убедить принца, что нынешний
его выбор разумен, я решилась открыть ему тайну, столь долго, столь
мучительно хранимую, и рассказала историю своей жизни. Сейчас, возвращаясь к
этим волнующим и горестным событиям, я сама ощущала их таковыми, лишь
встречая его пылкое и великодушное сочувствие, ибо моя душа всецело была
во власти светлой и радостной надежды на будущее, которую он подарил
мне.
Принц Уэльский с радостью признал наше родство. В подтверждение
своего рассказа я представила ему давно хранимые свидетельства, в изучение
которых он погрузился в безмолвном благоговении. Затем, устремив на меня
взор, все еще исполненный этого возвышенного чувства, он произнес слова,
вырвавшиеся из самой глубины сердца:
— Кто мог бы предположить, что такая беспримерная стойкость может
обитать в теле столь хрупком и слабом? Пусть же невзгоды, которые вы,
ставшая мне более чем матерью, неизгладимо запечатлели в моей памяти, будут
последними в вашей жизни! Пусть Тот, кто вложил в мою душу восторг и
преклонение перед очарованием вашей дочери и вашими несравненными
достоинствами, позволит стоящему перед вами юноше возместить вашему
сердцу все то, что оно должно было унаследовать, все то, что было им утрачено.
Счастлив будет миг, когда с ангельским обликом вашей матери я своею
властью соединю ее имя, и миг этот, о, самая высокочтимая из женщин, в
будущем непременно настанет!
Слушая эти ободряющие предсказания, я почти верила, что они
осуществятся. Нераскрывшийся цветок твоей юности, о царственный Генрих, хранил
в себе все обещания, способные наполнить сердце теплом и радостью: мое
сердце тотчас все свои желания сосредоточило на тебе и моей дочери, в
единой надежде столь славного союза найдя защиту от страданий и скорби.
Более мне нечего было таить от принца и, приведя мою вспыхнувшую от
смущения Марию, я представила ее царственному кузену, а он доверил свою
незапятнанную душу руке, над которой склонился с таким изяществом. В
порыве чистого восторга, овладевшего моей душой, я забыла весь мир. Я взяла
их соединенные руки, столь дорогие мне, столь любимые мною, прижала к
груди и, чувствуя, что от безграничного блаженства силы покидают меня,
удалилась, чтобы овладеть собой. Бродя по берегу Темзы, я подняла полные
слез глаза к небесам и призвала блаженные души моей матери, сестры и
лорда Лейстера разделить со мной радость совершившегося события, которое
обещает положить конец гонениям, преследовавшим мою семью, счастливо
соединив две молодые ветви ее. Блаженный покой сменил радостное
волнение моей души, и я смогла с подобающим моему характеру достоинством
вернуться к юным влюбленным.
Положение, в котором мы находились, делало нас еще ближе принцу,
постоянно напоминая ему, как тесно связано его и наше благополучие.
Казалось, с каждым часом мы сближались все более, Генрих говорил со мной с
сыновней откровенностью, умоляя меня не предпринимать ни единого шага,
который позволил бы заподозрить истину моего рождения или тайну союза,
возникшего между нами, до той поры, пока он не взвесит и не обдумает всех
возможных последствий. Чтобы обмануть бдительность соглядатаев,
которыми и он, и мы были окружены, принц предложил приходить по вечерам через
свой сад в наш, если я соглашусь позволить ему некоторое время
пользоваться этой дорогой, чтобы незамеченным проникать в наш дом. Положение мое
и дочери было столь деликатно, что требовало строжайшей
осмотрительности, но я понимала, что все иные способы принимать у себя принца были бы не
менее сомнительны и более опасны, и согласилась на его предложение. Я
согласилась и на то, чтобы один из джентльменов его свиты, сэр Дэвид Мэррей,
был посвящен в тайну нашего сближения — но не причины и не степени его.
Тогда как все мои мысли были поглощены этим значительным событием,
сердце обратилось с заново пробудившимся интересом к мирским делам. Я
теперь стремилась вполне представить себе характеры короля, королевы,
виконта Рочестера и всех тех, кто был в силах или вправе вмешаться в столь
решающий поворот событий. Я изучала, обдумывала, взвешивала каждое
обстоятельство. Скоро я обнаружила, что в королевской семье царит разлад:
властная королева, не имея сил оторвать мужа от фаворитов, а сына — от его
обязанностей, презирала одного и держала в небрежении другого, целиком
замкнувшись в узком придворном кругу собственных ставленников, с их
помощью балуя младшего сына, потакая ему во всем и добившись почти полного
отчуждения между братьями. Их красавица сестра, соединившая в себе
чары Марии с твердостью духа Елизаветы, одна только и привлекала немногих
истинно достойных людей к королевскому двору. Генрих часто со щедрой
хвалою отзывался о сестре, и поскольку она была единственной из всей
семьи, о ком он говорил охотно, я, естественно, заключила, что лишь она
одна своими выдающимися достоинствами заслужила это отличие. Король
Иаков, который взошел на престол при более благоприятных для себя
обстоятельствах, чем почти все предшествовавшие английские монархи, правил
уже достаточно долго, чтобы утратить любовь народа. Являясь людям
поочередно то педантом, то шутом, он в своей напыщенной серьезности был еще
отвратительнее, чем в своей фривольности. Повинуясь своему весьма
странному и несообразному пристрастию, он постоянно доверял бразды правления
очередному красавцу фавориту, с готовностью идя на постыдные уступки во
всех важных областях, лишь бы сохранить смехотворное подобие власти в
часы, когда предавался праздности и излишествам. От слабого и
непоследовательного короля и его развращенных министров все мудрые, образованные и
добродетельные люди постепенно отступились и издали, в тишине и
безвестности, наблюдали, как подрастает достойный принц, обещая в будущем
возродить славу своих предков и честь королевства, которым ему суждено было
править. Юноша восемнадцати лет, способный соединить душевную чистоту
этого возраста с проницательным умом возраста зрелого, был явлением
поистине необычайным и потому вызывал к себе или безграничную любовь, или
ненависть. В то время как все жители королевства боготворили принца,
жалкие фавориты его отца неизменно питали к нему ненависть.
Вступить в брак и тем избавить себя от злоумышлении Рочестера было
желанием Генриха, вступить в брак без ведома отца — его невольным выбором.
Однако, глубоко чувствуя бремя неволи, налагаемое его саном, он
противился всем искушениям со стороны красавиц менее высокородных. Но, узнав
мою историю, он увидел — или вообразил, что увидел, — в моей дочери жену,
предназначенную ему Небом: ни одного справедливого возражения нельзя
было выдвинуть против нее — она рождена была, чтобы дать счастье его
сердцу и честь его имени. И хотя отец его отказался знать правду о моем
происхождении, Генрих не сомневался, что сумеет убедить в ней всех, когда
оглашение брака придаст моему рассказу достоверность, подтверждаемую самим
решением принца.
По его мнению, успех зависел единственно от того, сумеем ли мы скрыть
замысел этого союза до той поры, пока он сможет осуществиться. Если же о
намерении станет известно до заключения брака, то будут, несомненно,
приняты самые крайние меры, дабы насильственно разлучить нас. Однако
сейчас, пока шли официальные переговоры о браке его сестры с иностранным
принцем, он не мог сам заключить столь важный и значительный союз, не
оскорбив отца, не вызвав презрительного неудовольствия нации, не причинив
обиды правителю из далекой страны. Вследствие этого мы порешили
дождаться, когда проект королевских министров, подобно многим другим
таким же, дискредитирует себя, и воспользоваться моментом, чтобы заключить
и обнародовать брак, который должен был положить конец всем нашим
опасениям и осуществить все наши надежды.
В эти дни я с огорчением замечала, как крайняя робость характера моей
дочери пересиливает живость, присущую ее возрасту, и смутными
предчувствиями омрачает те минуты, которые под влиянием любви и надежды могли
бы быть счастливыми. Принца Уэльского отличала мужественная твердость,
с которой он всегда разумно и трезво оценивал предстоящее испытание, а
затем спокойно встречал его лицом к лицу. Я желала дать столь благородной
душе безупречную подругу и, с беспокойством глядя в будущее, порой
думала, что может настать день, когда робкое сердце моей Марии будет трепетать
в беспричинной тревоге рядом с сердцем правителя, обремененного
множеством забот и стремящегося на время забыть о них в ее обществе. Но я видела,
что все мои ласковые предостережения привели лишь к тому, что дочь стала
скрывать в сердце своем все те чувства и переживания, которые я так много
лет была счастлива разделять с нею.
Наступила осень — время обычных королевских поездок по стране. Принц
не мог уклониться от обязанности сопровождать Отца, но медлил с отъездом.
Пробыв в нашем обществе один лишний день, он поспешил догонять короля,
которого должен был принимать в Вудстоке. Оттуда он написал мне, жалуясь
на усталость и апатию, но с обычной для него трогательной зг бот ой извещая
о том, что ведет переговоры о покупке замка Кенильворт в надежде, что там
для меня вновь наступят золотые дни, подобные тем, память о которых до
сих пор была мне отрадна.
Увы, дни, что он озарил собою, быстро приближались к концу! В первый
же визит, который он нанес мне по возвращении, меня до глубины души
поразила перемена в его наружности — непостижимо было, как мог он так
похудеть и побледнеть за столь краткий промежуток времени. Вся его радость,
выказанная при встрече, не в силах была убедить меня, что он весел и
благополучен, но, видя, что он уклоняется от моих вопросов, и опасаясь тревожить
его без нужды, я постаралась подавить в себе материнскую тревогу, которую
все его заверения, что он здоров и счастлив, не могли рассеять. Я видела, что
та же мысль не дает покоя моей дочери: хотя она ничего не говорила, мне
было очевидно, что она часто плачет, оставаясь одна.
Вечера сделались слишком короткими и сырыми, и я не могла более допу-
стить вечерних посещений принца. Я готова была скорее подвергнуть себя
любой опасности, открыто принимая его, чем рисковать его здоровьем из
неразумной осторожности. Увы, забота моя была тщетной. Стремительное
разрушение здоровья принца Генриха становилось очевидным даже для
стороннего взгляда. Его прекрасные глаза, некогда полные огня, теперь выражали
лишь печальную усталость; юное лицо, которому каждый день должен был
бы прибавлять яркости румянца, становилось все бледнее и изможденнее. Он
уже не мог скрыть, что болен. Ах, это терзало мою душу! Мне было горько
при мысли, что бесценный предмет заботы — его здоровье — был доверен
слугам (какие бы звания они ни носили), а не матери, не сестре: то, что
почиталось первейшей и естественнейшей обязанностью во всех сословиях, было, по-
видимому, несовместимо с королевским достоинством. О Генрих, бесконечно
дорогой юноша! Даже сейчас я готова винить себя за то, что не оказалась
более достойной того нежного имени, которым твоя сыновняя привязанность
так часто одаряла меня, и не презрела ради тебя все условности. Рабы
всевластного обычая, мы слишком часто подчиняем свои действия суждениям
праздной толпы, чьи самые щедрые восхваления не заглушат для нас единого
упрека этого непогрешимого наставника — нашей совести.
То ли не веря, что тайный недуг подрывает его здоровье, то ли не
придавая этому значения, принц продолжал свои обычные мужественные занятия
и забавы, пока они не сделались для него непосильны. Я вновь стала
убеждать его прибегнуть к помощи врачей, и он пообещал уделить внимание
своему здоровью, как только его сестра и курфюрст уедут. Ему надлежало
присутствовать на их бракосочетании в Лондоне, и накануне отъезда он нанес
нам прощальный визит. Быть может, под влиянием мысли, что эта наша
встреча будет последней, он бросился в мои объятия и залился слезами —
впервые за все время, что я его знала. Ответные слезы хлынули из моих глаз.
Сердце сжалось невыразимо глубокой скорбью. Генрих овладел собой
прежде меня. Он был опечален отсутствием моей дочери, которой в этот час не
было дома. Он вздохнул, погрузился в короткое раздумье и, очнувшись от
него, сказал со слабой улыбкой, что ему «скорее следует порадоваться ее
отсутствию». Он еще раз вздохнул и, немного помолчав, вновь заговорил тихим,
нетвердым голосом:
— Не горюйте так, матушка (я по-прежнему буду звать вас этим именем,
которое вы можете справедливо оспаривать у той, что родила меня, ибо кто
когда-либо любил меня больше, чем вы?). На моей стороне молодость, и эта
тягостная болезнь, быть может, не смертельна — поверьте, лишь ради вас я
желаю этого... Я уже устал, этот мир внушает мне отвращение, и я мог бы
покинуть его почти без сожаления, если бы не знал, что смерть будет для вас
непоправимым горем. И все же — кто дерзнет судить о Божьем Промысле? Я
мог бы исполнить все ваши желания — и не увидеть вас счастливой, я мог бы
добиться осуществления всех своих желаний — и не перестать быть
несчастным. Вспоминайте об этом почаще, что бы ни случилось вслед за нашим
расставанием, и помните: ваше имя всегда будет на моих устах, пока они способ-
ны произнести хоть единый звук. Что до той, кого я всей душой боготворю...
но ведь она уже стала частью моей души, и если мне не дозволено владеть ею
в этом мире, я буду ждать ее в лучшем.
Заметив, что его затуманенный взгляд устремлен на портрет дочери,
висящий у меня на груди, я подала ему этот портрет.
— И вы тоже помните, дорогой Генрих, — ответила я прерывающимся
голосом, — что мать, которая дарит вам этот портрет, наделила бы его оригинал
всеми чарами, всеми добродетелями, мыслимыми в человеческой природе, и
даже тогда сочла бы, что вы сделали ей честь вашим выбором. Ах,
царственный юноша! Не позволяйте слабости уныния завладеть благородным
сердцем! Ваша жизнь и ваше счастье принадлежат не только вам — вся страна
молится о вашей жизни, дабы увенчать вас счастьем. Что до меня, то сладостная
надежда видеть мою дочь рядом с вами и разделять светлую радость вашего
союза, вашей взаимной любви и добродетели дала мне силы жить, но гибели
этой надежды я не переживу.
Сердце мое было переполнено, я не могла более вымолвить ни слова.
Принц устремил полные слез глаза на меня со странным выражением скорби,
почти отчаяния, поднес к губам мои руки, которые сжимал дрожащими
пальцами, и стремительно выбежал во двор. На звук его голоса я выглянула в
окно: юноша в последний раз грациозно поклонился мне и ускакал прочь. Я с
нежностью провожала его взглядом, пока он не пропал из виду, и даже тогда
мне еще долго казалось, что слух мой различает топот его коня.
Со своей обычной любезной внимательностью Генрих написал мне на
другой же день, что он чувствует себя лучше, что, видя, как счастлива сестра, он
примирился с политически неразумным браком, заключенным для нее. Он
даже участвовал в устройстве всевозможных празднеств, назначенных в
честь бракосочетания принцессы Елизаветы, но едва они закончились, как
силы и одушевление покинули его, здоровье ухудшилось, и к нему призвали
врачей.
Болезнь, так давно подтачивавшая его, была немилосердна. Я утратила
всякую надежду; но не в силах мужественно смириться с мыслью о грядущей
утрате, душа моя скорбела так, точно впервые узнала печаль. Не решаясь
дать волю своим предчувствиям в присутствии дочери, я старалась, скрывая
слезы, притворными улыбками поддерживать в ней надежды, которые мое
сердце давно отвергло, и с запоздалым сожалением наблюдала в ней
глубокую и обостренную чувствительность души, так старательно развитую и
воспитанную мною.
Дни и ночи мы проводили в печали и тревожном ожидании, а несчастный
Генрих увядал, теряя жизненные силы, еще не достигшие зрелости.
Часто в минуты беспамятства и бреда он произносил наши имена, когда
же сознание возвращалось к нему, с его уст срывались лишь вздохи и стоны.
Его любимый слуга, Мэррей, постоянно извещал нас о ходе болезни, и сам
Генрих, когда хватало сил, не забывал передать через него нежный привет.
Спустя некоторое время сэр Дэвид сообщил мне, что о речах принца в бреду, где
неизменно возникали наши имена, был уведомлен король, что он
подробнейшим образом допросил наиболее доверенных слуг принца, и в их числе
самого Мэррея, о том, как возникла, развивалась и насколько сильна эта
привязанность, так внезапно и странно обнаружившаяся, и погрузился в глубокое
раздумье о том, что услышал.
«Я не простил бы себе, сударыня, — заключал свое письмо верный Мэр-
рей, — если бы скрыл это, и не осмеливаюсь добавить какие бы то ни было
догадки в деле столь деликатном».
— Ах, что нам все запоздалые расспросы и смутные домыслы Иакова! —
вскричала я, прижимая к груди дочь. — Если Небеса лишают нас его
бесценного сына, то ни любовь его, ни ненависть ничего для нас не значат. Дорогая
Мария, милая наследница несчастья, вдова, не бывшая женой! Твой удел —
долгая безвестность, одинокая юность, скорбь, которая навеки будет
источником скорби для твоей матери... Но отчего не решаюсь я открыто назвать
себя? Отчего не объявлю о правах, которые даже тиран не может уничтожить?
Но, быть может, он и не станет их оспаривать? Трусливая и немощная душа
Иакова бессильна перед душой, стойкой в добродетели, неизменной в
правде... Ах, сделай я это раньше, я могла бы в эту минуту, дорогой Генрих,
склониться над твоей постелью, смягчить страдание, которого смертным не дано
предотвратить! Возможно, король уже догадывается об истине — пусть же
потребует ее.
Следующее письмо сэра Дэвида Мэррея было исполнено отчаяния.
«Приготовьтесь к худшему, сударыня, — писал он, — может статься, прежде чем
это письмо дойдет до Вас, Англия утратит свою самую светлую надежду, а
друзья принца Генриха — единственную. Все усилия врачебного искусства
оказались тщетны. Истомленный разум теперь часто вновь озаряет бледным
лучом благородное сердце, с которым вскоре расстанется навсегда. Принц
только что приказал мне предать огню все письма и бумаги, где упомянуто
Ваше имя, — это показывает, что он окончательно утратил надежду. Увы, он
не знает, как часто дорогие ему имена срывались с его уст. Почти всю ночь он
призывал к себе Вас, сударыня, и Вашу ангельскую дочь, но тут же, приходя в
себя, делал слабый знак рукой и со вздохом шептал: "Нет... нет... нет"».
Три часа спустя прибыл новый гонец с письмом: «Простите, сударыня,
поспешность и неразборчивость строк, написанных в такую тяжкую минуту.
Увы, самые стойкие из нас перестали надеяться. Мой господин утратил
способность говорить: последним усилием он несколько раз торопливо позвал
меня — я бросился к его постели, но, как ни напрягал слух, не сумел
разобрать слов. Если я не ошибся, он назвал Францию. Возможно, я совершаю
еще одну ошибку, относя сказанное к Вам, сударыня, но, даже рискуя
ошибиться, я сообщаю об этом, дабы исполнить последнюю волю господина,
боготворимого мною. Король, врачи — все надолго оставили принца, уже почти
отрешившегося от земных забот. Нам же, любящим его, остается только
желать, чтобы его чистая душа могла отлететь с миром».
Я не успела выйти из оцепенения душевной муки, вызванной этим трога-
тельным письмом, как было доставлено новое: «Все кончено, сударыня, —
писал достойный Мэррей. — Обратите ввысь Ваши заплаканные глаза: только
там можете Вы теперь искать несравненного принца Уэльского... Усталость и
горе лишают меня сил писать далее».
До скорбной и торжественной минуты, когда незапятнанная душа Генриха
возвратилась к своему всеведущему Творцу, я не осмеливалась высказать
желания, не связанного с ним, обратиться мыслью к чему-нибудь, кроме него. Та
тонкая чувствительность, что позволяет нам разделить существование всех,
кто нам близок и дорог, заставляла меня жестоко страдать вместе с ним и
молиться о том освобождении, которое одно, казалось, могло избавить его от
мук, и, пока он не покинул нас навеки, я не вспоминала о том, какую
зияющую пустоту оставит эта утрата в моих надеждах. Теперь пришел черед для
всеобъемлющего спокойствия, которое приходит вослед смерти. Лишенная
опоры, которой так долго бессознательно доверялась, я погрузилась в
безутешное горе, порой вызывавшее у меня желание последовать за горько
оплакиваемым принцем. Именно в такие времена, сударыня, становимся мы
особенно чувствительны к несовершенству своей натуры. Как часто тешила я
свое сердце тщеславным заблуждением, полагая, что среди многообразных
испытаний оно обрело силу, чистоту и добродетель! Увы, что, как не гордыня,
тщеславие и честолюбие, неизменно жили в нем? Время лишь изменило
предмет страсти, но не саму страсть, обратив ее всецело на мою дочь.
Мы укрылись в своем уединении, душевно разделяя всеобщую скорбь.
У нас оставалась эта печальная отрада — знать, что того, о ком мы скорбим,
оплакивают все. Я изучала, я копила с материнской нежностью все щедрые
восхваления, которыми все сообщества, все партии, все поэты почтили
память принца, — только это утешение было доступно мне в моем горе. Прошло
уже немало времени, а мы так и не получили никаких вестей от Мэррея,
подтверждающих его догадки о предсмертном желании Генриха, о тех неясных
звуках, что замерли на его немеющих устах. Но хотя я не могла бы решиться
стать изгнанницей без вины, даже уважая последнюю волю принца Генриха, у
меня не было иной причины оставаться в Англии, кроме желания показать,
что меня ничто не понуждает к отъезду. Я решила покинуть страну, ставшую
могилой столь дорогой мне надежды, и у дочери встретила полное согласие.
В благодарность за неизменное внимание к нам сэра Дэвида Мэррея я
известила его о своем намерении поселиться во Фландрии, где, как я не
сомневалась, найдется достойное пристанище для вдовы и дочери лорда Лейстера. Я
просила его принять от меня кольцо значительной ценности в знак моей
признательности ему за великодушную привязанность, проявленную ко мне и к
принцу, кончину которого я буду неизменно оплакивать. В качестве
прощальной услуги я попросила его возвратить мне портрет дочери, данный мною
принцу Генриху при нашей памятной последней встрече.
Ответ Мэррея поразил и встревожил меня.
«Ваше намерение покинуть Англию, сударыня, — говорилось в письме, —
снимает груз с моей души, избавляя меня от крайне тревожных опасений.
Время и обстоятельства подтвердили, что я правильно истолковал последние
неясные слова моего горячо любимого господина. Не теряя ни минуты,
поспешите в то пристанище, что Вы избрали для себя. Я опасаюсь, сударыня, что
портрет исчез безвозвратно: ни подкупом, ни мольбами я не могу добыть
никаких сведений о нем — власти же я, увы, не имею. Если когда-нибудь он
попадет ко мне в руки, поверьте — он будет возвращен Вам тем, кто неизменно
горячо молится о Вашем счастье».
Это необъяснимое письмо пробудило все мои дремлющие чувства и
мысли. Почему мой отъезд за границу избавляет человека, со мною не
связанного, от крайне тревожных опасений? Почему он так торопит меня с отъездом?
Поскольку скорее гордость, чем осторожность, побуждала меня стремиться в
страну, где я могу безбоязненно заявить о всех своих правах, план этот был
теперь отвергнут мною по той же самой причине, которой поначалу был
продиктован. Тайны всегда были мне не по душе. Твердо решив выяснить
причины, стоящие за советом Мэррея, я распорядилась прекратить все
приготовления к отъезду и снова спокойно обосновалась в своем доме, намереваясь
встретить бурю, если она действительно грянет, а не искать спасения в
постыдном бегстве.
Я еще раз написала сэру Дэвиду, уведомляя его о своем нынешнем
решении и его мотивах и настаивая на том, чтобы он подробно сообщил мне о
причинах, побудивших его дать мне совет столь странный и таинственный... Как
возросла моя нетерпеливая досада, мое любопытство и возмущение, когда
пришел его ответ!
«Восхищаясь Вами, узнал я, сударыня, о Вашем решении, которое, хорошо
зная Ваш характер, мне, вероятно, следовало предвидеть, но мнение мое
остается неизменно, и при обстоятельствах не столь крайних я не решился бы
раскрыть причины, на которых оно основано. Но соображения приличия и
щепетильности отступают перед Вашей волей и перед опасностью положения.
Однако я не считаю возможным доверить эти причины бумаге. Решитесь ли Вы
принять меня в полночь? На этот случай я буду поблизости от ворот Вашего
дома, но будьте осторожны в выборе провожатого для меня, ибо моя жизнь,
более того — Ваша жизнь зависит от того, чтобы не возникло ни малейшего
предположения, что между нами когда-либо была тайная переписка или
беседа».
Как взбунтовалась моя гордость при этом непонятном письме! Мне —
унизиться до тайных действий! Оказаться перед угрозой позора! Неведомая мне
опасность, которая, по его утверждению, подстерегала меня, оставила меня
совершенно равнодушной — так возмутилась душа моя предполагаемым
обвинением в бесчестии! Несколько раз я решалась прервать сношения с Мэрреем
и предоставить скрытой угрозе обнаружить себя в последующем ходе
событий, но любовь к дочери пересилила мое негодование, неотделимое от
сознания своей правоты, и я сдалась на доводы осторожности и приготовилась
принять Мэррея. Приученная ко всякому страданию, я не привыкла краснеть
перед кем бы то ни было.
Мой возбужденный разум в недоумении перебирал множество
предположений, не останавливаясь ни на одном. Порой я думала, что вся
осторожность принца Генриха оказалась недостаточной и король из какого-нибудь
потерянного или утаенного письма узнал о привязанности своего сына к нам и о
надеждах, на ней основанных, но даже тогда я не представляла, чтобы
опасность угрожала моей жизни; еще менее могла я увидеть смертельную
опасность для себя в том, что его открытие, простираясь далее, коснулось давней
тайны моего рождения. Погруженная в нескончаемые, смутные и тревожные
догадки, я не знала, как дождаться необычного условного часа, когда им
предстояло разрешиться.
Чувствуя по собственному своему опыту, каким ужасным потрясением это
должно стать для моей дочери, и все еще утешая себя надеждой, что
неопределенная опасность — лишь плод угнетенного состояния духа человека,
близкого Генриху, я решила дождаться полуночной беседы с ним, прежде чем
поведаю моей Марии нечто сверх того, что она уже поняла из моих
переменившихся планов отъезда из Англии. Но поскольку, увидевшись с ней, мне
пришлось бы все объяснить (ибо я не могла надеяться скрыть от нее те чувства,
от которых румянцем возмущения пылали мои щеки), я послала сказать ей,
что испытываю жестокую головную боль и надеюсь успокоить ее сном, и при
этом передала ей новую книгу, которая ее живо интересовала, и про себя
понадеялась, что книга целиком займет ее внимание в этот решающий час.
О, как ложны, как ошибочны чувства, которые усваиваем мы в общении с
миром! Природою установлено, чтобы стыд был спутником вины, но
самовластный обычай разорвал эту связь и нередко повелевает стыду
сопутствовать добродетели. Я едва смогла решиться узнать, какое преступление
вменяется мне в вину, едва могла невозмутимо встретить взгляд
благожелательного человека, отважившегося предостеречь меня от непредвиденной
опасности. Мой разум лишь большим усилием подчинил себе это неблагородное
побуждение.
Достойный Мэррей в равной степени ощущал неловкость и своим видом
благородного смущения, с которым предстал передо мной, мгновенно вернул
мне спокойствие и уверенность в себе. Его траурный наряд и слезы,
выступившие на глазах при имени его покойного высокородного господина, вызвали
мои ответные слезы, тотчас сблизившие нас. Сэр Дэвид с бесконечной
деликатностью и осторожностью заговорил о непонятной болезни принца
Уэльского и о различных толках и мнениях, возникших после его смерти, — но как
леденящий ужас поразил мою душу, когда я узнала, что многие (и в их числе
некоторые из его врачей) уверены, что он был отравлен! Жестокое горе,
которое в более спокойные минуты могли вызвать такие подозрения, однако,
мгновенно исчезло в хаосе смятенных чувств, порожденных его
последующими словами. О, позвольте мне здесь прервать свой рассказ и восславить
милость Всемогущего, которая одна только помогла моему рассудку справиться
с чудовищным ударом — с известием, что, по слухам, именно из моих рук он
принял смертоносный подарок! Скорбь, гнев, стыд и ужас терзали меня. Я ед-
ва слышала мольбы и увещевания Мэррея; оттолкнув его,
коленопреклоненного, прочь и заключив в сердце своем негодующее, рвущееся на волю
чувство, я мечтала лишь о том, чтобы сердце разорвалось от их неудержимого
напора.
Прошло немало времени, прежде чем я оправилась от удара и пожелала
узнать, как мог возникнуть столь мрачный и злобный оговор. Я умоляла
сказать мне, от кого могла исходить эта чудовищная клевета. Мэррей рассказал,
что, как только неясное заключение медиков о причине смерти принца стало
известно королеве, она под влиянием горя и своего несдержанного нрава
примкнула к тем, кто объявил, что он был отравлен. Предположение, едва оно
было высказано, распространилось мгновенно. Всякий из прислуги принца по
очереди становился объектом подозрений своих сотоварищей, некоторые из
них оказались столь малодушны, что, оберегая себя, бежали за пределы
королевства. Обретая таким образом подтверждение, слух ширился, но,
поскольку не выявилось ничего, что давало бы основания для судебного
расследования, король удовлетворился заключением, что прискорбная гибель его юного
наследника была вызвана естественными причинами. И тут внезапно,
непостижимым образом, смутные людские подозрения, отнюдь не заглохшие,
хотя и совершенно беспредметные, возникли с удвоенной силой и устремились
на меня. Утверждали, что принц Уэльский в свое последнее посещение моего
дома отведал засахаренных фруктов (это было его излюбленное лакомство,
но, по счастью, в тот день я, будучи в угнетенном состоянии духа, забыла
предложить ему какое бы то ни было угощение), и эти фрукты, по всей
видимости, были отравлены, так как немедленно после этого его болезнь резко
усилилась. Заговорили о том, что мое имя он постоянно поминал в бреду, и
всякое неясное и загадочное слово, срывавшееся с его губ в эти минуты,
припоминалось, разбиралось и истолковывалось с поистине дьявольской
изобретательностью. Его крайняя озабоченность тем, чтобы были сожжены все его
бумаги, была истолкована предубежденной молвой как нежелание
несчастного принца запятнать ту, что его погубила. С помощью этих низких, но
правдоподобных измышлений взоры всей растревоженной и возбужденной ими
нации были обращены к одинокому жилищу, где я, не подозревая об опасности,
предавалась горю, которое самые милосердные приписывали лишь
раскаянию. Немногое было бы нужно, чтобы побудить людей, опередив шаги
правосудия, растерзать меня, когда король подтвердил всеобщие подозрения,
учредив новое и более пристальное расследование характера посещений моего
дома его сыном, их длительности, их обычного порядка. Когда выяснилось, что
никто не может должным образом удовлетворить его интерес, он несколько
раз высказался резко и двусмысленно. С тех пор некоторые из фаворитов
убеждали его, что я должна предстать перед судом; того же всячески
добивалась королева. Встревоженный, не зная, как ему поступить, сэр Дэвид именно
в это время узнал о моем намерении уехать во Фландрию и, полагая, что мне
уже известно о клеветнических слухах, сам того не желая, оказался перед
мучительной необходимостью повторить их. Под конец он дал мне понять, что
было бы благоразумно с моей стороны последовать своему первоначальному
намерению и незамедлительно покинуть Англию, ибо в тех случаях, когда
предубеждением целой нации заражены даже те, кому доверено блюсти ее
законы, сама невинность едва ли может служить защитой: пристрастные
судьи легко могут принять предположение за доказательство и не иметь
достаточно прямодушия, чтобы оправдать ту, чья честь таким образом поставлена
под сомнение.
Пока сэр Дэвид говорил, мне открылся совершенно иной мир. Ах, как
непохож он был на райскую картину, нарисованную моим бесхитростным умом!
Те лица, в которых еще вчера я видела живой образ их Творца, сейчас
окружали меня, сверкая глазами, словно скопище демонов. Страшная бездна
разверзлась у меня под ногами, тысячи рук тянулись столкнуть меня туда, и моя
робкая душа тщетно пыталась отступить от гибельного края. Жить в
безвестности, умереть в забвении было горестной участью. Но оказаться обвиняемой,
предстать заведомой преступницей перед пристрастным судьей — в одной
только мысли об этом было нечто столь чудовищное, что пред ним меркло
всякое иное зло. Кровь кипела в моих жилах, и ошеломленный разум был не
в силах смирить ее неукротимый ток. Злонамеренность столь дерзкая, столь
глубоко продуманная, столь дьявольская могла исходить только от кого-то
одного, но где искать этого одного — я не знала. Я не могла припомнить ни
единого человека, кому причинила бы обиду, злодея, которому могла бы
представиться желанной добычей. Словно несчастная жертва, разбуженная
убийцами во мраке ночи, я не знала, что рука, поднятая, чтобы отвести удар,
может порезаться о занесенный кинжал. В этих ужасных обстоятельствах
только добродетель была мне защитой — увы! — сама добродетель никнет под
леденящим дыханием клеветы. Пока сэр Дэвид приводил новые доводы в
подкрепление тех, которыми уже пытался убедить меня покинуть страну, моя
душа одним из тех простых усилий, что порой порождаются небывалыми
событиями, обрела власть над собой. Возмущение преобразилось в стойкость,
гнев — в мужество.
— До этой минуты вы всего лишь видели меня, сэр Дэвид, — промолвила
я, — и только теперь вы можете меня узнать. Наветы, о которых вы
рассказали, заставляют меня содрогаться от ужаса, и все же я не осмелюсь уехать,
пока не опровергну их, — нет, даже угроза обвинительного приговора не
заставит меня бежать, оставив свое честное имя на поругание. Как решусь я
запятнать юную добродетель моей дочери, подвергнув ее вместе с собой
незаслуженному порицанию? Гордость и радость ничем не запятнанной
добродетели — это все, что судьбою позволено мне сохранить из богатств и почета,
сверкавших в юности перед моим взором. Это не значит, что я мало ценю свое
самое дорогое и священное достояние — но даже оно сейчас отнято у меня, и
есть один лишь способ вернуть его себе. Каким ни безнадежным видится мне
этот шаг, я должна на него решиться — да, я должна любой ценой увидеть
короля, и если все иные средства будут бессильны доказать мою невиновность
(увы! Неужели я дожила до того дня, когда она оказалась под сомнением?), то
пусть святая тень принца Генриха восстанет, дабы оправдать меня. Я не
обеспокою вас более, досточтимый Мэррей, лишь соблаговолите передать письмо
лорду Рочестеру с моей просьбой к королю о личной аудиенции.
Решением столь невероятным я ошеломила Мэррея не меньше, чем он в
начале нашего разговора ошеломил меня. Ему показалось было, что рассудок
мой помутился, но, видя, что я вполне владею и мыслями своими, и
чувствами, он не счел возможным перечить той, чья душа поражена обидой, а вновь
обретенное мною спокойное достоинство заставило его поверить, что я
действительно имею сообщить нечто важное, хотя что это может быть — он не в
силах был себе представить. Я написала, сообразуясь с принятым мною
решением, лорду Рочестеру (только что пожалованному титулом графа Сомерсет), и
Мэррей, обещав доставить письмо завтра рано утром, удалился с теми же
предосторожностями, с которыми вошел, и оставил меня в одиночестве. В
одиночестве, сказала я? Ах, Боже милосердный, никогда еще не была я менее
одинока! Тени всех, кого я любила, казалось, окружили меня в этот
решающий час, множество смутных мыслей, своевольно тесня и сменяя друг друга,
проносились в моей голове. Неожиданно я оказалась на главном повороте
своего жизненного пути: после бесконечных отсрочек, постоянного страха
наконец настала минута, когда долго хранимая тайна должна была выйти на
свет. За себя я перестала страшиться давно. Признание королем нашего
родства не дало бы мне счастья после того, как, увы, не стало несравненного
юноши, ради которого я только и желала этого признания. Но и отрекшись от
родственных уз, он не мог бы нанести урона судьбе, оставившей мне так мало
надежд. Но, о, когда я вспомнила, что его единое дыхание может загубить тот
нежный цветок, что я взрастила усилиями всей моей жизни, что он может
столкнуть мою юную Марию, прежде чем добродетели и достоинства ее
будут явлены миру, в безвестную и бесславную могилу, — где было мне взять
силы, чтобы совладать с этими мыслями?
Остаток ночи я посвятила тому, чтобы собрать воедино правдоподобные и
убедительные объяснения, которые могли бы отвлечь и занять ум моей
дочери до того, как событие станет известно, и тем уберечь ее от мук тревожного
ожидания. Я также собрала все бумаги и доказательства, удостоверяющие те
права, о которых я вынуждена была заявить, и, заново просмотрев и изучив
их, увидела в них столь надежный залог не только своей безопасности, но и
будущего высокого положения, что благословенный покой сменил собою все
те порывы скорби и негодования, что терзали меня в последние дни.
Воспользовавшись приглашением, которое по договоренности со мной
прислала дама, жившая по соседству, я на день отправила дочь к ней погостить.
Едва я успела проводить ее, как прибыл гонец с известием, что граф
Сомерсет будет иметь честь посетить меня нынче днем.
С чувством гордого презрения я смотрела, как новоявленный граф
Сомерсет наводнил мой двор королевски пышной свитой. Единственный
представитель королевского рода, который бывал здесь, с присущей ему благородной
скромностью пренебрегал праздным великолепием. Навязчиво предлагая
свои услуги, граф дал мне почувствовать значительность собственной
персоны и попытался неумеренной лестью покорить мое сердце и проникнуть в его
намерения, но я не нуждалась в отличиях, обретенных через его содействие.
Я вежливо уклонилась от разговора как о клеветнических измышлениях, так
и о цели желаемой аудиенции и лишь поблагодарила его за то, что он
обратил ко мне слух короля; говоря это, я покраснела при мысли о том, к какому
презренному посреднику вынуждена прибегнуть. Я заметила досаду,
любопытство и разочарование, отразившиеся на его — действительно красивом —
лице, но не могла принудить себя доверить что бы то ни было человеку, к
которому принц Генрих питал презрение. Граф откланялся с теми же
изъявлениями глубокого почтения и готовности к услугам, с которыми явился ко мне,
и назначил на следующее утро представление меня королю.
Поскольку приватность обещанной аудиенции избавляла меня от
необходимости соблюдать торжественный этикет, я не стала увеличивать свиту и не
изменила своему обычному вдовьему наряду, лишь сделала его похожим на
траурное платье моей матери, отчего сходство с ней, присущее мне от
рождения, стало еще более очевидным и разительным. Сотни полузабытых
происшествий и событий теснились в моей взволнованной душе, когда я проходила
один за другим хорошо знакомые мне покои дворца, пока они все не
отступили в прошлое, а я не оказалась перед дверью королевского кабинета.
Услужливый Сомерсет, одетый с таким отменным изяществом, словно
вознамерился пленить меня, едва только обо мне было объявлено, приблизился и
галантно предложил мне руку. Внезапный холод оледенил меня, дрожь пробежала
по телу, я замешкалась, сникла, но тут же, победив свою слабость, смахнула
со щеки горькую слезу и, опершись на предложенную руку, позволила
фавориту представить меня королю.
Горделивый вид, который я приняла, чтобы предстать перед королем,
оказался излишним: неловкий и растерянный всегда, сейчас он испытывал
большую, чем обычно, неловкость и растерянность и словно не мог решить —
скрыться ли ему при первом же взгляде на меня или, по крайней мере,
воротить Сомерсета, который уже удалился.
Преклонив колено, как того требовал обычай, я тут же поднялась и, не
выпуская руки, которую он протянул мне, устремила взволнованный взгляд на
его изменчивое лицо.
— Ваше Величество, — заговорила я, — без сомнений, ожидает встретить во
мне слабую просительницу, молящую о защите или взывающую к жалости,
но в таком жалком качестве я никогда не склонялась перед вами. Я пришла,
чтобы предъявить права на дорогое мне и священное звание, до сей поры
неведомое, но никем не упраздненное. О царственный Иаков! — воскликнула я,
и слезы хлынули из моих глаз. — Разве сердце твое не узнает нечто
родственное в этих чертах, в этом голосе, в трепещущей руке, которая впервые
сжимает твою сестринским пожатием?.. О святая страдалица Мария, подарившая
мне жизнь! Взгляни с небес и обрати сердце своего сына к безутешной сестре,
стоящей перед ним.
Король вздрогнул, отступил назад, всем своим видом выражая сомнение и
неудовольствие, и попытался отдернуть руку, которую я упорно удерживала в
своих, прижав ее к губам и орошая потоком слез.
— Не отталкивай меня, не отвергай меня, не узнав, — вновь заговорила я
голосом, исполненным сдерживаемой муки. — Не гордыня, не тщеславие, не
честолюбие побуждают меня сейчас раскрыть тайну, так давно скрытую в
сердце моем. Прахом нашей миропомазанной матери я молю тебя выслушать
меня, более того — поверить мне. Я рождена втайне, воспитана\ в уединении, я
рано сделалась жертвой враждебной судьбы, от долгих страданий усталая
душа моя готова смириться с любым чинимым мне злом, но не e бесчестием —
против него она по-прежнему гордо восстает. Та же кровь, что\гечет в твоих
жилах, струится в моих, ударяя в сердце жгучими толчками причиной
мысли о чем-то недостойном; она побуждает меня подтвердить мою невиновность
неоспоримыми доказательствами, и я буду оправдана — перед Богом и
людьми. Права, о которых я заявляю, не основываются единственно на моем
слове: Ваше Величество найдет в этих бумагах торжественные свидетельства,
написанные не вызывающим сомнений почерком вашей царственной матери, в
них найдете вы и подтверждающие свидетельства многих благородных и
безупречных людей. Изучите их со всей тщательностью и, умоляю, остерегитесь
судить обо мне предвзято!
Не в силах более произнести ни слова, я склонилась почти к самым ногам
Иакова и дала волю гнетущим, мучительным чувствам, которые не мог не
пробудить этот период моей жизни. Король, продолжая глядеть на меня в
растерянности и нерешительности, холодно посоветовал мне удалиться на
время в его приемную и там успокоиться, пока он просмотрит бумаги, на
которые до той минуты лишь единожды взглянул, хотя даже при этом беглом
взгляде лицо его вспыхнуло под влиянием неотразимой достоверности. В
приемной меня встретил граф Сомерсет, который, видя, что я близка к
обмороку, приказал принести воды и нюхательную соль, сам при этом оставаясь
подле меня, словно бы для того, чтобы показать мне, что ни в коей мере не
желает повлиять на решение своего господина. Однако ожесточение борьбы
покинуло меня в тот самый миг, как я раскрыла свою тайну, и теперь я начала
возвращаться в привычное мне уравновешенное и спокойное состояние.
Усердные старания Сомерсета вернуть мне спокойствие и бодрость не
остались мною не замеченными, хотя чутким ухом я прислушивалась к звуку
шагов короля, который расхаживал по кабинету неровной походкой,
временами останавливаясь. Наконец дверь кабинета распахнулась, и Сомерсет,
удаляясь из приемной, сделал мне знак войти. Король с благожелательным видом
ступил мне навстречу и, взяв меня за руку, слегка приложился поцелуем к
моей щеке.
— Ободритесь, сударыня, — сказал он. — Как ни удивлены мы вашим
внезапным заявлением и этим неожиданным открытием, благоговение перед
правами нашей покойной матери и справедливость по отношению к тем
правам, что вы наследовали от нее, обязывает нас признать в вас ее дочь.
И вот теперь я действительно едва не лишилась чувств, могу даже
сказать — едва не умерла. Быть признанной и его сестрой, и дочерью Марии! В
самые счастливые часы не осмеливалась я и мечтать о том, что так чудесно
сбывалось в эту минуту. Душа моя была охвачена таким безграничным
восторгом, что один этот краткий миг искупил собою долгие годы тоски и
скорби. Бессвязные восторженные восклицания рвались из груди моей, и,
поддавшись искреннему порыву благодарности и любви, я впервые в жизни
кинулась в объятия брата, не помня о том, что это — объятия короля. Никогда
самый изощренный лицемер не сумел бы изобразить радость столь чистую и
совершенную, и даже если бы я не смогла представить иных доказательств
своего происхождения, священный голос крови мог подтвердить его.
Король сел подле меня и, перебирая бумаги, которые все еще держал в
руках, время от времени задавал мне вопросы о тех из них, которые казались
ему неясными или неполными. Заручившись его терпением, я вкратце
поведала ему об удивительных событиях моей жизни и таким образом вполне
естественно привлекла его внимание к той, что была средоточием моих забот,
моих надежд, всего моего существования.
— Я уже много слышал о вашей дочери, — заметил Иаков. — Говорят, она —
само воплощение красоты. Отчего же вы так странно скрываете ее?
Не имея возможности назвать истинную причину, которая заключалась в
том, что у меня попросту не было почтения к его душевным качествам, я
привела различные незначительные резоны, которые, разумеется, никак не
могли бы на меня повлиять.
— Ни слова более, — прервал мои объяснения король. — Насколько я
понимаю, сударыня, вы не со всеми были столь скрытны. Мне нетрудно понять,
кто пользовался вашим доверием. Было бы лучше для всех, будь ваша тайна
доверена мне раньше, и тогда я мог бы понять...
Он умолк, не произнеся имени сына, и со вздохом оставил фразу
незаконченной. Меж тем я, обвороженная его неожиданной искренностью,
любезностью и великодушием, жестоко порицала себя за то, что полагалась на чужие
отзывы, не пытаясь сама узнать характер того, о ком решалась судить. Мы
долго беседовали с королем, и с каждым словом этой беседы я все более
проникалась к нему доверием, почтением и любовью. Из многих его выражений
я поняла, что он опасается противодействия со стороны королевы и своего
фаворита и предвидит, что столь позднее обнародование брака между его
матерью и герцогом Норфолком не сумеет вполне убедить людей и достаточно
прочно установить мое положение. Он умолк и задумался, как человек,
который ощущает свою близкую причастность к предмету размышления, и я
подумала, что наименьшее, что я могу сделать, это предоставить на его
усмотрение, каким образом осуществить столь значительное официальное признание.
Я искренне заверила его, что первейшая моя цель — это быть оправданной в
его глазах, что мое оправдание перед обществом — в виде официального
признания моего королевского происхождения — я целиком доверяю ему. Я
сказала, что, столько лет ведя среди людей уединенную жизнь, я не имею друзей,
с чьими представлениями и наклонностями должна сообразовать свои.
Словом, заключила я, время постепенно лишило меня всех, кто был причастен к
важной тайне, которую я только что доверила ему и в которую теперь
посвящены лишь он, я и моя дочь. Он отвечал, что это проявление моего
благоразумия и почтительности бесконечно усиливает расположение, которое он уже
возымел ко мне, и заверил, что официальное признание не будет
откладываться дольше, чем это совершенно необходимо, ибо он не может смотреть на
наше родство иначе, чем как на бесценное приобретение, но, поскольку ему
нужно учесть многие обстоятельства и примирить с этим известием многих
людей, он советовал мне соблюдать и далее благоразумную
осмотрительность, которую я до сих пор проявляла. Между тем он не в силах умерить
свое нетерпение и жаждет увидеть прекрасную девицу, о которой столько
наслышан. Поэтому завтра вечером он намерен посетить дом лорда Сомерсета,
откуда пошлет за мной и моей дочерью, и надеется, что к тому времени уже
сумеет назначить день моего официального признания с соблюдением
должного уважения к памяти и чести своей матери. После этого он сможет
доставить себе радость создать для меня такие условия существования, которые
помогут мне забыть обо всех постигших меня несчастьях. Эти несчастья уже
были забыты мною при столь нежданной перемене моей судьбы. Я
откланялась с чувством глубочайшей признательности, пылая нетерпением сообщить
благословенное известие моей Марии, и, поскольку король не предложил
возвратить мне бумаги, я сочла за благо оставить их в его руках, а не
подтверждать того сомнения, которое могло возникнуть у него вследствие моего
долгого молчания: сомнения в том, что я всецело доверяю его чувству чести.
Я поспешила в Ричмонд и сообщила об этом поразительном, этом
счастливом событии своей дорогой девочке. Сотни раз я прижимала ее к своему
ликующему сердцу, чувствуя, что каждый мой порыв восторга удваивается ее
живым откликом. С нежностью она разделила мою радость и ласково
улыбалась заботам, в которые я погрузилась, чтобы убрать и украсить ее к
завтрашнему торжественному представлению. Помня, однако, что король рабски
привержен ко всем внешним условностям, я сочла нужным придать
дополнительный блеск ее красоте всеми доступными богатству средствами. Одев ее во все
черное, я вызвала бы у Иакова лишь самые печальные мысли, поэтому я
решила несколько скрасить ее траур прихотливым изяществом. Лиф ее платья
черного бархата, открывающий грудь на французский манер, с полукруглым
воротником из роскошного кружева превосходно подчеркивал ее стройную
талию и белизну кожи. Нижняя юбка из белого атласа внизу заканчивалась
фестонами черного бархата с густой серебряной бахромой. Более широкая
верхняя юбка со шлейфом из серебристого муслина с черной вышивкой
ниспадала поверх атласной и через равные промежутки была поперечными
складками собрана к талии жемчужными нитями, а книзу оттянута зубцами
под тяжестью черной бисерной бахромы и граненых алмазов. Широкие
рукава из того же серебристого муслина были стянуты у локтей нитями ониксов с
гранеными алмазами, оставляя руки открытыми и лишь украшенными на за-
пястьях такими же браслетами из ониксов и алмазов. Ее пышные
каштановые волосы, природными кудрями ниспадавшие ниже талии, не нуждались в
украшениях, но, не желая тщеславно выставлять их напоказ, она надела
белую атласную шляпу с узкой тесьмой черного бисера и пышными перьями.
Этот великолепный наряд, на украшение которого пошли драгоценности,
унаследованные ею и от отца, и от Ананы, по счастливому совпадению,
оказался моей Марии более к лицу, чем все ее прочие наряды. Любящее
материнское сердце предвкушало впечатление, которое она непременно должна
была произвести на своего дядю, и на ее сияющей красоте основывало свои
счастливейшие надежды.
Ах, кто бы мог подумать, что этот блеск и великолепие предшествовали
самым бедственным минутам в моей жизни, что бесчеловечный тиран
предоставил рукам несчастной пышно украсить событие, которое ей потом
предстоит горько оплакивать до конца дней.
В назначенный час за нами приехала закрытая карета в сопровождении
подобающей свиты, и поскольку король пожелал, чтобы я не брала с собой
собственных слуг, я беспрекословно повиновалась и даже ни словом не
обмолвилась о том, куда направляюсь. Мы ехали долго, но я, погруженная в
размышления о предстоящей встрече и о своей милой спутнице, не
чувствовала, как идет время. Моя дочь наконец заметила, что дорога оказалась
длиннее, чем она ожидала. Я выглянула в окно кареты, но было слишком темно, и
я лишь смогла разглядеть, что свита наша увеличилась. Я окликнула слуг, и
один из них, подъехав ближе, на мой вопрос почтительно ответил, что король
задержан делами в Лондоне, куда они и спешат по его приказанию. Ответ
успокоил нас, и я попыталась вернуть потревоженные мысли в обычное русло,
обратившись в беседе к нашим планам на будущее. Однако мы ехали с такой
быстротой, что должны были, как мне казалось, уже приблизиться к
Лондону, когда я вдруг увидела, что мы проезжаем совершенно незнакомую
деревню. Мое удивление возросло, когда дочь вдруг порывисто обняла меня и, не
сразу поняла ее слова — при свете, падавшем из окна одного из домов, она
увидела, что нас окружают вооруженные солдаты. Не успели мы оправиться
от вызванной этим тревоги, как по внезапному подъему дороги и гулкому
стуку копыт поняли, что проезжаем подъемный мост, после чего карета
остановилась. Выйдя из кареты, я обвела взглядом просторный и мрачный
внутренний двор, где на расстоянии друг от друга стояли несколько стражников, но
не было ни огней, ни пышного убранства, ни слуг — ничто не указывало ни на
королевский визит, ни на жилище королевского фаворита. Мрачные
переходы, по которым нас повели, более приличествовали тюрьме, чем дворцу.
Когда мы оказались в пустой комнате, чудовищная, несомненная истина
открылась мне, и, молча проклиная свое вопиющее легковерие, я увидела, с ужасом
увидела все его неотвратимые последствия.
Офицер, сопровождавший нас, подал мне пакет, который я приняла как
свой приговор, но не попыталась открыть. Надежда, страх, любопытство —
все живые естественные побуждения были уничтожены мгновенной уверенно-
стью, и последовавшее затем оцепенение было опаснее и страшнее самого
безудержного взрыва страстей. Моя дочь, испуганная этой неподвижностью
отчаяния более, чем жестоким и неожиданным поворотом событий, бросилась
к моим ногам.
— О, не молчите, матушка, говорите со мной! — воскликнула она. — Не
поддавайтесь безнадежности, что написана на вашем лице, не отягчайте для
вашей бедной Марии ужас этой минуты!
Я обратила на нее невидящий взгляд, но природа вновь обрела надо мной
свои права, ласковой рукой тронув сердечные струны, и те слезы, в которых я
отказала своей судьбе, пролились щедрым потоком над судьбой моей дочери,
такой молодой, такой прекрасной, такой невинной, такой благородной — как
мне было не оплакивать ее? Без сомнения, лишь эти материнские слезы
спасли мой разум в ту минуту, когда все грозило сокрушить его. Мария взглядом
испросила моего позволения вскрыть пакет и, вздрогнув при виде бумаги,
содержащейся в нем, поспешно вложила ее в мои руки. Одного взгляда было
довольно, чтобы узнать клеветническое заявление, которое коварный Бэрли
обманом вынудил мою сестру подписать, когда удерживал ее пленницей в
Сент-Винсентском Аббатстве. Посылая его мне, король лишь усугублял
преступную обиду, так как представленных мною доказательств было довольно,
чтобы опровергнуть сотню таких неубедительных фальшивок, но на меня оно
подействовало благотворно, ибо ничто иное не смогло бы так мгновенно
вырвать мой дух из холодного и мрачного оцепенения, которое с каждой
проходящей минутой, казалось, делалось необратимым.
— Бесстыдный варвар! — вскричала я. — Тебе мало заключить в тюрьму
гонимую дочь королевы, имевшей несчастье подарить тебе жизнь! Ты
тешишься тем, что глумишься над ее памятью и оскверняешь прах ее! О, эта бумага,
сочиненная и сохраненная мне на погибель! Каким редкостным случаем
пережила ты те намерения, которым должна была послужить? Ты сохранилась
для гибельной цели, предвидеть которой не мог даже твой презренный автор.
Но что значит это единственное свидетельство, стремящееся опровергнуть
права, в справедливости которых все представленные мною доказательства
не смогли убедить жестокого и вероломного тирана, закрывшего свое сердце
для доводов разума, добродетели и природы? Погрязший в себялюбии,
гордясь своей ловкостью в ничтожном искусстве обмана — презренном в любом
обществе, но позорном в высшем, — он низко подсмотрел благородные
движения моего сердца и из них выстроил для меня гибельную ловушку. Но что
говорить обо мне? Не все ли равно для той, что не желает более жить, где —
судьбой или ее самовольными исполнителями — ей назначено умереть? Лишь
за тебя, дитя мое, за тебя одну моя душа полнится невыразимой мукой.
Несмышленым младенцем ты была спасена от неволи, забвения и безвестности;
был момент, когда, казалось, судьба готова была вернуть все, что должно
принадлежать тебе по праву рождения; и вот — слабая, доверчивая,
несчастная мать становится помощницей жестокого негодяя, решившего заживо
похоронить тебя и уничтожить всякий след, всякую память о наших дорогих и
прославленных предках. Без имени, в бесчестье, твоя цветущая юность
должна увянуть в неведомой тюрьме, оплакиваемая твоей матерью, которая
никогда не сможет простить себе ужасной ошибки, порожденной любовью. Я
знала, что король злобен, низок, хитер, и все же безумно отдала в его
предательские руки все, на чем могли основываться наши надежды, более того — наше
оправдание...
— Выслушайте теперь меня, моя дорогая, моя глубоко почитаемая
матушка! — воскликнула моя милая дочь, орошая мои руки слезами благоговейной
любви. — Увы, природный ход вещей переменился, и я вынуждена сделаться
наставницей. Вспомните правило, которое вы глубоко запечатлели в моей
душе: человеческая злоба напрасно будет пытаться причинить нам несчастье,
если только наши собственные неуправляемые страсти не помогут ее
коварным усилиям. Так будем уважать даже ошибку, если она проистекает из
добродетели. Не доверившись королю, мы бы заслуживали быть отвергнутыми
им. Так предоставим же ему постыдную честь отобрать у вдовы и сироты их
последнее сокровище и посмотрим — что он вынужден был оставить нам.
Разве утратили мы способность смотреть равнодушно на королевский престол и
даваемые им обманчивые блага — даже из безвестной тюрьмы, куда заточил
он нас своею властью? Разве утратили мы право с гордостью обращать взор в
свои сердца, не находя там ничего, что было бы недостойно нашего
Создателя и нас самих? Что до великолепия имени, которого он несправедливо
лишил нас, то стоит ли о нем сожалеть, когда своей жизнью он бесчестит это
имя? По счастью, никакая заветная цель не связана с обретением этого
имени — значит, никакая надежда не загублена утратой его. Разве не вы
повторяли мне, что благородный ум в себе самом находит все для себя необходимое?
Так поднимемся над жизненными невзгодами: время скоро успокоит наши
души, разум примирит нас с трудностями, а религия возвысит над ними. Так
не печальтесь же обо мне, дорогая моя матушка, — заключило мое
сокровище, ласково улыбаясь сквозь слезы. — Для меня никогда не будет тюрьмой то
место, где находитесь вы, и несчастной та судьба, которой обязана я вашей
любви.
О, добродетель, как величаво твое явление, когда тебя возвышает
великодушие! Когда я увидела, как стойко переносит бурю этот полураскрытый
бутон, я устыдилась того, как сама поникла перед ней. Услышав, как моя дочь
со спартанским мужеством применяет к своему положению те благородные
правила, что я старалась — и не напрасно — запечатлеть в ее душе, могла ли я
не извлечь пользу из тех принципов, что сама внушила ей? Из моего
восхищения ею родился тот чистый и возвышенный героизм, что мгновенно
побеждает человеческие слабости, смиряет бурные страсти и, даря нас ясным
пониманием своей судьбы, позволяет бороться с нею.
Тут я припомнила, что, с любовной гордостью украсив наряд дочери всеми
ее драгоценными алмазами, я — сама о том не ведая — собрала огромные
средства для подкупа наших тюремщиков; они же не могли предположить,
какими сокровищами мы располагаем, так как по причине холодной погоды
я закутала дочь в просторный плащ на меху. Я поспешила сорвать с ее
роскошного платья самые дорогие из украшений и спрятать их. Ах, с каким
трудом я удерживалась от слез, как болело мое сердце при воспоминании о
чувствах, с которыми я наряжала и украшала ее!
Едва успели мы принять эту благоразумную меру, как вновь появился
человек, о котором я уже упоминала. Он был молод, недурен собой, имел вид
честный и почтительный, что несколько расположило меня к нему, даже
несмотря на все неблагоприятные обстоятельства, сопутствующие нашей
встрече. Наши лица в эту минуту были спокойны, наши решения приняты.
Пришедший, казалось, был удивлен и этой переменой, и красотой моей дочери,
чей роскошный, хотя и являвший взору некоторый беспорядок, наряд также
привлек отчасти его внимание. Он был польщен нашей вежливостью и
заверил нас, что будет рад предоставить нам все удобства, совместимые со
строгими распоряжениями короля, а сейчас, с нашего позволения, познакомит нас с
нашим новым жилищем. Достав ключи, он отпер двойные двери в дальнем
конце помещения, в котором мы находились, и провел нас в опрятную и
весьма просторную комнату. Хранение ключей, как он сообщил, поручено было
ему одному, поэтому, если склонность или потребность побудит нас перейти в
другой покой, стоит только тронуть указанную им пружинку, как он тотчас
явится и отопрет дверь, разделяющую комнаты. Цель этих
предосторожностей была очевидна: они исключали для нас всякую возможность привлечь на
свою сторону кого-нибудь из женской прислуги, так как все хозяйственные
обязанности должны будут исполняться в одной комнате, пока мы будем
находиться в другой. Не дозволено ему было и снабдить нас бумагой, пером и
чернилами. Так как удобство помещения и почтительность стражи
указывали на некоторое внимание к нашему благополучию, и весьма основательные
предосторожности были приняты, чтобы исключить любую возможность
побега, я поняла, что исходит это не от короля, а от его хитроумного фаворита.
Наши расспросы были прерваны появлением двух слуг, накрывших стол к
изысканному ужину, но ни я, ни дочь к нему не притронулись. Намереваясь,
однако, узнать как можно больше от нашего стража, прежде чем его сменит
другой или подозрения заставят его замолчать, я осведомилась, как зовется
замок и кто им владеет, но он объявил, что на эти вопросы вынужден
отказаться отвечать. По виду его я тем не менее заключила, что была права в
своих предположениях и что он исполняет приказания Сомерсета. Изощренное
коварство, с которым тот предложил сам представить меня королю и даже
оставался рядом со мною в то время, как по его воле должна была
совершиться моя погибель, вполне отвечало отзыву принца Генриха об этом
недостойном фаворите, хотя я и не усматривала в своих поступках ничего, что могло
бы побудить его заживо похоронить нас подобным образом, если только
наша привязанность к несчастному царственному юноше не была сочтена
преступлением.
В галерее, ведущей к нашим покоям, я увидела часового, отделенного от
наших комнат крепко запертыми двойными дверями, и мне ясно представи-
лась полная невозможность любых попыток вырваться на свободу. Я
пожелала тотчас же удалиться в спальню, где, впрочем, не надеялась найти ни покоя,
ни отдыха.
Поднявшись поутру, я прежде всего обследовала окна и вид,
открывающийся из них. Окна были забраны такой частой решеткой, что я убедилась —
как ни удобно наше жилище, это все же тюрьма. Наши комнаты
располагались вдоль одной стороны квадратного двора, который обступали старые
здания, возможно, бывшие некогда казармами, но теперь явно пустующие. По
условленному сигналу явился Дэнлоп (таково было имя нашего стража), и мы
перешли в другую комнату, где был приготовлен завтрак. Там же оказались
сундуки со всяческой одеждой, и Дэнлоп посоветовал нам привыкнуть к
мысли, что остаток жизни мы проведем в заключении. Отказываясь смириться, я
потребовала ответа, чьей властью он это делает. Он предъявил приказ,
подписанный королем и обязывающий его строго охранять нас и не допускать,
чтобы мы писали или получали письма и поддерживали какую бы то ни было
связь с внешним миром. Пока он говорил, я пристально изучала каждую
черту его лица, но на нем была так явственно написана верность долгу, что я не
отважилась на попытку подкупить его, тем более что при неудачной попытке
он сообщил бы об имеющихся у меня средствах и я бы моментально
лишилась их.
Прошло всего лишь несколько утомительно однообразных дней, и мои
надежды угасли, я пала духом. Увы, разум мой не обладал более живой
пылкостью и неистощимым запасом молодости — расцвет его миновал, пыл угас.
Печальная правда жизни рассеяла яркие грезы воображения. Все доступные
человеку блага настолько утратили ценность в моих глазах, что свобода
сделалась самой существенной частью моего небольшого достояния. Я не могла
более полагаться на счастливый случай и сразу поникла под грузом
печальной уверенности. Мне не было отказано в книгах, но я напрасно склонялась
над ними: мысли мои по-прежнему устремлялись к утраченному благу
свободы и чувства, отвергая самого возвышенного автора, ловили звуки
небрежных шагов скучающего часового и песенки, что он насвистывал. Была ли моя
дочь более решительна, чем я, или только делала вид, оберегая меня от
отчаяния, — я не могла сказать с уверенностью, но в речах и манерах она была
неизменно спокойна. С помощью множества ласковых уловок и хитростей она
заставляла меня заниматься каким-нибудь рукоделием, пока она читает
вслух, или читать, пока она работает, не желая замечать моих печальных
раздумий, не видеть которых было невозможно. Я была благодарна судьбе за
эту оставленную мне радость. Открывая поутру глаза и видя ее перед собой, я
все еще могла благословить это утро. Каждую ночь я благодарила Бога за то,
что Его милостью она по-прежнему засыпает подле меня.
Прошло два томительных месяца в смутных и неопределенных планах.
Бессменный Дэнлоп, бдительный и учтивый, не подавал повода к жалобам и
был недоступен соблазну, но я заметила, что теперь, словно ограждая себя от
соблазна, он ни на миг не оставался наедине с нами.
Невозможность составить представление о наших часовых, пока они
отделены от нас двойными дверями, и опасность неудачи при попытке подкупить
кого-нибудь из них время от времени занимали мое внимание, но разум не
может навсегда приковаться к одной мысли или отдаленному, неясному плану.
В моем усталом мозгу внезапно, к великому моему облегчению, зародился
новый план. Хотя весна только еще наступила, погода стояла на редкость
прекрасная, и снисходительность в обращении с нами дала мне некоторую
надежду, что нам будет предоставлена хотя бы ограниченная возможность
совершать прогулки в каком-нибудь садике внутри крепостных стен. Таким
образом я могла бы изучить лица наших часовых и, если в ком-нибудь из них
замечу хоть искру человеческой доброты, найти способ показать ему какую-
нибудь драгоценность и тем дать понять, что готова щедро вознаградить его,
если он отважится оказать нам помощь. Моя хромота не препятствовала
хождению, хотя и лишала меня удовольствия от прогулки. Рассмотрев свой план
со всех сторон и не видя ничего, что мешало бы мне сделать попытку, я
решилась высказать свою просьбу. Прошло несколько тревожных дней, и я узнала,
что разрешение дано и на условиях, о которых можно было только мечтать.
Дэнлоп осведомил меня, что мы должны гулять порознь, чтобы остающаяся
несла ответственность за отсутствующую, которая может находиться в саду
не более часа и при этом ежеминутно должна быть у него на глазах.
Ограничения эти были очень умеренны, и я радостно приготовилась воспользоваться
полученным разрешением до того, как отважусь отправить дочь. Я была
уверена, что смогу, по крайней мере, выяснить, насколько высоки и прочны
стены и где расположен замок. Дэнлоп с двумя стражниками сопровождал меня.
Я кинула быстрый взгляд на часового в галерее, но его лицо не выражало ни
мысли, ни чувства, ни даже любопытства. Старомодная планировка
маленького садика и его запущенность ясно указывали на то, что обветшалое здание,
где мы помещались, служило только тюрьмой, каково бы ни было его
прошлое. Окружавшие его стены были полуразрушены и не очень высоки. Внизу
находился ров, по-видимому, сухой. С одной стороны террасы мне на
мгновение открылся угол башни, напоминающей Виндзорский замок, но я не
решилась произнести ни слова, дабы не вызывать подозрений, и вскоре вернулась
к себе, ни о чем не спрашивая. Вслед за мной на прогулку вышла дочь, и, так
как мы пользовались предоставленным нам послаблением всякий раз, как
нам позволяла погода, это, по моим наблюдениям, благотворно сказывалось
на ее и на моем здоровье.
Наконец случилось так, что я увидела на привычном посту часового, чье
лицо выразило жалость и любопытство. Я устремила на него пристальный и
значительный взгляд. Не изменяя положения руки (в которой всегда носила с
собой алмаз для этой цели), я разжала ладонь, и солдат, как я того и хотела,
увидел драгоценный камень. В ту минуту, когда Дэнлоп отпирал двери, я
быстро обернулась к часовому, и он отрицательно покачал головой. Однако уже
то, что он меня понял, ободрило меня и оживило мои надежды, ибо сам побег
не казался мне более неосуществимым, чем поиск помощника. В продолже-
ние недели я более не видела этого часового, но потом убедилась, что очередь
его дежурства наступает регулярно. Обдумывая множество планов, я
чувствовала, что отсутствие пера и чернил делает их неисполнимыми, как вдруг я
нашла замену этим необходимым предметам. Из середины одной большой
книги, бьюшей в нашем безраздельном пользовании, я вырвала несколько
печатных страниц, а из конца ее — одну чистую, на которую нашила нитками
вырезанные из текста слова, с предельной ясностью передающие то, что я хотела
сказать. «Помоги нам бежать, и мы сделаем тебя богатым человеком» —
такова была суть этого необычного, но важного послания. В подтверждение своей
способности выполнить это обещание я завернула в письмо алмаз немалой
ценности, надеясь, что судьба позволит мне на миг обмануть внимание моих
стражей, но, увы, Дэнлоп не только не ослаблял своей бдительности, а,
напротив, постоянно усиливал ее. Те два человека, что следовали за ним в саду,
теперь сопровождали нас до самой моей двери, оставаясь следить за мной, пока
Дэнлоп отпирал замок. При таких обстоятельствах ни малейшее мое
движение не осталось бы незамеченным, а я опасалась пробудить самое отдаленное
подозрение, чтобы наше содержание не ужесточилось. И все же появился
один добрый знак. Солдат, на котором я остановила свой выбор, явно понял
меня. Я видела, как всякий раз взгляд его устремлялся к моей руке, словно
ему не терпелось перенять ее содержимое в свою руку, и я не теряла
надежды, что когда-нибудь это удастся, как вдруг непредвиденное событие разом
уничтожило все мои надежды и погрузило меня в глубочайшую скорбь.
Я всегда считала минуты до возвращения дочери и, лишь веря, что воздух
и движение необходимы для ее здоровья, была в состоянии переносить ее
отсутствие. Что же сталось со мной, когда однажды я обнаружила, что ее
прогулка необычно затянулась! Я пыталась внушить себе, что своим страхом
лишь накликаю опасность. Но прошло уже вдвое больше обычного времени.
Я не отваживалась задавать вопросы, чтобы не навести своих тюремщиков на
мысль, которая пока еще не приходила им в голову. Проходил час за часом,
но Мария не возвращалась...
О Боже, сейчас, когда моя слабая рука воскрешает прошедшее, силы
покидают меня под гнетом той тоски, что бездонной пропастью разверзлась
передо мной в миг, когда я оказалась так жестоко разлучена с дочерью. Все
горести, которыми изобиловала моя злосчастная судьба, представились мне едва
ли не мирными радостями в сравнении с этой бедой. Хотя буйство каждой
житейской бури уносило прочь бесценные сокровища, все что-то оставалось,
к чему могла я прильнуть измученной душой. А эту единственную
драгоценность, последнее сокровище из всего моего былого богатства, и оттого еще
более дорогое сердцу, еще более бесценное, поглотил губительный,
предательский штиль в тот миг, когда я не подозревала об опасности. Сердце мое
помертвело, я ничего не различала вокруг себя, не в силах была пожаловаться;
стеснившееся в груди дыхание прерывалось. Душа моя застыла в безмолвной
муке, более ужасной, чем самое бурное исступление страсти; казалось,
каждый волос на голове острием вонзается в мой беззащитный мозг; холодные
капли пота сбегали по вискам, в которых слабо отдавались замирающие
удары сердца... Когда передо мною предстал Дэнлоп, я не поднялась с пола, не
произнесла ни звука и лишь обратила к нему взгляд, который тронул бы и
сердце дикаря. Не в силах вынести горестное зрелище, он отвел глаза и
протянул мне королевский приказ, выразив при этом глубокое сожаление о
мучительной обязанности, возложенной на него. Поданный приказ пробудил
мои оцепеневшие чувства: я возмущенно разорвала его в клочья; негодование
вернуло мне дар речи, и я стала жалобно призывать свою Марию — ничто не
в силах было заглушить или умерить мою муку. Я горько упрекала Дэнлопа
за то, что он вырвал невинное и прекрасное создание из материнских
объятий, чтобы отдать в руки убийц. Напрасно он утверждал, что неспособен на
такое злодеяние и действует по приказу короля, напрасно заверял меня, что
она лишь переведена в другие покои, живая и невредимая. Душа моя
отказывалась верить. «Мария, Мария, Мария!» — только это повторяли мои
немеющие губы, твердило мое безутешное сердце.
Боже! Какое одиночество последовало за этим! Пища, свет, воздух, самая
жизнь сделались для меня тошнотворны и непереносимы.
Распростертая на холодных плитах пола, заливаясь слезами, я дала волю
безысходной скорби, погрузилась в бездну отчаяния, вызванного этой
безжалостной разлукой. Как давно в ней сосредоточилась вся моя жизнь! С той
печальной минуты, когда младенцем ее вложили в мои протянутые руки, до той
минуты, когда ее отторгли от меня, ей, ей одной принадлежали все мои
чувства и мысли, она давала мне силы переносить любые невзгоды. Если бы даже
на глазах у восхищенной нации я сама подвела ее к алтарю и вложила ее руку
в руку несравненного Генриха, и тогда мое сердце не перестало бы тосковать
в разлуке с нею. Что же пришлось ему выстрадать, когда жестокосердный
злодей для неведомой цели вырвал ее из моих рук! Ни на одном из ужасных
предположений, которые теснились в моей голове, я не могла отчетливо
остановиться.
О, этот мелодичный голос! Он, казалось, все еще звучал в моих ушах, но
никогда более мне его не услышать. Этот несравненный облик сверкал
передо мной в каждой пролитой слезе, но испарялся вместе с нею. Мрачные тени
сгустились надо мной. Сотни раз нетерпеливо порывалась моя рука
поторопить судьбу... — тень несчастной Роз Сесил удержала меня. Часто мне
слышался ее нездешний голос, и отчаяние медленно сменилось покорностью.
Я всячески старалась привлечь на свою сторону Дэнлопа, но он оставался
верен своим презренным хозяевам, и я ничего не добилась от него, кроме
заверений, что моя дочь все еще в замке и не только не терпит притеснений, но и
окружена почтением и всяческими привилегиями. Но как могла я верить
столь неправдоподобным утверждениям, а если они были справедливы, то
разве не должна была эта странная благосклонность еще сильнее встревожить
материнское сердце? На все мои мольбы хоть раз позволить мне увидеть ее я
получала решительный отказ, и даже на прогулки был теперь наложен запрет.
Я часто спрашивала, отчего мне во всем ставят препоны, если над моей доче-
рью действительно не замышляется ничего дурного. На вопросы такого рода
Дэнлоп никогда не отвечал, оставляя меня на милость моих собственных
неясных предположений, и они были так многообразны и страшны, что
действительность едва ли могла оказаться ужаснее. Однако Дэнлоп неизменно
старался успокоить меня, уверяя, что моей бедной девочке ничто не угрожает, и
делал это с видом столь убедительным и искренним, что я начала приходить к
заключению, что презренный Сомерсет возымел страсть к племяннице своего
господина, но, будучи уже женат на разведенной графине Эссекс, не
отважился заявить открыто о своей страсти. С большим опозданием я припомнила и
его странное присутствие при принце Генрихе, когда мы впервые увидели
этого прекрасного юношу, и подобострастное почтение, выказанное им при
посещении моего дома в Ричмонде, его настойчивые предложения употребить в
мою пользу свое влияние на тирана, чью волю он умел так искусно ставить на
службу своей, изощренное искусство, с которым нас заманили в избранную
для этой цели тюрьму, и, наконец, то, что тюрьмой этой был, по всей
видимости, его собственный дом. Во всем этом, а также в том, как нас стерегли в
заточении, присутствовала такая тщательная предусмотрительность, что это не
могло быть задумано королем, а такой неотступный надзор не мог установить
равнодушный, сторонний человек. Когда, вследствие верного поворота мысли,
мы неожиданно находим объяснение событию, до той минуты
представлявшемуся непостижимым, как жестоко презирает разум былую свою слепоту!
Дивясь тому, как надолго покинула меня проницательность, я теперь поминутно
находила подтверждение возникшей у меня догадке.
Определенность дает измученной душе некоторое облегчение, и хотя
временами меня страшила мысль о том, что моя милая девочка может стать
жертвой коварства и грубой силы, когда вкрадчивая мягкость окажется
бессильна перед ее добродетелью, гораздо чаще я льстила себя надеждой, что
она не может внушить страсть столь недостойную и грубую, и знала, что
никакие соблазны не властны над ее душой. С той минуты, как я вновь
осмелилась надеяться, я вернулась к своим планам побега. Правда, теперь я была
лишена возможности выходить из своих покоев, но в беде мы становимся
изобретательны: я заранее знала те дни, когда за дверью стоял на посту
сострадательный часовой, более того — мне часто казалось, что я слышу, как он
подходит к дверям, привлеченный моими вздохами и стонами. Записка, еще
прежде мною приготовленная, оставалась у меня. Я нашила ее на длинную, тонкую
пластину китового уса и в день его дежурства, в такое время, когда, по моим
расчетам, никого иного поблизости не было, осторожно подсунула ее под обе
двери и тихонько постучала по своей. Сладостная надежда затеплилась в
моем сердце, когда я почувствовала, как записку потянули из моей руки. Весь
томительный день прошел в тщетном ожидании ответа, и я начала
подозревать, что о моих попытках было доложено Дэнлопу, но, не заметив никаких
изменений в выражении его лица, я успокоилась и заключила, что солдат не
умеет писать, а может быть даже и читать, и тогда пройдет не менее недели,
прежде чем я узнаю о его решении. По истечении этого срока предположение
мое оправдалось. Трудно передать мою радость, когда я наконец увидела
записку, доставленную в мою одинокую комнату тем же способом, которым так
удачно воспользовалась я сама. Долго я вглядывалась в неразборчивые
каракули: «Я жалею вас, леди, от всего сердца, но не знаю, как помочь вам. Это
правда — вы богаты, а я очень беден, но к вам никак не попасть. Если вы
можете придумать способ, я готов помочь».
О Боже! С какой благодарностью устремила я взор к Тебе, так странно
вновь открывшему мне связь с миром, от которого я была несправедливо
отторгнута! В такие минуты все представляется возможным: мысленно я уже
видела распахнутые ворота тюрьмы, дочь в моих объятиях, своего честного
помощника, щедро вознагражденного богатством и нашими
благословениями. Благоразумно приготовив заранее вторую записку, я переправила ее тем
же способом: «Достойный солдат, в безопасности ли моя дочь и все ли еще в
замке? Если так, оторви все слова, кроме слова "ДА", и душа моя будет
всегда благословлять тебя». С какой чистой радостью получила я в ответ
драгоценное короткое слово!
Приготовление следующей записки, излагающей весь мой план, было
долгой работой — и с каким тревожным сердцем приступила я к ней! Выразить
суть дела в немногих словах, сделав ее понятной для простого ума, — было
задачей нелегкой. Наконец я осуществила ее следующим образом:
«Великодушный друг, сговорись с тем, кто стоит на карауле у двери моей
дочери, когда ты стоишь у моей, и я поделю между вами драгоценности,
которые имею, из которых ты видел лишь самую малую. Заметь форму ключей у
Дэнлопа и купи много похожих на них, но разной величины, чтобы из них
выбрать подходящие. Также добудь два солдатских плаща, чтобы мы могли
миновать ворота без помех. Если сумеешь раздобыть нужные на это деньги,
потрать их безбоязненно: я сделаю тебя богатым, как только двери наши будут
открыты. Дай мне соединиться с дочерью, проводи нас к воротам — и мы обе
будем молить Всемогущего благословить то богатство, которое с радостью
оставим в твоих руках».
Отправив эту записку, я стала ждать решающего часа в тревожном
нетерпении и едва решалась поднять глаза на Дэнлопа из опасения, что он прочтет
в них нечто такое, что возбудит его подозрения.
Что будет со мной и дочерью, когда мы покинем замок, я пока решить не
могла, но утешала себя надеждой на то, что у нас будет преимущество в
несколько часов перед нашими преследователями и мы успеем добраться до
Лондона, где будет нелегко задержать тех, кто был заточен без суда и
следствия. Однако у меня возникло еще одно, не менее серьезное опасение. Что,
если солдаты окажутся нечестными? Вознаграждение, которое они получат,
покажет им, чем мы располагаем, и наша жизнь окажется в опасности. Но
положение мое было столь отчаянно, что даже это вполне правдоподобное
предположение не заставило меня ни на минуту поколебаться.
Назначенное время приближалось, и я получила еще одну записку:
«Будьте готовы, когда все стихнет. Все приготовлено, если только подойдет хоть
один ключ. Мой товарищ и я должны будем уйти вместе с вами — ради своей
безопасности, но также и ради вашей».
О, как забилось мое сердце при этой счастливой вести! Моя слабость, моя
хромота — все было забыто. Материнская любовь и привычный страх,
казалось, придавали мне сверхъестественные силы.
Когда настала решающая минута, я опустилась на колени и вознесла к
Небесам мольбу о помощи. Ах, она не осталась тщетной, так как первая же
попытка стражников увенчалась успехом. С щедрой готовностью я протянула
каждому его долю награды. Оба приняли ее с чрезвычайным
удовлетворением и, попросив хранить полное молчание, заперли двери и повели меня в
дальнее крыло здания. На пороге покоев моей дочери они подали мне плащи,
о которых я просила, и согласились ждать, пока мы не будем готовы.
Нежный трепет, ведомый лишь матерям, охватил мое сердце, сообщая сладость
ожиданию, когда я бесшумно пробиралась через темную комнату к двери
другой, откуда падал свет, но, опасаясь внезапным появлением испугать дочь,
я помедлила на пороге. Каково же было мое изумление при виде веселой,
роскошно убранной, ярко освещенной комнаты! Поначалу мне подумалось, что
под влиянием тревоги я испытала обман зрения, но тут же я поняла, что
чувства не обманывают меня, когда взгляд мой остановился на дочери, которая в
изящном наряде лежала на кушетке, погруженная в сон. Рядом с кушеткой
находился письменный столик со всеми необходимыми принадлежностями и
на нем лежало письмо, на которое, как видно, она отвечала, прежде чем
уснула. Мертвящий холод и ощущения, не выразимые словами, вызванные у меня
этой странной картиной, заслонили собой самые пылкие чувства, диктуемые
природой. С чувством отчужденности и ужаса я стояла в дверях,
прислонившись головой к косяку, пытаясь одолеть боль и смятение души и, собравшись
с силами, осознать то, что предстало моим глазам. Она была по-прежнему во
власти сна, которого мне самой не суждено было более знать, но я утратила
желание будить ее, бежать, увы, даже жить далее. Наконец, медленно,
неверными шагами я подошла к столу и, схватив сразу оба письма, упомянутых
мною, казалось, прочла в них свою судьбу. Подпись под первым письмом
делала чтение его почти излишним:
«Еще несколько дней, всего несколько дней, прекраснейшая из женщин, и
я смогу исполнить любое Ваше желание, все идет как должно, так не мучьте
же меня, требуя невозможного. Сердце Вашей матери непреклонно
враждебно ко мне, так было всегда, и я не решусь ни довериться ей, ни оставить Вас в
обществе особы, столь предубежденной, до той поры, пока закон не
расторгнет ненавистный мне брак и король не даст согласие на мой союз с Вами. Я
живу лишь этой надеждой, она поддерживает меня в долгой, томительной
разлуке. Почему зовете Вы тюрьмой мирный дом, укрывающий Вас? Весь
мир представляется тюрьмой тому, кто с радостью видит лишь утолок его,
где обитаете Вы. Завтра я сумею отлучиться на час, чтобы провести его с
Вами, — улыбнитесь же этому часу, моя любовь, и осчастливьте приветливостью
преданного Вам Сомерсета».
Каким многочисленным и разнообразным несчастьям подвержено сердце
человеческое? Из всего их многообразия, что я познала до сей поры, ни одно
не могло сравниться с этим несчастьем. Моя оскорбленная душа отшатнулась
даже от той, кому отдана была вся моя любовь. Лицемерие, основа всех
пороков, прокралось в ее сердце под именем любви и погубило добродетель в ее
весеннем цветении. Со страхом обратилась я к ее письму, дабы положить
конец своим сомнениям.
«На какое нескончаемое одиночество, на какие страдания Ваша любовь,
милорд, обрекает меня! Напрасно пытались бы Вы занять в моем сердце то
место, что всегда должно принадлежать родительнице, столь заслуженно
почитаемой и боготворимой. Но Вы повторяете "завтра", все время — "завтра" —
увы! — этот день может уже не наступить... Вы считаете, что я мнительна, но
Вам неизвестно, как странно усиливается моя болезнь, каким острым и
мучительным становится страдание... О, если бы я могла хоть на миг склонить
пылающую голову на грудь матери! Вчера Кэтрин дала мне выпить какого-то
снадобья... не знаю... может быть, я грешу против нее, но с тех пор я словно
не в себе. Сотни мрачных образов осаждают мой ум, воображаемые
колокола наполняют слух мой похоронным звоном, мне представляется, что я
умираю. Вы, возможно, посмеетесь над моей слабостью, но я не могу одолеть ее...
Если мое предчувствие верно, освободите мою мать, молю Вас, и навсегда
скройте от нее...»
— Ах, что же? — вскричала я в нестерпимой муке, ибо на этой
неоконченной фразе обрывалось письмо. Негодующее презрение, страх неизвестности,
скорбь боролись во мне, сотрясая мое тело так, словно мир рушился вокруг.
Из всех страшных впечатлений, осаждающих мой разум, одно,
одно-единственное подтверждало мои чувства. Моя несчастная девочка действительно
умирала: исхудали и ввалились ее щеки, которые еще недавно цвели
румянцем; ледяные пальцы смерти уже коснулись ее висков; в глазах, медленно, с
трудом открывшихся, когда сраженная горем мать рухнула на пол подле нее,
более не было ни жизни, ни красоты, ни блеска... О, если бы душа моя
покинула меня вместе со стоном, исторгнутым этой ужасной уверенностью!.. Она
слабо вскрикнула и застыла в неподвижности. Нежность, однако, скоро
одержала верх над всеми остальными чувствами. Молча я сжала ее в объятиях, и
лишь хлынувшие потоком слезы открыли, что происходило в моей душе.
Мария по-прежнему не произносила ни звука и лишь крепко сжимала мои руки,
словно в последней, предсмертной судороге. Тщетно я просила, умоляла ее
говорить; нескоро она собралась с мужеством и приступила к объяснению,
для которого у нее уже не оставалось ни голоса, ни сил.
— Не осуждайте меня бесповоротно, матушка, — наконец воскликнула моя
милая дочь, — не осуждайте, как бы вас ни гневило то, что видится вам. Я
прошу судьбу лишь продлить мне жизнь настолько, чтобы я смогла
оправдаться перед вами, и до последнего мгновения я буду благодарить Бога,
возвратившего меня в ваши объятия, даже если я краснею, оказавшись в них. Но
мне не в чем винить себя, кроме как в сдержанности, нераздельно слитой с
моей натурой. Увы, еще вчера я считала ее достоинством. Быть может,
Господь даст мне силы рассказать все от начала до конца; по крайней мере, я
должна попытаться сделать это. Постарайтесь же извинить невольную
прерывистость моего рассказа и выслушайте меня терпеливо.
В тот миг, когда мы впервые повстречали принца Генриха, его
сопровождал граф Сомерсет... Как при взгляде на него зародилась привязанность,
которую разум не в силах оказался победить, не знаю, но глаза мои мгновенно
сделали выбор в его пользу. Почувствовал ли граф это невольное
предпочтение, испытал ли равное ему сам — этого я также не знаю, но я поняла, как
неохотно он подчинился необходимости удалиться, оставив нас в обществе
принца. Презрение, с которым вы упомянули лорда Сомерсета, странным
образом поразило и встревожило меня, но (решусь ли признаться в этом?) я
втайне обвинила искреннейшее из сердец в гордости и предубеждении и
нашла сотни поводов мгновенно воспротивиться суждению, которым до той
минуты неизменно руководствовалась. Когда, во время посещения нашего дома
принцем Генрихом, предусмотрительность и осторожность вынуждали вас
отсылать меня на верховые прогулки, увы, какому искушению вы неосознанно
подвергали меня! Сомерсет пользовался этими случаями и, выказывая издали
знаки почтительного внимания, способствовал усилению зародившейся у
меня склонности. Какого стыда, какой печали, какого унижения она мне стоила!
Можно ли представить себе горшее несчастье, чем отдать свое сердце
недостойному, терпеть унижения без вины, ежечасно краснеть за чужие ошибки,
жить в постоянной борьбе с теми властными, естественными чувствами, что
при более счастливых обстоятельствах составляют блаженство юных лет?
Праздное любопытство окружающих показало мне, как опасно может со
временем стать для меня внимание графа, и я испросила вашего позволения
оставаться дома, а потом, невольно проникнувшись вашими чувствами,
отважно решила пожертвовать своим сердечным заблуждением и принять
признание и клятвы принца Генриха. Я видела, как счастливы вы, я дала надежду на
счастье ему, и это на время заняло мой ум и возвысило душу, но в
одиночестве сердце мое вновь обращалось к предмету своей привязанности: Сомерсет
вновь являлся предо мною, и я находила отраду в слезах, застилающих
милый мне облик. Непонятным образом я стала часто находить в своей комнате
письма от него. Я не решалась спрашивать, как они там оказались, боясь
возбудить ваши подозрения. Увы, быть может, это и стало одной из тех паутин,
что сплетает любовь, пытаясь скрыть за ними свои ошибки! Я узнала, что его
неизменно извещают о всех наших планах; я понимала, что в его власти
разрушить их единым словом, и прониклась уважением к нему за то, что он
отваживается хранить молчание. Во время последней поездки короля по стране
Сомерсет, пользуясь отсутствием Генриха и зная о нашем обыкновении
принимать принца в садовом павильоне, а также о моей привычке проводить там
время в одиночестве, решил явиться туда и высказать мне свои признания. В
тот вечер, ожидая, когда взойдет луна, я дольше обычного оставалась в
павильоне. В слабом свете я увидела лишь смутные очертания его фигуры, но в
ту минуту всякий вошедший вызвал бы у меня ужас. Вскрикнув, я едва не
лишилась чувств, и лишь звук его голоса рассеял мой страх. Мое изумление,
быть может, радость и то мгновенное доверие, которое нам неизменно
внушает предмет нашей любви, несомненно придали ему уверенности. Я лишь тогда
осознала, что согласилась выслушать его, когда он пал передо мной на колени
в знак благодарности за это согласие. То, как он заявил о своей страсти,
заставило меня с опозданием понять, что я плохо скрывала собственные чувства.
Не знаю, долго ли я сумела бы скрывать их далее, если бы разговор наш не
был внезапно прерван появлением Генриха. Принц, к моему неописуемому
смятению, вошел в павильон. Мой голос привлек его туда, но, узнав голос
Сомерсета, он отступил в презрительном молчании. Граф хотел было
последовать за ним, но я схватила его за руку и удержала, а потом, упросив
поспешить к ожидающей его лодке, сама устремилась вслед за принцем. Генрих
сидел на скамье у террасы, но я, понимая, как необходимо в эту минуту
разделить их с графом, попросила принца проводить меня к дому. При свете луны
я разглядела потерянное выражение его лица, говорившее о глубоком
отчаянии. Он не произнес ни слова, и я не осмеливалась прервать его намеренное
молчание, однако расстаться, оставив его со столь двусмысленным
впечатлением, было невозможно, и я наконец сделала слабую попытку объясниться.
— Если бы вы могли опровергнуть свидетельства моих чувств, сударыня, —
вздохнув, тихо и с нежностью промолвил принц, — я, возможно, пожелал бы
выслушать вас, теперь же — пощадите меня, умоляю, не будем говорить о
столь ненавистном для меня предмете. Мне не в чем упрекнуть вас, разве что
в сдержанности, которая позволяла мне обманываться... Прощайте. Я
обещаю вам хранить молчание... Тот, кто некогда надеялся сделать вас
счастливой, почтет за низость разрушить ваше счастье. И лишь в одном, вероятно, я
должен предостеречь вас: ваш счастливый избранник женат. Не подумайте,
что я желаю извлечь для себя выгоду из этого известия: никогда более не
прошепчу я признания, склонившись к вашим ногам. О Мария, вы сразили меня!
В порыве любви и страдания он сжал мои руки, а потом кинулся прочь
через сад, скрывая рыдания, которые продолжали звучать в моих ушах,
пронзая мне сердце. Какую ночь провела я! Она была предвестницей столь многих
мучительных ночей! На следующий день я не вышла, когда принц в обычный
час посетил наш дом. Во все последующие встречи я не могла смотреть на
него без боли, унижения и мучительной скованности, хотя он не жалел усилий,
чтобы облегчить для меня свое присутствие. Во время его роковой болезни
как неумолимо сердце упрекало меня в том, что я если не вызвала, то
отягчила эту болезнь! Как жестоко моя несправедливость к его достоинствам была
наказана унизительным сознанием того, что Сомерсет осмелился обмануть
меня! Какие горячие мольбы возносила я за выздоровление Генриха! Какие
давала клятвы искупить свою ошибку всей жизнью, посвященной ему! Увы, я
была недостойна столь благородного возлюбленного, и Небеса призвали его
незапятнанную душу прежде, чем она утратила свою чистоту. Мысли о
безнадежной и недостойной страсти смешивались во мне со скорбью утраты. За ни-
ми последовали упадок сил и отвращение. Высокий сан, принадлежность к
королевскому дому, почести — все мыслимые земные блага не могли бы
рассеять моих мрачных размышлений или хотя бы на миг примирить меня с
обществом. Для меня не было радости в тех надеждах, которые вы, моя милая,
моя великодушная матушка, лелеяли для меня, но я не желала проявить
неблагодарность и потому таила от вас свои помыслы. При таком направлении
чувств и мыслей, велика ли была моя заслуга в философском расположении
духа, давшем мне возможность утешить вас в нашем злоключении, которое
сама я едва почувствовала? О, если бы мои ошибки, мои несчастья здесь и
окончились! Если бы я испустила последний вздох на груди вашей, пока вы
еще не ведали, какую рану наношу я вашему сердцу! Когда тщетная надежда
вырваться на свободу побудила вас просить о кратких прогулках, ссылаясь на
потребность в свежем воздухе и движении, как могли вы предвидеть роковые
последствия этого скупо отмеренного снисхождения? На первой же такой
одинокой прогулке передо мною предстал Сомерсет — не самоуверенный,
честолюбивый фаворит, а бледный, смиренный влюбленный, жестоко винящий
себя. Противясь сердечному побуждению, я надменно отвела от него взгляд,
но он не отпускал край моего платья, он просил, он молил его выслушать, не
желая смириться с моим отказом. Я чувствую, что мне недостанет времени
объяснить, каким образом он сумел, помимо моей воли, добиться у меня
прощения. Довольно будет сказать, что ему в малейших подробностях было
известно все, что происходило в нашем доме, что он вступил в брак, лишь когда
уверился, что я помолвлена с принцем Генрихом. Но, о, с какой ужасной
женщиной он соединил свою судьбу! Лучше вам никогда не знать о тех
преступлениях, в которых она, по всей вероятности, виновна! Посредничеству
Сомерсета обязаны мы тем, что еще длится наша жизнь, обреченная на гибель
гордыней и яростью короля в ту самую минуту, как он прочел бумаги, которые
потом уничтожил со злобной радостью. Все еще стремясь снискать мое
прощение, граф признался, что убедил Иакова заточить нас в его замке как ради
нашей безопасности, так и для того, чтобы предоставить нам удобства и
достойные условия жизни, в которых нам бы отказал наш родственник-монарх.
Я не могла остаться нечувствительна к таким услугам, и, видя, что гнев
мой начинает угасать, он постарался пробудить во мне жалость, описывая
мучительную семейную жизнь, ставшую следствием несчастного брака. Слезы
душевной боли, вызванные у меня этим рассказом, побудили его продолжить
свои объяснения. Его надежды на развод казались вполне обоснованными, и к
этой теме я не могла остаться безучастной. Я, однако, не имела возможности
убедить его, что вы когда-либо сможете думать согласно со мной, и проявила
слабость, обещав ему хранить тайну, хотя мне и следовало знать, как это
опасно. Но предубеждение, заставлявшее вас возлагать на него вину даже за
наше заточение, казалось столь упорным и непоколебимым, что, хотя сотни
раз природная правдивость побуждала меня открыть вам то единственное,
что я когда-либо таила от вас, мысль о вашем отвращении к Сомерсету
останавливала меня, и страх хоть единым словом причинить вам боль заставлял
меня молчать. Промедления и отсрочки Сомерсета, при всей их
необходимости, тревожили и угнетали меня. Я стала печальна и холодна, а так как
деликатность не позволяла мне посвящать его в истинную причину этой
перемены, он вскоре нашел ей ложное объяснение. Взаимное раздражение и ссоры
лишали теперь наши встречи всякой радости. Он часто упрекал меня за то,
что я якобы открылась вам, ибо только вы могли так обратить мое сердце
против него. Однажды в порыве презрительной досады я заверила его, что
непременно так и поступлю, как только вернусь к вам. Он в гневе удалился.
Увы, сердце мое охватил ничуть не меньший гнев, когда оказалось, что мне
не дозволено возвратиться в вашу тюрьму. Я отказалась допустить его в мою
и предалась бурному выражению всех чувств, какие могло вызвать столь
непредвиденное насилие. Его ответ убедил меня в том, что шаг этот был
обдуман уже давно. Он заявил, что скорее умрет, чем вернет меня матери, всегда
ненавидевшей и презиравшей его без малейшего основания; что возвратиться
я смогу лишь тогда, когда его права превысят родительские и он сможет
назвать меня своею женой. Мысль о страданиях, испытываемых вами, терзала
меня столь жестоко, что я была вынуждена прибегнуть к мольбам и
торжественным обещаниям сохранить все в тайне. Он отвечал, что теперь уже
слишком поздно, что мне было бы совершенно невозможно утаить от вас причину
своего отсутствия и что это, справедливо усилив отвращение и ненависть,
которые вы прежде питали к нему беспричинно, побудило бы вас любой ценой
помешать союзу, для вас неприемлемому. К этому он присовокупил все, что,
по его мнению, могло смягчить мой ожесточившийся дух, и торжественно
заверил меня, что вы успокоены уверенностью в том, что нас разлучили
вследствие нового приказа королевского двора. И хотя в таком поведении я и
усматривала увертки и мелкие хитрости, претившие моей натуре, я была рада
поверить, что он облегчает то тяжкое горе, которое не могла не причинять вам
наша разлука. Слишком поздно поняла я ошибочность сделки с совестью и
получила веские основания думать, что от этого маленького корня могли
прорасти побеги всяческого зла. Устав от тщетного противоборства с человеком,
который был властен над моей жизнью не менее, чем над моей судьбой, я
вынуждена была простить его. Развод близился, а неисчислимые беззакония
этого демона в человеческом образе, его жены, были таковы, что не могли не
потрясти и не склонить к сочувствию сердце, склонное любить его. Сотни
мыслей, планов и замыслов ежедневно передавал он мне, и часто они становились
между мной и матерью, которую я боготворила. С каждым проходящим
часом для меня все невозможнее становилось появиться перед вами иначе, чем
его женой, и я с таким же нетерпением, как он, ждала дня, который, волею
Небес, никогда уж для меня не наступит. Та, что преследовала свою цель с
большим, чем я, успехом, жестоко наказала меня за все ошибки моей юности.
О, пусть же мою безвременную смерть Создатель примет как искупление!
Как скажу вам об этом?.. Но все же я должна сказать... Мне часто казалось,
что в пищу мою добавляют яд, а вчера... О, матушка! Где ваша душевная
стойкость, где высокое смирение, так хорошо известное мне? Забудьте тщет-
ные надежды, которые питали вы ради меня, забудьте, что я ваша дочь... О,
думайте, что заблудшему и несчастному созданию, для которого наступает
ужасный миг, суждено было омрачить ваши оставшиеся дни, и восхвалите,
даже в эту мучительную минуту, милосердие Всемогущего. И если грех мой
не превысил меру прощения, милостиво даруйте его мне, пока еще я в силах
испытать счастье вашего прощения.
Она упала в мои объятия. Черты ее лица заострились и исказились,
тронутые рукою смерти... Увы, что сталось со мной в эту минуту! Душа моя
корчилась в судорогах не менее ужасных, чем те, что сотрясали ее тело: всякое
чувство, рожденное любовью, дружбой, родством, кажется безмятежно
спокойным рядом с безумной, неодолимой мукой несчастной матери, теряющей свое
дитя. Как ни рвались из груди моей яростные проклятия лживому и
коварному предателю, который украл у меня ее привязанность и ложью развратил ее
чистую душу, чувствуя, что этим я лишь напрасно сделаю еще тяжелее и
горше ее последние мгновения, всю муку этой минуты я заключила в стоны и
вздохи. Я нежно прижала ее к груди и в слезах, которыми омыла ее бледное,
искаженное страданиями лицо, излила прощение разбитого горем
материнского сердца.
Одно только могло добавить ужаса этой сцене, и оно не замедлило
случиться. Часовые, устав ждать, встревоженные донесшимися до них стонами,
вбежали в комнату. Видя, как дочь умирает у меня на руках, они испугались, но
страх перед опасностью, угрожающей им самим, вскоре пересилил все
остальное. Они торопили, они умоляли меня оставить мою Марию, уже не
подававшую признаков жизни, но торопили и молили они тщетно. На ней, которую
так скоро предстояло мне возвратить ее Творцу, сосредоточились все силы
моей души. Моя милая девочка на миг пришла в себя, но при виде солдат,
охваченная неописуемым страхом, вновь забилась в конвульсиях, все теснее
прижимая меня к себе. Боже, как ужасен был ледяной холод, наступивший вслед
за этим. Когда я почувствовала, как разжались ее руки, мир исчез из глаз
моих, устремленных на прекрасное лицо той, что искала смерти на моей груди,
где некогда обрела жизнь. Охваченная неистовством дикаря, пронзительно
крича, я прижала ее к себе с нечеловеческой силой. Испуганные и
разъяренные солдаты, исчерпав все способы убеждения, попытались яростным усилием
оторвать меня от последнего, самого дорогого, единственного предмета моей
любви. Угрозы, мольбы, сила, хитрость были одинаково бесплодны — ничто не
могло убедить, ничто не могло заставить меня оторваться от нее. Наконец они
направили мне в грудь клинки и в изумлении увидели, что я не пытаюсь
отвести удар. Они, возможно, и закололи бы меня, но в эту минуту несколько
женщин, прислуживавших моей дочери, вбежали в комнату. Страх за
собственную безопасность вынудил солдат отказаться от дальнейших попыток
торопить и приневоливать меня. Они схватили служанок, чтобы ни одна из них не
смогла убежать, связали их и сами спаслись бегством. Ужасное спокойствие
сменило мое неистовое отчаяние; кровь, только что стремительными, жгучими
ручьями растекавшаяся по жилам, возвращалась бурным потоком к сердцу,
затопляя его. Черный туман поднимался к голове, заволакивая мысли. Мой
неподвижный, горестный взгляд не отрывался от бледного, бесконечно дорогого
лица, чей цветущий румянец еще недавно давал мне силы жить, и наконец я
перестала сознавать, что страдаю и существую.
* * *
Слишком редко приходя в себя, чтобы различать неясные фигуры,
снующие у моей постели, слишком безучастная ко всему, чтобы задавать вопросы,
я не отводила полога и не интересовалась, кто находится за ним. Лишь
неясные и приглушенные восклицания дали мне почувствовать опасность того
губительного огня, что полыхал в моих жилах... опасность, сказала я?.. Мне
следовало бы сказать — облегчение. В короткие промежутки между приступами
бреда я охотно погружалась в молчание под гнетом мрака и умственного
бессилия, оставляемого им. Внезапно я начала задыхаться, удары сердца стали
тихими и неверными, и мне показалось, что наступил миг, когда кончаются
все страдания и невзгоды. Моя усталая душа остановилась на пороге своей
тюрьмы, и я почувствовала, что одного слова довольно, чтобы освободить ее,
но у меня не было ни сил, ни желания произнести это слово, и, хотя я
заметила, что все занавеси вокруг постели были раздвинуты, чтобы открыть доступ
воздуху, я не поднимала дрожащих век, чтобы рассмотреть тех двух людей,
что тревожно склонились надо мной по обеим сторонам постели, держа меня
за руки, словно в ожидании последнего биения слабого пульса.
В эти мгновения затихающей борьбы и колебаний уходящей жизни
внезапно моего угасающего слуха коснулся голос столь мягкий, спокойный и
благостный, что жизнь еще помедлила, внимая ему. Я различила слова: «О
Господи Всемилостивый, с Кем обитают души праведных, обретшие совершенство,
когда покинули земную тюрьму свою, смиренно передаем душу этой рабы
Твоей, дорогой сестры нашей в руки Твои, в руки Создателя и милостивого
Спасителя нашего». Едва заметное усилие, которым я попыталась освободить
руки и воздеть их к небу, прервало молитву. Чувство, которому я не могла
противиться, заставило меня поднять затуманенный взгляд, и я узрела если
не ангела, то человека, подобного ангелу. У столика рядом с моей постелью
стоял коленопреклоненный священник, чьим почтенным сединам время
сообщило снежную белизну, но не затуманило прекрасных глаз, казалось,
отражавших божественность Того, кому он служит. Заботы и жизненный опыт
наложили отпечаток на безупречные черты его лица, в котором матовая
бледность и чистота добродетели в союзе с печалью и смирением сменила собою
цветущие краски юности, надежд и здоровья. Тихая, сладостная, хотя и
печальная радость разлилась во мне, говоря о том, что я достигла конца своего
земного существования. Женщина в достойном черном одеянии помогла
моему немощному почтенному утешителю подняться, подвела его к моей постели
и удалилась. Он обратился ко мне с необычайной добротой и мягкостью,
прося меня, поскольку милосердием Всемогущего ко мне вернулся рассудок, упо-
требить эту милость во благо и приготовить свою душу к тому, чтобы
предстать перед Ним. Благодарность побудила меня поднять руку, чтобы
прикоснуться к его дрожащей руке, сострадательно протянутой мне, но даже это
слабое движение напомнило мне о многочисленных отеках на моих руках
такой резкой болью, что я едва не лишилась чувств. Женщина в черном подала
мне обычный в таких случаях укрепляющий целебный настой и снова вышла.
Почтенный незнакомец вновь обратился ко мне, восхваляя Всемогущего за
возвращенное мне сознание. О, оно возвратилось, ибо воспоминание о том
ужасном событии, что сделало благом утрату рассудка и памяти, вернулось
вместе с ним, вызвав у меня отвращение к заботам, которым я могла быть
обязана лишь ненавистной руке, нанесшей мне сокрушительный удар.
— Вы, что пытаетесь дать утешение несчастной, — слабым голосом
промолвила я, — скажите сначала, чьей заботе обязана я этим утешением?
Мгновение он молчал, потом возвел наполненный добротой взгляд к небу
и, вняв совету своего Творца, ответил мне с твердостию, что имя его Де Вир и
что он домашний капеллан графа Сомерсета. Услышав ненавистный мне
титул, я закрыла глаза, словно тем могла изгнать воспоминание, и сделала ему
знак оставить меня.
— Опрометчивая, несчастная женщина, — отвечал он сурово, но с
нежностью, — религиозный долг не позволяет мне повиноваться вам. Пожелаете ли
вы унести в лучший мир гордость, страсти и предубеждения, которые
наполнили горечью, а может быть, и сократили ваши дни в этом мире? Дерзнете ли
вы предстать перед чистым источником добра, перед вашим великим и
славным Создателем с душой, еще не очищенной от добровольных заблуждений,
от человеческого несовершенства? Разве скоро не наступит конец вашим
страданиям? Отчего не хотите вы положить конец ненависти? Религия учит
забыть чужую вину и помнить лишь свою. Преклоните слух к правде — и я
открою ее вам, проявите терпение — и я пролью бальзам на глубокие раны
человеческих бед, уймите страсти — и я возвышу их, даже среди мучений
уходящей жизни, надеждами, которые исполнятся, ибо их опора — в бессмертии.
Казалось, сам Творец всего сущего говорит устами своего служителя.
— Вы не обращаетесь к неблагодарной, — слабо возразила я. — Я шла по
жизни в согласии с Господом, так же надеюсь я умереть, но вспоминать о
негодяе, который вверг меня в непосильную скорбь и тем привел к краю
могилы, вспоминать о нем с милосердием и спокойствием — выше моих
возможностей. Если вам ведомо нечто такое, что может смирить мое негодование,
будьте великодушны и откройте мне это; если нет — представьте моим мыслям
только те образы, что могут изгнать из них образ злодея, чьи преступления
вы не в силах передо мною оправдать, и не усугубляйте страдания, которых
даже вы не сможете облегчить.
— Это и есть мое единственное желание, сударыня, — ответил он. — Я не
стал бы испытывать глубины ваших ран, даже для того, чтобы исцелить их.
Если опыт страдания должен предшествовать чувству, поверьте, мой опыт
дает мне возможность сочувствовать вам. И все же я обязан примирить свой че-
ловеческий долг с долгом священника и, утешая несчастную, оправдать
невиновного, хотя все богатство мира не соблазнило бы меня укрывать вину.
Достанет ли у вас мужества выслушать письмо, данное мне в надежде на
нынешнюю возможность?
Я сдержала себя и дала ему знак читать.
«Какими словами, несчастнейшая и обездоленнейшая из женщин, может
жалкий безумец, разрушивший, сам того не сознавая, Ваш мир и покой, как и
свой собственный, смягчить гнев, который сама мысль писать Вам должна
вызвать? Увы, поверженный во прах горем, ужасом, отчаянием, всеми
мучительными чувствами (лишь вину я исключаю), он наказан страшнее, чем даже
злоба могла бы того пожелать.
Переполнив меру моих страданий, до меня дошло известие, что удар,
сгубивший самую дорогую надежду души моей, сокрушил Вашу жизнь, что даже
в беспамятстве и бреду Вы проклинаете меня и готовы унести в могилу
непримиримую ненависть. Если возвратившееся сознание даст Вам возможность
прочесть или выслушать эти искренние строки, продиктованные разбитым
сердцем, явите ему, сударыня, молю вас, позднюю милость оправдания. Во
имя незапятнанной души дорогого утраченного ангела, которого Вы
лишились из-за моей роковой любви, выслушайте, пожалейте и, если можете,
простите меня... Можете ли Вы хоть на миг поверить, что я посягнул на жизнь,
драгоценную для меня не менее, чем для Вас?
Порочная женщина, с которой судьба, в наказание за все мои грехи,
соединила меня, непостижимым образом проникла в те замыслы, которые я
полагал ни для кого не доступными, и, предвидя в осуществлении их свой позор и
гибель, прибегла к чудовищному средству, чтобы спасти себя от них. Уже
знакомая с ядом и смертью, среди служанок моей дорогой утраченной
возлюбленной она нашла корыстную душу, и та помогла ей удалить моего ангела
из этого мира. Нет нужды говорить, какую ненависть, какое презрение и
отвращение вызывает у меня это чудовище. Я отдаю ее на Ваш суд и не желаю
скрываться от него сам, если Вы по-прежнему считаете меня виновным.
Последние слова умирающего святого не могут быть пламеннее и
искреннее тех, что я произношу сейчас. О, постарайтесь же вернуться к жизни,
сударыня, не отягчайте моей измученной души сознанием, что я сократил дни
Ваши, не оставляйте меня жить под бременем Вашего проклятия!»
Увы, к чему были эти поздние уверения? Когда ядро пробивает грудь, не
все ли равно, откуда оно летит?
Я не могла, однако, отказать в доверии этому письму и, виня себя за то,
что не была, возможно, справедлива к писавшему, искупила свою
несправедливость, простив его.
Человеческую природу, которая всегда враждебна разрушению, нетрудно
возвратить к состоянию медлительного страдания, но измученная душа не
способна восстанавливать свои силы.
Деятельные устремления, некогда поддерживавшие меня, исчезли навсегда.
Достойный священнослужитель, о котором я упоминала, продолжал свое
попечение надо мною и благочестивыми утешениями старался
противодействовать апатии, в которую я все глубже погружалась. Но кто может исцелить
сердце, сокрушенное столь многими печалями? То, что оно поистине было
сокрушено, служило мне единственным утешением. Я обводила мир
затуманенным взглядом, не находя в нем ничего, на чем взгляд пожелал бы
остановиться, и Де Вир направил мой взгляд к Небесам: он убеждал меня помнить, что
мое сокровище лишь временно разлучено со мною, а не отторгнуто от меня
навсегда, что каждый проходящий день приближает меня к обретению его.
Для гнусной женщины, которая, к погибели своей души, загубила
единственную отраду моей, я не решилась изобрести наказание — я не посмела
довериться себе в столь опасном желании. Нет, я предоставила ее воле Бога, закон
которого она преступила, и Он даже в этом мире устрашающе покарал ее.
Благочестивый Де Вир, сохранив и возвратив мне мои драгоценности, явил
безупречную честность своей натуры, и я выразила ему свою признательность
способом, который должен был тронуть его сердце и упрочить его состояние.
Я решила удалиться во Францию, где могла бы, по крайней мере, умереть
спокойно, и умоляла его отправиться вместе со мной. Не желая немедленно
покидать своего покровителя, дабы не выказать неблагодарность, он утешил
меня надеждой вскоре приехать и разделить мое добровольное изгнание.
Насколько человек, завладевший непорочным сердцем моего отлетевшего
ангела, был не достоин этого сердца, я вскоре вновь с очевидностью
убедилась. Оттого, что я решила сопротивляться отчаянию, оттого, что
прислушалась к велениям добродетели и религии и согласилась дожить до конца срока,
отпущенного мне Всемогущим, его ограниченный ум поверил, что душа моя
доступна мирским утешениям: он дерзнул предложить мне от имени короля
запоздалое признание, отличия, состояние. Небо! Как могли они
предположить, что я пожелаю быть обязанной чем бы то ни было любому из них,
равно презираемых мною? Самая мысль об этом едва не лишила меня остатка
сил, едва не разрушила то спокойствие, что с помощью религии я обрела в
своем горе. Это, однако, убедило меня, что я смогу беспрепятственно
покинуть свою тюрьму, где оставила, увы, все, что было мне дорого. Я вновь
отправилась в бескрайний мир, никому не ведомая, никем не любимая, сама
избрав для себя этот жребий!
Когда во Франции я сошла на берег, лихорадка моя возобновилась с
самыми опасными симптомами. Ах, могу ли не упомянуть здесь еще об одном
ангеле, которого Небеса послали на помощь мне? Приезд французского посла,
направлявшегося в Англию, хотя поначалу показался утомительным
неудобством в тесноте маленькой гостиницы, тем не менее продлил мне жизнь. Его
милой, прелестной дочери поведали о моей судьбе, и она, повинуясь
высокому побуждению человеколюбия, пришла к постели больной, где увидела
одинокую несчастную женщину, казалось, готовую испустить последний вздох
среди молчаливых страданий. Она призвала лекаря своего благородного
отца, и его искусство облегчило муки той, кого нельзя было спасти. Она
решилась даже задержаться после отъезда посла и, как это свойственно лишь воз-
вышенным натурам, полюбила несчастную, которой оказала помощь.
Добродетель, столь безупречная, почти примирила меня с миром, который я скоро
покину. Милая Аделаида, когда Вы увидите себя в этом слабом портрете,
вздохните об убывающих силах, которых недостало, чтобы сделать его с
большим мастерством.
О том, что дни мои продлились, пока не было закончено это
повествование, я не жалею, и этой покорностью судьбе плачу дань благодарности за
Вашу дружбу. Теперь мне осталось лишь умереть.
И все же, увы, с сожалением я представляю Вашему юному взору столь
безрадостную карту моих жизненных странствий. Не допускайте, чтобы она
омрачила ваши надежды, пусть, скорее, притупит она чувствительность к
невзгодам: не говорила ли я вам, что безграничное несчастье таит в себе
нравственный урок и учит того, кто сетует на малые невзгоды, быть справедливее к
своему Создателю и к себе самому? Славны, хотя и неисповедимы, все пути
Господни, и, как ни коротко отпущенное мне время, Он позволил мне быть
свидетельницей Его справедливого возмездия. Всеобщее осуждение, позор и
одиночество достались в удел Сомерсету и его гнусной графине. Подобное же
преступление, совершенное в прошлом и долго скрытое от людских глаз,
вышло на свет. Их вина была доказана, а священный прах моей Марии остался
непотревоженным. Столь чудовищное обстоятельство разорвало узы,
связывавшие Де Вира с графом, и я со дня на день ожидаю его приезда. Остаток
сил я употребляю на то, чтобы дождаться его и умереть в его присутствии,
зная, что его высокая душа подготовит мой слабый дух к вечности и он
предаст достойному погребению мое бренное тело, которое я скоро покину.
Мой прелестный, дорогой друг, Вы сейчас в Англии. Быть может, Ваши
легкие ноги уже ступают там, где увядало мое счастье. Ах, если душевная
чувствительность побудит Вас взглянуть на эти места с более глубоким
интересом и вниманием, удержитесь от всех тягостных чувств, помня, что я уже
недосягаема для страдания. Но когда Ваш благородный отец пожелает,
чтобы вы возвратились в тот дом, который Вам суждено украшать своим
присутствием, снизойдите к малой человеческой слабости и остановитесь ненадолго
там, где мы с Вами встретились: благочестивый Де Вир будет ожидать
Вашего приезда. Примите из его рук завещанную мною шкатулку и позвольте ему
проводить Вас к безымянной могиле, где будет похоронен мой прах. Уроните
несколько чистых слез, которыми добродетель освящает несчастье, потом
вместе с Вашим почтенным спутником поднимите взгляд ввысь и в лучшем
мире постарайтесь отыскать
Матильду.
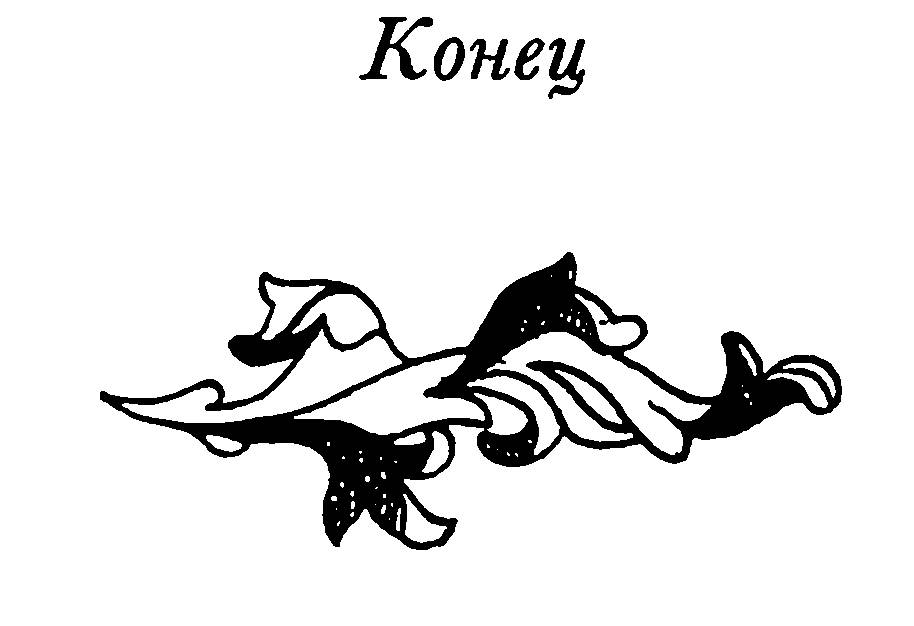
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления