Онлайн чтение книги
Ветер с юга
Эльмар Грин. Ветер с юга

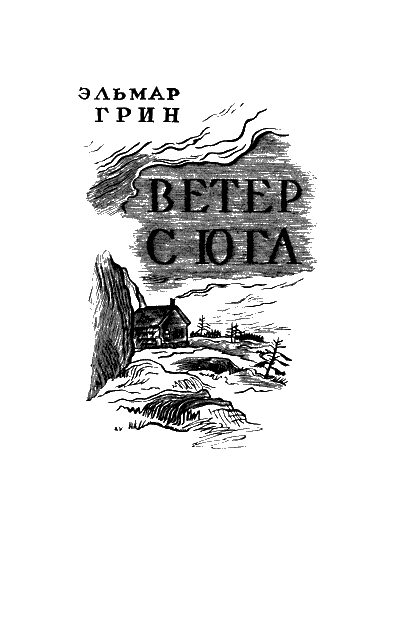

1
Время идет вперед и делает свое дело. Ничего как будто не случилось такого, чтобы плясать от радости, но все-таки не так уж плохо стало жить на земле.
Ночью опять был туман, а утром подул теплый южный ветер и разогнал его. И сразу стало видно, сколько новых, черных от сырости камней выступило из-под снега на покатых полях по обе стороны лощины и каким широким стал ручей, который тоже совсем недавно пробился сквозь толстый снег наружу и теперь рассекал вдоль всю длинную лощину из конца в конец.
Он тоже казался черным издали и уходил, изгибаясь то вправо, то влево среди снега, куда-то в промежуток между отдаленными каменистыми холмами, на которых росли хвойные леса. И эти леса тоже выглядели черными от осевшей на них сырости.
Мой бугор тоже почернел и оголился. Нога уже не скользит больше на его крутом склоне, когда я спускаюсь по нему утром, идя на работу, или поднимаюсь поздно вечером к себе домой. Подошва сапога уверенно чувствует себя на шершавой поверхности камня.
Мой маленький красный домик стоит на верхней части этого каменистого склона и смотрит одним своим белым окном на север, куда обращен склон, а другим на восток, где тянется лощина с ручьем.
Мне говорили, что я не совсем хорошо выбрал место и что нужно было поселиться на участке с уклоном на юг. Я и сам это знаю не хуже других. Я бы сам охотно установил свой дом на южном склоне и повернул его окнами на юг, но у этого бугра нет южного склона.
Вместо южного склона сразу же позади моего огорода торчит кверху отвесная скалистая стена. Она выше дома и заслоняет собой с юга свет и солнце. С ее верхнего края свешиваются корни деревьев и пласты бурой травы. Эти корни и трава сейчас тоже полны влаги. И влагой же сочится сверху донизу вся гранитная стена, изрезанная трещинами.
Надо быть дураком, чтобы повернуть здесь домик окнами на юг. Что из них тогда увидишь? Вот эту сырую каменистую стену и уткнувшиеся в нее четыре короткие грядки?
Конечно, я понимаю, что детям нужно больше солнца. Но почему иногда не потерпеть немного? Херра[1]Господин. Куркимяки не мог мне сразу дать другого места. Он охотно выделил бы мне какой-нибудь солнечный склон, но у него самого их было не так уж много. Он прямо так и сказал мне тогда:
— Я не могу раздавать направо и налево землю, которую получил от отца и деда.
И я поспешил ответить:
— Да. Это верно. Это верно.
Но я проработал у него к тому времени двадцать пять лет. Это что-нибудь да значило. И он тоже это понимал. Поэтому он задумался после этих слов.
Он думал, а я смотрел на его морщины и ждал. Но трудно узнать мысли человека по морщинам, которые глубоко врезались в его лицо, словно трещины. Я пробовал угадать что-нибудь по его глазам, но не видел их, оттого что над ними тяжелыми, косыми складками нависали веки, похожие на маленькие живые занавески. Трудно угадать какие-нибудь мысли на таком лице, застывшем в трещинах. Поэтому я стоял и ждал, что он скажет. И он сказал, наконец, ворчливым голосом:
— Тебе надо где-нибудь поближе, чтобы ты на работу успевал.
И я ответил:
— Да…
Сердце у меня заколотилось от радости, когда я понял, что он не собирается совсем отказать мне. И я заодно уж набрался смелости и сказал:
— Но если бы вы были так добры и отвели мне, как я уже просил, кусок болота или леса, чтобы я потом с половины урожая…
Но он перебил меня сердито:
— Об этом рано еще говорить. Рано.
И пошел от меня прочь, все еще хмурясь и доставая из кармана портсигар. А я пошел за ним. И больше не стал ему ничего говорить, чтобы не рассердить его совсем. Но мне казалось, что он все-таки что-то решает.
И верно. Он шел так минут пять, дразня мои ноздри дымом хорошей сигаретки, а потом ткнул ею в сторону этого бугра и сказал:
— Вот. Хватит тебе здесь дом поставить. И близко будет от работы, и земля там есть под огород.
И с той поры я хозяин этого каменного бугра, прилегающего к высокой скале, с небольшой березкой и кустарником на вершине.
Когда-то, должно быть в очень древние времена, от этой скалы откололась большая каменная глыба величиной с мой дом. Она откололась и скатилась вниз по северному склону бугра и легла у его подножия. И вот этот короткий промежуток от каменной стены до того места, куда докатился отколовшийся от нее обломок, весь этот каменный горб стал моим.
Я арендовал его у господина Куркимяки, и он брал с меня за это плату, как за настоящую землю. Но я ни разу не упрекнул его в этом. Нельзя было его сердить.
Бывает, что некоторые сердятся и ругаются и требуют что-нибудь. Но что они получают? Они получают расчет. А я работал у него слишком долго, чтобы получить расчет. И притом ведь он не отказал мне. Он только сказал: «Рано». Значит, наступит время, когда я получу кусок леса или болота. Совсем небольшой кусок. Мне много не нужно. Господи, небольшой кусок леса или болота, на котором у меня через год зацветут пшеница, рожь, картошка и горох. Я знал силу своих рук и не боялся ни больших корнистых деревьев, ни болотной топи. Мне бы только получить хоть маленький кусок, чтобы я мог сказать: «Вот это моя земля, мое хозяйство».
Но нельзя было сердить господина Куркимяки частым повторением одной и той же просьбы. Он не любил, когда его сердили. А я проработал у него двадцать пять лет, и было бы обидно получить расчет в такое время. Поэтому я ничего не говорил ему больше и только старался приспособить свой бугор как можно лучше для жизни.
2
Каменная глыба, скатившаяся вниз многие тысячи лет назад, загородила путь ручью, который делал небольшую петлю в сторону моего бугра, прежде чем устремиться в длинную лощину. И хотя ручей нашел себе путь, обогнув эту глыбу, но все же ему пришлось для этого немного подняться. И вот перед каменной глыбой получился довольно глубокий водоем, который послужил мне колодцем. Вода в нем всегда слегка клокотала и была свежая и чистая, как стекло. А обогнув камень, она спускалась дальше настоящим водопадом, устремляясь к середине лощины.
Напротив водоема и камня я построил из досок маленькую баню, поставив ее углами на четыре небольших каменных обломка. Она была совсем маленькая, без предбанника, и вмещала в себя только двух человек. Но все же это была моя собственная баня.
Доски и гвозди, которые пошли на ее постройку, я купил у господина Куркимяки. У него же я купил кирпич для печи и котел. Он не взял с меня за это денег. Он просто записал это в счет моей будущей работы, но сказал при этом, что котел стоит недешево.
За дом он тоже не взял с меня ни одного пенни. За дом я тоже должен был только работать и больше ничего. Работать по двадцать дней каждый год. Он сначала хотел, чтобы я отрабатывал ему за дом по тридцать дней в году, Но дом все-таки был очень маленький, с одной только комнатой внутри, и со стороны казался скорее половинкой домика. Поэтому он назначил цену: отрабатывать ему за дом по двадцать дней в году до конца моей жизни.
Я прикинул, что стоимость бани я отработаю ему за полтора года, а отрабатывать по двадцать дней в году за дом не так уж страшно. Зато моим детям этот дом перейдет бесплатно.
Так же думала и моя жена. Какой радостью засветилось ее лицо, когда она узнала, что я пошел на это! Мы слишком долго жили в маленькой, тесной комнате общего рабочего барака, где у нас не было ничего, кроме кровати, стола и двух скамеек, на которых спали наши дети. У нас не было своей кухни, своей бани, а теперь у нас появилось все. Было отчего засветиться радости на круглом румяном лице моей Эльзы.
Только Вилхо не одобрял этого переселения. Он говорил:
— Ну, вот еще один mӓkitupalainen[2]Житель бугра. прибавился в Суоми к десяткам тысяч других. Оседлал камень и радуется своему каменному счастью.
Но что может понимать в этом деле глупый двадцатипятилетний мальчишка, которого никогда не тянуло на землю? Он воображал, что если он выучился сбивать масло и варить сыр на молокозаводе Калле Похьянпяя, то уже постиг всю мудрость жизни. Но он был молод и глуп и даже не выучился еще придерживать свой язык, который больше двух минут не мог пролежать спокойно у него во рту.
Умение язвить еще не означает, что твои мозги лучше всех. А он, как видно, думал иначе, если позволял себе высмеивать тех, кто был спокойнее его по характеру и молчаливее его. Ясно, что это он на мой счет проехался, когда рассказал анекдот о двух финских стариках.
Ничего забавного не было в этом анекдоте, и смеялся только он сам, да Эльза улыбнулась из вежливости — вот и все. Ну что тут смешного: ну, шли два финна-старика в лес на работу. По дороге они заметили заячьи следы на снегу. Один и говорит:
— Заяц пробежал.
Они прошли в лес и работали там до полудня. Потом сели на поваленное дерево, перекусили и снова работали до вечера, а потом пошли домой. И когда они опять проходили мимо заячьих следов, другой старик ответил:
— Да, заяц…
Я не знаю, что тут смешного в этом анекдоте. И, по-моему, тот, кто его выдумал, слишком далеко хватил. Зачем стал бы второй старик тянуть с ответом до вечера, если он мог ответить гораздо раньше, например в полдень, когда они закусывали.
А еще лучше было бы совсем не рассказывать таких глупостей и больше уважать своего старшего брата. Гораздо полезнее было бы поучиться у старшего брата уму-разуму, чем высмеивать его.
Если бы он чаще прислушивался к моим советам, то не попадал бы в такие истории, как тогда на танцульке. Вечер был устроен для благородных людей. Они из своего кармана уплатили в тот вечер за помещение. А он тоже полез туда, как будто и его приглашали, да еще скандалить начал, когда его попросили вон. Будь при нем старший брат, он бы не допустил его до этого.
Хорошо, что там оказался полисмен, который осадил его, а то бы ему не поздоровилось, потому что молодой Вихтори Куркимяки уже снял очки. А когда Вихтори Куркимяки снимает очки, то это плохой признак. Лучше отойти от него в такой момент. Все помнят, чем кончились его встречи на ринге с такими молодцами, как Арви Мерикоски, Тауно Ярвинен, Вапу Сало, Аате Вуорела и со многими другими.
Вилхо тоже должен был помнить об этом и не лезть, куда его не звали. А он полез и даже не обратил внимания на слова Вихтори Куркимяки. А тот прямо сказал ему:
— Прошу вас выйти, иначе вы будете иметь большую неприятность.
И при этом все его худощавое тело напряглось, готовое действовать. А все знают, что действует оно, как хорошо заведенный механизм, и кулаки его всегда точно попадают в то место, куда он их нацеливает.
Но глупый Вилхо, наверно, забыл про это и продолжал лезть вперед. И вот хорошо, что тут случился полисмен, который сразу понял, чем дело запахло, и попросил Вилхо удалиться. Но, уходя, Вилхо все-таки пригрозил молодому Куркимяки:
— Вы мне еще ответите за это.
А тот лишь усмехнулся. Что ему оставалось делать в ответ на глупость этого мальчишки? Он усмехнулся, пожал плечами и снова надел очки.
Но упрямый Вилхо решил отплатить за это, и когда дети богачей снова устроили в том доме вечер, он опять пошел туда. Но, к счастью, молодой херра Куркимяки был к тому времени отозван по делам в Хельсинки, и на вечере оказалась только его сестра, тоненькая темноволосая Хильда, приехавшая на каникулы из yliopisto[3]Университет.. Но с ней, кажется, у него драки не было, и он вернулся домой ни с чем. И кто-то даже сказал, что она будто бы тогда же взяла с него слово вообще никогда и нигде не сталкиваться с ее братом на кулаках. Но я этого не знаю, бог с ними. Одним словом, пустой он был человек, и ничего путного от него нельзя было ожидать.
3
На молокозаводе Калле Похьянпяя, можно сказать, и не было настоящих людей, если не считать хозяйского сына Эльяса, работавшего там же старшим мастером. Этот знал свою дорогу в жизни и не сворачивал с нее никуда. Он по природе своей был боевой парень, и когда ему предложили поступить в suojeluskunta[4]Шюцкор., он сразу же поступил, потому что там тоже все были боевые парни, готовые, если надо, головы сложить в драке. Он ничего не боялся и прямо говорил при всех:
— Мы еще покажем себя, перкеле[5]Чорт. Употребляемое в разговоре, это слово имеет значение нашего «чорт возьми», «чорт побери».! Не думайте, что мы собираемся в бирюльки играть. Финляндии предстоит великая роль в истории, и мы выполним эту роль. Россию мы будем бить первые, а потом нам помогут другие страны. Большевиков нужно раздавить, перкеле, иначе они захватят весь мир. И мы первые будем в этом деле, потому что мы самый смелый и сильный народ в мире, перкеле! И, кроме того, мы ближе всех стоим у Пиетари[6]Ленинград.. Мы отнимем у них Пиетари. Это тоже наш город, перкеле! И мы отнимем у них Север. Он тоже наш. Там живут наши финские племена. А русские ничего не понимают в делах Севера и только мешают нам, перкеле. Финляндия будет великой страной. Запомните мои слова. Это я вам говорю, перкеле!..
И он всегда трогал рукой свой пуукко[7]Финский нож., когда говорил это, и страшно таращил свои маленькие черные глаза, похожие на две блестящие пуговицы, да еще скалил белые зубы, над которыми топорщились короткие черные усики, подрезанные точь в точь как у Гитлера.
Но мне он всегда улыбался, не знаю почему. Каждое утро, когда грузовая машина старого Похьянпяя подъезжала к скотному двору господина Куркимяки за молоком, Эльяс еще издали приподнимался на кузове и махал мне шапкой, показывая белые зубы. А потом спрыгивал с машины и первым долгом шел прямо ко мне.
Не знаю, чем я ему угодил, бог с ним, но он все время крутился возле меня, пока у коровника наполняли молоком бидоны. Он Хлопал меня по спине, щупал мои руки у плеч, заглядывал снизу мне в глаза и говорил:
— Вот каких молодцов родит наша Суоми, перкеле! Кто может с нами сравниться? Ты счастливый, Эйнари. Смотри, какие у тебя кулаки, перкеле! С тобой никакие большевики не страшны. Таким бы только воевать, а не землю пахать, перкеле! Поступай в наш отряд. А? Ведь ты теперь богач — свой дом имеешь, перкеле! Защищать его надо от красных. Мне вот совсем защищать нечего, — я еще только простой рабочий у отца — и то пойду на войну первый, если война начнется, потому что так надо. Родина требует. А у тебя дом свой, перкеле!
Каждый раз, когда он так говорил, мне хотелось напомнить ему, что это еще не мой дом. Но какое это имело значение для него? Парень говорил от всего сердца, и не стоило его перебивать.
Я молча слушал все, что он говорил, а сам подвигался к бидонам, чтобы помочь ему скорей поставить их на машину. Когда бидоны поставлены на машину, то шофер начинает его торопить, и ему тогда уже больше ничего не остается, как тоже вскарабкаться наверх вслед за бидонами.
Но пока я подвигался к бидонам, он еще многое успевал сказать, похлопывая меня по спине. Он даже не говорил, а кричал, потому что такая была у него привычка:
— Мы с тобой еще покажем себя, Эйнари! Верно? Люди еще увидят, какие дела мы можем творить, перкеле! Пусть только начнется. Пусть начнется скорей! Вот о чем я все время мечтаю. И тогда берегись, ryssӓ!..[8]Оскорбительное название русского. Вот этими руками душить буду их, как цыплят, перкеле!
И он протянул вперед свои руки, скрючив пальцы. Нельзя сказать, чтобы они выглядели очень страшными, эти руки и пальцы, потому что сам он был не из крупных — чуть повыше среднего роста и не особенно плотный, хотя и терся возле борцов и боксеров где-то там при спортивном клубе в Кивимаа.
Но он так свирепо выкрикивал это и так страшно сверкал глазами и зубами, что даже Кэртту и Эльза замирали возле бидонов с молоком у коровника. И я не знаю, замечал он это сам или нет, но, подходя к ним ближе, он принимался еще грознее махать кулаками и кричать так, что временами голос его совсем осекался и из горла вырывался только хрип:
— Пора покончить с этим племенем, перкеле, если мы сами хотим жить! Они обложили нас и с юга и с востока. Они душат нас, ты чувствуешь это? А?
Я отвечал, что чувствую. Еще бы не чувствовать, когда у нас даже школьники знают, что от рюссей все зло на свете.
А он продолжал:
— Вот видишь. Даже дети про это знают. А я говорю: довольно! Пора положить этому конец, перкеле! Мы не можем существовать с ними одновременно. Двоим нам нет на земле места. Или Суоми, или Советский Союз, перкеле!
И он продолжал выкрикивать в таком же духе, пока мы не подходили к бидонам, и обе женщины смотрели на него с уважением. А потом он улыбался и подмигивал им, чтобы разогнать их страх и дать понять, что хотя он и страшен для врагов, но свои могут его не бояться. Со своими он добр и обходителен.
Я помогал ему погрузить бидоны на машину, и он влезал туда же, встряхнув изо всей силы на прощанье мою руку и глядя на меня при этом с таким видом, как будто хотел сказать: «Ничего, Эйнари, не горюй. Мы еще с тобой покажем себя».
А потом к нему наверх влезала одна из женщин, потому что кто-то должен был присутствовать при сдаче молока на заводе его отца и привезти назад бидоны со снятым молоком.
Я всегда хотел, чтобы это была не Эльза. Не потому, что она так часто поглядывала на черные усы и белые зубы Эльяса Похьянпяя и охотно смеялась его шуткам, а просто так… лучше было, когда на машину садилась сухая и злая Кэртту Лахтинен, а Эльза шла обратно в коровник.
Это не значит, что я боялся чего-нибудь, упаси боже, хоть я и знал хорошо, что Эльза когда-то собиралась выйти замуж за Эльяса и не сразу сделала между нами выбор. Может быть, она и жалела иногда, что выбрала все-таки меня. Этого я не знаю. Но похвалу Эльясу я слышал от нее не раз, однако не сердился за это, бог с ней. Я знал, что если уж она выбрала, то выбрала, и дело с концом. А вот собирался ли Эльяс на ней жениться, — это другой вопрос, и я думаю, что если бы спросить ее об этом, то не сумела бы она и сама с уверенностью ответить. Но я никогда и не собирался задавать ей таких вопросов.
Когда машина трогалась, Эльяс еще раз махал мне рукой, показывая зубы, и я тоже кивал в ответ как можно приветливее, особенно если рядом с ним садилась Кэртту, а не Эльза.
Все-таки хороший он был человек, и все у него было наружу. И это совсем неплохо, что он так ненавидел русских и не боялся сцепиться с ними. Такие люди нужны нашей родине. Кому же иначе ее защищать, как не таким смелым ребятам, которые головы свои готовы сложить, если это понадобится. А от русских всего можно ожидать. Мы достаточно наслышались и начитались о них в наших газетах, чтобы знать, что это за птицы.
Я кивал на прощанье уходившей машине и потом говорил Эльзе:
— Пойдем завтракать.
А она отвечала:
— Сейчас. Только положу сена коровам.
Я помогал ей задать коровам и телятам корму, и мы шли домой завтракать. Мы огибали покрытый валунами большой бугор, который мешал видеть наш дом прямо от усадьбы господина Куркимяки. Мы огибали его и выходили к ручью, охватывавшему этот бугор большой петлей и проскакивавшему в длинную лощину как раз между ним и нашим бугром. Затем переходили ручей по широкой, толстой доске немного выше обломка скалы и водоема, клокотавшего перед ним, и поднимались по западному склону своего бугра прямо к своему дому.
4
Свой дом… Я помню, сколько веселого шума было у нас в тот летний воскресный день, когда я закончил отделку дома и мы потащили в него свои пожитки.
Пока мы с женой устраивались, детишки наши прыгали по траве у подножия отвесной скалы на верхней части бугра. Это был маленький зеленый клочок, про который херра Куркимяки сказал: «огород».
Но это еще не был огород. Когда я ткнул в него лопатой, она лишь наполовину ушла в грунт. А дальше был сплошной камень. Чтобы сделать на этом месте огород, мне пришлось привезти сюда тридцать восемь возов земли и торфа. И только после этого получились те короткие четыре грядки, которые живы и сейчас.
За землю и торф херра Куркимяки тоже занес что-то в свою книгу, за использование лошади и повозки тоже. Но я уж это не считал. Неудобно было приставать к нему с каждым пустяком.
Зато на следующее лето у нас на этих грядках зазеленели свои овощи, которых нам хватило до самого рождества. Даже цветы росли тут же по краям грядок. Этим занималась моя маленькая Марта. Она посадила и подсолнечники, но росли они вяло. Только утром и вечером попадали на них солнечные лучи, и то в самые длинные дни лета. А жаркое полуденное солнце загораживалось отвесной скалой.
Сын мой Лаури не сажал подсолнечников. Но это не значит, что он мирился с той прохладой и сыростью, которыми был полон воздух у подножия скалы. Он тоже очень любил солнце и жадно смотрел вверх на край скалы, откуда свисали корни травы и кустарников, зеленые ветки которых были полны южного солнца. И он сначала смотрел вверх, на маленькую березку, стоявшую у самого края вершины, а потом начинал карабкаться туда, цепляясь за трещины скалы. Но он срывался каждый раз, падая вниз на мягкие грядки, однако с каждым годом поднимался все выше и выше. И видно было, что он в конце концов доберется до этой вершины.
А мать не переставала сиять от радости. Она у меня невелика ростом, но полная и крепкая и могла многое выдержать на своих круглых плечах. Бывали дни, когда ей одной приходилось доить всех коров на скотном дворе господина Куркимяки. А их там было ровным числом четырнадцать штук. И она не жаловалась. Она сияла, как солнце, гордясь тем, что у нас теперь свой угол. Женщины очень любят, когда у них есть свой дом, свое отдельное хозяйство. Так уж они устроены.
Но ей не очень-то нравилось, что самый отлогий северный склон нашего каменного бугра был гол и пуст. С первых же дней нашего переезда она принялась ходить по нему вдоль и поперек и ковырять лопатой плотный слой зеленого моха, которым он местами оброс.
И она недаром старалась. Под слоем зеленого моха ей удалось найти две длинные, глубокие трещины. Она еще больше углубила и расширила их киркой, натаскала в них корзиной земли и посадила в одной трещине четыре куста смородины, а в другой — два куста малины.
Я тогда смеялся над ее стараниями и говорил, что ничего из этого не выйдет. Но уже через два года все это разрослось и стало давать ягоды, особенно малина.
И тогда уже она смеялась:
— Ну, что? Ничего не вышло? А вот это что, по-твоему?
Она придвигала ко мне чашку с малиной, зачерпывала целую пригоршню и начинала пихать ее мне в рот. И при этом она нарочно давила ягоды у меня на губах и щеках.
Тогда я хватал ее в охапку и подбрасывал к самому потолку нашей маленькой комнаты и целовал своими выпачканными красным соком губами ее горячие круглые щеки и губы, и маленький нос, и глаза, которые она тут же закрывала, запрокидывая голову назад.
Для меня это не составляло тогда большого труда. Она хоть и была у меня плотная и тяжелая, но я сам тоже был не плох. И когда мы стояли рядом, то ее белокурые волосы никогда не поднимались выше моего плеча, как бы пышно она ни взбивала свою прическу.
Я мог тогда не только подбрасывать ее к потолку. Я мог поднять на плечи всю свою семью и нести ее через поле или лес куда угодно. Я мог потом вывалить их всех троих на траву и пуститься бегать и играть с ними в пятнашки не хуже их всех. А ведь мне тогда уже стукнуло тридцать шесть лет. Это был такой солидный возраст, что в зимнюю войну меня не взяли в солдаты.
5
Правда, херра Куркимяки уверял, что это он сумел удержать меня на месте. Он сказал, что устроил это через своего сына Вихтори, который занимал очень видный пост в Хельсинки. Ну что ж. Я, конечно, был очень благодарен им обоим, потому что никогда не ждал от войны ничего хорошего.
Пааво Пиккунен, который работал вместе со мной у господина Хуго Куркимяки, тоже не был тогда взят в солдаты. Ему уже тогда было сорок два года. Но если бы даже он был моложе, то все равно господа Куркимяки постарались бы его тоже удержать, потому что у него были золотые руки. Он мог делать все. Он был у Куркимяки пахарем и дровосеком, кузнецом и шорником, столяром, садовником и плотником.
Но мой младший брат Вилхо попал на зимнюю войну. Только он один из всех рабочих молокозавода Калле Похьянпяя, потому что он был бельмом на глазу у своего хозяина. Ни один хозяин из тех, у кого он раньше работал, не любил его. Вилхо всегда был недоволен чем-нибудь, всегда ссорился, всегда требовал того, чего никто другой не требовал.
У нас были с ним всякие разговоры на этот счет. Я пробовал всячески образумить его и как-то раз прямо сказал, что он плохо кончит, если будет вести себя таким образом.
А он вместо ответа только улыбнулся. Я видел, что он хотел сказать что-то веселое, потому что в его голубых глазах уже запрыгали лукавые искорки, но не сказал ничего, только растянул молодой рот в легкой улыбке.
Должно быть, в его глупой голове опять мелькнул какой-нибудь анекдот о финне. Он вечно высмеивал своими анекдотами какую-нибудь черточку финского характера, если считал ее смешной. Но на этот раз он сдержался, не желая, быть может, обидеть меня, у которого находился в гостях.
Я сказал ему:
— Ты бы хоть память отца чтил. Помнишь его слова: «не отрываться от земли»?
А он ответил:
— Для того чтобы оторваться, нужно к ней сначала прилепиться. Но я не помню, чтобы наш старик сам показал в этом хоть какой-нибудь пример. Как ни бился, бедняга, но даже огорода не сумел приобрести до самой своей кончины.
Я ответил на это:
— Тем более мы обязаны это сделать.
Он снова улыбнулся.
— Ты хочешь сказать, что уже пустил корни? Хотел бы я знать, как глубоко они у тебя проникли.
И он сделал вид, что хочет расковырять каблуком камень, на котором стоял мой дом, чтобы определить, как глубоко проникли в него корни.
Я знал, что ему ответить на это, но не стал отвечать. Ведь ничто на свете не приходит к человеку сразу, тем более такое счастье, как земля. Все, что я вижу вокруг себя, уже принадлежит кому-то. Кто согласится так легко и просто оторвать мне кусок земли от своих владений? Гораздо выгоднее каждому, чтобы работали на его земле. А платить работнику в дополнение к харчам десять марок в день не так уж трудно, тем более что эти же деньги хозяин высчитывает у него за разные дополнительные покупки. Любой хозяин знает, что он делает. Чтобы вытянуть из него кусок земли, нужно потратить не один год. А к тому времени успеешь на чужой работе руки свои вывернуть из плеч. Но что толковать об этом глупому Вилхо? Что он понимает? Я ответил просто так, чтобы отвязаться от него:
— Свой дом у меня уже есть. — Но сразу же, сказав это, подосадовал, потому что в его глазах опять запрыгали веселые огоньки и сложился в насмешливую улыбку рот.
— Дом? Какой дом? Ах, вот этот… О-о, какой дом! Какой дом! Да ведь это не дом, а целый дворец!
И он стал ходить вокруг моего дома на цыпочках и задирать кверху голову так, что даже шляпа свалилась два раза с его светло-русых волос. Много еще было в нем ребячества, которое иногда вовсе некстати проявлялось.
— Ай-ай-ай, какой дом! Сколько же ты за него заплатил?
Он знал, чем меня уколоть. Но в этом не было ничего смешного. Я и сам охотно расплатился бы за дом сразу. Однако выложить перед господином Куркимяки сразу все двадцать тысяч марок мне было бы не под силу. Поэтому я пошел на такое дело. Конечно, неприятно было думать, что это продлится до конца моей жизни и что до конца моей жизни дом все-таки не будет моим. Но что я мог сделать? Не мог же херра Куркимяки отдать мне дом даром. Это Вилхо должен был понять. Но он ничего не хотел понимать и только злил меня своими детскими ужимками.
А тут еще жена подошла ко мне и спросила потихоньку:
— Чем будем угощать?
Я сказал:
— Как чем?
Она ответила:
— Свинину и сыр будем доставать из погреба или нет?
Я сказал:
— Не надо. Картошка есть?
Она ответила:
— А как же!
— Молоко и масло тоже есть?
— Да.
— Ну вот и хватит. Чего там еще мудрить.
— А вино?
— Не надо. Сваришь кофе с молоком, и выпьем лучше всякого вина.
Я был сердит на него и хотел как-нибудь дать ему почувствовать это. Не хватало еще, чтобы я ради каждого краснобая стал отваливать камень от входа в погреб и доставать оттуда последний кусок сыра и сала и последнюю бутылку вина. Чтобы пожелать такого угощения, нужно сначала узнать, во что обходится все это для покупающего у господина Куркимяки, сколько недель должны потрудиться мои руки и спина за один только окорок свинины.
— Не надо ни сыра, ни сала. Пусть будет обед как всегда.
И вообще зачем он тащился сюда двенадцать километров от молокозавода старого Похьянпяя? Для того, чтобы корчить здесь из себя дурака? Не стоило ради этого утруждать свои ноги.
Я бы, пожалуй, не выдержал и сказал ему что-нибудь обидное насчет его ума. Но он в это время стал возиться с моими малышами, и я решил промолчать. Что с него спрашивать? Он был еще слишком молод — на целых десять лет моложе меня, хотя и вытянулся тоже почти в мой рост.
Он подбрасывал вверх моих белоголовых визжащих от радости крошек, и я не знал, что ему еще сказать. Синий костюм плотно обтягивал его стан, особенно в те моменты, когда он, смеясь во все горло, выбрасывал вверх руки. И было приятно видеть разницу между шириной его плеч и бедер.
Крепостью тела он тоже пошел в отца, как и я, но красоту лица перенял от матери. У нее были точно такие же большие, блестящие весельем голубые глаза, такой же прямой короткий нос и такой же мягкий рот, в котором вечно таилась улыбка. Если бы она была сейчас жива, то, глядя на Вилхо, могла бы подумать, что смотрится в зеркало.
Конечно, это было приятно, что его лицо напоминало мать. Но все же ему не следовало быть таким насмешником. Ничего плохого не было в том, что на столе оказались только картошка, молоко и масло. Молоко было свежее, масло тоже. И картошка была крупная и желтая, хорошо вычищенная до того, как ее сварили. Когда жена высыпала ее из чугуна в чашку, то к потолку поднялся густым белым облаком пар, у которого был вовсе не плохой запах.
И Вилхо сам охотно первый воткнул свой пуукко в самую крупную горячую картофелину, которая ему приглянулась, и начал ее есть. Он снял ее с ножа левой рукой, а ножом стал класть на нее кусочки масла и откусывать от нее понемножку, обжигаясь и дуя и запивая молоком, как это, бывало, делал наш отец.
На хлеб он тоже клал достаточно масла, бог с ним. Этим никто не думает его попрекать. И кофе жена налила ему в чашку самый настоящий, с молоком и сахаром, а он все-таки вздумал рассказать какой-то анекдот о скупости финского мужика.
Другой бы на его месте постеснялся говорить что-нибудь обидное старшему брату, у которого сидел в гостях. А он не постеснялся, как не стеснялся ничего на свете, и рассказал примерно такую историю:
— Захотелось одному финскому мужику покататься вместе со своей женой на самолете, только платить не хотелось. Летчик и говорит ему: «Хорошо. Я покатаю тебя бесплатно, если ты будешь сидеть тихо. Но если ты хоть раз крикнешь, то с тебя сто марок. Идет?» — «Ладно», — говорит мужик. И вот они полетели. Долго таскал их летчик то вверх, то вниз, то вкруговую над полем и лесом. Не кричит мужик. Тогда он поднялся повыше, сделал несколько мертвых петель и пошел вниз штопором. А потом снова поднялся и снова спикировал. Он думал, что на этот раз тот испугается и закричит. Как бы не так! Ведь это означало бы, что надо уплатить сто марок. А разве финский мужик пойдет на это? Летчик поднимался выше облаков еще раз двадцать и каждый раз камнем бросался оттуда вниз. Он проделывал такие страшные фигуры, каких никогда в жизни не проделывал, и сам измучился вконец, а мужик все-таки не крикнул. Плюнул тогда летчик с досады и спустился на землю. «Ну, что, — спрашивает он у мужика, — вытерпел?» — «Вытерпел», — отвечает тот, а сам весь зеленый. «Ну, а все-таки признайся, — говорит ему летчик, — хотелось тебе крикнуть хоть раз? Временами, я думаю, рот сам собой раскрывался?» Мужик признался. «Это верно, — говорит. — Один раз я чуть было не крикнул. Это когда моя старуха из самолета выпала».
И Вилхо рассмеялся, когда кончил свой рассказ. И Эльза моя тоже рассмеялась. Даже дети запищали на другом конце стола. Только я не видел в этом ничего смешного и не мог понять, к чему был рассказан весь этот анекдот. Если он этим хотел пустить какую-нибудь насмешку по моему адресу, то он мог бы для этого не приходить в мой дом и не садиться за мой стол.
Но я не сказал ему этого и продолжал как ни в чем не бывало класть своим ножом на картошку масло и отправлять ее в рот одну за другой до тех пор, пока не опустела чашка. А потом и я взялся за кофе с молоком, налитый мне. Эльзой в маленькую белую чашку. Брату она тоже добавила из молочника и кофейника и придвинула к нему поближе сахарницу.
Стол вовсе не выглядел так плохо, чтобы обижать из-за него хозяина и хозяйку. И бумажная клеенка на нем была новая с красивым голубым рисунком, и пищи на нем было достаточно, чтобы гость не ушел домой голодным. Непонятно, что ему еще было нужно?
Должно быть, он и сам понял, что рассказал не то, что следовало, и решил немного поправиться. И вот он заговорил так:
— Наверно, это был какой-нибудь muonamies,[9]Батрак, работающий за харчи, иногда с ничтожным дополнением денежной оплаты. вроде тебя, у которого вечно пустой карман.
Но я и на это ничего ему не ответил, продолжая пить кофе. Что он хотел этим сказать? Ну, допустим, что это был muonamies. Так что же из этого? Конечно, в кармане у такого не жирно. А дальше что?
Я пил кофе и молчал. А Вилхо уже забыл обо мне и снова начал шутить с детишками. Видно было, что он большой любитель детей. Он скорчил им рожу, кивнул на тарелку, где почти не осталось масла, и сказал, как будто с испугом:
— Ӓiti, hoi!
Missӓ voi?
— Kissa sӧi.
— Missӓ kissa?
— Aitan alla.
— Missӓ aitta?.. [10]
— Мама, ой! Где масло? — Кошка съела. — Где кошка? — Под амбаром. — Где амбар?..
И пошел плести знакомую всем школьникам историю о том, что амбар сожгло огнем, огонь погасило водой, воду выпил бык, быка убил топор, который воткнут в пень, а пень подточили жучки, которых склевали птицы, улетевшие потом за семьдесят семь озер и морей. И при этом он продолжал корчить им рожи. Но как бы он их ни корчил, лицо его все-таки оставалось приятным. И дети мои визжали и заливались смехом вовсе не от страха.
Мне тоже всегда становилось немного веселее, когда я слышал их смех, и на этот раз я ласково посмотрел на молодого веселого брата. За что мне было на него сердиться? На глупость не сердятся. А сказанное им только что о человеке, работающем за одни харчи, было, пожалуй, сущей правдой. Откуда же такому взять сто марок на такие пустяки, как полет по воздуху? Не хватало еще, чтобы на это выбрасывать деньги.
И удивляться тут нечего тому, что он стерпел. Скорее даже похвалить его надо за это. Как он там рассказывал? «Если крикнешь, то заплатишь…» А он вот взял да и не крикнул. Что ты с него спросишь? Взял да и не крикнул. Крепкий, значит, оказался. Его крутили, мотали, а он смолчал. Вот это парень! И только один раз чуть-чуть не крикнул. Только один раз — это когда его старуха выпала. Ха-ха! Ну и чудак же этот Вилхо! Расскажет тоже…
И я рассмеялся, отодвигая от себя пустую чашку.
А Вилхо удивился и спросил, улыбаясь:
— Ты что?
А я ответил:
— Только один раз чуть не крикнул… когда старуха выпала…
И я снова засмеялся. А он посмотрел на меня секунду с удивлением и потом чуть не повалился со скамейки — такой его разобрал смех. И смеялся он долго, а потом сказал сквозь смех:
— Недаром у нас предупреждают: «Не рассказывай финну анекдот в пятницу, иначе поймет он его только в воскресенье и очень некстати засмеется в церкви во время обедни». Медленно же до тебя доходит…
Я ведь сначала подумал, что он тоже смеется, вспоминая анекдот. А он, оказывается, уже надо мной смеялся. И чтобы сократить его веселье, я сказал:
— Смешного тут мало, когда у человека пусто в кармане. Над бедностью нечего смеяться.
Тогда он сразу стал серьезным. Он всегда может очень быстро переходить от ребячества к серьезности, если только захочет. И вот он вскинул на меня большие красивые глаза и сказал:
— Наоборот, еще больше надо смеяться над таким беззастенчивым произволом, как у нас в деревне.
Я спросил:
— Каким беззастенчивым произволом?
Он откинулся спиной к стене, подумал немного и заговорил нехотя:
— Тебе бы лучше это знать. На своей шкуре кое-что испытываешь. Ну, скажи, разве нормально это: ты проработал на чужой земле двадцать семь лет и двадцать семь лет мечтаешь о земле, а до сих пор не имеешь ничего, кроме этого камня, на котором живешь, да и тот не твой. А сколько таких в нашей прекрасной Суоми! Но ты еще сравнительно крепко стоишь на ногах. Ты уже теперь mӓkitupalainen, хотя и без земли. Ты все-таки идешь вперед, растешь благодаря своему лошадиному здоровью и силе. А что видит впереди, например, ruokale?[11]Человек, работающий только за пищу. Обычно это престарелые мужчина или женщина или инвалиды. Никакого просвета. И еще хорошо, если бы он был уверен, что пища и место будут ему обеспечены до конца жизни. Но ведь он не уверен в этом. Если хозяин попросит его убраться, то никакой закон его не защитит. И тебя не защитит, если твой достопочтенный херра Куркимяки вздумает тебя завтра уволить. Ничего постоянного, прочного не установлено у нас в защиту прав сельского рабочего. Судьба его целиком в руках хозяина. А у них свои законы у каждого. Один устанавливает своему работнику пять марок в день, другой — семь, третий — десять. Один сдает клочок своей земли работнику в аренду на пятый год его службы, другой — на десятый, а третий совсем не сдает. Даже palkkatyӧlӓinen[12]Рабочий, получающий только денежную плату. в сельской местности не имеет твердой ставки. Ее устанавливает хозяин по своему усмотрению. Вот мне, например, хозяин платит восемь марок в час, а Петтунену — двенадцать, хотя мы выполняем одинаковую работу, и я иногда даже более ответственную. Но он хозяин. Он так захотел. Кто ему укажет? Указать ему можно только на каком-нибудь крупном предприятии. Вот на лесопилке Вяйне Ахонена, например, не очень-то обидишь рабочего. Эти сумели себя крепко поставить. А мы — как былинки на ветру. У нас много твердят о свободе каждого человека, даже самого последнего батрака. И сам он считает себя свободным, слыша, как все это твердят, а того не видит, что связан кругом по рукам и ногам, что пригнули его к земле, наступили ему на шею ногой да еще требуют, чтобы тянул он воз величиной с твой бугор. Живем мы в Европе и называем себя культурными людьми, а ни в одной европейской стране нет такой беспросветной кабалы для безземельного сельского рабочего, как у нас. Ни в одной стране. Я уже не говорю о России…
Тут я чуть не задохнулся от удивления. Вилхо это или не Вилхо сидит передо мной? Ну хорошо, пусть он поворчал немного на наши порядки. Многие на них ворчат. Но приплести сюда вдруг Россию и поставить ее на первое место…
«Я уж не говорю о России…» Видали? Откуда ему в голову могли прийти такие мысли? Вот что значит оторваться от хороших, степенных людей и якшаться со всяким сбродом с лесопилки Ахонена. Забили там его глупую голову разной ерундой, и теперь не выбьешь ее оттуда ничем.
«Он уж не говорит о России…» Вы только подумайте! Что может знать о России этот глупый пустозвон? Разве не видит он, что от нее все беды пошли по земле! Разве не чувствует он, как эта страна вплотную приткнулась к нам с юга и востока и что сама близость ее к нам вызывает страх и тревогу у каждого.
Разве не кажется ему, что она как будто с недобрыми мыслями притаилась у нас под боком и что от ее дыхания и зима кажется суровей и лето похоже на осень. Неужели не читает он обо всем этом в книгах и журналах и не слышит в церкви от пастора? Или он считает себя умнее других?
Я уже собирался дать ему хороший ответ на такие слова, но в это время в дверях появилась Хильда Куркимяки. Это был очень редкий случай, чтобы дочь господина Куркимяки удостоила своим посещением наш дом.
Она постучалась, прежде чем войти, и спросила:
— Можно к вам?
И я ответил:
— Пожалуйста, пожалуйста, милости просим, neiti[13]Барышня.. Садитесь с нами кофе пить.
И я встал, чтобы уступить ей место на скамейке за столом. Но она ответила:
— Нет, нет, благодарю. Пожалуйста, не беспокойтесь. Я буквально на минутку. Шла мимо и услыхала разговор. Думаю: дай-ка зайду к соседу взглянуть, как он устроился на новом месте. Вот и зашла. Очень мило у вас тут.
Она, должно быть, забыла, что уже была раз у меня — давно, правда, но говорила тогда примерно то же самое. И тогда Вилхо тоже как будто сидел у нас. Непонятно было только, куда это она «шла мимо». Тут никаких дорог близко не было. Но это ей лучше знать… Я опять повторил свое:
— Садитесь, нейти. Одну только чашку за компанию. Налей, Эльза.
И Эльза налила ей в чистую чашку горячего кофе прямо с плиты и придвинула сахарницу и молочник. А она сказала, смеясь:
— Но где же тут компания, друзья мои? Я в единственном числе оказалась. Нехорошо так злоупотреблять доверием гостя. Не ожидала я этого от вас, Эйнари.
И она покосилась на пустую чашку Вилхо. Я сказал:
— Налей нам тоже, Эльза. Прошу, нейти. Вот тут садитесь.
Она села, сняв свою маленькую шляпу с темно-русых волос, закрученных назад валиком от лба и висков. От ее тонкого зеленого платья шел такой запах духов, как будто мою маленькую комнату забросали невиданными цветами.
Я начал старательно прихлебывать горячий кофе, потому что неудобно было не составить компанию такой редкой гостье. Но Вилхо почему-то встал, не тронув кофе. Оказывается, ему нужно было куда-то еще зайти, и он только сейчас вспомнил об этом. Он засунул в ножны свой пуукко, кивнул нам всем, надевая шляпу, и сказал мне:
— Я еще как-нибудь забегу к тебе, Эйнари.
— Заходи.
Мы видели в окно, как он сбежал с бугра к ручью в своем широком синем костюме и на минуту скрылся, а потом снова показался, поднявшись на доску, перекинутую через ручей. Прошел он по ней легко и свободно, хотя она гнулась под его тяжестью, и в это время я опять посмотрел на его плечи.
Да! Пожалуй, люди правду говорили о его встречах с Матти Руокасало и с Тойво Коскинен. Глядя на эти плечи, можно поверить подобным слухам. Очень уж здорово они раздались у него вширь за последнее время.
Когда Вихтори Куркимяки приезжал гостить к своему отцу, то непременно встречался со всеми лучшими боксерами своего веса в рабочем клубе Кивимаа и в городе Лаппеенранта, среди боксеров того круга, где числился Вилхо. И случилось так, что в первый свой приезд он выиграл бой со всеми, кроме Матти Руокасало. Тот побил его.
Но тогда Вилхо послал вызов Матти Руокасало и уложил его на третьем круге. А в другой раз молодого Куркимяки победил Тойво Коскинен. И сразу же после этого Коскинен получил вызов от Вилхо. Говорят, Коскинен умел очень крепко молотить противника левой рукой, но и он дотянул только до шестого круга, а потом лег на брезент от кулака Вилхо. Этому можно было поверить, глядя на его плечи.
Нейти Хильда тоже смотрела ему вслед, пока он не скрылся за соседним большим бугром, стоявшим между нами и усадьбой Куркимяки.
А потом она опять обернулась к нам, приветливо улыбаясь и держа в руке чашку с кофе. И мы тоже смотрели на нее приветливо, потому что она была дочь нашего хозяина. Она была такая же хозяйка нам, как и старая rouva[14]Госпожа. Куркимяки. Она сказала Эльзе, кивая на наших детей:
— Какие они у тебя большие стали.
Та погладила белые детские головки и ответила:
— Помощниками скоро будут.
Нейти Хильда поставила чашку на стол и сказала:
— Спасибо, Эльза. Нет, нет, больше не наливай. Напилась. Вкусный у вас кофе.
Я ответил:
— Если нравится, то милости просим к нам почаще. Кофе всегда найдется.
Она опять сказала свое «спасибо» и встала из-за стола, поправляя на своем тонком зеленом платье белый кушак. Ока была такая тонкая в том месте, где ее стягивал этот кушак, что если бы я вздумал обхватить ее пальцами обеих рук, то их кончики сошлись бы у нее и спереди и сзади. Но ниже и выше этого места у нее все было в меру. И выглядела она словно модная картинка из женского журнала.
Только рот ее под маленьким широким носом был, пожалуй, немножко велик для модной картинки, хотя и накрашен сколько нужно, и он улыбался нам с Эльзой в то время, как руки укладывали на ее волосах маленькую шляпку.
Но странное дело. Рот ее улыбался нам, а сама она, как мне показалось, вовсе не улыбалась. Брови ее, похожие на две черные изогнутые ниточки, тянулись друг к другу, сдавливая в складку кожу над переносицей вовсе не от улыбки, и в темно-карих глазах тоже не было никакого смеха. Даже длинные темные ресницы над ними взмахивали так, как будто была она скорее удивлена чем-то, а не обрадована. И видно было по всему, что думает она в эту минуту вовсе не о нас с Эльзой.
И когда она сказала нам «до свидания», то посмотрела по сторонам так, словно забыла что-то. Я решил, что она хочет еще что-нибудь сказать, и предложил:
— Посидите, нейти. Куда вам спешить?
Но она ответила, продолжая думать о другом:
— А? Нет, благодарю. Я ведь так… шла мимо. Дай, думаю, загляну по-соседски…
— И хорошо сделали, что заглянули. Милости просим почаще. Всегда будем рады.
Я проводил ее на двор, и она пошла с бугра вниз на своих высоких каблучках. А широкий подол платья раскачивался от ее шагов вправо и влево, ударяя по шелковым желтым чулкам на ее стройных ногах.
6
Вилхо так и не зашел ко мне, хотя и сказал «забегу». Его просто не пустили. Его забрали в солдаты. Назревала зимняя война, и в солдаты брали всех крепких молодых парней.
Хотя Вилхо работал на молокозаводе, имеющем государственную важность, он не избежал мобилизации. Слишком дерзко вел он себя со своим хозяином, чтобы удержаться на этой работе.
Конечно, и Калле Похьянпяя не сказал бы, что Вилхо не нужен ему на работе. Он был нужен, как и все остальные рабочие молокозавода. Но когда потребовалось выделить на явочный пункт тех рабочих, без которых можно было обойтись, Похьянпяя отправил только Вилхо, а остальных занес в список нужных.
Это было его хозяйское право — выбрать кого он хотел. Если бы Вилхо не вел себя таким идиотом, он остался бы. Зачем стал бы херра Похьянпяя отделываться от него, если бы между ними все шло гладко? Молокозавод Похьянпяя считался предприятием государственной важности, и для его владельца ничего бы не стоило сказать, что люди ему нужны все до единого, иначе предприятие закроется, и государство перестанет получать от него масло на экспорт.
Но Вилхо сам испортил все дело заносчивым поведением. И вот вместо того, чтобы зайти ко мне, как обещал, он надел серую суконную солдатскую кепку, такую же куртку и брюки и зашагал с другими такими же горемыками по песчаным финским дорогам, горланя солдатские песни.
Не думаю, чтобы ему очень весело пелось. Ничего хорошего нет в солдатской жизни и никогда не было. И какая от солдата радость другим? Он ест не свой хлеб. Кто-то другой должен съесть немного меньше и поработать немного больше, чтобы он был сыт и мог шагать по извилистым дорогам Суоми, распевая глупые солдатские песни.
И все это сделала Россия, которую он пытался похвалить. В газетах и журналах ясно об этом было сказано. Все было просто и ясно. Даже школьникам все было ясно. Один только Вилхо делал вид, что понимает совсем по-другому. Он винил во всей этой беде кого угодно, только не Россию.
Но всего удивительнее то, что не один он так думал. Попадались и другие люди, говорившие то же самое, что и он. Я сам иногда ловил ухом такие слова, как: «Докатились», «Получите вы теперь великую Финляндию», «Что посеешь, то и пожнешь», «Кто-то заварил, а мы — расхлебывай».
И много других слов приходилось мне слышать, показывавших, что есть люди, смотрящие на эти вещи совсем иначе, чем мы. Особенно много их было на лесопилке Ахонена, куда я ходил узнавать насчет писем от Вилхо. И я радовался, когда узнал, что почти всех этих людей забрали в солдаты, а завод перешел работать на одну раму.
Эльяс Похьянпяя тоже радовался. Он говорил:
— Их надо гнать первыми прямо под огонь за такие речи! Это изменники своей страны! Мы их всех переловим здесь, чтобы не оставалось у нас такой заразы, перкеле! Мы покажем рюссям, что они напрасно рассчитывают на какие-то раздоры между нами. Среди финнов нет раздоров. Финны — это одно целое, и за свою родную мать Суоми жизнь готов отдать любой из них, перкеле! А мы здесь постараемся, чтобы это так и было и чтобы не заводились между нами смутьяны, перкеле!
И верно. Он очень внимательно прислушивался ко всяким разговорам и даже поймал двоих, которые вздумали уверять, что России не нужна эта война и финскому народу не нужна, а нужна она будто бы только финским правителям, которые ее и начали. Он заявил об этих людях в полицейское управление или еще куда-то, и они были арестованы.
Мне он тоже сказал, чтобы я не церемонился с таким народом и сразу докладывал куда следует. Нельзя терпеть между нами таких людей, когда родине грозит нашествие рюссей. Надо делать все, что идет на пользу родине, хотя бы здесь, в тылу. Конечно, он гораздо охотнее сам ушел бы на фронт, чтобы показать там другим, как действительно надо воевать. Но что ж делать, если он оказался на предприятии государственной важности. Приходится мириться с этим и стараться быть полезным хоть здесь. И уж будьте спокойны, он свой долг перед родиной сумеет выполнить, перкеле, хотя бы даже здесь. И мне советует не сидеть сложа руки.
7
Я не сидел сложа руки. Работы хватало. Херра Куркимяки говорил, что теперь мы должны работать больше, потому что каждый наш лишний час работы — это помощь нашим солдатам на фронте и удар по рюссям.
И мы работали больше, хотя Пааво Пиккунен иногда разводил руками и бормотал про себя, что он никак не может взять в толк одного: каким это местом бьет по рюссям то зерно, которое мы ссыпали с гумна в амбар Куркимяки, или то мясо, которое он солил для продажи в своих бочках. Но кто же виноват в том, что крохотная голова Пааво Пиккунена не вмещала в себе таких простых вещей.
Кончив молотьбу, мы начали возить лес и камень для постройки мельницы. У херра Куркимяки был обширный план. Он собирался стать конкурентом господина Похьянпяя. Он собирался строить не только мельницу, но и молокозавод. И на этом молокозаводе он решил крутить свой сепаратор не лошадью, как Похьянпяя, а силою воды двух ручьев. Этой же силой намеревался он крутить жернова своей будущей мельницы и двигать динамомашину, которую уже выписал из Швеции.
Мне он тоже пообещал провести электричество, когда динамомашина заработает. Он сказал:
— Ты у меня лучший работник, Эйнари, и для тебя мне ничего не жалко. Я дал тебе дом. Теперь дам свет. Пусть он горит у тебя бесплатно хоть всю жизнь. Только за провод удержу, и это будет все.
Я не знал, что ему ответить на это, и сказал:
— Вы слишком добры, херра Куркимяки. Не знаю, чем я заслужил…
А он отмахнулся от моих слов и ответил:
— Ничего, ничего. Пустяки. Все мы должны помогать друг другу. Стране тяжело сейчас. Страна должна выдержать. И для этого мы не должны жалеть сил каждый на своем деле.
Я сказал:
— Вы меня знаете. Пока есть в моих руках силы…
Но он перебил меня:
— Знаю, знаю. О тебе говорить не приходится.
И он пошел от меня прочь. Но я все-таки прошел за ним еще несколько шагов — так мне хотелось ему еще что-нибудь сказать. Однако ничего подходящего не пришло мне в голову, и я остановился, молча глядя ему в спину, пока он шагал от меня все дальше и дальше.
Странная была у него спина. Она внизу была шире, чем наверху, особенно когда на нем было надето толстое зимнее пальто. И ноги его были широкие и увесистые, и ступал он ими по земле твердо и основательно, словно пробовал ее крепость.
Я поспешил на конюшню, где уже сидел Пааво Пиккунен, чинивший хомут, и сказал:
— Долго же ты тянешь. Давно пора выезжать, а ты все сидишь и ковыряешь.
Он покосился на меня подозрительно и ответил:
— Да вот гужи только осталось удлинить.
И он тыкал толстым шилом в узел на сыромятном ремне гужа, силясь его развязать, но узел стянулся так плотно, что у него ничего не получалось. Он только сопел и пыхтел без толку. Его короткие жилистые пальцы становились белыми от напряжения, но ничего не могли поделать. Тогда я сказал:
— Дай сюда.
И сам взялся за гуж. Мои пальцы еще кое-чего стоили, и я довольно быстро развязал узел и удлинил гуж, а затем и второй.
Конечно, пальцы Пааво тоже кое-чего стоили, но сила в них была уже не та. Она ушла как-то впустую, неизвестно на что.
Говорят, что у него было накоплено несколько тысяч марок, когда он впервые попросил у господина Куркимяки надел. Он мог арендовать у него землю, мог купить ее и выстроить на ней дом, если бы захотел. И он заранее радовался этому, совсем забыв о том, что может получить отказ.
Никогда нельзя заранее верить, что тебе вдруг ни с того ни с сего кто-то даст землю, хотя бы и за деньги. Боже мой! Ведь уже прошли те времена, когда в мире совершались чудеса. Хотел бы я увидеть хоть одним глазом такого человека, который сказал бы мне:
— Я получил землю. У меня ее не было совсем, а теперь я получил. Вот она. Возьми пригоршню, пощупай. Можешь даже взять с собой немного, если хочешь. Мне не жалко. У меня хватит.
Боже мой, хотел бы я взглянуть на такого счастливца, если они еще водятся на свете!
Но никогда нельзя заранее верить такому счастью, чтобы не отпугнуть его. Всегда надо думать об отказе. Пааво Пиккунен не подумал об отказе, и горек стал для него мир. Он напился пьяный, когда узнал, что земли ему не будет. А через неделю он напился снова.
Ему следовало подождать два-три года и опять попросить, а не обижаться. Что он выиграл от своей обиды? Пил он все чаще и чаще. Деньги таяли, а пользы от этого не было никакой. Я советовал ему еще раз попросить, но он ответил, что больше никогда просить об этом не будет.
Пил он без шума. Напьется и сидит на своей койке в общем бараке. Сидит и молчит, только глазами моргает, глядя в стену напротив себя, а потом завалится набок и заснет.
Иногда сезонные работники, которые с весны до осени проживали в том же бараке, пытались раздразнить его. Но он был маленький и тихий, а они большие и шумные, и ничего у них не выходило. Он только смотрел на них светлыми, как у ребенка, глазами, моргая белобрысыми ресницами, и молчал. А если его начинали тормошить, он хватался за пуукко. И тогда его оставляли в покое.
Говорят, что у него раньше была на примете девушка, на которой он собирался жениться после того, как получит надел. Но надела он не получил, а у девушки слишком короткий век, чтобы ждать без конца. Она за это долгое время успела сделать другой выбор. И он пропивал те деньги, которые так долго копил.
Я кончил возиться с хомутом и сказал:
— Выводи скорей коней. Кто у нас пойдет сегодня?
Он опять покосился на меня, когда услыхал слово «скорей», и ответил:
— Jӓttilӓinen и Reipas[15]Великан и Бодрый..
— Веди сначала Яттиляйнена. Примерим хомут.
Он убрал сначала инструменты, а потом уж вывел Яттиляйнена. Он всегда во всем любил порядок и никогда не бросал инструменты как попало на том месте, где поработал. Он убрал все в ящичек, даже обрывки дратвы и обрезки кожи, а потом уж вывел Яттиляйнена.
Рядом с конем он казался совсем мальчиком. Он всегда мучился, надевая на него хомут, потому что конь имел привычку задирать голову кверху. А чтобы достать в таких случаях до головы Яттиляйнена, нужно было поставить друг на друга двух таких малюток, как Пааво Пиккунен.
Я сам надел хомут и, заправляя шлею, сказал:
— Веди Бодрого. Нам надо сегодня успеть съездить хотя бы восемь раз.
Он вывел гнедого жеребца с широким задом и начал запрягать его в другие сани. Уже рассвело настолько, что я отчетливо видел все морщины на его маленьком круглом лице. Под глазами кожа собралась гармошкой, губы стали тоньше, и маленький подбородок его сделался как будто острее, хотя и оброс щетиной, оттого что он не брился целыми неделями.
Раньше он ни капельки не боялся холода и был похож на какой-то сплошной комок огня, который вечно метался туда-сюда, вечно хлопотал и суетился да еще покрикивал иногда на меня. А теперь мне приходилось покрикивать на него, потому что делал он все гораздо медленней, чем раньше.
Конечно, он и теперь старался. Руки его еще с детства так привыкли к работе, что и теперь постоянно шевелились, постоянно были чем-нибудь заняты. Но делал он все теперь гораздо медленнее, чем раньше, и теперь уже мне приходилось его подгонять.
Видя, что ему никак не стянуть до конца клещи у хомута, я подошел к нему и взял у него из рук ремешок. При этом его тяжелое дыхание коснулось моего лица, и я понял, что он уже успел глотнуть в это утро. Я посмотрел, как покраснел на морозе его маленький круглый нос, как он приплясывал, хлопая себя по бокам замерзшими руками, и сказал ему:
— Загубишь ты себя, Пааво, этим зельем.
Он поднял воротник тужурки, опустил края своей кожаной шапки и проворчал сердито:
— В чужих советах не нуждаюсь.
Мы прицепили к саням подсанки и поехали в лес за бревнами. Мороз был такой крепкий, что приходилось то и дело соскакивать с саней и бежать вслед за ними вприпрыжку.
До станции мы ехали по расчищенной большой дороге, а потом свернули на малонаезженную, ведущую в леса Куркимяки.
До станции нам в пути попадались навстречу люди, повозки и даже автомобили. А один автомобиль обогнал нас, и когда он поравнялся с моими санями, кто-то крикнул мне оттуда:
— Эй, Эйнари! Здорово, перкеле!..
И я увидел совсем близко от себя свесившееся с машины красное лицо Эльяса Похьянпяя с черными усиками над верхней губой. Он улыбнулся мне, помахивая рукавицей, и белые зубы его сверкали, как снег на солнце.
А рядом с ним, отвернувшись от встречного ветра, сидела моя Эльза. Она поехала сдавать молоко. Но почему было не поехать Кэртту на этот раз? Ведь все равно ей делать днем будет нечего. Или это Эльяс уговорил?
Лицо Эльяса промелькнуло так близко от меня, что я мог бы достать до него рукой. Воротник и шапка на нем покрылись инеем. Странно, я не первый раз видел так близко от себя его лицо в такой момент, когда оно улыбалось, но только теперь всмотрелся в него как следует, хотя прошло не больше минуты, пока он обгонял на машине моего быстро бегущего Великана.
Да ведь он, кажется, вовсе не улыбался, если уж на то пошло. Ей-богу, мне так показалось в то морозное утро. Он только раскрывал рот и показывал зубы и кричал, а улыбки не было, да и все тут.
Ее не было ни в его приоткрытых красных губах, ни в маленьких круглых глазах, похожих на две черные блестящие пуговицы, ни в чем не было ее видно. Просто он раскрывал рот так, что виднелись его белые зубы, и кричал:
— Эге-ей, Эйнари! Не горюй! Мы еще поживем, перкеле! — И еще раз помахал мне своей шерстяной рукавицей.
Странный он был человек. Хороший, конечно, парень и нужный для родины, но лучше бы уж он жил где-нибудь в другом месте, подальше, бог с ним…
А Эльза, та действительно улыбнулась мне. Она повернула на миг в мою сторону лицо, закутанное в белый шерстяной платок, улыбнулась мне одними глазами и снова отвернулась от встречного ветра и от Эльяса.
Хорошая попалась мне в жизни жена, дай бог ей здоровья и силы до конца дней.
8
Но встречных все же было больше, чем обгоняющих.
Как раз перед этим от станции отошел поезд, оставив там часть людей. Некоторых из них мы и встретили на дороге.
В одном из автомобилей я увидел знакомое лицо. Я сразу узнал большой красный рот и глаза с длинными ресницами и радостно замахал рукой, потому что это была Хильда Куркимяки. Я замахал ей рукой и крикнул:
— Terve,[16]Здорово. нейти! Terve!
Но она только слегка кивнула мне головой. Было ясно, что она меня не узнала. Я так и сказал Пиккунену, когда мы опять побежали за своими санями, чтобы согреться немного. Но он ничего не ответил, только усмехнулся ехидно, продолжая прятать позеленевшее от холода маленькое круглое лицо в короткий воротник тужурки.
Я пожалел, что не поехал вторым. Тогда бы он не заметил, как я замахал ей рукой, и мне не потребовалось бы ничего объяснять ему, а у него на лице не появилось бы этой ехидной усмешки.
Но зато мне повезло в другом, оттого что я ехал впереди. Недалеко от станции я увидел на дороге пустой разбитый ящик, сколоченный из гладко оструганных досок и выложенный внутри блестящей жестью, и подобрал его. На всякий случай я крикнул людям, которые что-то делали у большого сарая:
— Это не ваш ящик?
Но они закачали головами, и я бросил ящик себе в сани. Теперь это был мой ящик. Если бы я подобрал его где-нибудь на земле господина Куркимяки, то я бы отвез его к нему на двор. Но большая дорога не была его землей, хотя и пересекала ее. По большой дороге ходили и ездили разные люди, и все, что находилось на ней, не принадлежало ему. Поэтому и ящик я не обязан был отдавать ему. Наверно, его обронила большая машина, ехавшая в город или из города.
Многое можно сделать из этого ящика и из этой красивой жести. Из них можно сделать хорошую блестящую полку и прибить ее к стене нашей комнаты у плиты. На нижнюю часть полки жести не хватит, но жена сумеет закрыть дерево, чтобы его не было видно, узорными полосками из бумаги. И тогда полка будет сверху выглядеть, как металлическая. Гвозди, которые торчат в ящике, тоже мои. Их вполне хватит на то, чтобы сколотить полку, и даже останется.
Когда-то я перевез на двор господина Куркимяки с отдаленного поля старый сарай, сколоченный из досок, в которых тоже оставались гвозди. Вот те гвозди уже были не мои. Я их все выдергал клещами, выпрямил у Пааво на наковальне и отдал старой госпоже Куркимяки, у которой были все ключи от кладовых и амбаров.
А те гвозди, которые оказались в досках, купленных мною для бани, были, конечно, мои. Я имел на них вполне законное право, потому что расплачивался за них своим трудом.
Как-то раз я нашел у опушки леса гаечный ключ. Его я отнес в кладовую Куркимяки, потому что это произошло на его земле. А в другой раз я нашел уздечку на большой дороге. Ее я не понес хозяину. Я только расспросил соседей, не потеряли ли они уздечки, а потом отнес ее домой. Я тогда в шутку сказал Эльзе:
— Вот и уздечка у нас теперь есть. Осталось только лошадь купить, и тогда все.
И она в ответ улыбнулась, но только как-то невесело.
О лошади, конечно, смешно было говорить. Какая там лошадь! Мы на корову откладывали марку за маркой. Ради экономии я перестал выписывать журнал «Suomen Kuvalehti»[17]«Финский иллюстрированный журнал». и газету «Kansan tyӧ»[18]«Народный труд»., перестал курить, хотя меня изрядно тянуло к табачному дыму, но и это мало помогало нам в сколачивании денег на корову. Все шло на пищу и одежду.
Богатство никогда не приходит само собой. Оно накапливается очень медленно, крошка за крошкой. Нужно только уметь копить, не жалея себя.
Вот у господина Куркимяки не пропадает даром ни одна тряпка, ни один обрывок резины или кожи, ни одна жестянка. Он все собирает, сортирует и потом отправляет куда-то.
Многие его вещи совсем состарились, и другой хозяин давно бы их выбросил к чорту, а у него эти вещи жили и служили. Старая телега, на которой я возил навоз, давно сгнила и ломалась уже несколько раз, и каждый раз я говорил ему об этом. Но он отвечал одно: «Починить надо». И я скреплял ее, как умел, гвоздями и планками, и снова возил на ней навоз, пока она снова не разваливалась. Но она все-таки служила, и деньги для покупки новой телеги по-прежнему оставались в кармане хозяина.
Вот как становятся богатыми у нас в Суоми, где один камень нагромоздился на другой, разделяя между собой людей, делая твердыми и холодными их сердца, где встали между людьми топкие болота, озера и леса.
Они объединяли людей в тяжелой борьбе за свою жизнь, эти преграды, и они же ожесточали их, делая их суровыми и нелюдимыми, возводящими между собой бесчисленные заборы из толстых жердей и колючей проволоки. Вся Суоми перегорожена такими заборами.
Мы долго ехали с маленьким Пааво по лесной дороге в то морозное утро. Ветки елей и сосен очень низко пригнулись к ней под тяжестью снега, и высокая дуга моего Яттиляйнена то и дело задевала их. Но это было, пожалуй, кстати, потому что снег не успевал сыпаться на меня. Он сыпался на Рейпаса и Пааво, следовавших сразу за мной. А Пааво после каждой такой порции вскакивал с саней, отряхивался и бежал за санями. Это было очень кстати, иначе он замерз бы на санях в своей тужурке.
Снег не хрустел и не скрипел, а прямо-таки звенел и пел под нашими ногами и полозьями. И снег, который сыпался сверху, был мелкий и сухой, как пудра.
Понятно, почему русские задержались на фронте со своим наступлением. Их удержал наш финский мороз и удержал снег.
Снегу было очень много в ту страшную зиму. Он придавил к земле все и возвел на ее поверхности толстые, рыхлые преграды. Когда дорога подходила к спуску в лощину, то мы видели сверху целое снежное море, захлестнувшее белыми волнами раскинувшиеся внизу леса.
Попробуй, пройди это море, в котором огромные деревья вместе с мохнатыми ветками потонули чуть ли не до середины стволов. Пока ты барахтаешься в этом море, тебя трижды просверлит насквозь финский пулемет или автомат.
А когда мы поднимались на бугор, то смотрели на такие же деревья снизу вверх, видя их целиком над своей головой от корней до вершины, особенно в тех местах, где дорога была врезана в каменистый верх бугра и где деревья столпились над заиндевевшими каменными отвесами срезов бугра.
Они столпились наверху, тяжелые и сонные от снега и мороза, словно седые великаны из детской сказки. Попробуй, преодолей этих великанов. Пока ты доберешься до них по отвесу камня, оживут сугробы у подножий толстых стволов. Из них вылетят сотни пуль и отбросят тебя назад с пробитой головой.
Конечно, это выглядит сказкой, когда замирает вся жизнь на земле, погребенная под пухлыми слоями снега, сверкающими розовым блеском на утреннем солнце. Но в ту зиму это было страшной сказкой, и не детям ее читать.
И кони наши с крупными сосульками у ноздрей и с толстым слоем пушистого инея по всему телу были непохожи на мирных рабочих коней. Они превратились в зверей из страшной сказки. Перед моими глазами между двумя толстыми оглоблями бежало огромное белое мохнатое чудовище, извергающее из ноздрей целые облака тумана.
А ведь как было бы хорошо, если бы не пахло в воздухе кровью! Тогда и дышалось бы легче, несмотря на лютый мороз. И веселил бы глаз блеск снега на утреннем солнце, и вовсе не страшными, а смешными и уморительными казались бы лошадиные морды, обросшие мохнатым инеем.
По-разному украшает бог нашу землю и все живущее на ней в разные времена года, чтобы могли мы почувствовать ее красоту и полюбить ее. Но нам некогда даже всматриваться в нее как следует. Мы то и дело истребляем друг друга или работаем так, что трещит спина. Кому нужно это?
Может быть, мне это нужно очень и Пааво также? Если мы с ним не будем воевать с другими народами, то потеряем все свои громадные богатства? Да. Так получается, хе-хе. Нам это нужно: мне и Пааво.
А вот для Вилхо все равно. У него нет таких богатств, как у нас. Он получает всего лишь восемь марок в час, то есть на две марки меньше, чем я получаю в день, и поэтому не видит в своей жизни ничего хорошего и не имеет желания драться ради нее с добрыми соседями.
У него все соседи живут лучше, чем народ в Суоми. Так, по его мнению, построен мир. Все народы живут, как в раю, кроме народа Суоми. «Он уж не говорит о России…»
Глупость остается глупостью, когда ее пытается выдать за умную вещь один человек. Но когда ее повторяют с самым серьезным видом очень многие, то она, пожалуй, перестает быть глупостью. Не могут же спятить с ума одновременно столько трезвых голов. Те два человека, которых арестовал Эльяс Похьянпяя, вовсе не выглядели глупыми и считались вполне степенными и рассудительными людьми.
Однако что-то уж очень редко и коротко писал мне мой братец. Он так и пояснил в письме: «Нарочно пишу мало, чтобы быстрее закончить письмо. Если продолжу, то начну ругаться. Ничего больше не идет на ум, кроме бранных слов. Так противно все…»
Интересно, что ему было там так противно. Ведь он был теперь ближе всех к своей любезной России. Радоваться ему следовало, а не браниться от такого соседства. Россия надвигалась на нас тяжелой, страшной тучей с юга, и он мог спокойно ждать ее и плясать от радости.
Совсем другое дело мы с Пааво. Нам было не до пляски и не до России. И свет божий сиял не для нас.
Херра Куркимяки торопил нас. Он и раньше не потворствовал медлительности в работе, а теперь напоминал нам о войне каждый день. И мы работали, как полагается работать во время войны, когда страна в опасности.
Нанять сезонных работников во время войны херра Куркимяки не мог, потому что их не было. А заготовка и подвозка леса для постройки мельницы и молокозавода должны были идти своим порядком, без промедления, раз уж это было задумано.
И вот мы с Пааво старались изо всех сил, чтобы не было замедления в работе, чтобы материал для постройки поступал непрерывно, чтобы все шло так, как будто сезонные работники вовсе не уходили на войну из рабочего домика усадьбы Куркимяки и продолжали работать вместе с нами; старались мы, чтобы кончилась поскорей эта война нашей победой и чтобы вернуться нам опять к мирной жизни, где ждет нас… где ждет нас… Что ждет нас в мирной жизни? Да господи, это же ясно как день. Конечно, не собственный клочок земли с лугами, пашнями и лесом. Ждет нас в мирной жизни все та же работа на чужой земле, с тем же напряжением изо дня в день, из года в год, всю нашу жизнь…
Невеселые мысли крутятся почему-то в голове, когда едешь, звеня полозьями по длинной белой дороге, среди белых застывших великанов на таком сильном морозе, от которого захватывает дыхание и стынут мозги в голове.
9
Как мы ни старались, но съездили в тот морозный день только семь раз, привезли четырнадцать бревен и к вечеру продрогли насквозь.
Но я был счастливее Пааво. Я только замешал лошадям клевера с отрубями и сбросил в кормушки сена, а потом пошел домой, где меня уже поджидали Эльза и дети, где пылала раскаленная плита и жарилась картошка.
А Пааво должен был дождаться, когда лошади остынут, чтобы их потом напоить и опять добавить им сена и другим лошадям также, а утром в четыре часа засыпать им овса и снова напоить водой.
И неизвестно, чем и когда накормит его самого коровница Кэртту Лахтинен на общей кухне рабочего домика, прежде чем ляжет он спать на жесткие нары.
Может быть, она еще будет сидеть целый час у себя в каморке, читая какую-нибудь «подлинную» любовную историю в журнале «Viikon loppu»[19]«Конец недели» (название журнала)., или будет сочинять письма для парней по адресам, которые в этом журнале публикуются, или, может быть, сама будет составлять объявление для журнала, в котором сообщит:
«Хэй, парни, высокие, черноволосые! Здесь интересная, веселая молодая девушка желает завести дружескую переписку. Жду ответа и фотокарточку по адресу…»
Бедная Кэртту! Обидел ее бог красотой. Не удалось ей завоевать сердце парня вблизи, так она пыталась это сделать издали.
А я пришел домой, бросил в сенях ящик и сказал Эльзе:
— Я тебе полку сделаю в воскресенье.
Потом я подержал на коленях детишек и спросил у них:
— Не проказили тут без меня? Ты, Лаури, во сколько пришел из школы?
Он ответил:
— В четыре часа.
Я взял на руки Марту, подбросил ее несколько раз кверху, шлепнул раза два и сказал:
— Ты тоже пойдешь в школу на будущий год. Хочешь?
Конечно, она хотела. Но надо было еще подумать о ботинках и пальто. Думать об этом становилось страшно, потому что все заметно вздорожало. Я спросил Эльзу:
— Что нового у Похьянпяя? Сообщение штаба слышала?
— Да.
— Ну и как?
— Им нанесли большие потери, но они еще немного продвинулись к Виипури.
«Интересно, как сейчас наш Вилхо себя чувствует?» — подумал я.
Кто мог знать об этом? Он, должно быть, в это время на своей шкуре узнавал, что такое Россия.
Я дал детям посмотреть старые журналы и сам перелистал их несколько штук просто так, не глядя. Тепло комнаты разогрело меня, и лицо мое пылало.
Хорошо иметь свой дом. Вот я перешагнул его порог и попал в свой родной теплый мир. А все трудное, холодное и неприятное осталось там, за дверью, и не было мне до этого никакого дела. Вся жизнь моя была тут. И кое-что в ней еще клеилось как-никак.
Эльза тоже была вся красная, стоя у плиты, и я подумал о том, какие у нее должны быть сейчас горячие губы. Это можно было бы тут же проверить, если бы не дети. Прошла та пора, когда я проделывал такие штуки при них.
Чтобы не сидеть молча, я сказал:
— Довольно тебе жарить. Сойдет и так. Кофе тоже будет?
— Да.
Я вспомнил:
— Приехала Хильда, как видно, на зимние каникулы. Может быть, зайдет в эти дни.
Жена сказала:
— Зачем ей заходить?
Я ответил:
— А в тот раз зачем заходила? Вот за тем и в этот раз. Просто так, проведать нас по-соседски.
Жена поставила на стол сковородку, отложила детям понемногу картошки на тарелки и сказала:
— Не просто так она заходила.
— А зачем же?
Жена подумала немного, кладя перед каждым из нас вилку и кусочек хлеба, потом села сама за стол и, когда все начали есть, сказала серьезно:
— На тебя любоваться.
Я вытаращил на нее глаза, не успев даже проглотить то, что положил в рот. А она с серьезным видом продолжала действовать вилкой и даже не глядела на меня. Но вдруг она рассмеялась:
— Ну, что уставился? Ешь.
И дети тоже рассмеялись, доставая вилками картошку с тарелок. Тогда я тоже стал есть, но при этом незаметно покосился на зеркало, висевшее на стене, и сам чуть не рассмеялся.
Действительно, было чем любоваться. Лицо крупное, худощавое и длинное, если мерить его от спутавшихся белобрысых волос до подбородка; а подбородок тяжелый и широкий, как лопата; губы тоже ему под стать по своей толщине и длине. А нос! Это был не нос, а сапог с загнутым кверху широким носком. А между ним и верхней губой было столько гладкого места, слегка выгнутого вперед, что тут вполне поместилась бы ладонь. И все это сейчас пылало и румянилось в тепле после мороза.
Любоваться на меня… хе-хе! Скажет же тоже моя курносая. Вот я ей задам скоро. Доберусь и до щек и до губ, пусть только улягутся спать детишки и погаснет свет.
Комната у нас маловата. От дверей до противоположной стены с окном на восток пять моих шагов, и то свободны на этом пространстве только три-четыре средние половицы. Всю правую сторону занимает плита и наша с Эльзой кровать, а левую — швейная машинка, стол и детская кровать. На этой же стороне второе окно, смотрящее на север.
Картоном у меня обшит лишь потолок и та половина комнаты, где стоят кровати. На остальное картона не хватило. Но я потратил на эту часть комнаты несколько десятков номеров «Kansan tyӧ». И хоть пестрыми стали стены, зато холод не так проникал внутрь.
Когда мы покончили с картошкой, я сказал Эльзе:
— Зачем ты всегда так много масла льешь на сковородку? Видишь, даже осталось на дне…
Она ничего на это не ответила. Это значит, что она со мной не согласна. А в таких случаях лучше с ней не спорить. Она подвинула сковородку поближе к детям, чтобы они обтерли ее хлебом.
Хлеб у нас не всегда бывал мягкий, потому что не было настоящей печки. А в духовке Эльза могла печь только тонкие, сухие хлебцы. Она пробовала иногда печь в духовке и мягкий хлеб, но он получался сырой и плоский.
Однако о настоящей печке в этом домике не приходилось пока думать. Ее можно было завести в каком-нибудь другом доме, на новом месте и там же заодно постараться, чтобы были две комнаты, а не одна, потому что дети растут. Нельзя же все время жить всем в одной куче.
Но когда и где будет это новое место? Этот вопрос постоянно грыз мое сердце, потому что мне уже в ту пору стукнуло тридцать семь лет, а Эльзе тридцать. Когда мы начнем свою новую жизнь и где? Если не скоро еще и если на трудной, каменистой или болотистой, земле в лесу, то сколько же лет будет нам к тому времени, когда мы наладим новую жизнь?
Я очень люблю сады, но если я посажу свой сад лет через пять или десять, то дождусь от него только красной смородины и крыжовника, а яблоков от яблонь разве только под глубокую старость, и то, если эта старость не нагрянет к нам раньше времени. А она непременно нагрянет раньше, ибо я знаю, каково корчевать лес, осушать болота и очищать землю от камней.
Стоит мне взглянуть хотя бы на эту длинную лощину, уходящую в даль, с ручьем посредине, чтобы ясно представить это. Я могу точно рассказать, сколько сил и пота должен отдать человек на то, чтобы такая лощина перестала быть болотом и чтобы к ручью с обеих сторон протянулись вместо густого леса ровные и обработанные поля, разделенные канавами.
Я глотал горячий кофе, смотрел на тугие красные щеки Эльзы, смотрел также в зеркало на себя и думал: надолго ли нас еще с ней хватит? Полжизни мы с ней прожили, а жить еще не начинали. Когда же мы начнем? Все время что-нибудь да мешало нам ее начать, а тут война эта подвернулась, черти бы взяли того, кто ее нам принес.
Война не только отодвигала от нас начало нашей новой жизни. Она принесла недостатки. Некоторые товары уже исчезли с рынка, и даже кофе стал появляться реже. Эльза недавно размолола последние зерна, а новых еще не купила. Я напомнил ей на всякий случай:
— Ты не забудь, что нейти Куркимяки может к нам зайти. Сбереги для этого немного.
Но нейти Куркимяки так и не зашла к нам в те дни. Она зашла гораздо позже, в конце апреля, когда страшная зимняя война уже осталась позади и ее опять отпустили на недельку домой.
10
И опять получилось так, что перед ее приходом к нам зашел Вилхо, вернувшийся домой живым и здоровым. Он появился так неожиданно, что я даже не успел сообразить, что это значит, и поэтому встреча получилась какая-то нерадостная, словно ничего страшного не было позади, словно мы только вчера с ним расстались.
Эльзы дома не было, когда он пришел, и в ожидании ее мы с ним поговорили о том, о сем. Я ожидал, как всегда, веселых шуток и анекдотов про финского мужика и заранее приготовился простить ему все насмешки ради нашей встречи. Но Вилхо как-то нехотя раскрывал рот. Видно было, что он просто устал. Я не хотел утомлять его и тоже молчал. Но вот он подумал немного и выдавил из себя:
— А я полагал, что у нас тут все изменилось за время войны. Радовался, когда окопы покидал. Но, оказывается, напрасно радовался.
Я удивился:
— А что должно было измениться?
Он облокотился о стол и положил голову в ладони. Он очень устал. Это было ясно видно. И говорил он вяло и тихо:
— Пришел я к себе, а мой Похьянпяя смотрит на меня таким же зверем, как и прежде, и та же лямка для меня уготована. И ты все на том же камне. А где же земля твоя?
Зачем он мне напомнил опять про это? Я загоняю поглубже свою тоску, чтобы не отравляла она мне жизнь, а ему зачем-то понадобилось опять расшевелить ее. Моя земля? Видит бог, как тоскуют по ней мои руки. И никто даже представить себе не может, что сделал бы я с ней, если бы получил ее. Но как получить? Не свалится же она с неба сама. Какой толк об этом говорить?
— Ты приляг лучше, Вилхо. Я уже послал ребятишек за Эльзой. Она придет и сготовит нам что-нибудь.
Он посидел еще немного, уткнувшись лицом в ладони, потом выпрямился и сказал:
— Уже не первый раз кровь проливается даром.
Я сказал:
— Как даром? Ведь мы же удержали русских…
— И очень глупо сделали, — перебил меня Вилхо.
Я даже глаза вытаращил на него. Что он такое говорит? Или от усталости все перемешалось в его голове?
А он продолжал:
— Пускай бы стукнули по башке кое-кого. Что смотришь? Не тебя, конечно. Таких, как ты, они не бьют. Таких они снимают с пустого бугра и сажают их на самую жирную землю в лощину.
Я встал и выглянул в сени. Там никого не было. Из окна тоже никого не было видно.
Я поправил подушки на постели и сказал:
— Сними пальто и ложись, Вилхо. Отдохни немного.
Нельзя было давать человеку продолжать говорить такие вещи. Бог знает, до чего он мог договориться со своей усталой головой. Но он не захотел лечь.
И в это время я увидел в северное окно нейти Хильду. Вилхо сидел спиной к окну и не видел ее, а я видел, как она перешла через ручей и поднялась на бугор.
И не ожидая на этот раз ее стука, я сам открыл ей двери и сказал:
— Милости просим, нейти.
Она вошла, и опять в комнате запахло удивительными цветами. На этот раз она была в коричневом пальто из толстого драпа, потому что на дворе было еще холодно и не везде растаял снег. Пальто ее было перетянуто кушаком, как и платье в тот раз, и это делало ее похожей на букет цветов, стянутый посредине.
Все перемешалось в этом букете, все цвета, особенно у ее белой шеи, где пальто было всего шире. Там из-за коричневого драпового воротника выглядывала зеленая блузка с белоснежным воротничком и высоко вылез наружу шелковый шарфик, разрисованный красными, голубыми и желтыми цветами.
Но лучшим цветком в этом букете было ее лицо с нежной кожей, маленьким широким носом и большим красным ртом. На нем весело блестели два темно-карих глаза с длинными черными ресницами, и дополнялось оно с боков прядями темно-русых волос, на которых сверху сидела рогатая шапочка, разноцветная и яркая.
Она протянула мне руку, косясь при этом на Вилхо, и сказала:
— A-а, и Вилхо здесь, здравствуйте, Вилхо!
Он встал, соединил ноги вместе и, слегка наклонив голову, пожал ей руку. Потом снова сел, отбрасывая рукой назад свои длинные светлые волосы. При этом он почему-то взглянул на свою шляпу, висевшую на гвозде.
— А я опять мимоходом, можете себе представить? Здесь удивительно живописные места, в этих краях, а ваш уголок, осененный отвесной скалой с растущими на нем деревьями, просто очарователен. Я готова без конца любоваться им. Это красивое нагромождение камней и скал и быстрый холодный ручей у их подножия напоминают картину из какой-то волшебной сказки. Вы не находите этого? А ваш красный домик с белыми окнами, оживляющий все это, определенно вылеплен из пряников и сахара. И в комнатке у вас удивительно симпатично. На каждом предмете печать финской опрятности. А где Эльза?
— Она сейчас придет.
— Превосходная комнатка. А брат ваш давно пришел? Он, вероятно, уже успел вам рассказать много интересного о войне?
Она говорила так, обращаясь только ко мне, но сама то и дело поглядывала на Вилхо, смотревшего мимо нас.
Вилхо вдруг встал. Он слегка поклонился нам обоим и сказал:
— Прошу меня извинить. Я совсем забыл, что мне еще в одно место срочно нужно зайти.
И он потянулся к своей шляпе, висевшей на гвозде.
Боже мой, как она взглянула на него в эту минуту! Так смотрит один человек на другого, когда тот хочет убить его, а он молит: «О, не убивай! Дай мне еще подышать немного! Пощади меня!» И при этом даже губы ее сложились так, словно она готова была вот-вот расплакаться, как ребенок. И мне показалось, что она даже проглотила первый комок слез, подступивший к ее горлу.
И пока он шел к двери, она все следила за ним широко раскрытыми глазами, в которых застыла эта мольба и бог знает что еще. А когда дверь за ним закрылась, она опустила их вниз и начала теребить пальцами свои перчатки. Но потом снова подняла голову, повернулась к окну и еще раз повторила:
— Хорошо у вас тут…
Однако тон ее голоса был такой, как будто она говорила: «Как печально у вас тут». Глаза ее незаметно следили за Вилхо, пока тот не скрылся за соседним бугром. Потом она опять обернулась ко мне.
А я все еще никак не мог отделаться от того выражения, с каким она смотрела на Вилхо, и не знал, что ей сказать. Перед моими глазами только что произошло что-то удивительное. Я сказал, чтобы не молчать:
— А вы надолго к нам, нейти?
Она охотно ответила:
— Нет, не надолго. Послезавтра Вихтори присылает за мной машину из Хельсинки.
Видно, и она готова была говорить о чем попало, лишь бы замять неловкость, которая получилась от ее молчания во время ухода Вилхо.
Я еще подумал немного, подбирая какой-нибудь вопрос, но она заговорила первая:
— А Вилхо много интересного вам рассказал? Как они там воевали?
Я вспомнил, что Вилхо пришел ко мне очень усталый и, наверно, хотел есть и спать. Какой чорт гнал его отсюда? Ведь никуда ему не нужно было уходить. Просто блажь очередная. И я ответил с досадой:
— Они так сильно били русских, что русским ничего не оставалось больше, как взять у нас Кякисальми, Сортавала и Виипури. Если бы они продолжали их бить, то русские взяли бы у нас Лаппеенранта, Хельсинки, Тампере и бог знает что еще. Но слава богу, что они перестали их бить.
Она засмеялась и сказала:
— Уж очень вы мрачно острите.
В это время вошла Эльза с Мартой и Лаури. Хильда сразу обратилась к ней:
— Здравствуй, Эльза. Или мы виделись уже с тобой?
Та кивнула головой:
— Виделись.
— Какие у тебя дети большие стали.
Нейти Хильда, как видно, забыла, что она уже говорила это в прошлый раз. А Эльза, поглаживая детские головы, ответила точь в точь, как прошлый раз:
— Помощниками скоро будут.
Ох, и ядовитая же она у меня бывает, когда ей что-нибудь не понравится. Хильда, наверно, поняла это, но не показала виду. Она надела перчатки и встала:
— Засиделась я у вас, а ведь пора идти. Ну, извините, что отвлекла вас от дела.
Я сказал:
— Пожалуйста, нейти. Но, может быть, посидите еще немного? Куда вам спешить? Эльза кофе сварит…
— Нет, нет, благодарствуйте. Меня ждут, наверно, дома. До свиданья.
Я проводил ее, следя за тем, как она спускается по склону бугра. Чулки ее уже были забрызганы грязью. На доске она поскользнулась и чуть не упала в ручей. А перейдя ручей, пошла быстрее, не глядя по сторонам. Широкие полы пальто били ее по икрам то справа, то слева в такт ее шагам.
Небо было серое. Сверху начал накрапывать дождь. Я хотел немного подумать над тем, что произошло, но дождь усилился, и я вошел в дом.
11
Эльза и дети уже чистили картошку. Эльза спросила меня:
— Зачем же ты отпустил Вилхо?
Я развел руками. Что я мог поделать? Разве его удержишь?
Она помолчала немного, продолжая чистить картошку, и потом сказала задумчиво:
— Неплохая вышла бы из них пара, если бы он тоже любил ее.
Вот об этом-то я и хотел немного подумать, но я не люблю, когда мне мешают. Она вечно выскакивает со своими словами, хотя ее и не просят об этом.
Я надел дождевик и вышел во двор. Делать мне было нечего, но я потолкался туда-сюда, чтобы не стоять на месте.
Ветер дул с юга, и косой дождь хлестал как раз по задней стене моего дома, возле которой были сложены распиленные и расколотые дрова. Крыша не спасала их от косого дождя, идущего с юга от скалы, и по ним стекали вниз крупные капли и целые ручейки.
Было приятно ощущать это тепло и сырость после длинной морозной зимы. Тепло почему-то всегда идет с юга: и ветер, приносящий оттепель, и дождь, смывающий с полей снег, и приятное тепло солнца.
Жаль только, что мой дом почти не видит этого солнца, заслоненного скалой. Но зато он вдоволь получает теплого дождя и ветра.
Я поправил куски бересты, которыми были накрыты сверху дрова, и подумал о том, что нужен сарай. Не только для дров он был нужен, но и для чего-нибудь другого мог пригодиться. Ведь мы не перестали мечтать с Эльзой о корове.
А для сарая нужны доски, которые сами с неба не свалятся. За них нужно платить марками или вот этими руками, на которых жилы извиваются, как весенние вздувшиеся ручьи среди каменистых бугров.
Стены для сарая я мог сделать без досок. Я уже начал выкладывать их из камня левее грядок, у скалы. Камни лежали целой грудой тут же, левее бугра, внизу, и я вкатывал их по воскресеньям наверх. Стены сарая получались толстые, как у крепости. Но это неважно. Дольше простоит. Однако для крыши и потолка все равно нужны были доски.
Только погреб свой я выстроил без досок. Я воспользовался нижней частью большой трещины в скале, чуть правее грядок. Я расширил эту трещину ломом и молотом, соорудил толстую арку из камней, плотно обмазав их глиной, а вход привалил большим плоским камнем.
Погреб получился небольшой, но не так уж много требуется места для пяти мешков картошки и кадки с грибами или ягодами. А найти между ними еще место для кринки молока или куска сала, масла, сыра всегда можно. Было бы только сало или масло, или сыр.
Зимой я обкладывал свой погреб соломой и заваливал снегом, а весной опять раскрывал, чтобы проветрить его теплым воздухом, идущим с юга.
Я отвернулся от погреба, чтобы он не мешал мне думать, и стал глядеть в ту сторону, где лощина подернулась туманом от дождя. Я повернулся к ветру спиной. Какое мне дело до теплого воздуха, идущего с юга? Оттуда вовсе не всегда шло все теплое и хорошее. Зимой оттуда надвигалось на нас что-то очень страшное и холодное. Россия шла тогда с юга.
А Вилхо сболтнул такую глупость: «Если бы они пришли…» Даже война не вправила ему мозги. Радоваться надо, что они не прошли дальше Виипури.
Я выровнял ногой грядки. Они в эти теплые и сырые дни весеннего таяния начали растекаться по краям. Я поправил их слегка ногой, а потом начал таскать от будущего сарая мелкие камни и осколки и обкладывать ими грядки, чтобы не унесло мою землю дождем по каменистому склону бугра.
Маленькую клумбу, которую Марта соорудила для своих цветов, почти совсем унесло. Кучка земли осталась только у жиденьких засохших стволов подсолнечника. Нет, не место здесь подсолнечникам. Не попадает на них солнце. Не успевают они расцвести, чтобы порадовать детский глаз.
Хорошо ему говорить: «Сидишь все на том же камне». А как уйти с этого камня? И куда уйти? На другой такой же камень? Ведь это только в его глупой голове появляются такие благодетели, которые готовы наделять людей жирной землей в лощине. Но даже и его, кажется, они еще ничем не наделили. Ходит он все в том же единственном костюме и в том же пальто, и по-прежнему он один на свете, хотя мог бы и не быть один…
Я перестал возиться с камешками у грядок, прополоскал в лужице руки и снова выпрямился. Дождь, идущий с юга, хлестал мне в лицо, и я опять отвернулся от него.
Да. Он мог бы и не быть один. От него это все зависело. И ведь так просто могло все уладиться. Бог ты мой! Какой случай давался ему в руки. Вилхо! Какой же ты дурак…
Я смотрел в ту сторону через ручей, куда ушли они оба, один за другим. А ведь они могли быть вместе и приходить ко мне тоже вместе. И кто знает, может быть, и не сюда уже приходить ко мне, а в другое место. Ведь я же брат ему. И чем тогда стал бы для меня херра Куркимяки?..
Много разных вещей передумал я в тот день под проливным дождем. И я кое-что придумал такое, что не всякому может прийти в голову, но не сказал об этом никому, даже Эльзе. Что может понять женская голова?
Она хоть и завела опять за обедом разговор о Вилхо и Хильде, но это был пустой разговор. Додуматься до того, что придумал я, ей было не под силу. Женщина есть женщина.
Я сказал ей:
— Надо будет как-нибудь сходить к нему в воскресенье.
12
Но мне не скоро удалось к нему собраться. Каждый раз подвертывалось какое-нибудь новое дело. К тому же нейти Куркимяки на этот раз долго не возвращалась домой из своего университета. Появилась она лишь к середине лета. И после этого мне удалось, наконец, вырваться к Вилхо и позвать его в гости.
Он очень обрадовался, когда я пришел, и так пожал мне руку, что у другого от этого, наверно, сломались бы пальцы. Мне даже неловко стало при виде его радости, словно я замыслил против него что-то недоброе. Но ведь я ничего не замыслил. Я только пришел пригласить его в гости на следующее воскресенье. Вот и все.
Он обещал прийти и угощал меня, чем мог. Потом он показал мне свои новые книги по истории Финляндии и по разным государственным и политическим вопросам, показал большую энциклопедию, разные справочники и целую кучу романов. Вот на что тратил он деньги.
Потом он показал новые перчатки для бокса и даже смазал меня ими раза два по уху. Мне приятно было видеть его опять веселым и живым, таким, как до войны. Снова появился прежний красивый светловолосый мальчишка с насмешливыми огоньками в голубых глазах.
Потом другие ребята заиграли на мандолине и запели, и он тоже начал подпевать. А потом они собрались в рабочий дом на танцульку, и Вилхо проводил меня до дороги. А я напомнил ему еще раз:
— Так ты приходи с утра пораньше.
Он обещал:
— Хорошо, приду.
На этом половина моего дела была сделана.
После этого мне оставалось только встретиться с нейти Куркимяки. И когда я, наконец, встретил ее, то подошел поближе и сказал:
— Здравствуйте, нейти.
Она протянула мне руку и спросила:
— Ну, что нового? Все у вас живы-здоровы?
— Все живы-здоровы, нейти. Что нам сделается?
Она помедлила немного, потом спросила:
— А Вилхо как преуспевает?
Я пожал плечами.
— А что ему? Здоров как бык.
— Он давно был у вас?
— А вот с тех пор еще не был. Но в воскресенье, кажется, собирается забежать.
— В это воскресенье?
— Да, утром хотел зайти.
Она оглянулась и сказала:
— Какая хорошая погода установилась.
Я ответил: «Да». И мы разошлись на этом.
Все шло так, как я задумал. И напрасно меня грызла неловкость перед братом. Все шло к тому, чтобы ему же лучше стало. Он ведь сам не мог понять, что ему нужно. Приходилось об этом позаботиться старшему брагу, который лучше знал жизнь.
Ну, конечно, его судьба коснется и меня. Как же иначе? Надо же в конце концов найти выход из того тупика, в который я уткнулся на своем голом каменистом бугре. Не сидеть же мне там до гробовой доски. А если руки не сумели этому помочь, то пусть поможет голова.
Я был доволен своей выдумкой и ждал воскресенья. Я нарочно назначил обоим утро, потому что утром Эльза еще доила в коровнике Куркимяки коров, а детей я отослал на соседний хутор и запретил им возвращаться раньше обеда.
13
Когда на бугор пришла Хильда, я был дома один. Я показал ей наш огород и погреб, и цветы, посаженные Мартой, и кусты малины и смородины, и даже начатые из камня стены сарая. А она смотрела и восхищалась:
— Какая прелесть! Это бесподобно. Знаете, Эйнари, вы просто волшебник. Вы оживили камень и создали какой-то сказочный мирок среди этого нагромождения мертвых скал.
Не знаю, чем тут было восхищаться. Может быть, она думала, что для меня это было большим удовольствием долбить в разных местах камень, ворочать его, таскать на себе камень, жить на камне, носить землю на камень и потом дрожать за каждую горсть этой земли, чтобы ее не смыло с камня весенней водой?
А каким бы волшебником она меня назвала, если бы я посидел годика три-четыре на настоящей земле? Но ничего, голова у меня на плечах росла недаром. Пусть она некрасива, с худощавым скуластым лицом и носом, изогнутым, как сапог, но мозги в ней были не хуже, чем в любой другой голове, и работали, как надо.
Что ж делать! Без хитрости не проживешь на этом свете. Каждый в жизни изворачивается по-своему. Почему бы и мне не попробовать? Хитрить так хитрить.
Только перед Вилхо мне стало неловко, когда он пришел. В его красивых голубых глазах появилось опять столько радости при виде меня, и мою руку он взял в обе свои руки. Видно было, что я один у него на свете. А я так хитрил с ним. Но уже поздно было исправлять начатое. Я открыл дверь в комнату и сказал:
— Заходи, Вилхо. Сейчас Эльза должна прийти. Да! Я и забыл тебе сказать. Вот нейти Хильда у нас. Тоже зашла на минутку. Она всегда заходит к нам, если идет мимо. И вот сегодня тоже… Почему не зайти, если близко?
Я заметил, что нейти Хильда с удивлением вскинула на меня длинные ресницы, но мне уже было все равно. Я свое дело сделал, а дальше все должно было покатиться без меня.
Загорелое лицо Вилхо сразу стало серьезным, когда он ее увидел, и одну-две секунды он помедлил, глядя в пол, словно обдумывал, не повернуть ли ему обратно. Но она уже встала ему навстречу, улыбаясь во весь широкий красный рот, и он вежливо наклонил голову, протянув ей руку.
Трудно было не протянуть ей руку, потому что выглядела она в этот жаркий летний день, как солнце, в своем тонком белом платье, стянутом красным кушаком.
Я потолкался немного по комнате, потом сказал:
— Ты присядь, Вилхо. И вы, нейти, посидите, если вам не к спеху. А я сейчас… одну минутку…
И я вышел во двор. Но делать мне там было нечего, и чтобы не толкаться у них на глазах под окнами, я подошел к дому с задней стороны и развалился там на дровах, прислонившись головой к стене. Хватит с меня. Я свое дело сделал и не собирался больше даже пальцем шевельнуть во всей этой истории.
Широкая скала уже успела заслонить от меня жаркое солнце, постепенно уходящее с востока на юг, и я зажмурил глаза в прохладной тени. Сначала все было тихо кругом, если не считать голосов птиц, порхающих в кустарнике и ветках березы на вершине скалы, где солнечным светом были пронизаны каждый лист и каждая былинка. А потом сквозь стену я услышал голос Вилхо:
— Вы курите?
И я удивился тому, что он прозвучал так отчетливо. Даже стук сигареты по крышке портсигара ясно дошел до моего уха. И ее голос тоже прозвучал как бы совсем рядом со мной:
— Нет, благодарю.
Это мне совсем не понравилось. Это означало, что в двойной стене моего дома не совсем равномерно распределились опилки. И я теперь понял, почему это так получилось. Они были сырые и смерзлись в комки, когда я сыпал их в промежуток между наружными и внутренними досками, составляющими стены моего дома. И хотя я их утрамбовывал сверху длинной доской, они все-таки застревали местами, не укладываясь плотно слой на слой.
А потом они высохли, и тогда нижние слои осели плотнее, увеличив пустые промежутки в тех местах, где часть опилок застряла на поперечных перекладинах и возле стоек, не дойдя до низу. Поэтому так отчетливо долетало до меня каждое слово, сказанное в комнате.
— Почему вы так редко бываете в наших краях?
Это она задала такой вопрос. А он ответил:
— А что же мне здесь делать?
Она опять сказала:
— Ну… брата навещать и вообще… разве у нас так плохо?
Он помолчал секунду — наверно, затягивался сигаретой, — потом ответил:
— Брат останется братом до конца жизни, хотя бы мы с ним и вовсе не встречались.
Теперь я понял, почему в сильные морозы картон в некоторых местах комнаты становился сырым и так быстро уходило из нее тепло. Раньше мне это не приходило в голову. А теперь эти голоса за стеной дали ясно понять, в чем тут дело.
Я приподнял слегка голову и попробовал приложить ухо к другому месту стены. Но и там так же отчетливо проникли до моего уха ее слова:
— А больше вас тут ничто не привлекает?
И еще легче проникли его слова, потому что голос у него был сильный и густой:
— А что бы, например, могло меня здесь еще привлекать?
После этого послышались как будто шаги. Наверно, она встала со своего места и подошла к нему.
— Вилхо!
Она сказала это совсем тихо, почти шепотом, но слышно было все отчетливо и можно было догадаться по тону этого голоса, как смотрят на него в этот момент опять ее глаза.
— Помните нашу первую встречу там, на танцах в рабочем доме? Тогда вы говорили со мной совсем по-другому.
Он буркнул ей в ответ угрюмо:
— Я тогда не знал, кто вы.
— А разве теперь это что-нибудь меняет?
Он ответил:
— Очень даже меняет.
— Что же именно?
— Ставит каждого на свое место. Вы нейти Куркимяки, а я Вилхо Питкяниеми. И не будем больше об этом говорить.
Мне хотелось взять в руки полено и попробовать постучать по стене. Это помогло бы высохшим опилкам сверху просыпаться вниз. Но в это время нейти Хильда рассмеялась, и я подумал: «Зачем я буду их пугать?»
Странный был у нее на этот раз смех. Какой-то горький смех, словно она вовсе не собиралась смеяться.
Но обстукать стенки все-таки следовало, только не поленом, конечно, а обухом топора, чтобы основательно встряхнуть доски. А пустоту, которая образуется наверху между обоими рядами досок в каждой стенке после того, как опилки немного осядут вниз, — пустоту можно будет заполнить мохом. За опилки нужно платить марками, и везти их надо на чужой лошади от лесопилки Ахонена. А моху я могу натаскать из болота бесплатно, потом обсушить его и напихать сверху с чердака в пустоту стенки.
Все это можно было не откладывать на следующее воскресенье, но уж такой выпал мне день, что с утра бездельничали мои руки. Вместо того чтобы делать дело, я сидел развалясь и слушал, как молодая девка поучала молодого парня:
— Мне трудно понять, когда вы говорите так. И вы оказались заражены классовыми предрассудками. Применительно к нашим отношениям это было бы лишено всякого смысла. А вы слишком рассудительны, чтобы впасть в такое заблуждение. Или я ошибаюсь? Неужели ошибаюсь? Это было бы печально. Я, вероятно, никогда не буду в состоянии понимать таких людей, цель которых вносить разлад внутри своей же страны, своей нации. К чему это?
— Вот как! Нейти собирается преподнести мне новую теорию?
Девка поучала парня, а парень не очень-то поддавался.
— Совсем иные принципы движут миром, поверьте мне. Даже слепому должно быть ясно, что подчиняется все в жизни случаю. Каждый поворот в жизни человеческого общества — это случайность.
— Нейти, видимо, не знакомилась еще с величайшим ученьем, научно доказывающим закономерность каждого явления в жизни общества.
— Знаю, что́ вы имеете в виду. Глупости все это. Уверяю вас, что не в этом дело, Вилхо. Не этим определяются судьбы человечества. Жизнь идет вперед своим самостоятельным путем. Ее вы не уложите ни в какие схемы. И в ней играют главную роль любовь и ненависть, добро и зло, ум и глупость, честность и подлость, красота и уродство.
Она помедлила немного, подбирая еще какие-то сравнения, а он воспользовался этим и ввернул:
— Богатство и бедность, пресыщение и голод.
И он усмехнулся, сказав это. О, у этого парня было кое-что в голове!
Она попробовала возразить ему:
— Богатство и бедность — понятия очень относительные, и трудно подобрать к ним какую-то стандартную мерку.
Но он сразу подхватил:
— Да, в особенности к такому сопоставлению, как четыре грядки Эйнари Питкяниеми и 470 гектаров земли Хуго Куркимяки.
Она сказала, уже сердясь:
— Все это вздор, и совсем не в этом дело. Англичане говорят: «Не тот счастлив, кто богат, а тот, кто доволен тем, что имеет». Твой Эйнари в душе, быть может, во много раз богаче моего отца, который не знает ни сна, ни покоя от бесконечных забот.
Я приподнялся и сел на дровах, услыша это. Как бы не так, прекрасная нейти! Душа душой, а если в живот заложить нечего, то из души для этого тоже ничего не зачерпнешь. И недолго протянет сама душа, если ее не подкормить во-время.
Не понял я, что ответил ей Вилхо. Может быть, ничего не ответил, а только пожал плечами. Была у него и такая привычка.
Она выждала немного и снова начала:
— Вы напрасно пытаетесь мне доказать…
Но он перебил ее:
— Я ничего не пытаюсь вам доказать, нейти. Это вы пытаетесь. Однако должен признаться, более ребяческих рассуждений…
Тогда она прервала его совсем другим тоном:
— Ах, оставим это, Вилхо! Оставим это. Разве я об этом пришла с вами говорить? Бог с ними и с богатством, и с гектарами, и классами. Обещайте ответить мне на один только вопрос.
Я осторожно уперся руками в дрова и встал. Нельзя же было без конца сидеть и слушать. Не для меня велся весь этот разговор. И если стена оказалась такой неплотной, то это вовсе не оправдание для подслушивания.
Я осторожно поправил дрова, которые слишком широко расползлись в том месте, где их ежедневно брали для топки. А голос нейти Хильды за стеной настойчиво повторил:
— Обещаете? Только говорите правду.
И Вилхо буркнул ей в ответ:
— Не вижу причины врать.
— Скажите, Вилхо, — голос ее был удивительно нежный и тихий, когда она опять заговорила. — Скажите по совести (я опять о нашей первой встрече). Помните, что вы сказали мне тогда, провожая меня домой?
— Ну…
— Помните?
— Да.
— Было ли это сказано от всего сердца?
— Зачем об этом теперь вспоминать?
— Но вы обещали ответить на вопрос.
Он молчал. Я приподнял полено, чтобы положить его повыше, но не клал. Полено могло слишком громко стукнуть, могла зашуршать береста.
— Я жду, Вилхо.
Для него это было, как видно, нелегким делом. Но он ответил, наконец:
— Я и сейчас готов это повторить.
И она засмеялась тихим счастливым смехом. Но он сразу же оборвал его:
— Повторяю: это ничего не меняет.
— Меняет, Вилхо. Все меняет. Глупый ты мой! Что может быть сильнее того, что было сказано в ту дивную летнюю ночь? Все бледнеет перед этим. Позволь мне коснуться твоих чудесных волос. Вот так. Ну, не отнимай же свою голову, упрямый ты мой мальчик…
Я все-таки отошел немного от дома. Не для моих ушей говорились все эти слова. Я отступил к грядкам, росшим в тени большой скалы, и стал внимательно разглядывать пробивавшуюся на них жизнь.
Лучше всех зеленел укроп. Но и морковь довольно изрядно вытянула вверх свои мохнатые хвостики. Эльза уже успела их прополоть. Свекла и брюква едва пробились и требовали больше ухода.
Горсточка гороха, брошенная на кончик одной из грядок, прилегающей к скале, тоже дала свои зеленые всходы. Их тонкие усики уже начали цепляться за шероховатую поверхность отвесного камня и тянуться вверх к свету и солнцу, которого им никогда не увидеть. На эти концы грядок солнце не попадало даже утром.
По солнцу меньше всего скучала, пожалуй, картошка, росшая на трех других грядках. Она пробилась наверх дружно и ровно. Но цветы моей Марты, посаженные по краям, выглядели чахлыми и не издавали никакого запаха. А подсолнечники на отдельном комочке земли, обложенном камешками, едва пропихнули из-под земли наверх свои первые четыре листика.
Я не хотел слышать голоса, проникавшие сквозь стенки дома. Но они сами доходили до моих ушей. Даже стоя у скалы, я слышал отчетливо почти каждое слово. Девка считала, что завоевала парня, а парень и не думал подчиняться ей, хотя на время как будто и поддался. Он говорил:
— Зачем я буду отрекаться от своих слов? О том, что ты чудеснейшая девушка в мире, несмотря на свои странные мысли, я готов повторить сколько угодно раз. И случись мне выбирать среди сотен других, я не колебался бы ни минуты, хотя и сам не могу себе объяснить, чем завоевала ты мое сердце. Нравится мне твоя практичность в делах житейских. Это я знаю. Ты не залетаешь высоко, не грезишь о разных глупостях, как многие другие девушки твоего возраста и твоего класса. Ты трезво выбрала себе определенный скромный путь и ясно представляешь его себе до конца.
Тут она вставила:
— Да, да, Вилхо. Я не была бы тебе в тягость. Я окончу аспирантуру и буду преподавать историю искусств.
А он продолжал тем же ровным томом, кажется, даже не слушая ее:
— По крайней мере у меня почему-то остался в памяти даже тот маленький случай, помнишь? Я влезал на черемуху, чтобы сорвать для тебя лучшие верхние цветы. Оборвалась пуговица у моего сюртука, а у тебя сразу нашлись спрятанные в каких-то тайниках твоей блузки целых три иголки с тремя нитками разного цвета. И ты с такой деловитостью и аккуратностью тут же водворила на место отлетевшую беглянку.
— Да, да, Вилхо. Как хорошо, что ты помнишь все!
— Но не в этом дело. К чему напрасно расстраивать себя воспоминаниями? Все упирается в один простой вопрос, который я сейчас тебе задам.
— Да. Я слушаю, Вилхо.
— Способна ли ты навсегда порвать со своими родителями, если выйдешь за меня замуж?
— Вилхо! Ну что за чепуха! Ты это серьезно?
— Я задал вопрос и жду ответа.
— Но это же смешно, Вилхо. Зачем нам уподобляться каким-то героям или героиням из слащавых старинных романов. Мы же в двадцатом веке живем. У нас имеется свой здравый смысл.
— Это все, о чем я хотел спросить вас, уважаемая нейти Куркимяки.
— Но боже мой! Это же совершеннейшая глупость ставить такие условия. Ты просто не подумал об этом серьезно, Вилхо. С какой стати… зачем? Ну скажи, что ты шутишь, скажи, Вилхо.
Вилхо молчал, а ее голос опять проник сквозь тонкие стены дома до самой скалы.
— Боже мой, что делать мне с этим сумасшедшим! Слушай, Вилхо. Я ценю твое самолюбие, но это же переходит все границы. И уверяю тебя: это даже неумно в конце концов.
— Пусть будет так. Но это лучше, чем уронить себя в собственном мнении или в глазах людей, в глазах товарищей.
— Ах, тут опять товарищи!.. Вилхо, милый!.. Ну послушай…
Я попробовал отойти в другую сторону от дома, туда, где бугор круто обрывался. Но и туда доносились их голоса. Женский голос умолял и убеждал. При этом он был таким нежным, каким только и может быть женский голос, когда в нем звучат любовь и слезы. А мужской голос звучал упрямо и ровно.
Был момент, когда женский голос стал совсем тихим, как будто девушка заговорила одним дыханием. И в этот момент я взглянул на окно, выходящее на восток. Наискосок сквозь это окно я увидел также второе, в другой стене, обращенной на север. А в просвете обоих окон увидел их головы.
Они оба стояли посреди комнаты, и лица их находились совсем близко одно от другого. Она смотрела на него снизу вверх, и губы ее шевелились, шепча что-то, и тянулись к его губам. А он смотрел на нее сверху вниз и тоже что-то говорил, слегка качая головой, но не пытался приблизить свои губы навстречу к ее губам.
Я очень короткое время смотрел в окно и сразу же опять отошел в сторону. Я совсем спустился с бугра, схватил большой камень и начал его вкатывать наверх к тому месту, где строился мой сарай. Что-то надо было делать. Я не хотел больше слышать ни одного слова и не хотел сидеть сложа руки в воскресный день.
Я вкатил наверх камень, а потом спустился за другим. Я вкатывал и носил наверх разные по величине камни, обливаясь по́том от напряжения, и только один вопрос все время крутился в моей голове: сблизились ли их губы или нет?
Пришла Эльза. Она сварила кофе и сделала яичницу. Разговора за столом было мало. Шуток не было совсем. Хильда улыбалась моей Эльзе, расспрашивая ее о хозяйстве и детях, губы ее улыбались, а глаза хотели плакать.
Ушли они от нас одновременно. Но перед этим Вилхо подошел ко мне и спросил тихонько:
— Не тебе ли я обязан этой встречей?
Он не сказал ни «прощай», ни «до свиданья», и пошел за ней, очень вежливо поддерживая ее на склоне бугра и на широкой доске через ручей.
А я сразу же опять взялся за камни. Я вкатывал их наверх подряд, не глядя на размер. Я даже был рад, когда попадались очень тяжелые, готовые раздавить меня своей тяжестью. Но я и с ними справлялся. Мне нужно было заглушить что-то неприятное и тяжелое, засевшее вдруг в моем сердце, и я дрался с камнями, как зверь, обливаясь потом.
Никогда еще не переворочал я столько камней, как в этот день. Но, ворочая, раскалывая их и укладывая в толстую стену будущего сарая, я твердо знал одно: их губы не сблизились.
14
Вилхо перестал ко мне заходить. Не ходила и нейти Хильда. Я встречал ее изредка и только издали приподнимал шляпу. А она улыбалась мне одними губами и только слегка кивала головой.
О Вилхо я слыхал от некоторых его приятелей. Говорили, что он жив и здоров, много работает и много читает. Ну и слава богу, что жив и здоров. Сам я тоже не шел к нему. Я бы не сумел взглянуть прямо в его смелые голубые глаза.
К осени приехал в отпуск из Хельсинки Вихтори Куркимяки и сразу начал свои встречи с новыми боксерами в рабочем клубе. И опять все увидели на ринге хорошо работающий сухой подвижный механизм, у которого кулаки всегда точно попадали в то место, куда он их нацеливал.
Он победил троих, пока не дошла очередь до Урхо Юкола. Урхо Юкола держался дольше всех и сделал ничью. Но на следующий день он получил вызов от Вилхо, который уложил его на первом же круге.
После Урхо Юкола не по силам оказался для Вихтори Куркимяки длиннорукий плотник Нильс Хаапанен. Он вышиб из молодого Куркимяки сознание на четвертом круге. А через три дня он сам лежал на брезенте с окровавленным лицом и не смог подняться даже на двадцатом счете. Свалил его Вилхо.
И говорят, что это стало правилом в нашем рабочем клубе. Там так и говорили: «Кто свалит молодого Куркимяки, тому непременно лежать в ногах у Вилхо». Но никто не знал, что заставляет Вилхо так поступать. Даже сам Вихтори не знал этого.
Он пытался узнать и потребовал объяснения. Но Вилхо ничего ему не ответил, только посмотрел на него спокойно голубыми глазами. А некоторые говорят, что он все же процедил сквозь зубы:
— Вы скоро почувствуете это.
Но я напрасно не сходил к Вилхо. Эх, напрасно! Надо было сходить хоть раз за весь этот год. Но кто мог предвидеть будущее? В наши дни события не идут, а скачут. Я не сходил зимой, не сходил весной, а потом уже было поздно. Бедный Вилхо!
Конечно, тогда еще трудно было бы догадаться, что беда придет в нашу страну вместе с немецкими войсками. Мы только слыхали, что они высаживались небольшими партиями в Хельсинки и в других местах, а потом по железной дороге перебрасывались на север, но кто же мог знать, что это означает? Я видел только, что некоторые люди хмурились, передавая об этом друг другу. Но херра Куркимяки на мой вопрос ответил просто и ясно:
— Радоваться надо и гордиться, что такая великая страна дает нам помощь против большевиков.
Я удивился:
— А разве большевики опять собираются?..
Он покосился на меня из-под своих тяжелых нависших век, похожих на занавески, подумал немного и потом твердо ответил:
— Да.
Правда, я не помню, чтобы у нас потом кто-нибудь точно сообщил, где большевики начали военные действия и когда, но все-таки это неплохо, что с нами теперь были немецкие войска. С такой защитой можно было спать спокойно. И Эльяс об этом говорил. Но он, кроме того, добавлял:
— Только мы не спать собираемся. Запомни это. Разве можно в такое время спать, перкеле! В такое время действовать надо. Вот погоди немного, скоро ты услышишь про такие дела, что тебе и не снилось. Мы не только свое назад вернем! Мы и тебе теперь столько земли дадим, что ты богаче своего хозяина будешь, перкеле!
Конечно, приятно было слышать такие речи, но тогда я никак не думал, что от них и пойдет вся беда. И опять-таки коснулась эта беда сначала Вилхо, а не меня, хотя он и работал на предприятии государственной важности, поставлявшем экспортное масло прямо в Германию.
Я еще косил траву на заливных лугах господина Куркимяки, а он уже наступал на Россию в Восточной Карелии. Я узнал об этом от двух его приятелей, которые еще оставались на лесопилке Ахонена. Но мне он не писал. Так сильно рассердился он на меня. Прошел почти год, а я не получил от него ни строчки.
А потом он совсем пропал. Я понять не мог, как это произошло. Его приятели на лесопилке получили письмо от тех, кто служил вместе с Вилхо. В письме было сказано, что Вилхо больше нет. Был тяжелый бой и артиллерийская стрельба, скосившая очень много народу. И вот после этого боя Вилхо не стало. Он пропал.
Тут можно было думать как угодно: или он попал под снаряд, или же его забрали в плен русские. Его приятели успокаивали меня тем, что в этом бою кое-кто все-таки попал в плен и среди них мог оказаться мой брат. Но, по словам господина Куркимяки, это было одно и то же. Я спросил его:
— А почему одно и то же?
Он ответил:
— Потому что я знаю, как поступают большевики с теми, кто попадает к ним в лапы.
Я спросил:
— А как поступают?
Он ответил:
— Они начинают с ногтей.
Для меня это было непонятно, и я опять спросил:
— Как с ногтей?
Он пояснил:
— Вбивают сначала гвозди под ногти, а потом уж делают все остальное.
У меня даже волосы зашевелились на затылке от его слов, и я спросил:
— А что, что потом?
Он хотя и спешил, но, видя мое незнание, пояснил до конца:
— А потом известно что. Отрубают пальцы на руках и на ногах, потом кисти рук и ступни. Понемногу отрубают, чтобы не прикончить сразу. Вырезывают кожу, прижигают эти места смолой и сажают человека на цепь в каком-нибудь подвале. Пора бы и тебе знать о таких вещах. Весь мир знает о большевиках все, что нужно, а ты не знаешь. Читаешь ли ты, по крайней мере, газеты?
Я ответил, что давно не читал, что мне просто некогда. Нельзя же было ему говорить о том, что десять марок в день — это слишком немного, чтобы разоряться еще на газету. Ведь нам с Эльзой предстояла покупка, по крайней мере, в четыре тысячи марок. Но я не стал этого ему объяснять.
А он пояснил мне, что каждый финн, любящий свою родину, должен читать газеты, иначе можно подумать, что он и знать не желает, чем живет и дышит его родина, которая дала ему жизнь, печется о нем, охраняет его. Можно подумать, что он чужой для родины и желает ей зла. И я охотно согласился с ним:
— Это верно. Это верно.
А мысль о брате грызла меня и грызла, и я не знал, что делать и что говорить. Ведь это было страшно только подумать… А он постоял еще немного, словно припоминая что-то, и потом добавил:
— Могу сказать одно: для твоего Вилхо было бы настоящим счастьем лежать сейчас мертвым в могиле. Но боюсь, что он жив. И я даже уверен, что он жив и стонет сейчас где-нибудь в подвале на цепи с обрубками вместо рук и ног и с выжженными глазами. Я уверен в этом, потому что я знаю большевиков…
Я, конечно, не такой дурак, чтобы верить всему, что говорится. Но у господина Куркимяки все морщины на лице расположились так, что я сразу понял, как горько ему от мысли, что мой брат попал в такую беду. Он даже с безнадежным видом рукой махнул и сокрушенно покачал головой.
У меня сами собой сжались кулаки, и я сказал, стиснув зубы:
— Бить их надо!..
И он кивнул головой, все еще горестно стягивая морщины на своем лбу. А когда он ушел, я косил и косил без передышки, пока лошади не покрылись пеной. Только после этого я поставил косилку на холостой ход и дал им немного передохнуть.
Образ искалеченного брата уже не выходил у меня из головы.
Как-то в конце осени жена сказала мне:
— Говорят, что пригнали русских военнопленных к Лаппеенранта дорогу чинить.
Она у меня постоянно знала все новости, особенно после того, как возвращалась с молокозавода Похьянпяя. Там ей всегда выкладывал все последние новости Эльяс. Он всегда говорил обо всем, что знал. Так уж он был устроен. И поэтому все другие тоже всегда знали обо всем, что было в его голове.
Не пришлось ему опять попасть на войну, как он ни рвался. И он всем жаловался на это, даже моей Эльзе, подробно перечисляя ей, что он сделал бы на войне с русскими, если бы туда попал. Он взял бы автомат и начал бы косить их всех подряд…
Но я про это не слушал. Я услышал и запомнил только одно: пригнали русских к Лаппеенранта дорогу чинить.
В воскресенье я сказал Эльзе, что пойду посмотрю, нет ли чего новенького в городе. Она взглянула на меня с удивлением, но сказала: «Иди».
Однако до города я не дошел. Там нечего было делать. А то, что мне было нужно, я увидал, не доходя до города.
Да, это действительно были русские. Я простоял возле них, наверно, около часа. Но я никого из них не ударил. Даже не плюнул ни одному из них в лицо. Кто-то уже позаботился о том, чтобы жизнь их не была слишком сладкой. Выглядели они совсем плохо, и некоторые шатались и даже падали под тяжестью носилок с камнями или песком.
Это были те самые русские, которые взяли в плен моего брата, отрубили ему руки и ноги, выжгли глаза и посадили на цепь в подвале.
Но я никого не ударил из них. Я только подошел поближе к одному из них, который был такой же большой, как и я, и подумал о том, что хорошо было бы все-таки его ударить так, чтобы он покатился на землю. И у меня даже кулаки сжимались в карманах, когда я думал об этом.
Но я не ударил.
А он, этот большой русский, тоже повернул ко мне свое лицо. И я не увидел его глаз — так глубоко они запали. Я увидел первым долгом короткий красный рубец на верхней части его широкого лба и понял, в каком виде попал он в плен, увидел также широкие острые скулы и увесистый подбородок вроде моего и такой же рот, большой и твердый, как у меня. Странное дело! Даже нос его был похож на мой, слегка приподнятый кверху, только немного короче. Я удивился, когда заметил это.
Но на тех местах, где у человека должны быть щеки, у него были две глубокие ямы. Вместо глаз тоже были пустые серые впадины. Он взглянул на меня этими впадинами и снова стал давить ногой на лопату, которая никак не хотела у него лезть в землю. Я посмотрел на других и всюду увидел пустые ямы вместо щек и глаз. Да, кто-то уже сделал свое дело, и очень старательно, суди его бог.
Я так и ушел прочь от них, не отомстив за своего брата, и после этого долго не мог успокоиться. Все-таки надо было кого-нибудь ударить кулаком или ножом. Я был плохой брат, и некому было меня за это пристыдить как следует.
15
Всю зиму меня грызла досада на себя за то, что я оказался таким плохим братом, и весной я снова собирался куда-нибудь сходить или съездить, чтобы опять найти русских. Но я так и не успел больше никуда ни сходить, ни съездить.
В конце весны ко мне однажды вечером подошел поближе Пааво Пиккунен, сунул мне в руку какую-то бумажку, оглянулся по сторонам и шепнул:
— Прочитаешь, когда будешь один.
Я удивился. С каких это пор он стал заниматься записочками, как барышня. Последнее время из него слово трудно было вытянуть, не то что записочку. С каждым днем он делался все молчаливее и молчаливее. Только с лошадьми он иногда перекидывался кой-какими словами, а с людьми перестал разговаривать совсем.
Ничего в нем не изменилось. Лицо осталось таким же круглым, и морщин под глазами и вокруг глаз оставалось столько же. Та же шапка была на его голове, те же сапоги на ногах, те же толстые суконные брюки, та же шерстяная фуфайка, тот же шарф, та же тужурка. Но он как будто ссохся немного за последние месяцы. Ссохся со всех концов одновременно и весь уменьшился в размерах.
И сил у него тоже стало меньше. Он по-прежнему работал с утра до ночи. В его руках все время был какой-нибудь инструмент. Кончив работу в кузнице, он сразу шел к тому месту, куда мы навезли год назад строительного леса и камня. И там он сразу же начинал тесать для стройки разные бревна и плашки.
Но сил у него стало меньше. Это видно было каждому. Он уже с трудом ворочал бревна и все чаще выпрямлял свою маленькую спину, делая передышки. А в груди у него сипело и хрипело. Это от табаку и водки. Главное — от водки. Слишком уж часто прикладывался он к ней. Не было воскресенья, чтобы он не вылил в свою глотку все, что заработал за неделю.
Даже херра Куркимяки стал это замечать. Однажды он зашел в рабочий домик как раз в такое время, когда Пааво сидел на своей койке, уставившись осоловевшими глазами в стену напротив. Это было в воскресенье, а накануне, в субботу, он не успел обтесать все те плашки, за которые взялся, хотя и пообещал это хозяину. Он забыл, что он уже не тот, кем был раньше, и сказал хозяину про ту кладку, которая загораживала дорогу:
— Это все я сделаю сегодня, чтобы убрать с дороги.
Он старался сделать, но не сделал. Он забыл, что с каждым днем у него все больше и больше уходит времени на то, чтобы выждать, пока успокоится сипенье и хрип в груди.
И он не сделал того, что обещал хозяину, не стесал всей кучи. В другой раз он бы потратил на это еще ночь и даже воскресный день, потому что он обязательно доводил до конца все то, что обещал. А на этот раз слишком велика оказалась груда бревен и слишком слабы оказались силы в его маленьком теле, которое сжималось и сжималось с каждым годом.
Он прохрипел над этими бревнами до глубокой ночи, но потом все-таки пришел домой и лег на койку, не раздеваясь, в шерстяном свитере, тужурке и штанах. А утром он вспомнил, что этот день воскресный и что пришла пора пропить заработанное за неделю. Он не считался с тем, что вино подорожало. Ему важно было пропить заработанное. А коровница Кэртту Лахтинен всегда имела пару бутылок наготове.
И вот он сидел так на койке, уставясь светлыми, как озерная вода, глазами в стенку, а херра Куркимяки вошел, увидел его в таком виде и вспомнил то, что тот обещал накануне. И он стал ругать его и кричать тонким голосом и даже топнул несколько раз ногой:
— Тебе в солдаты, может быть, захотелось? Так живо пойдешь у меня! Совсем выгоню к чорту, чтобы и духу твоего не осталось! Не нужно мне лентяев!
И он ушел очень сердитый. А Пааво продолжал сидеть, как сидел, хотя два старика-поденщика и Кэртту все еще стояли навытяжку, напуганные сердитым голосом хозяина. Пааво продолжал смотреть на стенку перед собой, но только глаза его начали вдруг как-то странно блестеть.
Никогда я раньше не видал его плачущим, а тут вдруг слезы сразу переполнили его глаза и хлынули через морщинки, собравшиеся гармошкой, на его рыхлые желтые щеки. Так он сидел, глядя в стену, а из глаз его ручьем бежали слезы, такие же светлые, как глаза. Они стекали по его щекам на маленький круглый подбородок, на старый коричневый шарф, которым была обернута его сухая шея, на шерстяной свитер и дальше вниз, на старые суконные брюки и загнутые крючками сапоги.
Казалось, он весь изойдет слезами. Но он вдруг повалился на кровать, отвернувшись от всех.
Да, интересный он был человек, наш маленький молчаливый Пааво Пиккунен, и трудно было его понять. А главное, как это он уменьшался все время в размерах, словно окорок в жару, из которого капля по капле вытекает ценный жир.
16
Про его бумажку я вспомнил только поздно вечером, когда подходил к своему бугру.
Я вытащил ее из кармана и развернул. Их оказалось две бумажки. На них было что-то напечатано, одинаковое на обеих. Прочитать я не смог, но при свете звезд разглядел какой-то портрет, напечатанный в верхней части каждого листочка. Я всмотрелся в него и чуть не крикнул от удивления:
— Вилхо!..
На бугор я уже поднимался бегом и дома первым долгом спросил Эльзу:
— Дети спят?
Она ответила, что спят.
— Зажги скорее лампу.
Она зажгла лампу, и я развернул бумажки. Да, это был Вилхо! Боже мой! Его портрет был напечатан до середины груди. Все было на месте. Те же красивые смелые глаза и тугие щеки, та же улыбка. А ниже было напечатано по-фински:
«Дорогой брат Эйнари!
Горячий привет тебе из Советского Союза. Судьбе было угодно, чтобы я оказался вдали от ужасов фронта. Не беспокойся за меня. Живу я хорошо среди других таких же, как я. Обращение с нами и питание вполне хорошее. Желаю и тебе благополучно дождаться конца войны, и тогда мы снова встретимся на том же месте.
А на обороте каждого листка то же самое было напечатано подлинным почерком самого Вилхо. И даже подпись его была передана точно. Это писал сам Вилхо. Он писал мне. Это было его первое письмо ко мне за все время войны, и он был жив и здоров, мой глупый, бестолковый брат Вилхо.
Я не помню, сколько раз я подбросил в тот вечер кверху свою Эльзу. А когда мы покончили с жареной картошкой и с korvike[20]Эрзац-кофе., — она сказала:
— Может быть, о другом все тоже врут про русских?
И я ответил:
— Не знаю. Ничего не знаю.
Я не утерпел и на следующий день взял с собой листочек и показал его господину Куркимяки. Мне хотелось услышать, что он скажет на это, и посмотреть, как будут выглядеть морщины на его лице, когда он увидит портрет моего брата. Ведь я еще помнил разговоры про ногти и отрубленные руки и ноги.
Но он сказал совсем не то, что я ожидал. Когда он всмотрелся в портрет Вилхо, то глаза свои сощурил так, что все морщинки вокруг них стянулись в одну кучу. А потом они разошлись, и на местах остались только самые глубокие трещины. На лбу две из них стали как будто еще глубже и прорезали поперек весь его лоб от переносицы до переднего края шляпы. Он посмотрел на меня из-под своих занавесок и сказал:
— Надо бы проверить, кто это собирает такие вещи, и заявить о нем ленсману. Ты знаешь, до чего мы докатимся, если будем верить всякому вранью?
И я сказал поспешно:
— Да. Это верно. Это верно.
И тут же на его глазах разорвал листок на мелкие части и бросил их по ветру.
Действительно, бог знает, до чего можно докатиться, если начинать верить таким вещам. Страшно даже подумать об этом. Поэтому я изорвал листок. Ветер унес кусочки в разные стороны. Но мне было немножко весело в эту минуту, не знаю почему. А хозяину я сказал:
— Жалко, что мне не попалось их больше. Вот если бы найти все, что они сбросили, чтобы сразу пресечь всю заразу…
И херра Куркимяки кивнул головой так сильно, что дрогнуло мясо, обвисшее ниже его щек. После этого он потоптался немного на месте, косясь на меня, и потом заговорил все тем же ворчливым тоном, каким говорил всегда:
— Тебе новая работа предстоит. Выгодная работа. Я бы мог не разъяснять и просто направить тебя на эту работу, но чтобы ты видел, как я тебя ценю и уважаю, я разъясню тебе, в чем тут дело. У Похьянпяя взяли погонщика, который не только был погонщиком, но и помогал, кроме того, на заводе. Остались у него теперь только Эльяс и шофер, да и те, того и гляди, будут взяты. Машину у него тоже отбирают для нужд войны. Молоко придется возить на лошади. Но виноват он сам. Слишком несолидно выглядит предприятие с точки зрения государственных чиновников. Даже электродвигателя до сих пор не мог установить. Но не в этом дело. Он просил у меня дать ему в помощь тебя. Я сказал, что этого не могу сделать. Ты нужен мне самому. Но будешь ездить к нему два раза в день, отвозить на нашей лошади молоко и помогать там перегонять его через сепаратор и сбивать масло. Но и здесь на конюшне и в коровнике вся работа остается за тобой. И допахать все то, что намечено, тоже придется тебе же. Ничего не поделаешь. Придется немного быстрее все делать, а иногда и часть ночи не пожалеть. За это я увеличу твое жалованье до пятнадцати марок в день. И за работу на молокозаводе тоже буду платить по десять марок в день. Но ты должен стараться приглядываться там ко всему внимательнее. Учиться. Понимаешь? Скоро будет и у меня свой молокозавод. Это ты знаешь. Так я тебе заранее обещаю, что ты займешь там не последнее место, если будешь стараться.
Я не сразу как следует понял все, что он сказал. Слишком уж неожиданная была эта новость. Но одно я понял сразу и, чтобы уточнить это, переспросил его:
— Значит, по двадцать пять марок в день?
И он кивнул головой:
— Да.
Бог ты мой! Конечно, я был согласен. За лишние марки я готов был работать день и ночь подряд. Тут не нужно было и уговаривать. Но одно меня беспокоило:
— А когда сенокос начнется, тогда как? Мне ведь нельзя будет отрываться.
Он успокоил меня:
— К тому времени я достану людей.
— Откуда господин думает их достать?
— Достану.
— Ну что ж. Уж если так, то поработаю за двоих.
17
Эльзе опять досталось от меня после этого. Я так высоко ее подбросил, что она стукнулась о потолок плечом. Пришлось ее несколько раз поцеловать, чтобы заглушить воркотню. А так как ее губы было очень приятно целовать, то я уж заодно добавил еще и еще.
А потом мы заговорили о корове. Не так уж трудно стало теперь скопить на нее то, что требовалось. Четыре дня — сто марок, сорок дней — тысяча марок. Ведь это просто здорово получалось.
Но такие уж пошли тогда несчастные для нас дни, что не успел я заработать даже первой тысячи, как опять все нарушилось и покатилось к чорту, совсем не по той дороге.
Эльяс Похьянпяя недаром говорил, что мы еще с ним покажем себя. Так оно примерно все и получилось. Мы показали себя…
Когда я первый раз привез на молокозавод бидоны с молоком, Эльяс очень обрадовался нашей встрече. В последние дни я всегда оказывался в поле, на пашне, во время его приездов на машине за молоком. Поэтому мы уже давно с ним не видались. И теперь его белые зубы так и засверкали из-под маленьких черных усов, когда он заорал:
— Ого, перкеле! Вот и Эйнари в наших краях появился! Здорово, приятель! А мы вчера машину сдали и шофера тоже заодно, перкеле! И я думаю: «А как же теперь с молоком? Кто возить будет?» А отец говорит: «Каждый сам привезет». И вот сегодня все другие уже привезли и сдали и уехали. Снятое вечером обещали забрать. А от Куркимяки все нет и нет никого, перкеле…
Я сказал ему:
— Мне нужно было там кое-какие дела сначала закончить. Ведь я тут задержусь. Приехал поработать за Мустонена.
Он подхватил:
— Знаю, знаю. Может быть, и меня заменишь? А? Попробуй. Пятнадцать марок в час будешь получать для начала. Разве плохо? Перкеле… Хочешь, я скажу отцу?
Я ответил:
— Нет, мне он не даст пятнадцати марок в час.
Не знаю, что было в этом смешного, но Эльяс так и покатился со смеху от моих слов. По крайней мере зубы его минуты две были выставлены наружу, и даже слюна на них успела высохнуть за это время. И сквозь смех он крикнул:
— О, перкеле! Да у тебя аппетит, как у щуки! Это не плохо, конечно. Ей-богу, не плохо. Люблю таких. Но неужели ты это всерьез?
Я сказал:
— Мустонен получал у вас пятьдесят марок в день, а мне херра Куркимяки дает за его работу только десять.
Он снова рассмеялся и сказал: «Перкеле».
Мы внесли оба тяжелых бидона в помещение, и там Эльяс опять сказал:
— Да я не про то, что он меньше тебе дает, перкеле. Это его хозяйское дело. Но меня удивляет: неужели ты бы справился и с этой работой?
Я спросил:
— За пятнадцать марок в час?
— Да.
— Конечно, справился бы.
— О, перкеле!
Я помог ему вылить из бидона часть молока в небольшой алюминиевый бак, накрытый сложенной вчетверо марлей. Он окунул туда длинную стеклянную трубочку, зажал большим пальцем ее верхнее отверстие и вытащил обратно. Трубочка оказалась наполненной молоком. Он сунул ее нижний конец в пустую стеклянную пробирку и отнял палец от верхнего отверстия трубки. Молоко из трубки сразу вылилось в пробирку. Это он взял пробу на жирность.
Я помог ему вылить молоко из бака в сепаратор и снова наполнить бак молоком из бидона. И он снова взял пробу на жирность. Таких стеклянных пробирок с пробой у него в ящичке стояло несколько. С этими пробирками они потом что-то делают. Добавляют в них, кажется, по капельке серной кислоты и крутят их в какой-то машинке с такой быстротой, что весь жир у молока скапливается в одном конце пробирки. Так они определяют процент жирности молока, доставленного каждым хозяином, чтобы точнее установить цену, которую молокозавод выплачивает каждому, кто сдает молоко.
Когда мы вылили в сепаратор еще один бак, Эльяс сказал:
— А мне уже надоело все до смерти. Еще в зимнюю войну я хотел на фронт, а меня не взяли. Теперь все участники зимней войны получили ордена, а я нет. А чем я хуже других, перкеле? Я тоже хочу иметь орден. Пусть меня отпустят хоть на эту войну, и тогда они увидят, как надо по-настоящему воевать. За целый год они не дошли даже до Пиетари. Разве так воюют, перкеле! Надо наступать и бить, наступать и бить, чтобы не дать рюссям опомниться. Ведь это такой живучий народ. Им хоть неделю дай передышки, так потом их и с места не сдвинешь, перкеле. Наступать надо, если мы хотим удержать все, что взяли, и еще взять кое-что. Сколько лет к этому готовились, и вдруг остаться ни с чем. Я, например, хочу в Пиетари взять себе один дом, который получше, на их главной Невской улице. Разве я не имею права взять себе хоть один дом за все свои труды? Ведь это наш финский город, перкеле. А отец хочет взять земли в Восточной Карелии. Он уже ездил туда и облюбовал кусочек. Надо же, наконец, наладить свою жизнь как следует, а то самому приходится работать в собственном хозяйстве, как простому рабочему, как будто я только для этого родился. Пора подняться выше и избавиться от этого. Рюссей — вот кого надо заставить на нас работать, перкеле! Но сначала надо их победить. Наступать на них надо сначала. Вот и немцы требуют, чтобы мы наступали скорей, а мы сели и сидим.
Я спросил:
— Как немцы требуют? А им какое дело, наступаем мы или нет?
Он ответил:
— Ты ничего не понимаешь. Мы же теперь союзники.
Я сказал:
— Ах так! Но почему же тогда они от нас требуют, а не мы от них? Разве не мы здесь хозяева? Ведь они сами в гостях на нашей земле.
Но он снова с досадой махнул рукой.
— Ты если ничего не понимаешь, так уж лучше молчи. «В гостях», перкеле! Где ты видишь гостей? Это такие гости, что того и гляди у нас Пиетари из-под носа вырвут. Наступать надо, если мы не хотим, чтобы наши планы прахом пошли. Разве, сидя на месте, завоюешь себе дом на Невской улице или землю в Восточной Карелии? Наступать надо. Бить рюссей надо, перкеле! Эх, нет меня там! Я бы разъяснил! Я бы показал! Неужели не отпустят меня туда? Хоть бы один десяток рюссей ухлопать, перкеле…
Я старался приглядываться ко всему, что он делал, как учил меня херра Куркимяки. Мало ли что может быть. Может быть, мне и вправду его заменить придется. А сепаратора я совсем еще не знал и не мог понять, что он возле него делал. Поэтому, если уж дело на то пошло, глядеть надо было в оба. Парню очень хотелось уйти бить русских, и в конце концов он сумел бы вырваться. Кто тогда его заменит?
Он спросил меня:
— А разве ты не хотел бы прикончить хоть одного рюссю? Ведь от них все зло на свете, перкеле…
Я подумал и ответил:
— Да. Был случай, когда мне очень хотелось пристукнуть хоть одного из них.
Он подхватил сразу:
— И пристукнешь! Ты обязательно пристукнешь! Придет время, и ты еще пристукнешь не одного. Ты молодчина! Тебе в нашу организацию надо вступить. Я давно тебе об этом говорю. Пиши заявление. Ведь у тебя свой дом, перкеле! Его защищать надо. Вместе рюссей бить будем, когда вступишь. Истребить их надо полностью, иначе все наши замыслы прахом пойдут, перкеле!..
В это время вошел его отец и сказал:
— А почему не крутите? Кого ждете? Или без Мустонена все дело стало?
Я сразу пошел и выпряг лошадей из саней, на которых привез бидоны. Эльяс показал мне, что надо делать. Я зацепил постромки за деревянный провод, торчавший вбок от высокого толстого столба, и начал гонять лошадь потихоньку вокруг этого столба, который сразу завертелся вокруг своей оси вместе с шестерней, закрепленной наверху. А от шестерни закрутился большой железный вал, уходивший сквозь стену в помещение. А там от вала закрутился приводной ремень, идущий к сепаратору, и сепаратор сразу приятно загудел, и две белые струи полились из двух его трубок в два алюминиевых бака: широкая струя снятого молока и тонкая густая струя сливок.
Все мое дело состояло в том, чтобы лошадь шла ровно. Я нарочно для этого приехал на нашей старенькой кобылке. С таким делом управился бы и мальчик. Повод от уздечки был привязан к палке, прибитой к столбу перед лошадью. Лошадь крутила столб вместе с палкой, палка тянула за повод лошадь. Получалось так, что лошадь сама себя тянула, и тут не требовалось никакой погонялки.
Я мог идти потихоньку за лошадью, причмокивать слегка время от времени и ни о чем не думать добрый час, пока все молоко не проходило через сепаратор. Правда, я кое о чем все-таки думал, особенно после слов Эльяса о русских. Я думал о людях, которые выкалывают пленным глаза, отрубают им руки и ноги и сажают после этого на цепь в темном подвале, не разрешая им даже написать письмо на родину — хотя бы маленькое письмо с портретом на одной стороне и с текстом на другой, которое можно бы потом размножу жить на печатном станке и сбросить с самолета поближе к селению, где проживает у пленного какой-нибудь брат, хотя бы и плохой и недостойный брат. Что можно думать о таком народе? Истреблять их нужно полностью, иначе из-за них чьи-то замыслы прахом пойдут, перкеле…
Когда молоко было пропущено через сепаратор, я помог Эльясу перетаскать сливки в заднюю комнату, где была цементная ванна с водой и льдом. А бидоны со снятым молоком мы поставили в угол, чтобы вечером вернуть их владельцам. Свои бидоны я опять поставил на повозку, чтобы отвезти их госпоже Куркимяки. Она знает, сколько такого молока уделить нам, своим работникам, сколько телятам и поросятам.
И совсем не было ничего трудного в такой работе. За что тут было получать десять марок? Не понимаю. И дальше работа была не труднее. Мы перенесли из задней холодной комнаты баки со вчерашними сливками и поставили их в теплую воду. Теплая вода была налита в широкий четырехугольный котел, под которым Эльяс еще до меня развел огонь.
Отец его ушел в это время. И тогда Эльяс зачерпнул для меня полную кружку сливок и сказал:
— Хочешь, пей, пока старика нет. Пей, не стесняйся. Для тебя мне ничего не жалко.
Не стоило мне этого делать. Я после краснел за свою жадность. Но тогда я подумал: «Почему не выпить густых свежих сливок, если их так много и можно пить их бесплатно? Меньше съем за обедом дома». Но не стоило этого делать, особенно брать кружку из рук Эльяса Похьянпяя, хоть он и хороший парень, очень нужный для родины. А он хлопал меня по плечу и твердил:
— Пей. Для тебя я все готов сделать. Нам бы с тобой все время вместе следовало быть. Мы бы таких дел наделали…
Немного погодя мы вылили несколько баков подогретых сливок в маслобойку, и я опять ушел гонять лошадь. Он перенес приводной ремень на ось маслобойки и крикнул:
— Пошел!
Я гонял лошадь, а маслобойка, похожая на бочку, проткнутую сквозь пузатые бока осью, крутилась в это время, показывая потолку то одно свое дно, то другое. А внутри у нее болтались теплые сливки, захлестывавшие время от времени маленький стеклянный глазок, вделанный в ее стенку. Когда на этот глазок вместо белых сливок начали оседать желтые крупинки масла, Эльяс крикнул мне:
— Стой, перкеле!..
Я остановил лошадь и подбросил ей сено из повозки. А он крикнул мне снова:
— Отряхнись как следует! Засучи до локтей рукава и вымой руки. Да смотри, чтобы под ногтями чисто было! Вот щетка, вот мыло, вот кран. А потом наденешь вот этот халат.
Сам он тоже сменил халат на другой почище и убрал свои черные волосы под белую полотняную шапочку. Мне тоже пришлось надеть такую же шапочку.
Я делал все, как он велел, и старался присматриваться ко всему, что он делал, потому что мало ли что в жизни бывает… Конечно, я не мог рассчитывать на пятнадцать марок в час, но, бог ты мой, если бы мне за такую работу добавили еще хоть двадцать марок в день, то я бы и тогда справился с ней. Двадцать и двадцать пять — это сорок пять марок. За сорок пять марок я мог поднять на плечи весь их молокозавод и унести его за сотню километров.
Эльза и не догадывалась, какой доход мог нам еще прибавиться. Но только надо было присматриваться, внимательнее присматриваться ко всему, что делал Эльяс Похьянпяя.
Я видел, как он окатил холодной водой деревянную поверхность круглого столика-пресса, у которого середина выступала кверху легким конусом. Он окатил ее несколько раз и потом начал таскать из маслобойки решетом слипшиеся комья зернистого масла, давая предварительно пахте стечь сквозь решето в маслобойку. Он вываливал это масло на столик-пресс, пока не заполнил его.
А потом я начал крутить ручку, скрепленную с деревянным зубчатым валиком, идущим от центра стола к его наружному краю. Я начал крутить за ручку этот валик, а под ним завертелся весь стол вместе с маслом, которое валик подминал под себя.
А Эльяс лил на это масло чистую холодную воду, смывающую на цементный пол остатки пахты из масла. Он переворачивал масло двумя деревянными лопаточками, тоже смоченными в воде, скатывал его в комок и снова пихал мне под валик, поливая его водой. А валик опять раскатывал его в длинный зубчатый блин.
Когда масло стало плотным и чистым от пахты, Эльяс опять скатал его в ком и унес в соседнюю комнату, где положил на большой деревянный стол, тоже смоченный водой. А потом снова начал таскать на пресс зернистое масло из маслобойки.
Я пробовал есть это масло. Брал несколько комков пальцами и клал в рот. Но оно показалось мне не очень вкусным без картошки и хлеба. А Эльяс, видя это, сказал:
— Ешь, ешь. Не жалко. Я вот не могу есть. Противно. И сливки не могу пить. Обязательно желудок расстроится, перкеле. А ты ешь, если лезет. Не стесняйся. Только хлеба не вздумай сюда таскать. Если мой старик увидит хоть крошку хлеба не то что в сливках или в масле, а на полу, то он тебя просто убьет на месте, перкеле. Ну, крути. Мне еще масло нужно успеть сформировать до обеда. Надоело все, перкеле!.. Неужели так и не придется побывать на фронте? Хоть бы десяток рюссей… Опять все ордена и кресты получают, а я нет, перкеле.
18
Он в конце концов накаркал на свою голову. Но и я тоже напрасно погнался за большими прибылями. Бог рассудил иначе. Напрасно я так внимательно присматривался ко всему, что он делал, как он возился со сливками и молоком, как ворочал на столе гору масла, забивая его колотушкой в мокрую деревянную форму, как раскрывал форму и завертывал получившуюся большую красивую плитку масла в мокрый пергамент, как мыл под конец горячей водой все столы и баки, и маслобойку, и пол, как таскал куски льда из ледника в заднюю холодную комнату, где стыли сливки в ванне со льдом.
Напрасно я приглядывался ко всему этому. Напрасно сам по его указанию старательно помогал ему во всем этом деле. Напрасно думал я поживиться на чужом горе. Пошел и я в солдаты.
Пошел я, пошел Эльяс, пошел шофер, пошли многие другие, думавшие отсидеться дома. Пошли потому, что война оказалась сильнее всех. Она пожирала людей лачками и требовала их еще и еще, будь проклят тот, кто ее затеял. Кто ее затеял? О, перкеле!..
Только Пааво Пиккунен пока еще оставался на месте, но он, пожалуй, был уже слишком стар и слаб для солдатской службы. И к тому же у него с каждым днем все сильнее и сильнее хрипело и сипело что-то внутри, и когда он рано утром после сна раскуривал свою трубочку, то закатывался кашлем на целых полчаса.
Когда я в последний раз зашел на конюшню, он только что откашлялся и вытер слезы и сидел у стенки, выпуская дым и слушая, как хрустит овес на зубах у лошадей.
Он покосился на меня и, наверно, понял, что я зашел попрощаться, но промолчал, как всегда. Я взял свои рукавицы и постоял немного, придумывая, что бы такое сказать ему. Я хотел сказать ему что-нибудь хорошее, потому что он стоил этого. Ведь это он, а не кто-нибудь другой, подобрал возле Лаппеенранта две русские листовки и припрятал их для меня. Полиция обшарила все вокруг, собирая их, и даже вывесила объявление, требуя уничтожать их или сдавать, если кто найдет. А он не уничтожил и не сдал, чтобы доставить радость мне. И вот я не знал, что сказать ему на прощанье.
Но пока я раздумывал, он первый заговорил со мной. Он еще раз покосился на меня и сказал, передвинув трубочку в уголок рта:
— Уходишь?
Я кивнул головой.
Он пососал немного трубку и сказал:
— Отнимаешь, значит, прибыль у хозяина?
Я не понял его и переспросил:
— Как отнимаю?
Он пояснил:
— Калле Похьянпяя выплачивал за тебя нашему Хуго все жалованье Мустонена — пятьдесят марок в день. А ты уходишь. Пропадает у него теперь прибыль — по сорок марок в день.
Я не знал, что сказать на это, и только похлопал рукавицей об рукавицу, чтобы стряхнуть с них пыль. Вот как, оказывается, дело обстояло. А я и не знал этого. Но бог с ними. Все равно я уходил теперь отсюда и не знал, вернусь ли назад. Меня это больше не касалось.
А Пааво снова заговорил:
— Вместе с Эльясом попадаешь?
— Нет.
— Значит, не сумел он тебя завербовать?
— Куда завербовать?
Он пососал трубку и потом пояснил:
— Говорят, у них там премии выплачивают каждому, кто втянет в их компанию сто́ящего человека. Я видал, как он постоянно возле тебя крутился. Значит, зря старался.
Я не знал, что на это ответить. Он выкладывал такие новости, какие мне даже в голову не приходили.
Минуты через две он опять раскрыл свой рот:
— А ты напрасно не вошел в их компанию.
— Почему?
— Мог бы избежать фронта, как Эльяс.
— Как Эльяс?
— Да. Ему предложили выбор: или фронт, или какой-то там отряд внутренней охраны по ловле дезертиров. Он выбрал этот отряд, и когда выбрал, то долго доказывал всем, что он там больше пользы принесет, чем на фронте, и что он покажет, как по-настоящему нужно бороться с дезертирами или внутренними врагами Суоми.
Пааво помолчал немного и добавил:
— Надо сказать, что он свое дело знает. Еще трех ворчунов сдал в полицию.
Я заглянул в угловой шкафчик, чтобы проверить, не осталось ли еще каких-нибудь моих вещей в конюшне. Нет, больше ничего не было, кроме этих парусиновых рукавиц. Я закрыл шкафчик и молча протянул Пааво руку. Он встал, протягивая мне навстречу свою, но ничего больше не сказал, только очень сильно стиснул мои пальцы своей маленькой широкой лапой, очень сильно.
19
И вот меня взяли на эту войну, на которой теперь уже не могли без меня обойтись. Мне сказали, что я должен защищать от русских свою землю, и я пошел ее защищать. Я не хотел, чтобы они отобрали мои четыре грядки. Они были мне нужны самому. На них я столько выращивал всякого добра, что набивал им свои амбары, погреба и подвалы доверху. Я мог бы погибнуть вместе с семьей с голоду, если бы русские отняли у меня эти грядки. Мне никак нельзя было их терять, никак. И я жалел, что не успел предупредить Эльзу о том, чтобы она увезла их в корзинке с собой, если придется отступать от русских.
Не пришлось мне заменить на молокозаводе Мустонена и Эльяса, чтобы загребать марки. Вместо этого я надел серые суконные брюки и куртку, взял в руки автомат, запел вместе с другими разудалую песню о том, как мы накостыляем шею рюссям, и зашагал по высохшей весенней дороге в южную сторону, откуда дул нам в лицо теплый ветер и светило солнце.
Не знаю, почему я им все-таки понадобился на этот раз. Или, может быть, мы на самом деле собирались еще дальше наступать, как требовали немцы? Чорт бы взял этих немцев, если так! Кто их только сюда звал! Ведь у меня никто не спросил, звать их к нам или не звать. Конечно, там, выше, знали лучше меня, зачем их позвали, но все-таки в окопы-то пошел я, а не они, если уж говорить прямо.
Теперь я знал кое-что лучше самого господина Куркимяки. Он горевал, что моему Вилхо отрубили руки и ноги и бросили его в подвал, а я знал, что — нет. И сидя в окопах, я еще раз хорошенько обдумал все это и еще раз сказал себе: «нет».
Откуда бы большевикам взять такой портрет Вилхо в солдатской кепи без кокарды, если они не имели самого Вилхо, у которого сорвали кокарду? Откуда бы им взять точную подпись Вилхо, если он сам ее не поставил? А главное — кто мог написать письмо мне, его брату, точным его почерком, если не он сам? Заставить его силой написать такое письмо, если он этого не пожелает сам, никак нельзя, потому что я знаю Вилхо. А если уж он написал, то написал правду и, значит, был действительно жив и здоров.
Так рассуждал я про себя, сидя в окопе, и даже гордился немного тем, что я так хитро во всем разобрался. Может быть, это сиденье в окопах под огнем русских помогало так проясняться мозгам — я не знаю.
Но все-таки долго, очень долго тянутся в окопах солдатские дни, и все они похожи один на другой, серые и тоскливые. А светлые пятна среди этих серых бесконечных дней — письма из дому.
Эльза писала мне обо всем. Херра Куркимяки не разорился оттого, что я ушел. Он, оказывается, не зря хвастал мне, что к сенокосу достанет рабочих. Он действительно достал их и не только к сенокосу, но и к пахоте, и к жатве, и к молотьбе, и на постройку молокозавода и мельницы, и на заготовку дров и камня. Он достал их целых пятнадцать человек, и работали они у него почти даром: только за няккилейпя[21]Плоский засушенный ржаной хлеб., снятое молоко и картошку, да и то за очень малое количество этих продуктов.
Херра Куркимяки был молодец и знал, как нужно воспользоваться войной, чтобы она вместо убытка приносила прибыль. Он взял из лагеря и заставил на себя работать русских военнопленных. Ей-богу, не всякий бы додумался до этого. Заставить работать на себя своих врагов! Заставить работать их даром за четыре крошечных няккилейпя, за литр снятого молока и пол-литра супа из гнилой картошки, от которой отказывались даже свиньи госпожи Куркимяки. Заставить их работать за это с утра до вечера, да так, что к вечеру они валились с ног от усталости. Ей-богу, это было здорово придумано, и ради этого стоило даже затевать войну, перкеле!..
Бог знает, чего только не передумаешь, сидя в сырых окопах долгие серые солдатские дни! Ничего нет на свете тоскливее их. Я уж не говорю про ночи, холодные черные осенние ночи с ветром и дождями, или про морозные ночи зимы. Тянутся они так долго и медленно, как будто, кроме них, на свете больше ничего и нет и не будет, а Эльза, Марта и Лаури и маленький красный домик на каменном бугре — это далекий хороший сон.
Но Эльза у меня молодчина. Она все-таки хоть напоминала мне об этом сне. Она не уставала писать обо всем, что происходило дома.
Работы было много, очень много. У хозяина прибавилось еще коров, а Кэртту ушла. Она вышла замуж за инвалида, имеющего свой клочок земли. Наконец-то она пристроила свое истосковавшееся одинокое сердце.
Лаури и Марта подросли. И Лаури все еще пытался карабкаться по отвесной стене скалы, затемнявшей дом, туда, где было так много света и солнца. Но он по-прежнему каждый раз срывался и падал вниз, на рыхлые грядки, но снова вскакивал и снова лез наверх. Такой упрямый рос из него парень.
С продуктами стало хуже. Были дни, когда на столе было только снятое молоко и картошка. Изредка перепадала рыба. Приходилось кое-что прикупать за деньги на черном рынке. Ничего не поделаешь. А обувь и одежда исчезли совсем. To есть можно было купить и одежду и обувь, но если одно только зимнее простое пальто стоило четыре тысячи марок, то какие уж тут покупки. А вместо настоящей обуви в ход пошли туфли с деревянной подошвой и с бумажным верхом.
В стране не все было спокойно. Дядя Эльзы писал ей из Кемиярви, что немцы заставили на Севере ввести какой-то налог. Оказывается, финны были в долгу перед ними за то, что они защищали нашу Суоми от большевиков. У старого карвари[22]Кожевник. Кауко Мурто они хотели конфисковать все кожи. Но он отказался их отдать. А когда они стали брать силой, он снял со стены охотничье ружье и пристрелил троих из них насмерть, а четвертому разбил плечо прикладом. Вот какой это был старик!
А потом дядя Эльзы писал еще о том, что приехал в отпуск Тойво Мянтюля и увидел свою невесту с немецким офицером. Наутро этого офицера нашли в канаве с перерезанным горлом, а Тойво скрылся в лесу.
И много было других случаев, когда наши ссорились и резались с немцами или из-за какой-нибудь девки из «Лотты Свярд», или по другому поводу, хотя немцы вовсе не за этим пришли в нашу страну.
Но здорово получилось у солдата-отпускника Арви Хейнола. Он зарезал в драке сразу двоих, а третьего выкинул в окно и успел скрыться.
20
Лето, осень, зима, и снова лето, и снова зима. Ровно протекала наша жизнь в окопах. Иногда только падала где-нибудь рядом русская бомба, и тогда мы ходили собирать сухожилия и кости, чтобы положить их в яму с обрывками серых солдатских мундиров. Иногда уходила через Рая-Йоки наша разведка, и тогда мы встречали и отправляли на санитарный пункт тех немногих, кому бог помог доползти обратно. Иногда русская артиллерия разрушала наши землянки, и тогда те из нас, кто оставался цел, копали темной ночью глинистую липкую землю для новой землянки, копали изо всех сил, боясь повторной стрельбы и жадно глотая разинутыми ртами холодный дождь и ветер ненастной осенней погоды или морозный воздух зимы.
Эльза не уставала напоминать мне своими письмами о том далеком хорошем сне, который мне привелось видеть когда-то в жизни и который я утерял навеки.
У господина Куркимяки дела шли все лучше и лучше. Сначала у него работало пятнадцать русских военнопленных, а потом стало работать двадцать пять. Они делали все не только в поле и в лесу, но и на стройке. А Пааво Пиккунен был над ними старший. Хотел бы я посмотреть, как он умудрялся объясняться с ними.
Сначала некоторые военнопленные хворали от тяжелой работы и плохой пищи. Тогда херра Куркимяки отправлял их обратно в лагерь и требовал взамен других. Ему давали взамен других. Потом некоторые военнопленные стали жаловаться на то, что их плохо кормят. Но их тоже херра Куркимяки заменил другими. Однако скоро их перестали ему заменять.
Русские пробили глубокую канаву сквозь каменистый грунт, чтобы соединить два ручья на земле Куркимяки в один ручей. Осталось пробить в камне еще метров пятьдесят канавы, чтобы два ручья превратились в один большой поток, который должен был крутить колесо мельницы, двигать сепаратор и маслобойку на новом молокозаводе и освещать все хозяйство Куркимяки и мое.
Но на этой работе одного русского задавило камнем, а взамен его уже не прислали никого. И когда после этого пятеро русских снова пожаловались на плохую пищу, то забрали обратно не только их, но и всех остальных, а взамен опять-таки не дали больше никого.
Наступили для господина Куркимяки плохие времена. Он ездил в лагерь, чтобы снова выпросить себе партию военнопленных, но ему сказали:
— Едва ли мы сможем удовлетворить вашу просьбу в ближайшее время. Они уверяют, что вы не только не прикармливали их своими продуктами, но даже урезывали тот паек, который мы вам отпускали на них из лагеря.
Говорят, что херра Куркимяки на это долго не мог ничего сказать и только удивленно поглядывал на всех из-под своих морщинистых занавесок. В сорок втором году он слыхал совсем другие речи от этих же самых людей и теперь подумал, наверно, что они просто шутят. Но они не шутили. Им было не до шуток. Был сорок четвертый год.
Но херра Куркимяки горевал недолго. Не дали ему русских военнопленных, ну что ж! Зато в стране было немало русских ингерманландцев и карелов. Это был как будто вольный народ. Правда, когда их снимали с богатых земель Восточной Карелии и из-под Пиетари и везли в Суоми, то не спрашивали, желают они этого или нет. Но чтобы успокоить их, им пообещали у нас землю. Иначе их было бы очень трудно оторвать от хорошей русской земли. Им пообещали дать у нас землю, а так как ее для них еще не приготовили, они работали у наших крестьян за харчи и деньги.
Херра Куркимяки сумел перевезти к себе несколько семей ингерманландцев, и они стали работать у него в поле и в лесу, на скотном дворе и на строительстве мельницы и молокозавода.
Конечно, херра Куркимяки с ними расплачивался не так, как с русскими военнопленными. Кроме муки, картошки и молока, он платил им также марками. Но все-таки он оставался с прибылью. Что стоят в наше время марки? А ингерманландцы шли на такую плату.
Они ждали, когда им, приехавшим из необъятных русских полей, дадут землю в Суоми, рожденной на мху и камне. Хорошее терпение было у этих ингерманландцев, если они рассчитывали, что им дадут землю в Суоми.
Да, херра Куркимяки умел устраиваться и брал от войны все, что мог. Недаром он так прочно ступал по земле своими тяжелыми ногами.
Но бог с ним. Я тоже получал на войне все, что мог. Я получал шестнадцать солдатских марок в день. В месяц четыреста восемьдесят марок, и Эльзе я отсылал четыреста марок чистых. Если прикинуть в уме, что это тянулось не один год и что Эльза не все тратила на черном рынке, то можно было надеяться, что корова находилась теперь от нас вовсе уж не так далеко.
И выходило так, что и я должен был радоваться и молить бога, чтобы он продлил войну как можно дольше. Ведь война давала мне корову. Как не радоваться и не молиться о ее продлении?
Но бог лучше знал, что делать. Война кончилась. И это было самое лучшее, что можно было для Суоми придумать.
21
Я плохо помню, как все это произошло. Мы не успели опомниться, как все началось и кончилось. Правда, мы ожидали этого и усиленно готовились. Мы возили камни и лес. Мы рубили, копали и строили, не переводя дыхания. Нам увеличили паек и заставляли работать весь длинный летний день от зари до темноты. Но эта была пустая работа, и поздно было за нее приниматься.
Я работал на второй линии нашей обороны. Она считалась самой крепкой из всех. Кто-то дал ей название: «Ожерелье смерти». Все наши силы ушли на то, чтобы создать ее страшные звенья и срастить их между собой.
Русские ударили раньше, чем мы ожидали, хотя ожидали мы их все время. Но это ожидание длилось так долго, что мы устали ожидать. И в этот момент они ударили.
Все наши «ожерелья смерти» они прорвали и промчались одним рывком от Пиетари до Виипури. Я не знаю, как это выглядело, но говорят, это было похоже на то, как будто сам бог разгневался на маленькую грешную Суоми и метнул в нее полную пригоршню огня и железа вместе с русскими солдатами.
Я не знаю, как это выглядело, упаси меня боже знать! Я был как во сне. Все перемешалось для меня в этом мире, и я перестал помнить, где я и кто я. Но если это был сон, то очень страшный, вовсе не похожий на тот, где тихо и мирно стоял в тени скалы на покатом каменном бугре маленький красный домик с белыми окнами.
На мою спину лил холодный дождь, и в мокрое лицо дул ветер. Я прижался щекой к шершавому фундаменту небольшого дома, от которого остался только один кусок стены с расщепленными бревнами. Я прижался к нему и к земле и думал о том, чтобы меня не заметили. Только об этом я думал тогда. Больше у меня ничего не было в голове. А вокруг меня грохотал гром, и подо мной вздрагивала земля.
Тогда я не мог ничего понять и даже не пытался понять. Я только думал о том, чтобы меня не заметили и не раздавили. Но кто стал бы меня замечать? Что я значил тогда среди этой ревущей каши из огня и железа, по которой молча хлестал косой холодный дождь?
Я прижался к мокрому фундаменту, ища у него спасения.
Железные горы мчались, как ветер, сквозь дым и дождь, грохоча гусеницами, а перед ними, и рядом с ними, и позади них взлетали кверху столбы черной, сырой земли. Они взлетали выше танков и застывали так на секунду, похожие в это время на куст, у которого вместо листьев и плодов черные земляные комья. А потом эти комья падали вниз, рассыпаясь по башням танков, и уже новые глыбы земли висели в воздухе на их месте.
Русские танки катились вперед рядами, и одному из них некуда было свернуть, когда на его пути попался небольшой дом. Он прошел сквозь этот дом, как утюг проходит по складкам белья.
Я даже не слыхал треска. Слишком много было всякого другого треска. Я только видел, как часть крыши зацепилась за башню, протащилась за ней немного и потом отвалилась.
По танкам били наши пушки. От их выстрелов вырастали возле танков черные кусты земли и дыма с красными вспышками посредине. Некоторые снаряды попадали в танк. Они ударялись о броню, лопались и разлетались. Тогда я не понимал, что это значит, и мне было все равно, что это значит, лишь бы танк не раздавил меня. Но теперь мне ясно. Снаряды наши отскакивали от русской брони. Они не могли ее пробить.
Но вот один снаряд, кажется, все-таки проник в танк, и тот сразу вздрогнул и остановился. Появилось много черного дыма. А потом открылся верхний люк и оттуда, хлопая себя руками по горящей одежде, вывалился человек. Только один. И сразу же из люка вырвались широкие языки огня и заметались вправо и влево, слизывая с башни зеленую краску.
А потом страшный гром раздался над самой моей головой. Я закрыл глаза, прижимаясь к земле еще плотнее. Камень фундамента дрогнул, толкнув меня в плечо и в скулу, но не отвалился. Подо мной сильно встряхнулась земля, и гром покатился куда-то дальше в сторону севера, сверля и колыхая воздух на своем пути. Надо мной прошел русский танк.
Когда я снова поднял голову и открыл глаза, я увидел кое-что пострашнее танков. Я увидел русских. Они бежали в мою сторону.
Я увидел все поля и нивы от разбитой деревни до отдаленного леса, и все эти поля и нивы были покрыты бегущими прямо на меня русскими солдатами. Господи боже мой! Это шла на нас Россия. Мы раздразнили ее, и она двинулась с места и пошла в нашу сторону всей своей громадой.
На их пути еще продолжали кое-где вырастать кусты из черной земли и камней, и с каких-то скалистых бугров засвистели им навстречу наши пули, но они бежали вперед…
Я только таращил глаза на их мокрые лица, по которым хлестал косой дождь, на их раскрытые рты, из которых вырывалось частое и тяжелое дыхание. И у меня рябило в глазах от множества этих лиц, которые казались мне похожими одно на другое.
Но вот один из них, бежавший впереди, заметил, должно быть, кого-нибудь из моих товарищей, которые, как и я, не успели вовремя убежать. Он вскинул на ходу автомат и дал короткую очередь. Пробежав после этого еще несколько шагов, он заметил еще кого-то уже в другом месте и снова выпустил из автомата несколько пуль.
Тогда я ни о чем не думал. Все в мире перемешалось в одну страшную кучу: разрывы снарядов, свист пуль, огонь, дым и дождь, но русский солдат проходил сквозь все это и что-то еще видел и соображал.
А потом он так же точно заметил меня, повернул автомат и в мою сторону, и я почувствовал, как мелкие крошки камня и цемента брызнули мне в лицо. Я припал к земле. Но уже нельзя было лежать больше ни секунды, если я хотел остаться в живых.
Я вскочил на ноги, забыв про свой автомат, и бросился наперерез бегущим русским, мимо облепленного грязью и окутанного дымом мертвого русского танка, мимо обломка крыши, туда, где виднелись кусты смородины и мелкие деревья позади огородов.
Я добежал до кустов и бросился наземь. А надо мной пропели русские пули — целая очередь из автомата. Я выждал, пока они умолкли, потом вскочил, пробежал немного и снова лег. Русские с криком пронеслись мимо. Они пробегали впереди меня и позади меня. Они пересекали весь этот большой, засаженный смородиной и малиной огород, в котором я думал укрыться, и я полз, как червяк, от куста к кусту, чтобы они меня не заметили и не прикончили.
Не знаю, сколько их пробежало и сколько осталось лежать скошенных нашими пулями. Но когда стало немного тише, я вскочил и побежал к деревьям позади огорода. А от них я взял направление на лес, который начинался в стороне от деревни. Это был мой родной финский лес. Он, как мать родная, укрыл бы меня от всех этих страшных дел, которые тут творились, и указал бы мне путь домой.
Но когда я перебегал последнюю поляну, перескакивая через убитых и раненых, кто то схватил меня за ногу и крикнул по-русски: «Стой!» А потом сразу же добавил по-фински: «Сейс!» и выругался по-русски. Я потерял равновесие и ударился о землю лицом и грудью.
Пока я поднимался, русский тоже успел подняться. Он понял, куда я держу путь, и загородил мне дорогу к лесу. Его зеленая рубашка была разорвана на груди и намокла от крови.
Он сделал ко мне шаг и вдруг наморщил от боли загорелое молодое лицо, которое напоминало чем-то молодое лицо Вилхо. Только оно выглядело рыхлее и желтее, чем у Вилхо. Он сделал ко мне шаг и еще раз сказал с болью в голосе:
— Сейс!
Я смотрел на него, и мне было любопытно и страшно. Вот стоит передо мной тот, о котором у нас столько говорили и писали, но о котором я ничего не знал. Он подошел ко мне так близко, что я отчетливо увидел свежую ссадину на его подбородке и брызги грязи на его щеке, а в карих глазах — боль и ярость. Целых двадцать семь лет мне твердили о нем, о его голой, пустой и огромной стране. И вот он стоит предо мной, наклонив слегка голову, и кричит:
— Стой, гад! Сейс!
Я не понимаю его слов. Я слышу только звуки, которые вылетают из его запекшихся губ, и думаю о том, как бы от него скорее уйти, пока не подбежали другие русские, и прыгаю в сторону.
Но он хватает меня за плечо. Он чуть поменьше меня ростом, но я чувствую страшную силу его пальцев. Мне стоит большого труда освободиться от него. Но он снова хватает меня, а я изо всей силы отталкиваю его прочь. Тогда он падает и, падая, цепляется за меня. Я тоже падаю прямо на него, на его окровавленную грудь.
Должно быть, я больно надавил на него во время падения, потому что он застонал. Но он не выпустил меня, и мы стали кататься по траве, хватая друг друга за горло и ударяя друг друга кулаками.
Все же я выбрал момент, когда он закашлялся и слегка разжал руки. Я вырвался и вскочил на ноги.
Можно было тут же ударить его камнем по голове и убить, но я не мог его ударить камнем. Не хотел я с ним вовсе драться. Как не мог он этого понять?
Ведь он не убил моего брата. Это я теперь точно знал. Я только отскочил от него, чтобы он снова не схватил меня за ногу своей железной рукой, и побежал. На этот раз я добрался до леса.
22
Лес укрыл меня от русских, укрыл от смерти. Я перешел много скалистых бугров, обошел много озер и болот, уходя все дальше и дальше в глубь родной Суоми. Шел мелкий дождь, и дул холодный ветер. Под ногами у меня чавкало, ноги промокли, но зато я ушел от того, что творилось там, вдоль дорог.
В опустевшей лесной избушке я нашел небольшой бумажный мешочек с пшеницей. Рядом с ним лежало несколько пустых крупных бумажных мешков. Я прихватил их с собой и опять углубился в лес.
Наступила темнота, а я все шел без пути, без дороги сквозь ветер и дождь, грызя сухие пшеничные зерна. Уже поздно ночью я вздумал перевалить большую гору, но сил хватило добраться только до ее вершины. Там я нашел сухое место под большим валуном. Развернув мешки, я залез в один из них ногами, другой разорвал вдоль и закутал им плечи и голову. Мешочек с пшеницей я подложил под голову, остальные разостлал под собой, лег на них и заснул.
Проснулся я утром, когда уже совсем рассвело и когда холод пробрал меня насквозь. Дождь перестал, но воздух был такой же прохладный. Я высунулся из-под валуна и увидел далеко внизу, у подножия горы, большое озеро, а слева от него — дорогу.
Хорошо, что я не стал ночью спускаться с этой горы. Я бы вышел к озеру. По блеску воды я определил бы, что путь вокруг него короче, если идти влево, и пошел бы влево, уткнувшись прямо в дорогу. А дороги были опасны, пока по ним рвались вперед русские.
Значит, обойти озеро нужно было справа, хотя и нельзя было охватить глазом, как далеко оно тянется и где кончается. И думая о том, что озеро мне придется обогнуть справа, я сидел на вершине лесистой скалы, возле большого валуна, смотрел на противоположный берег озера и старался постигнуть, что ждет меня там.
Берег поднимался от воды большими гранитными уступами, и на каждом уступе стояли высокие ели и сосны, прямые, как игла. Они стояли там уже сотни лет, уйдя корнями в трещины камней, и смотрели своими острыми вершинами в небо.
Нелегко им было ужиться на голом камне, потому что нет в нем соков для жизни. Много труда стоило их корням вскормить такие огромные стволы, отягощенные толстыми мохнатыми ветвями. Но вот они все-таки вскормили их, и теперь эти громады тянутся к небесам, прочно утвердившись на камне. И озеро отразило их всех в своей глубине, повторив каждый каменный уступ, каждую группу огромных зеленых красавцев.
Мне всегда приятно смотреть на такие места, где зелень силой своей и терпением победила камень, потому что я сам по опыту своему знаю, как трудно утвердиться жизни на голом камне. И тем обиднее стало мне, когда я заметил, что здесь какие-то дурни, с пушками и минометами, начали обстреливать русские танки, показавшиеся на дороге.
И уж если этим дурням непременно захотелось сложить без пользы свои головы, то хоть выбрали бы для этого место где-нибудь среди голых камней, которые не жалко кромсать и дробить и разбрызгивать мелким щебнем по земле.
Так нет же! Они открыли стрельбу прямо с этих зеленых уступов, нависших над тихим озером, и немедленно получили с дороги ответ. Большая ель, окутанная на мгновение клубом дыма, надломилась вдруг у основания и медленно начала падать. Она хлопнулась о край камня и мягко заскользила вниз с уступа на уступ, теряя на своем пути сучья и хвою.
Со стороны дороги начинали бить все новые и новые русские орудия. Каждый их выстрел слизывал с каменных уступов противоположного берега кусок зелени, оголяя их. Засевшие среди камней наши артиллеристы и минометчики пытались отвечать русским. Вспышки их выстрелов по-прежнему мелькали то здесь, то там. И еще больше вспышек было от пулеметов и автоматов. От их работы непрерывно трещала вся гора сверху донизу.
Но все новые и новые орудия русских били по всему крутому склону противоположного берега. Берег кипел весь в огне и в дыму, от подножия до вершины, и понемногу стряхивал с себя деревья и камни, которые скатывались в озеро.
Когда орудийный огонь затих и ветер сдул с каменных уступов последние клочья дыма, я не увидел на них больше прямых и гордых деревьев, смотревших в небо. Торчали кое-где только жалкие обломки с остатками сучьев.
И в это время к подножию скалы хлынула русская пехота и начала карабкаться вверх. Ей навстречу трещали автоматы и пулеметы, но какой был от них толк?
Я не видел, чем все это кончилось, и торопливо шел все дальше и дальше от этого страшного места, огибая озеро справа. Голод мучил меня, и я грыз пшеничные зерна. В лесу не выросло еще ничего съедобного: ни ягод, ни грибов. Но я все-таки шел в лес, а не к людям. Так страшны были люди в эти дни.
23
Я незаметно проскочил мимо русских на свою сторону, но из леса не выходил. Я встретил в лесу еще нескольких таких же горемык, как я, и мы решили укрыться в гуще ветвей от всего мира на то время, пока люди сходят с ума.
В пустом лесном домике мы нашли брошенную в подвале старую картошку и решили, что как-нибудь проживем. Однако нас выловили из леса свои же. Они не спросили у нас, голодны мы или нет. Они прогнали нас без остановки пешком сорок километров и совсем ослабевших заперли в лагерь, где уже были десятки таких же, как мы.
Нас долго держали там, очень долго. Никогда раньше я не думал, что родная Суоми может так немилостиво поступить со своими бедными сынами. Мы работали, как лошади, а кормили нас, как цыплят.
Это очень тяжело, когда живешь и чувствуешь, как день за днем уходят из твоего тела соки и не возвращаются обратно. Тяжело жить и думать, что не для тебя светит жаркое летнее солнце, не для тебя ясный божий день и вся красота земли.
Эльза, конечно, ничего не знала о моей судьбе, и я ничего не писал ей. Зачем писать? Чтобы она тревожилась и возила мне последние крохи? Пусть лучше ничего не знает. Я молился только об одном, чтобы дотянуть до конца и не свалиться раньше времени.
Нам страшно было смотреть друг на друга — такие мы стали. И мы уже не шутили, не смеялись, не дружили друг с другом, хотя арестовали нас всех за одинаковые мысли и проступки. И теперь я знаю, как просто можно нарушить людскую дружбу. Перестань давать людям есть, и они будут смотреть друг на друга волками.
Но в тот день, когда до нас дошла весть о конце войны, мы все-таки взглянули друг на друга не так угрюмо. И всю ночь мы переговаривались, лежа на деревянных нарах:
— Вот кончилась война, а кончилась ли она для нас?
— А почему бы ей не кончиться и для нас?
— Мы не поверили в свои силы… мы ушли…
— И правильно сделали. Разве не ясно теперь, что верить было не во что?
— Как не во что? Ведь Россия пошла на мир. Если бы мы оказались слабыми, она бы совсем раздавила нас.
— У России нет привычки давить кого-нибудь.
— Кончилась война для Суоми. Но как же теперь мы?.. Неужели нас не скоро отпустят?
— Отпустят.
— Не отпустят. Мы грешны перед своей родиной.
— Зато мы не грешны перед Россией.
— А что от этого изменится?
— Все изменится. Россия сильна. Она заставит наших правителей выпустить из тюрьмы всех, кто был против войны с ней. Ведь ты читал условия договора. Разве мы не приняли их? Кто заставил наших правителей принять их?
— Да. Это сила… это сила.
— Россия… что мы знаем о ней?
— Ничего мы не знаем.
— А ведь она была все время совсем рядом с нами. И мы не видали от нее никакого зла, а говорили про нее только злое.
— Зато теперь ты узнал ее.
— Немцы помогли тебе узнать ее. Их благодари.
— Немцы!.. Попался бы мне в руки хоть один из них, перкеле!..
— Да, кончилась, наконец, война для Суоми. Но как же мы… Может ли Россия заставить выпустить нас?
— Конечно, может. И обязательно заставит. Ведь мы тоже были против войны с Россией и своим делом доказали это. Россия не забывает своих друзей.
— Друзей? Давно ли рюсся-большевик стал другом финна?
Это я так сказал. Не мог я вытерпеть. Надо было кому-то так сказать, иначе чорт знает, до чего можно было докатиться. Я не знаю, правильно ли я поступил, что так сказал, но должен был кто-то это сказать в конце концов, или к чорту пошло все, чему учили людей в Суоми два десятка лет. Может быть, не мне, а кому-нибудь другому следовало это сказать, но не сказать нельзя было никак, и вот я сказал.
А мне сразу же ответили:
— Ты старый идиот. Только такая дружба и дала бы покой твоей Суоми. Если бы не торчал так заметно из-за спины у наших правителей зажатый в кулак нож против России, то жил бы ты в мире уже двадцать семь лет. Не было бы зимней войны сорокового года и не было бы этой проклятой бойни. И шла бы наша граница на юге по-прежнему по Rajajoki,[23]Сестра-река. потому что Россия умеет жить в мире с любым соседом, если только он сам от всего сердца этого желает.
Так мне сказали, и я промолчал в ответ, потому что я — это был я, перкеле… Чего от меня еще ждать? Не я создавал то, что было вокруг.
А они продолжали беседовать:
— Да, дорого обошелся нам этот торчавший за спиной нож. А за чьей спиной он торчал?
— А вот это нужно выяснить и взыскать с того за нашу кровь и слезы.
— Хо-хо! Чего захотел! Взыскать! Будь доволен тем, что сам уцелел.
— Все можно сделать в дружбе с Россией. Ворочать можно горы вместе с ней.
— Да. Кончилась война для Суоми, наконец. Кончилась. И как бы тяжело ни достался мир, а для народа он все-таки радость. Но что будет теперь с нами?
— Ничего страшного. Только бы не нарушался мир с Россией. Она поможет нам.
Но тут я опять вставил свое слово:
— Стыдно принимать помощь от злейшего врага Суоми, от рюсси.
Я опять сказал то, что должно было быть сказано. Как же не сказать этого, бог ты мой! Где же мы тогда, и кто мы?
Но мне опять ответили: «Дурак».
Я повернулся на спину, вытянул свои ноги так, что они свесились над краем нар, и закрыл глаза, как человек, имеющий полное право отдохнуть после выполненных хороших дел.
И я сказал:
— Сами вы дураки. Совсем спятили все от страха перед рюссей.
А они продолжали твердить свое: «Россия, Россия». Бог с ними.
Я не знаю, что могло так быстро испортить людей, которые двадцать семь лет понимали все совсем по-иному. А теперь они говорили такие вещи, каких мне раньше ни от кого не приходилось слышать, разве только от своего глупого Вилхо.
Так мы беседовали в ту первую ночь мира. Тощие лица смотрели с двухэтажных нар на одну-единственную бледную лампочку, свисающую с потолка. Каждый говорил вслух то, что думал, но никто не улыбался.
И с тех пор уже не было таким беседам конца. С тех пор каждую новость, доходившую до нас, мы глотали с такой же жадностью, как свой водянистый суп. Некоторых из нас навещали жены или сестры. Они рассказывали, что делается на свете.
Немцы все еще сидели в нашей стране, не желая уходить, хотя им делать уже больше было нечего. Они уже сделали свое дело, заставив нас пройти сквозь все, что только может вынести человек. Чего им надо было еще? Говорили, что они под конец прямо-таки захватили наш север и что там началась настоящая война между нашими войсками и немецкими. И те, кто говорил это, не выглядели огорченными таким поворотом дел. Скорее даже наоборот. Вот как кончаются дела между союзниками, где один захотел быть хозяином другого.
В Хельсинки приехала русская комиссия, чтобы проследить, как мы выполняем условия перемирия.
Услыхали мы также о том, что все русские скоро будут отправлены к себе на родину, а наши вернутся из России. Вот это было хорошо. У меня сердце заколотилось от радости, когда я узнал об этом. Значит, и Вилхо тоже скоро будет дома. Как же иначе? Вернется и он, раз вернутся другие. Единственный мой брат, глупый Вилхо…
Пришел октябрь с холодными дождями и ветром, а мы все еще тянули свою лямку. Мы слыхали, что из тюрем уже были выпущены наши политические заключенные и что эшелоны с русскими уже потянулись к Виипури.
Все это было так. Мы сами видали их иногда издали. А когда однажды нам пришлось грузить в вагоны дрова на разъезде Хонканиеми, мы увидели их совсем близко. Их эшелон остановился, ожидая встречного поезда, и они вылезли из вагонов, потому что день выдался сухой и теплый.
24
Да, это был хороший осенний день. Они шутили и смеялись, подставляя осеннему солнцу свои загорелые лица. Еще бы им было не шутить и не смеяться. Они ехали домой, к себе в Россию, которая победила всех, кто хотел ее раздавить. Они приедут и узнают, почему она победила. Может быть, они и сейчас это знают. Ведь оттого, что они поголодали два-три года в наших лагерях, они не перестали быть русскими. Есть же на свете люди, которые знают такое, чего другим никогда не узнать…
В эшелоне находились семьи с женщинами и детьми. Три года просидели они безвыходно в лагере. Так мы хозяйничали на земле, которую захватили. Ни одного русского не оставляли на свободе, даже стариков, женщин и детей.
И вот теперь они шутили и смеялись, толпясь у вагонов. Мальчики и девочки перебегали с места на место, ко всем приглядываясь, потому что дети всегда дети. В одной части эшелона мужчин было больше. Некоторые из них сидели задумавшись, некоторые пели вполголоса свои песни, а некоторые закусывали, повернув лица к солнцу. Одни из них ели хлеб с маслом, другие просто грызли няккилейпя и запивали чем-то из котелков и фляжек. Не нам было разбираться, кто из них и как попался. Но это были русские и, значит, хорошего у нас видели мало.
Нас они заметили сразу, как только вылезли из вагонов, но сначала только косились в нашу сторону, не говоря нам ни слова. Ведь мы были их врагами. Мы дрались с ними на фронте и потом морили их голодом в наших лагерях. Как же должны были они смотреть на нас?
И мы тоже косились на них не очень приветливо. Когда у человека желудок от пустоты дрожит и сжимается, ему не очень-то весело видеть куски хлеба и масла, исчезающие в чужом рту.
Мы стояли, заслоненные от русских своими конвойными, и ждали, когда уйдет их поезд, потому что он мешал нам носить бревна через линию железной дороги к пустым платформам на запасном пути.
У русских тоже конвойными были наши финские сержанты и солдаты, но они не особенно караулили их. Они просто отошли в сторонку и закурили, так что никто не мешал нам коситься друг на друга.
Но вот один русский, невысокий и коренастый, в новой финской шинели, доел свой хлеб с маслом. Он доел хлеб, смахнул крошки с колен и приподнялся с узелком в руках, а потом потянулся слегка и крикнул вдруг по-фински веселым, сытым голосом самому переднему из нас — Отто Укконену:
— Miks niin surullinen olet?[24]Ты чего такой печальный?
Тот помолчал немного, шевеля мускулами на худых щеках, и потом проворчал:
— Nӓet itse.[25]Сам видишь.
Русский вгляделся в него повнимательнее и еще раз спросил:
— Oletko nӓlkӓ vai mitӓ?[26]Голоден или что?
Но Укконен не ответил, продолжая сжимать и разжимать свои худые челюсти.
Разговорчивый русский развязал вдруг свой узелок, вынул половинку круглого хлеба и пошел к нам ближе. И он уже хотел протянуть Укконену этот хлеб, когда наш конвойный сержант с автоматом в руках загородил ему дорогу и сказал:
— Ei saa![27]Нельзя.
Тогда вперед выступили еще двое русских, и один из них крикнул:
— Hei, Suomen pojat! Miksi olette vangittu?[28]Эй, финские ребята! Почему вы арестованы?
И кто-то проворчал ему в ответ из нашей кучи:
— Aivan turha kysymys.[29]Совершенно лишний вопрос.
Все новые и новые русские стали подходить к нам, услышав эти слова, а наши конвойные бросили курить и загородили им дорогу. Даже vӓnrikki[30]Прапорщик. поспешил к ним на помощь. Широкоплечий и приземистый, он стал перед нами.
Первый русский все-таки протянул еще раз вперед свой хлеб, но vӓnrikki положил руку на кобуру и рявкнул:
— Ei saa!
Русский опустил руку с хлебом. Даже дети притихли, с любопытством ожидая, что будет дальше.
Но тогда от вагонов отделился высокий и плечистый русский с бумажным свертком в руках. Голос его оказался громче и басистее, чем у нашего прапорщика.
— Miks ei saa? Pois tieltӓ![31]Почему нельзя? Прочь с дороги!
И он отпихнул нашего прапорщика в сторону с такой силой, что тот едва устоял на ногах. И после этого русский двинулся прямо в нашу толпу. И так как я на его пути оказался по своему росту самым приметным, то он протянул мне свой пакет и сказал:
— Se! Ota venӓlӓiseltӓ.[32]На! Возьми от русского.
И другие русские по его примеру протянули нам хлеб и папиросы.
Я взял пакет, который мне был протянут. Почему не взять хлеб, если тебе его дают от чистого сердца и если сам едва стоишь на ногах от голода? Но я ничего не сказал. Что я мог сказать? Я хотел ему кивнуть головой, но когда взглянул на его лицо, то не мог даже кивнуть головой и остался стоять с открытым ртом…
Боже мой! Я узнал этого человека… Но я никому и никогда в жизни не скажу, где я видел его раньше.
Да, это был он. Этот широкий и тяжелый подбородок и нос, похожий на мой, загнутый сапогом, только чуть покороче, я узнал бы где угодно. Никакая полнота щек не изменит их формы. А главное — короткий косой рубец на верхней части лба…
Я стоял с пакетом в руках и смотрел на него, ничего не говоря. Что я мог сказать, боже мой! Я хотел только одного: чтобы он не узнал меня. И, кажется, он не узнал, хотя в его карих глазах и мелькнуло такое выражение, как будто он вспоминал о чем-то. Его губы приветливо улыбались мне, и только свисток проскочившего мимо нас встречного поезда заставил его снова сделаться серьезным и оглянуться.
Дежурный по разъезду дал сигнал, и все русские направились к своим вагонам. Большой русский тоже пошел не спеша вслед за другими. На ходу он обернулся, махнул мне приветливо рукой и, подбирая подходящее финское слово, крикнул:
— Nӓkemiin![33]До свидания.
25
Поезд с русскими ушел, а мы все еще стояли на месте и смотрели куда угодно, только не в глаза друг другу. Но вот кто-то горько усмехнулся и сказал, глядя в землю:
— Вот вам и рюсся!
И в голосе его был слышен великий стыд. А кто-то другой, очень слабый и тонкий, как былинка, согнулся вдруг пополам и сел прямо на землю. И мы услыхали, как он всхлипнул, — настолько был он слаб. Он держал в своих тонких грязных пальцах четыре куска «фанеры»[34]Так финские солдаты иронически называют плоский сухой хлеб — няккилейпя., и все мы увидели, как на них капнули слезы.
— Перкеле! Никогда не будет мне прощения, — сказал он, — ведь я убил двоих… Они бежали на меня с автоматами там, на фронте. А я сидел между камнями с пулеметом и стрелял. Они бежали прямо на меня и кричали свое «хура», и я выпустил по ним очередь. И вот один из них упал сразу, а другой не хотел падать. Он непременно хотел добежать до камней, в которых я засел. Его уже шатало так, что он делал больше шагов вправо и влево, чем вперед, но он ни за что не хотел падать и все шел ко мне, а я все выпускал и выпускал по нему короткие очереди, пока он все-таки не упал наконец… А может быть, этот хлеб дал мне сегодня родной брат того, кто шел и шатался от моих пуль, засевших в его теле? Почем я знаю? Перкеле! Какие мы звери, и как противно все это!..
В своем пакете я нашел половинку круглого хлеба, разрезанную вдоль до середины, а в этот разрез был засунут плоский кусок масла. Как видно, он отдал мне свой паек. Откуда же мог он взять этот хлеб и масло? Все они отдали нам свои пайки, полученные на дорогу. Отдали нам, своим врагам, которые душили, били и морили их голодом в наших лагерях. Вот какие были на свете люди, о которых мы ничего не знали! А ведь они все время жили рядом с нами, совсем рядом.
26
Все это мне вспомнилось у себя дома, за столом, когда напротив меня сидел мой брат Вилхо. Он много выпил. Мы оба много выпили. Я велел Эльзе принести из погреба пять бутылок вина — все, что она накопила за время войны, и мы выпили их вдвоем.
Сколько лет мы ждали этой встречи! Ведь мы уже не надеялись увидеться больше никогда. Но бог был милостив к нам, и мы увиделись.
Я попал домой раньше его. Кто-то сказал, что нас тоже выпустили из лагеря не просто, а будто бы по настоянию русской комиссии. Я не знаю этого. Я ничего не знаю. Бог ты мой! Мы столько насмотрелись и наслышались за эти годы, что готовы были поверить не только этому.
В эти дни по всей Суоми только и было разговору, что о русских. Оказывается, у нас многие хорошо знали русских, многие встречались и даже жили с ними раньше, и теперь рассказывали о них очень много интересных вещей.
И я удивлялся: почему они раньше не рассказывали этих вещей, если знали о них? Почему они раньше твердили «ryssӓ, ryssӓ» и только теперь заговорили venӓlӓiset.[35]Русские.
Домой я пришел вечером. Это был прохладный и тихий осенний вечер. Мы так и просидели весь этот вечер дома. Я посадил всех троих к себе на колени, обхватил их своими большими руками и прижимался по очереди щекой к их белокурым головкам.
Лаури и Марта сильно вытянулись за эти годы. Теперь в школу они ходили вместе.
Эльза немножко сдала. Щеки ее уже не распирало так, как прежде, но румянец с них еще не совсем сошел. В глазах ее сохранился все тот же веселый, насмешливый огонек. И губы ее были по-прежнему полные и мягкие. К ним я тоже прикасался время от времени щекой и губами. Все было мне близким, родным, нераздельным.
Она спросила, почему я так долго не писал, но я ничего не ответил. Зачем было ее огорчать? Это был весь мой мир, который я обнимал руками в тот вечер. Ради этого мира я жил на свете и трудился. В нем была вся моя радость.
А Эльза гладила мои опавшие щеки и рассказывала понемногу все новости, какие совершились тут без меня.
Херра Куркимяки уже достраивал молокозавод и мельницу. Это будет крупное хозяйство со своим электричеством, гораздо крупнее, чем у Похьянпяя, который все еще крутит свой сепаратор лошадью. А пока молоко идет к Похьянпяя. По-прежнему на машине приезжает за бидонами Эльяс. Ведь он раньше всех вернулся из армии домой и теперь рассказывает такие вещи про то, как они рыскали по лесам и болотам, что прямо мурашки по спине пробегают, когда его слушаешь. Он вставил себе один золотой зуб, и когда улыбнется, то девки оторваться не могут…
Я сказал Эльзе:
— Ты про мельницу и молокозавод начала говорить.
Она сказала:
— Да, мельница будет большая, и молокозавод тоже наподобие крупной фирмы Викстрем. Хозяин говорит, что все молоко из деревни Суокюля и с фермы Антти Косола будет у него. Кроме того, он и сам имеет уже порядочное стадо коров. За время войны купил девять коров и еще купит. Лошадь купил, свиней четыре штуки, овец двенадцать штук и птичник завел. Ведь русских у него совсем недавно отобрали. Весь прошлый год они работали на стройке, пахали, сеяли, убирали и молотили. Они же пробили в камне русло для второго ручья, который вольется в наш. Осталось только прокопать небольшую перемычку, чтобы слить их вместе. А двух ручьев хватит, чтобы двигать все его хозяйство. Так ему сказал инженер, которого Вихтори привез из Хельсинки. Русские дешево ему обошлись. Если бы они не ухитрялись делать потихоньку разные коробочки, корзиночки, портсигары, браслеты, игрушки из жести, дерева и коры и обменивать их у наших крестьян на картошку, рыбу и хлеб, то они не выдержали бы такой жизни. Ведь на день они получали только четыре куска няккилейпя и пол-литра снятого молока. А сейчас у нас ингерманландцы. Вихтори привез четыре семьи. Поместил их у Пааво. Ведь он один остался во всем доме после ухода Кэртту. Где ей было выдержать, если на каждую из нас приходилось уже по пятнадцать коров. А когда у нас поселились ингерманландцы, мне сразу легче стало. Со мной стали работать две женщины и три девушки. А мужчины с Пааво. Он молодец. Золотые руки. Он успевает делать все — и в кузнице, и на конюшне, и на постройке. Но пьет по-прежнему каждое воскресенье. Пьет, кашляет и сохнет, стареет понемногу. Сейчас он старший на работах. Но это уже не надолго. Ингерманландцы тоже уходят. Приезжал из Хельсинки какой-то русский военный представитель и спросил их, хотят ли они вернуться на родину. И они все в один голос: «Хотим, хотим!» Видно, что истосковались они по ней. Я по женщинам сужу. Повеселели сразу, как только узнали, что их домой пустят. Еще бы! Они там где-то возле Пиетари жили. Землю имели. А здесь кто же им землю даст, если свои без земли? И даже я рада за них, хотя не знаю, каково-то мне без них теперь достанется. Завтра грузиться начнут…
— Завтра?
— Да. С утра.
Я осторожно снял их всех со своих колен.
— Давайте спать, а то опоздаю к ним утром.
Она удивилась:
— Ты же хотел дня четыре никуда не ходить.
— Схожу к ним утром.
27
Утром они действительно уже грузились. Все их пожитки поместились на одной подводе, которую собирался везти упитанный вороной конь. Пааво Пиккунен стоял рядом и держал вожжи. Какой он стал маленький и сухой! Или это только лицо его так сморщилось? Вдобавок оно было серое от холода. Стояла осенняя пасмурная погода с легким ветром, который носил по воздуху последние желтые листья. Еще далеко было до морозов, а Пааво уже мерз. На плечах его была зимняя теплая тужурка, а глаза слезились от холода.
Когда он увидел меня, в его глазах зажглась радость, и мелких складок вокруг них стало еще больше. Я пожал его маленькую жесткую руку и спросил:
— Как живешь?
Он ответил: «Ничего» и продолжал глядеть на меня с улыбкой. Я тоже улыбался ему. Так мы простояли несколько минут, а потом я спросил:
— Куда собрался?
Он кивнул головой на людей, которые суетились вокруг воза, наполненного узлами, и ответил:
— На станцию.
Нельзя сказать, чтобы эти мужчины, женщины и дети были хорошо одеты. Не очень-то легко одеться сейчас в обедневшей Суоми. Но они, как видно, не особенно заботились об одежде.
Все они были заняты какими-то другими мыслями и даже не смотрели на меня. Они видели, наверно, в эти минуты перед собой что-то такое, чего мне никогда в жизни не увидеть.
Только два маленьких мальчика остановились подле меня, и один из них сказал:
— Какой большой дядя.
На эти слова оглянулся пожилой, худощавый мужчина в куртке и резиновых сапогах. Он вынул трубку изо рта и сказал:
— Вот если бы этот большой дядя помог мне мешок поднять…
Я помог ему забросить тяжелый мешок с мукой на самый верх воза и спросил:
— В Россию?
Он ответил:
— Да. Домой.
И глаза его опять стали смотреть в какой-то другой мир, и в них была забота. Меня это несколько обидело, и я спросил:
— Не понравилось у нас?
Он пожал плечами, продолжая думать о чем-то далеком.
— Напрасно уезжаете, — продолжал я, — ничего там хорошего нет. Колхозы. А у нас можно дом купить, землю получить…
Что-то захрипело позади меня. Я оглянулся. Это Пааво рассмеялся так, что закашлялся и захрипел. Но в глазах его не было смеха.
Я еще немного поговорил с этим худощавым человеком. Я пытался ему доказать, что в Суоми лучше, чем в России. Нет в мире лучше страны, чем Суоми, и он напрасно покидает ее. Или, может быть, он думает, что она хуже России? Он ошибается, если думает так. Он просто не знает еще Суоми. Он не читал наших газет и журналов, не слушал нашего радио, не слушал наших учителей в школе и пасторов в церкви. А надо было все это читать и слушать, если он хотел узнать, что такое Суоми. Но, может быть, он вовсе не желает знать, что такое Суоми, и считает, что есть на свете края получше. Так я говорю, что он ошибается, очень даже ошибается!
Но он не спорил со мной. Он только кивал головой, косясь на меня удивленно одним глазом, и выбирал удобную минуту, чтобы отойти от меня. И вот понадобилось помочь стянуть веревку на возу, и он отошел.
Но я не считал, что кончил свой разговор с ним. Не мог я его так отпустить. И когда они уже окончательно снарядились в путь, я снова подошел к нему и сказал:
— Ну, счастливый путь, приятель. Тебя как звать?
Он посмотрел на меня с удивлением и ответил:
— Степан Котилайнен. А тебя?
— Эйнари Питкяниеми. Счастливо доехать домой.
— Спасибо. Доедем как-нибудь.
И они зашагали всей гурьбой за возом на станцию, чтобы уехать в Россию. А я подумал: «Вот будет у меня в России теперь один знакомый человек, который пожал мне руку и знает мое имя. Может быть, он вспомнит меня иногда…»
И я даже усмехнулся про себя — так по-детски все получилось. Зачем это мне понадобилось, чтобы кто-то вспоминал меня в России? Вовсе я в этом не нуждаюсь. Так… шутка. Глупеть я начал на старости лет… Но ничего. Пусть будет у меня один знакомый человек в России, хе-хе! Пусть, бог с ним. И я смотрел вслед ингерманландцам, пока они не скрылись за поворотом дороги вместе с лошадью и с Пааво Пиккунен, который шел рядом с возом, держа в руках конец вожжей.
А потом я заметил, как что-то замелькало слева от меня. Это раскачивался из стороны в сторону широкий подол платья нейти Куркимяки и развевались полы коричневого пальто, туго стянутого кушаком на ее тонкой талии. Она шла от желтого крыльца своего большого дома по еловой аллее, шла быстро, прямо ко мне. Надо полагать, что у нее была причина для такой спешки. Но ведь я не смотрел в ту сторону и мог ее совсем не видеть. Я смотрел вслед ингерманландцам. Только их я видел. И махнув им вслед своей кожаной шапкой, я, не оглядываясь, зашагал домой.
Но когда я обогнул коровник, то услышал, как меня кто-то позвал:
— Эйнари!
Это был мужской, очень громкий голос, который нельзя было не услышать. И когда он позвал меня еще два-три раза, я оглянулся.
У средних ворот коровника стоял хозяин и манил меня к себе рукой. Я постоял немного на месте, не зная, идти к нему или нет. Ведь я не собирался в этот день работать. Но когда он сам пошел ко мне, я тоже двинулся к нему навстречу. Как-никак это был мой хозяин, и неудобно было не уважать его. Он крепко пожал мне руку.
— Вернулся, наконец? Поздравляю. Ну как? Цел? Не ранен?
— Нет…
— Это хорошо. А когда можешь приступить?
Я не знал, что ему на это ответить, и молча смотрел на его обвисшие веки и на щеки, припухшие снизу. Они за эти годы припухли и порозовели у него еще больше. Да и весь он немножко потолстел. Можно было подумать, что вся полнота как-то обвисает на нем и сползает книзу.
Я не знал, что ему ответить, и смотрел на него сверху вниз, сжав губы.
А он спрашивал:
— Может быть, завтра выйдешь? Это было бы очень кстати. Проклятые русские забрали у меня ингерманландцев. Сегодня уже работаем сами: я, жена, дочь. Будут приходить еще две доярки на помощь к твоей Эльзе, но этого мало. Так ты завтра выйдешь или хочешь отдохнуть денек?
Я все еще молчал, хотя невежливо было не ответить. Он никогда не говорил со мной с такой просьбой в голосе.
Но меня взяла досада. Ведь я хотел отдохнуть по крайней мере четыре дня, оставшихся до воскресенья, чтобы навести порядок возле дома. А он спрашивает: «Завтра выйдешь?» Ну что ж, если уж так приперло, выйду послезавтра.
Так я решил про себя, но ему забыл сказать это вслух, потому что меня грызла досада. И я пошел дальше своей дорогой молча и только по дороге сообразил, что так и не ответил ему. Тогда я остановился, оглянулся назад и увидел, что он все еще стоит на том же месте и смотрит мне вслед.
Должно быть, он сильно был удивлен моей невежливостью. Но на таком расстоянии бесполезно уже было кричать о том, что я приду послезавтра. Я молча пошел дальше, медленно передвигая ноги в тяжелых сапогах, потому что был еще слаб и голоден и быстро уставал.
28
А через день я пришел на работу, как решил, хотя досада моя еще не прошла. И хозяин опять удивленно глянул на меня исподлобья. На этот раз он уже не подошел ко мне и не пожал руку. А когда я приподнял свою шапку и сказал: «Terve», он тоже ответил: «Terve» и добавил:
— Пришел все-таки? Хорошо. Очень хорошо. Будем работать.
Но и после этого он продолжал очень недоверчиво коситься на меня.
Я очень мало сделал в первый день своей работы после войны. Очень мало. Я вычистил один погреб и выложил его изнутри соломой, чтобы можно было туда засыпать картошку. Заодно я вычистил ледник для зимнего льда. В нем был очень скверный запах и много воды на дне, которую пришлось выкачивать насосом.
Потом я выкинул навоз из коровника и постлал коровам свежую солому, починил телегу, на которой в ближайшие дни предстояло вывезти весь накопившийся позади коровника навоз на картофельное поле будущего года, где его нужно было еще успеть запахать на зиму. Телега была все та же, прогнившая насквозь, и я кое-где опять скрепил ее свежими деревянными планками, как когда-то до войны.
В конюшне я сменил подстилку и вычистил лошадей. Их теперь было семь, если не считать молодняк. Черный большой конь, увозивший ингерманландцев, назывался Mustalainen.[36]Цыган. А Великан разъелся так, что любо было посмотреть. Бодрый совсем округлился. Я вычистил его и долго похлопывал по жирному широкому крупу, на котором темная кожа лоснилась, как шелк.
Да. Это хорошо иметь свою лошадь. Не каждый даже понимает, как это хорошо. И, может быть, меньше всего понимает тот, у кого их несколько.
Я очень мало сделал в этот день. Пааво пропахивал картофельное поле для копки, а когда он немного освободился, мы вместе с ним привезли на гумно два воза ржаных снопов и забили ими колосники в риге, а потом растопили ее. В четыре часа утра следующего дня нам предстояло молотить эту рожь. Ингерманландцы так и не успели домолотить весь хлеб, и на нашу долю осталось еще полторы скирды ржи, две скирды пшеницы и четыре скирды овса.
Картошка тоже еще не вся была убрана с поля. Копали ее роува и нейти Куркимяки и две поденщицы, которые должны были утром и вечером помогать моей Эльзе доить коров.
Днем Эльза позвала меня домой обедать, но я сказал, что не пойду, а лучше немного раньше кончу вечером. И я не пошел, но то и дело грыз на ходу няккилейпя и каккара[37]Сухая, тонкая ватрушка., которые Эльза еще с утра напихала мне в карманы, и все-таки целый день чувствовал себя голодным.
Перед вечером Пааво показал мне новые постройки. Да, здесь работали не на шутку. Крупный двухэтажный корпус уже был готов, а кирпича, камня и леса, который лежал вокруг в штабелях и грудах, хватило бы еще на такой же корпус. Напротив него стоял большой длинный кирпичный склад, покрытый черепицей. Когда они успели это все соорудить?
Пааво показал мне место, где должны были слиться оба ручья, показал, где намечено место для водоема, где для плотины. Он провел меня внутрь корпуса и показал там в обоих этажах все отделы, где предполагалось установить оборудование для молокозавода и мельницы. Только оборудование он пока не мог мне показать. Оно лежало под замком на новом складе, стоящем напротив, а ключ от склада был у господина Куркимяки.
Но я и так видел достаточно. Стены, потолки и крыша уже стояли на месте. Кое-где их нужно было еще доштукатурить. В той части, где устраивался молокозавод, требовалось покрыть цементом пол в трех комнатах, сделать две цементные ванны для ледяной воды, в которую ставят баки со сливками, и цементные основания для сепаратора, маслобойки и для динамомашины с мотором в электробудке, стоящей отдельно.
Оставалось также еще сделать рамы для окон, косяки для дверей и сами двери, но этим уже занимались золотые руки Пааво Пиккунена. Окончательную внутреннюю отделку и оборудование херра Куркимяки решил отложить до весны. Сын писал ему из Хельсинки, что сейчас очень трудно найти специалистов.
Но основное дело все же было сделано, и сделано даром русскими военнопленными.
— Пойду-ка я домой, Пааво. Хватит с меня для первого дня, иначе мне утром к трем часам не встать.
И я потащил свои тяжелые ноги к дому, который стоял все на том же месте, на том же каменном бугре.
29
Бедный мой дом. Досталось ему за эти годы. Уже не выглядела такой яркой красная краска на его досках. Уже сколько лет хлестали по ним дожди и снег и прохватывал их мороз. Сколько раз капли дождя, тающего снега или инея сползали по ним вниз, смывая краску, и сколько раз весенние ветры и летнее солнце просушивали их насквозь!
Да, теперь уже нельзя было сказать, что этот уголок был похож на картинку из сказки. Посеревший дом на сером камне и серая мокрая осень вокруг — это невеселая сказка.
Я очень устал в этот первый день работы после войны и, поднявшись на бугор, сразу вошел в дом. Лаури и Марта уже сидели за столом и готовили уроки. Я подсел к ним, глядя, как их ручонки выводят в тетрадках буквы и цифры, а потом повернулся лицом к теплой плите и заснул. Разбудила меня Эльза.
Она подкрутила фитиль в керосиновой лампе и начала растапливать плиту. А я сидел, свесив руки, и следил за ее движениями. Молодец она у меня. Не сразу сомнешь такую тяжелой работой и заботами. Три года несла она на своих плечах все труды по дому. Вот стоило жару плиты коснуться ее лица, и оно снова налилось румянцем, как бывало прежде. И детей она сумела сохранить. Их щеки розовели среди белых подушек, словно спелые яблоки.
Конечно, и моя помощь кое-что значила. Как-никак я получал 16 марок в день солдатского жалованья и посылал ей каждый месяц по четыреста марок. Хоть это и немного для военного времени, но все-таки помогало ей, наверно, выбиваться из нужды.
Эльза улыбнулась, поймав мой взгляд, и сказала:
— Сейчас я развеселю тебя. Хочешь?
Она поставила на плиту сковородку со свининой и подошла ко мне. Я посадил ее к себе на колени и ждал, что она скажет. Она опять погладила мои худые скулы и потом зашептала мне на ухо:
— Ты не думай, что у нас все так плохо. У меня есть восемь с половиной тысяч марок.
— Эльза!
Я вытаращил глаза и ничего не мог понять. А она продолжала:
— А корову можно купить за семь тысяч. Я уже приценивалась тут к одной.
— Эльза! Но откуда?..
Она плотнее прижалась ко мне.
— Глупый. Да это твои же солдатские деньги за три года. Не все, правда, но сколько удалось сберечь…
Вот какая она у меня. Что делать с такой женой? Я, правда, не мог ее подбросить на этот раз к потолку. Я слишком устал в этот день. Но я обнял ее и прошелся с ней несколько раз по комнате, целуя на ходу ее горячие губы, пока дым не пошел от свинины, которая жарилась на сковороде.
Вот как женщина умеет приносить радость в дом. Самый тяжелый и серый день в жизни она может наполнить настоящим теплом и светом, если пожелает. Да сохранит ее бог!
А сколько ей пришлось перенести лишений для того, чтобы не трогать моих денег! Я только на следующий день это как следует понял, когда крутил ручку молотилки.
30
Мы купили корову. Уже не требовалось больше занимать в долг молоко и масло у госпожи Куркимяки. Все это у нас теперь было свое. Немного труднее вышло с кормом и сараем. Но за доски и дранки у нас хватило расплатиться наличными. А за сено я должен был работать господину Куркимяки до конца года. Гвозди тоже пришлось взять в долг.
И еще кое-что пришлось мне взять у Куркимяки в счет моей будущей работы. Совсем износилось пальто у Эльзы, а Эльза заслуживала того, чтобы носить лучшее пальто в мире. И я взял у госпожи Куркимяки сукна на новое пальто. Конечно, это было не лучшее в мире сукно, но все-таки новое и тонкое.
И у детей пальто тоже поизносились, но им можно было перешить пока из старого. Только кожу на башмаки пришлось взять в кладовой у госпожи Куркимяки. И я взял у нее новые кожаные пьексы для зимы.
Чего только не было у этих господ Куркимяки! Все можно было у них достать. Но цены выросли во много раз, а мое жалованье не прибавилось, и поэтому долг мой я мог отработать только к середине сорок пятого года.
А когда мы подсчитали, что за дом я не платил хозяину уже три года и, значит, обязан был отработать ему за это три месяца подряд и еще один месяц за очередной сорок пятый год и что, кроме того, предстояло еще приобрести картофеля на семена и на пищу, дров на зиму, соломы для подстилки корове, кое-какой посуды и инструментов для хозяйства, то получалось, что я должен буду работать на хозяина даром весь сорок пятый год до конца и еще начало сорок шестого года. А в сорок шестом году снова подходил срок отрабатывать двадцать дней за дом. Так вот складывалось у меня все в эти первые дни.
Кроме того, я очень уставал. Эльза поддерживала мои силы, чем могла. Но я запретил ей трогать последний кусок свинины. Хватит и молока, чтобы поставить меня на ноги. Хоть и медленно возвращались ко мне силы, но все же я нарастил кое-какое мясо на костях.
Самым трудным делом для меня был сарай. Я хотел сберечь хотя бы десятка два досок для уборной и поэтому продолжал выкладывать стены из камня, пока корова стояла под навесом из сучьев у отвесной скалы. Все-таки это был самый дешевый материал. Он ничего мне не стоил и валялся вокруг целыми грудами. И глина тоже не стоила ровно ничего.
Работать над постройкой сарая для коровы приходилось только по воскресеньям, и притом одному. Чем выше становились стены, тем тяжелее было поднимать на них камни. Особенно трудно достался мне последний ряд. Как раз в этот день с утра шел дождь, и я промок и выпачкался весь в глине, вкатывая по доске наверх мокрые, грязные камни.
А один камень, килограммов на семьдесят весом, чуть не сорвался у меня. Доска упала, и он почти целиком остался лежать на моих вытянутых вверх ладонях, зацепившись за край стены только одним углом. Хорошо, что я заранее наложил на это место толстый слой глины. Я напряг все свои силы. Камень скользнул по глине и в конце концов улегся на место.
Но я совсем выдохся и в изнеможении присел на камнях у подножия стены. Руки у меня дрожали, и сам я весь дрожал, дышал тяжело и часто, широко раскрывая рот. Лил мелкий осенний дождь, захлестывая меня, лил на голые усталые руки, и холодный ветер дул в лицо с севера.
Каждый мускул, затвердевший, словно камень, от постоянной работы, резко выделялся на моих руках. Совсем не то было двадцать лет назад. Тогда под кожей был еще слой молодого жира, который сглаживал все выпуклости, и совсем не было набухших жил. Тридцать лет подряд уходила из этих рук сила.
Дождь и ветер били мне в лицо. Передо мной внизу тянулась длинная лощина, рассеченная извилистыми ручьями. К ручью с обеих сторон спускались поля, разделенные между собой прямыми канавами. А вплотную к ручью прилегала полоса заливных лугов, которая, извиваясь, уходила в промежуток между далекими лесистыми холмами.
Тридцать лет назад, когда я еще мальчиком впервые пришел на работу к господину Куркимяки, здесь были леса, болота и валуны. Леса и болота были также и во многих других местах его владений, где после этого уже не раз созревала рожь и цвела картошка. Эти леса перешли к нему от отца, которому некогда было их разрабатывать. Он только скупал их, а расчистку и запашку предоставил сыну. И вот сын теперь расчищал и пахал отцовское наследство. Сын умел это делать…
Я взглянул на свои жилистые руки, залитые дождем, и думал о том, что вот мне уже сорок два года, а что сделали для меня эти руки? Они сделали баню, в которой могут мыться одновременно два человека. Они делают сарай, который надо еще строить и строить. А что еще они сделали? Грядки эти не мои, и дом тоже не будет моим до конца моей жизни. Есть еще корова, но это кровь Эльзы и моих детей. Я тут ни при чем. Я посылал им деньги не для того, чтобы они их прятали в шкатулку.
Но вот я дострою сарай и поставлю в него корову. А что дальше? Ведь земли у меня по-прежнему не будет, и сила из этих рук опять потечет в чужую землю, в чужие болота и камни.
Мне сорок два года, а я все еще mӓkitupalainen. Даже если бы я получил землю сейчас, мне уже не так легко будет ее разделать, и только к старости моей она начнет давать плоды. На целину надо садиться в двадцать лет, а не в сорок два года. Но я не получу даже целины. Зачем тревожиться? Слава богу, никто мне ее не даст. И потом ведь у меня уже есть свой дом и даже земля. Вот она. Попробуй, перешагни через нее. Думаешь одного шага хватит? Нет. Сделаешь и два и три раньше, чем дойдешь от одного ее края до другого.
Я чувствовал, как холодные струи дождя потекли по моей спине. Но я слишком устал, чтобы выпрямиться. И глядя вниз, я видел перед собой только свои руки с толстыми жилами и твердыми выпуклостями мускулов. Мне сорок два года. Теперь сила катится вниз, чтобы больше не подниматься. Если к сорока двум годам ты не поставил себя на прочное место, то горе тебе.
Вот кончилась война. Пролилась кровь многих людей. Но ничего не изменилось. По-прежнему нет для меня места в огромной Суоми. Все тот же бугор и те же камни предо мной. Неужели и в других странах вернувшегося с фронта солдата дома встречает голый каменный бугор? Должно найтись такое место на земле, где солдат, придя домой, не упирается головой в холодный голый камень, за которым не видно ни дня, ни солнца, а встречает что-нибудь гораздо теплее и душевнее. Но только где это может быть на свете такое место? Где? Никто не сумеет этого сказать… Хотел бы я знать, долго ли принято задерживать пленных после войны…
Люди, потерявшие веру в своих правителей, говорили кое-что. Но что довело их до таких разговоров? Мало чести тем правителям, у которых люди начинают смотреть совсем в другую сторону.
Но бог с ними, с такими людьми! Я не собирался высмеивать их надежды. Не может человек жить без надежды. И у каждого по-своему устроены мозги. Я ни над кем не собирался смеяться и никого не думал осуждать. Какое мне дело? Я просто немного устал; и мне было жалко своих рук.
Я пошевелил мокрыми, грязными пальцами и сжал их в кулаки, увесистые и крепкие. Сила в них еще была, и если бы взмахнуть ими как следует, то многое бы можно сокрушить. Но разве для этого их создал бог?
На бугор взошла Эльза и сказала:
— Отчего ты сидишь под дождем, Эйнари? Разве нельзя зайти в комнату?
Глупая Эльза. Я вовсе не собирался садиться и отдыхать. Разве могу я отдыхать в воскресенье? Просто так получилось. Камень меня доконал. Я молча встал и пошел вслед за ней в дом.
Она тоже устала на работе, но не уселась, как я. Она дала детям по куску пирога и стала хлопотать у плиты. Такая уж доля у жены жителя бугра. Кроме работы на стороне из-за хлеба насущного, ее всегда ждет еще столько же работы дома, особенно если у нее есть малыши.
А я сел у плиты, чтобы ничего не делать. От меня пахло глиной и сыростью, и мой рабочий костюм был на этот раз совсем испорчен. Эльза заметила это и сказала:
— Переоденься в чистый костюм. Не сидеть же мокрым…
Но я не стал переодеваться. Зачем надевать последний костюм в обыкновенный рабочий день? Что же у меня останется на праздник?
Эльза и сама, наверно, подумала об этом, потому что сразу же добавила как будто про себя:
— Новый бы тебе надо. Обязательно надо. — И она добавила уже громче: — Ведь Эльяс уже купил себе. Ты не видал? Темно-синий. Очень идет к нему. Жаль, что ты не видал.
Мне нисколько не было жаль этого, но я промолчал. Я смотрел на свои руки. Вот их мне было жаль. И я хотел бы знать, правильно ли это, что на сорок третьем году моей жизни они все еще отдают и отдают свою силу, не получая ничего взамен.
А Эльза продолжала:
— Эльяс тоже тебя еще не видел и удивляется: «Куда девается Эйнари, когда я приезжаю? Я поговорить с ним хочу о войне, о наших героях, о славных переделках, в которых нам пришлось побывать, а он прячется. Уж не заразился ли он тоже большевистским духом, как некоторые, и не задумал ли что-нибудь против родины? Ведь он все время был так близко от рюссей…»
Я усмехнулся про себя. Как может Эльяс Похьянпяя понять рюссей?
А Эльза продолжала:
— И туфли он купил. Желтые, немецкой работы. Ну прямо есть на что посмотреть. И без того он видный из себя парень, самый красивый, пожалуй, из всех наших, если не считать Вилхо. А когда оделся первый раз в новое, вышел к девкам да еще улыбнулся так, что под черными усами все засверкало, то просто картинка…
Я снова вышел на двор под холодный ветер и дождь продолжать работу. Нельзя было сидеть без дела в воскресенье. Корове становилось холодно под навесом. Она ждала сарая.
31
И словно нарочно на следующий день я встретил, наконец, Эльяса Похьянпяя. Я шел на конюшню, когда его грузовая машина подъехала к коровнику, и он окликнул меня, замахав шляпой.
Я уже успел в это утро привезти на место новой стройки шесть возов глины. Ее требовалось замесить и утрамбовать на тех местах, где предполагался цементный пол. Но на шестом возу мой Мусталайнен вдруг захромал. Я сказал об этом Пааво, и мы решили проверить ноги у коня. Я очень беспокоился: неужели растяжение жилы? Пааво потихоньку поехал к конюшне, а я поправил лопатой кучу глины и пошел вслед за ним. И в это время Эльяс увидал меня издали с машины и закричал.
Я не ответил ему и пошел дальше. Просто у меня рука не поднялась, чтобы махнуть ему в ответ. Я уже устал изрядно, потому что накопать одному человеку шесть возов глины и потом свалить ее с воза, а в промежутки между этим успеть три раза починить телегу, которая трещит и разваливается, и притом еще не завтракать, — это не шутка. Это впору сытому, здоровому человеку, а я был еще голоден и слаб и оттого не особенно приветлив с людьми. Поэтому, наверно, я и не ответил черноусому Эльясу Похьянпяя.
Но когда я оглянулся возле конюшни, то увидел, что он соскочил с грузовика и торопливо идет ко мне, сверкая своими белыми зубами и золотым зубом среди них.
Не знаю, правду ли сказал мне Пааво Пиккунен о том, что золота у него теперь не на один зуб хватит, а на полный рот. Все дело, оказывается, в том, чтобы уметь пользоваться случаем, когда в твои руки попадают нарушители воинского долга и те, кто укрывает их. Эльяс будто бы умел пользоваться таким случаем, хотя я так и не понял, что это значит.
Он шел прямо ко мне, но я не стал его ждать, не знаю почему, и вошел в конюшню. Там Пааво уже успел осмотреть ногу у коня. Когда я вошел; он отпустил ее и присел в сторонке, чтобы выкурить свою трубочку. Я спросил его:
— Ну что, осмотрел?
Но в это время в конюшню вошел Эльяс, и я не услышал ответа Пааво. Сразу стало шумно в конюшне, как будто туда набралось по крайней мере человек десять буйных и крикливых. Но кричал только один Эльяс Похьянпяя.
— Здорово, Эйнари! Старый друг! Сколько лет, сколько зим, перкеле! А ты похудел и постарел изрядно. Сдавать начинаешь? Напрасно, напрасно. Рано еще сдавать. Рано. Бери пример с нас, перкеле! Сквозь все бури прошли, а ничего, не сдаемся! Да ведь и Эльза у тебя меньше изменилась, чем ты. Она еще совсем молодцом выглядит. Только гордая очень. Недотрога. Не к лицу это ей. Надо помнить, кто мы и кто она. Так и скажи ей. А тебе мой привет.
И он протянул мне руку. Но я в это время взял в руки хомут, который Пааво поставил у стены, когда распрягал Мусталайнена. Я взял в руки хомут, чтобы повесить его на длинный деревянный клин, вбитый в стену. Так что мне трудно было заметить сразу его протянутую руку.
И, поднимая кверху хомут, я опять увидел, как задрались рукава моей куртки и обнажились мои сухие, жилистые руки. Тогда я снова вспомнил свой невеселый вчерашний воскресный день и еще что-то другое…
Вожжи и чересседельник я тоже повесил на тот же клин и только после этого заметил и пожал руку Эльяса, которую он мне протягивал. Эльяс говорил без умолку, и от его громкого голоса конюшня стала похожа на базар. Так рад он был встрече со мной.
— А характер у тебя все тот же. Тяжелый характер, перкеле! Не переделала тебя война. А следовало переделать. С таким характером далеко не уедешь. Пропадешь, перкеле. Ты бери пример с нас, и тогда у тебя все пойдет хорошо. Курить будешь?
Он протянул мне раскрытую пачку «Klubi № 7», которая еще в мирное время стоила четыре марки. Но я не стал курить его папиросы и ждал, чтобы он сам закурил и замолчал на минутку, а мне дал бы спросить у Пааво насчет ноги Мусталайнена. Но он тоже не закурил, а продолжал орать, трогая меня за плечо.
— Ты бери пример с нас и не теряй дружбы с нами, и тогда мы тебя всегда выручим. Ведь и мы побывали на войне, перкеле, а посмотри на нас! Разве мы пострадали от нее? Живы и здоровы да еще награду имеем, перкеле! Только на переднем крае не пришлось мне быть. Но я все время туда просился. Я знал, что если бы я туда попал, то рюссям пришлось бы плохо. Я клал бы их в землю пачками, потому что если я возьмусь, то возьмусь, перкеле! Уж меня-то люди узнали, будь спокоен. Но я не попал на передний край. Я был нужен в других местах. Ну что ж. Я подчинился. Таково желание начальства. А начальству всегда надо подчиняться, не так ли? Ведь ты солдат и сам знаешь. Правильно я говорю?
И он еще сильнее стал толкать меня в бок и в плечо.
— Ты гордиться должен тем, что побывал на фронте, перкеле! И я тебе завидую. Понимаешь ты это? Даже я тебе завидую! Ты своими глазами видел, как финские герои били русских, перкеле! Ты видел силу наших солдат и сам давал почувствовать этим рюссям, что такое финн. Верно ведь?
Он говорил и спрашивал меня, заглядывая мне в глаза, а я не знал, что отвечать, и только смотрел молча на то, как шевелятся под черными усами его красные губы и блестит его золотой зуб.
— И ты сам, наверно, тоже переколотил их немало. Ведь я тебя знаю, перкеле! — продолжал он. — Такие люди на войне настоящие чудеса творят! Эх, жаль, что меня там не было! Я бы им показал, перкеле! За одно то, что от Пиетари пришлось отказаться, я бы давил их, как червей! Никогда не прощу им дом на Невской улице. Столько планов было у нас с отцом, а они все нарушили, перкеле. На всю жизнь это запомню и буду только ждать случая, чтобы снова все повторилось. Стереть с лица земли нужно это проклятое племя! От них все зло на свете, перкеле! Чем больше их убьешь, тем больше пользы другим. И ты хорошо делал, если не давал им спуску. Сколько ты их отправил на тот свет?
— Ни одного.
— Как? Врешь! Не может этого быть! Никогда не поверю, перкеле! Ты просто не хочешь говорить. Хочешь, чтобы тебя упрашивали. Ты такой же заносчивый, как твой покойный Вилхо. А ты не будь таким. Брось ломаться и скажи. Неужели тебе так трудно сказать? Сколько ты рюссей убил?
Я опять посмотрел на Пааво. Он уже докуривал трубочку, сидя у стены. Надо было узнать у него, что с лошадью, и потом идти скорей завтракать, чтобы не пропадало даром время. У меня живот совсем втянулся и даже дрожал, — так сильно я хотел есть после шести возов глины. Но Эльяс, кажется, не собирался кончать так скоро свой громкий разговор. Он продолжал толкать меня рукой в бок и в плечо и кричать:
— Ну, сколько ты убил рюссей? Я знаю, что не меньше десятка. Так уж богом положено, чтобы один финн убил десять рюссей, а ты и подавно мог убить. Я и то собирался уничтожить их не меньше двадцати. Но я не был там. Меня не пустили, перкеле. А ты был и дрался. Ведь пришлось тебе драться? Да?
— Пришлось…
— Ну, вот видишь! Вот видишь! А говоришь… Я так и знал, перкеле!..
Тут он еще сильнее толкнул меня в плечо и начал орать еще громче:
— Значит, все-таки дрался! Ай да Эйнари! Врукопашную или как?
— Врукопашную.
— Ай да Эйнари! Вот это здорово, перкеле! Ну и каша же там получилась из них, я представляю. Ведь ты их, наверное, давил, как клопов! Эх, меня там не было… Мы бы с тобой… Я бы их зубами грыз, перкеле! И сколько же ты их уложил?
— Нисколько. Ну ладно. Пусти с дороги. Я еще не завтракал.
— Как нисколько? Ведь ты же только что сказал, что дрался с ними врукопашную.
— Это был только один человек.
— Оди-ин? Ты дрался только с одним?
— Да. Ну, пусти.
— Только с одним? Ты бил только одного?
— Не я его, а он меня бил.
— Ка-ак! Он? Тебя?
— Да. Он меня.
— Рюсся. Тебя? Рюсся бил тебя? Финна? Один?
— Да, да.
— Да как же, перкеле…
— А вот так. Вот так. Он схватил меня сначала вот так за грудь. Потом притиснул к стене. А потом начал совать мне кулаком прямо в морду вот так, вот так!
И я показал Эльясу Похьянпяя все, о чем говорил. Он сильно вырывался, тараща на меня темно-коричневые глаза, но я не выпускал его и совал кулаком прямо ему в лицо, прямо в рот, где между белыми зубами сверкал один золотой. Иногда он дергал головой, и тогда кулак мой ударялся о кирпичную стену. Но зато следующий удар приходился по лицу еще крепче, и скоро оно покрылось ссадинами, а изо рта и носа потекла кровь, пачкая маленькие черные усики, подстриженные, как у немецкого фюрера.
Тогда я выпустил его. Но он вдруг быстро выхватил свой пуукко. Однако я поймал его за руку и притиснул своей спиной к стене. И хотя он кусал и царапал мне спину, но я не выпустил его, пока не вывернул из его пальцев пуукко.
После этого я снова отпустил Эльяса, но он хитрым приемом бокса очень больно ударил меня кулаком в челюсть. Тогда я схватил его за грудь, снова притиснул к стене и бил до тех пор, пока он не повалился без сознания.
Но он недолго лежал и скоро поднялся. Вытащив из кармана носовой платок и зеркальце, он прислонился спиной к стене и долго вытирал лицо, а потом вышел вон.
К тому времени Пааво уже выкурил и даже выколотил о стенку свою трубочку, и когда я обернулся к нему, он сказал, глядя внимательно на больную ногу Мусталайнена:
— Я уже посмотрел. Это не растяжение. Треснула подкова, и один гвоздь задевает живое место.
Я тяжело дышал, и руки у меня дрожали. Господи, еще бы им было не дрожать! Они не привыкли у меня бить человека. Они привыкли работать, только работать, делать что-нибудь, пусть очень трудное, но делать спокойно, размеренно, а не двигаться с такой глупой быстротой. Поэтому они так дрожали с непривычки. И в животе тоже все ходило ходуном.
Но Пааво не смотрел на меня и не видел моих рук. Он был очень озабочен ногой лошади и смотрел только на нее. Даже со мной он говорил, не оглядываясь на меня.
— Придется тебе Яттиляйнена взять, пока я этого перекую.
Я сказал:
— Ладно. Только схожу позавтракаю.
Он ответил:
— Иди, иди, конечно.
А сам все продолжал разглядывать ногу лошади и даже потрогал ее слегка. Но не он ли сказал, что уже посмотрел ее и знает, в чем дело?
Я пошел завтракать. Ладони свои я держал так, как будто только что запачкал их обо что-то грязное, а глазами искал лужи, чтобы их помыть.
И шлепая сапогами по осенней сырости, я подумал о том, какой чудак этот маленький Пааво. Вот ведь чудак какой!..
32
А дня через три он меня опять удивил. Он подошел ко мне поближе, оглянулся по сторонам и сказал тихонько:
— Вилхо твой приехал.
Я промолчал в ответ. Что скажешь на такую новость? Нечего сказать. А он добавил:
— Собирается прийти к тебе в воскресенье.
Я подумал немного и спросил:
— Это он так велел мне передать?
— Нет. Просто в разговоре сказал: «Зайду к нему в воскресенье».
Я кивнул ему и погнал лошадь в поле.
День был сухой, и в поле шла копка картофеля. Копали все: две доярки-поденщицы, Эльза, нейти Хильда, и даже старая широкоскулая роува Куркимяки пришла сюда поразмять свое тяжелое мясо.
Я начал пропахивать борозды, чтобы извлечь картофельные клубни. Когда я поравнялся с Хильдой, она вдруг окликнула меня:
— Эйнари!
Я остановил лошадь. Хильда подошла ко мне и спросила очень тихо, почти шепотом:
— Правда, что Вилхо приехал?
Я не знал, что ответить. Бывают иногда такие вопросы, на которые никак не придумаешь, что ответить. Я стоял и смотрел, как дурак, на ее широкие серые штаны, завязанные у щиколоток, на теплый белый свитер и яркий шелковый платок на голове, стягивающий в один узел ее густые темные волосы. Она была все такая же тоненькая, только грудь ее выросла и налилась, распирая спереди свитер, да губы стали как будто чуть потолще, хотя и не были подкрашены на этот раз. Но ресницы были все те же, темные и длинные, а из-под них очень серьезно смотрели на меня большие глаза. Я пожал плечами и сам спросил ее:
— А кто вам это сказал?
— Эльяс.
— Наверно приехал, если так.
Она спросила:
— А он к вам не собирается прийти в воскресенье?
Я не успел сразу придумать, что ей ответить на такой вопрос, но первым долгом покачал головой, а потом сказал:
— Нет, нет, нет. Не собирается.
— Жаль. А я думала…
— Нет, нет.
Она опять склонилась над бороздой, быстро действуя копалкой и кидая крупную и мелкую картошку в две разные корзины.
Я еще раз увидел сбоку ее грудь, обтянутую белым свитером. Да, грудь у нее уже созрела. Не будет голодным ребенок у такой матери.
33
Вилхо пришел ко мне в конце воскресного дня. Это был ясный и хороший для осени день, и теплый ветер дул с юга.
Вилхо так быстро поднялся на бугор, что я даже не успел придумать, что сказать ему, и первое время мы просто так постояли друг против друга. Наконец, я сказал:
— Вот как. И ты, значит, вернулся.
Он похудел немного. Совсем немного. Но глаза и губы по-прежнему слегка улыбались. Он ответил: «А как же!» и сжал ладонями мои плечи. Я тоже крепко сдавил ему плечи и несколько раз тряхнул его. Это был мой брат, живой и здоровый. Он был у меня один, и бог сохранил его для меня.
Я потащил его в дом и шепнул Эльзе:
— Все поставишь на стол. Все, что у нас есть. Понимаешь? Ничего не жалей.
В комнате мы зажгли лампу и сели на скамейку у стены, пока Эльза возилась у плиты. Разговор у нас не клеился. Эльза накормила детей и уложила их спать за занавеской в углу, позади стола, а мы все молчали. Он спросил:
— Письмо мое дошло до тебя?
Я закивал головой:
— Дошло, дошло. Как же.
Мы помолчали некоторое время.
Сердце у меня слегка щемило, как будто я не особенно радовался, что пришел он веселым после этой страшной войны.
Я сказал ему, чтобы не молчать и не думать о глупостях:
— Долго ты пропадал.
Он ответил:
— Да. Но нас еще тут свои задержали, а то бы я раньше вернулся. Специальная комиссия проверяла, не сделались ли мы большевистскими агентами. Я бы и сейчас, наверно, там сидел, если бы не догадался сказать, что я коммунист. И тогда меня сразу отпустили.
Я удивился.
— Да что ты!
— Да. Но сначала спросили: «А какие идеи вы намерены проповедовать?» Я ответил им: «Странный вопрос. Коммунистические, конечно». Тогда они переглянулись, подумали немного и сказали: «Всего хорошего, господин Питкяниеми» и открыли предо мной двери. Но я говорю им: «Вы не торопитесь меня отпускать. Может быть, я человек опасный. Имейте в виду, что я с первого же дня буду требовать суда над теми, кто погнал нас на эту бойню». А они отвечают: «Очень хорошо». С тем я и ушел.
Я таращил на Вилхо глаза и не знал, верить ему или нет. Чорт знает что творилось теперь в Суоми. А он видел мое удивление, и веселые искорки все чаще вспыхивали в его глазах.
— А ты, кажется, мало изменился на своем бугре.
Не знаю, на что он намекал. И не ответив на его вопрос, я спросил:
— А ты на самом деле теперь коммунист?
Он улыбнулся.
— Ну что ты. Просто зло меня тогда взяло, а они поверили.
— А кого это ты судить собираешься?
— Как кого? Наших бывших правителей.
— Правителей?
— Ну да. А кому же иначе держать ответ перед финскими матерями и женами за убитых мужей и сыновей, за поругание нашей страны разбойниками-немцами?
Я промолчал. О таких вещах я совсем еще не думал. Да и где я мог думать об этом, бог ты мой! Слишком бедна была моя жизнь, заслоненная камнем от тепла и света, чтобы я мог думать о чем-нибудь, кроме своего бугра.
В комнате все сильнее и сильнее начинало пахнуть жареным мясом и печеньем. Щеки Эльзы пылали от жара плиты и духовки, и Вилхо словно призадумался вдруг над чем-то, остановив на Эльзе свой взгляд. Потом спросил, не глядя на меня:
— А тебя обо мне никто не расспрашивал?
Я удивился.
— Кто же тут может о тебе расспрашивать?
— Так… Мало ли кто. Из знакомых кто-нибудь…
— Нет, как будто… Нет…
Эльза ставила что-то на стол и звенела посудой. Потом она вышла в сени и появилась оттуда в новом темно-красном платье.
Заправив рукава чуть повыше своих круглых, с ямочками, локтей, она подвязала маленький белый передник, чтобы не запачкать платья, и сказала мне:
— Ну что же ты?
Стол уже был накрыт белой скатертью, на тарелках лежали кусочки холодной свинины и сыра. В одном блюде под крышкой была тушеная картошка с мясом, а на сковородке, поставленной на кусок картона, шипела жареная рыба.
Я взглянул на Эльзу. Она указала мне глазами на угол, где стояли пять бутылок с вином — весь ее запас.
Я спросил:
— Уже все готово?
Она ответила:
— А ты разве не видишь?
Я опять посмотрел на стол, на плиту и на всю комнату и только теперь заметил, как празднично все выглядело кругом. Когда это она успела? Вот что значит женщина в доме. На окнах были свежие, чистые занавески. На белой скатерти стола стоял еще букет каких-то осенних цветов, сорванных с крохотной клумбочки Марты.
От плиты несло теплом. Кастрюлька на плите, в которой кипел молочный суп, была вычищена и сверкала, как серебряная. Кофейник — тоже. На полочке у плиты посуда также была начищена и сияла разноцветными огнями. И сама Эльза тоже сияла, как солнце, украшая собой все вокруг. Даже Вилхо заметил это и сказал:
— Счастливый ты, Эйнари!
И он призадумался немного. Я достал из угла бутылку, раскупорил ее и налил три рюмки. Эльза тоже присела на минутку, и мы подняли наши рюмки над столом. Вилхо сказал:
— За Эльзу!
Эльза рассмеялась.
— Нет, я за это не пью. — Она лукаво взглянула на Вилхо и сказала: — Желаю, чтобы каждый в жизни нашел свою Эльзу.
Мы выпили, и Эльза встала, чтобы посмотреть печенье, которое пеклось у нее в духовке. А я опять наполнил рюмки. Вилхо выпил, поймал на вилку кусок жареной рыбы и сказал:
— Сначала нужно найти место, где самому приклонить голову, а потом уже Эльзу. — И заметив, что я разинул рот, он пояснил: — Не работаю больше у Похьянпяя.
— Почему?
Он пожал плечами.
— Так… не выдержал.
— А как же теперь?
— Ничего. Были бы руки, а Похьянпяя всегда найдется.
Я налил рюмку. А Эльза добавляла нам то одно, то другое. После пятой рюмки Вилхо сказал:
— Противно мне стало видеть его толстую гладкую рожу. Я так и сказал ему. Я сказал, что могу когда-нибудь нечаянно ударить по ней кулаком. Он спросил: «Почему?» Я ответил, что ненавижу всех, кто разжирел за войну, и что лучше мне взять расчет. Он согласился, что это действительно лучше, и дал расчет.
Эльза положила нам на тарелки жареного мяса с картошкой, а я снова наполнил рюмки и достал третью бутылку. Я пил ровно столько же, сколько Вилхо, и в голове у меня уже немного шумело. Но я слушал его очень внимательно и старался делать вид, что все понимаю, хотя не мог сообразить, как можно уйти от хозяина только из-за его противной рожи. Мало ли хозяев с противными рожами.
Нет, напрасно он плел насчет противной рожи. Меня не перехитришь. Я все насквозь вижу, хоть и молчу так много. Загорелые щеки Вилхо еще более потемнели от румянца, глаза заблестели, только на этот раз уже не веселыми искорками. А в голове у меня шумело все сильнее, и эти белые занавески, и подушки на нашей кровати, и скатерть, и посуда, и Эльза, которая то появлялась у стола в своем огненном платье и белом переднике, то опять пропадала, — все это пестрело, прыгало перед моими глазами, и мне было весело от этого. Хотелось даже немного помахать руками и посмеяться вслух, но он опять что-то говорил, и я стал кивать и прислушиваться.
— Надоело мне их шушуканье, и я решил покончить с этим. Чуть что — сейчас же война на языке и смех дурацкий. И вот я услыхал, как Эльяс говорил Петтунену: «Ты молод еще и воевать не умеешь, перкеле. Ты поучись у тех, кто опытнее тебя в этом деле. Есть такие ловкачи, которые перебегут к рюссям в самом начале войны, отсидятся там до конца, а потом кричат: «И я воевал!» Вот у таких вояк поучись, перкеле». И он заржал, сказав это. И Петтунен и Аате тоже заржали, косясь на меня. Тогда я подошел к ним и сказал спокойно: «Что мешает мне набить вам всем сейчас морды? Не хочется только руки пачкать о такую грязь. А ты, Эльяс, благодари бога, что уже наставил тебе кто-то синяков и зуб твой золотой вышиб. Нашему правительству переданы бумаги, в которых ясно сказано, как я попал в плен, и с меня довольно этого». На это Аате возразил: «Ну, если русским понадобилось скрыть подлинные обстоятельства твоего пленения, так уж они сумели это сделать». А Петтунен добавил: «Может быть, они из тебя своего пропагандиста сделали, так почему бы им не скрыть?» И Эльяс опять заржал и заорал: «И верно, перкеле!» Я повернулся и пошел от них прочь. К чорту! Не могу я там больше оставаться. У меня каждый раз руки чешутся, когда они затевают такие разговоры. К чорту! Прости, Эльза. Налей мне еще, Эйнари. И сам пей. Эльза! Что ты все ходишь? Присядь. У тебя очень вкусное печенье, Эльза. Ты что кладешь в него?
Я все подливал ему, и он пил, но не делался веселее, как я. Наоборот, после каждой рюмки его голубые глаза становились все тоскливее и его крутой, широкий лоб морщился, а губы слегка выпячивались, как у обиженного ребенка. Да, в нем все еще оставалось какое-то мальчишество, несмотря на все пережитые невзгоды.
А у меня было легко на сердце от выпитого вина. Мне хотелось петь, кричать и махать руками. И брата своего я хотел видеть таким же веселым. Поэтому я сказал ему:
— Перестань грустить, Вилхо, из-за дураков. Что они понимают? Что они видели? Ничего, кроме толстой задницы своего хозяина. Выпей-ка лучше еще рюмку.
Он выпил еще рюмку, но все-таки не повеселел, еще больше нахмурился, глядя в угол комнаты, и совсем стал похож на обиженного мальчика.
— Хотел бы я им показать, как я к русским перебежал. Хотел бы я ткнуть их туда мордами, чтобы посмотрели, как это было. И хотел бы я после этого увидеть, что от них осталось бы, какие кусочки от них собрать для посылки домой, перкеле… Ты извини, Эльза. У меня тоже немного шумит в голове, и я начинаю, кажется, браниться при дамах? Это Эйнари виноват. Налей мне еще, Эйнари. Ты не сердишься, Эльза? Это хорошо. Выпьем вместе. Ну хоть глоток. Один раз можно за четыре года, а потом опять пост. To есть у меня пост. А у вас не обязательно. Нет, нет. Вы можете продолжать веселиться хоть каждый день. У вас есть чему радоваться. У вас есть дом и в доме Эльза. Это главное.
Но Эльза не считала, что это главное. Она перебила Вилхо и сказала, смеясь:
— У нас есть, кроме того, каменный бугор. Не ему ли радоваться?
А он успокоил ее:
— Это ничего. Каменный бугор — это ничего. Хоть он и держит человека, но этому придет когда-нибудь конец. Недолго вам еще топтаться на камне. Повеяло в Суоми другим ветром…
Я скорее налил ему еще рюмку и поставил на стол последнюю бутылку «Imatran kuohu».[38]«Пена Иматры» (название вина).
Мне показалось, что он хочет сказать что-то как раз такое, что мне очень хотелось от него услышать. Я сам еще не знал, каких именно слов ждал от него. Откуда мне знать, боже мой, живя на этом бугре? Но он должен был что-то мне разъяснить, подтвердить какую-то мысль. И я ждал, не отрывая от него глаз, и уже не хотел больше смеяться вслух и размахивать руками. Тоска снова вползла в мое сердце. Я еще раз наполнил наши рюмки, жадно слушая его сердитые речи. А он говорил:
— Смешно теперь вспоминать, как орал тогда этот красавчик обер-лейтенант: «Ребята! Только один нажим остался! Один хороший прорыв — и мы закроем русским все дороги к Ладоге и замкнем кольцо. Сегодня мы попробуем. Это будет маленькая местная проба, но она покажет, что мы сможем потом решить и большую задачу — закрыть большевикам дорогу через Ладогу. И тогда Пиетари будет наш, ребята!» Бедный раздушенный хлыщ, немецкий подголосок! Где он теперь? В каком котле варят черти те куски мяса, которые от него остались? Он получил то, что хотел. Но чем виновата рота? Эх, Эйнари! Какие хорошие парни там были! Тойво Коскинен, Калле Ахола, Ялмари Кивимяки, Юхо Пелтонен… Все это простой народ, который не хотел войны. А их бросили на «маленькую местную пробу». Но мы забыли, что имеем дело с великаном, которого еще никто никогда не свалил. Мы уже решили, что опрокинули его, когда ударили по нему исподтишка, собрав все свои силенки. А он и не думал падать. Он только сделал шаг назад, чтобы собраться с силами. А мы не подумали об этом, когда затеяли свою «пробу». Я не знаю, как было дело в других ротах нашего батальона, который двинулся на эту «пробу», но про свою роту я знаю хорошо. Она недалеко ушла. Русские обо всем догадались с самого начала и приготовились. Они дождались, когда мы вылезли вперед, и только тогда заиграл их органчик…
Он помолчал немного, хмуря брови, и потом продолжал:
— Ты не видал таких вещей, Эйнари, и хорошо, что не видал. Не дай бог видеть. Ты бы подумал, что небо опрокинулось на землю — так она вздрогнула и потом сразу закипела из конца в конец. А когда ветер унес дым, ты бы увидел, что несколько гектаров земли стали черными, как будто плуг вспахал их вместе с весенним снегом за одну-две секунды. И ты напрасно искал бы, куда девалась рота среди этих вспаханных черных гектаров. Ее не было больше. Я встал из ямки, в которой случайно перед тем оказался, один, как мертвец из могилы, и мысли улетели из моей головы к чорту. Ко мне бежали русские, а я все стоял, потому что в голове у меня был черный туман. Где же моя рота, перкеле? Где Тойво Коскинен, Калле Ахола… где они? Подбежали русские. Они вырвали у меня из рук автомат, отобрали гранаты и пуукко, а потом махнули рукой, чтобы я шел. Но тут я вспомнил, что я финн, а они русские, и что мне приказано их бить и что если нет у меня автомата и пуукко, то есть хорошие кулаки. И я ударил одного из них в подбородок так, что он покатился на изрытую землю, но другой стукнул меня прикладом по голове, и тогда я тоже присел на пятки. Первый из них вскочил и ткнул мне в грудь дулом автомата. Это был мой конец. По сверканию его глаз я понял, что все пули из диска сейчас перейдут в мою грудь. Но другой толкнул этот автомат своим прикладом, и пули просвистели возле моей щеки. Они покричали немного друг на друга, но скоро утихли, и первый из них туго, со злостью стянул мне сзади руки обрывком проволоки, который подобрал тут же, и потом мотнул головой, чтобы я шел за ним. А я еще раз посмотрел вокруг на опустевшую черную землю, и вдруг чернота прояснилась в моей голове, и я понял, наконец, отчетливо все, что произошло. Тогда я заплакал. Я не мог удержаться. Слишком страшно это все было. Такие хорошие ребята… Все они хотели жить, все они имели полное право жить, и вот кто-то послал их на «пробу»… Проволока давила мне руки, но я ее не чувствовал. Всю дорогу я с трудом передвигал ноги, спотыкался и плакал. Я не мог удержаться, — так это было страшно…
Вилхо взял налитую рюмку, опрокинул ее в рот и поискал по столу глазами, чем бы закусить, но ничего не взял. Мне тоже было невесело от его слов, но он был мой гость и нельзя было давать ему грустить. Ладно. Не надо мне от него никаких ответов на мои мысли. Во всем разберусь я сам, если надо. Пусть только не грустит в моем доме мой брат. Пусть что угодно делает, хоть меня ругает, хоть смеется надо мной опять, но только не грустит.
Я тронул его за плечо и сказал:
— Ладно, Вилхо. Брось думать об этом. К чорту! Прошло это все. Плюнь и улыбнись. Или расскажи хоть какой-нибудь анекдот, как тогда, помнишь? Я не буду сердиться, если даже меня зацепишь, ей-богу. Эльза! Налей ему еще кофе.
Вилхо улыбнулся наконец, глядя на нас с Эльзой, а потом сказал:
— Я тебе сказку про финна расскажу, хочешь?
— Ладно. Сказку так сказку. Будем слушать сказку.
И я тряхнул головой, чтобы разогнать туман перед глазами и чтобы выглядеть бодрым и внимательным. Сказку так сказку. Давай сказку.
— Жили были два соседа. Один, большой, веселый и добродушный, подходил каждый день к другому, угрюмому и молчаливому, и все кивал ему приветливо головой и протягивал руку. А тот молчал и смотрел исподлобья. Но сосед не обижался и утром опять приветливо улыбался и протягивал руку, и снова тот даже пальцем не шевелил. Но добродушный сосед не обижался и на следующий день снова протягивал руку и снова без толку. В конце концов его терпение лопнуло. У кого оно не лопнет, если это год тянется. И вот он рассердился, наконец, и стукнул своего соседа палкой по голове. Стукнул и сам удивился. Треснуло что-то у соседа и развалилось. Но, оказывается, это не череп его треснул, а оболочка твердая, ледяная, которая покрывала его всего с головы до ног. Кто-то заморозил его и оставил. Вот почему он не мог ни головой кивнуть, ни руки подать. А когда развалилась оболочка, то вышел он из нее самым настоящим живым человеком и тоже сразу заулыбался и руку своему соседу протянул. Ну, тот, конечно, с радостью ее пожал. И, оказывается, мало чем отличались они друг от друга. И рослые были оба, и добродушные, и курносые, и светловолосые, как два родные брата, и совсем не видели они причины, почему бы им руки друг другу не подать. Хорошо, что сосед догадался его стукнуть…
Я сидел и молчал, положив свои руки на стол и слегка подавшись вперед, чтобы лучше слышать. Тумана уже не было перед моими глазами, которые широко раскрылись, глядя прямо в рот Вилхо, словно я уже услышал от него то, чего так долго ждал. Челюсти мои сжались, и руки тоже начинали сжиматься в кулаки.
А Вилхо посмотрел на меня с улыбкой и сказал, погасив на время свои лукавые искорки в глазах:
— Жаль, что ты так мало видел на своем бугре. Сдавило тебя тут камнями со всех сторон. Даже соседа не пришлось тебе узнать поближе. А стоило узнать, Эйнари.
Я встал. Не мог я больше сидеть и слушать. Довольно я наслушался и насмотрелся. Довольно! Я встал и отодвинул скамейку. И отодвигая ее, я стукнул кулаком по столу, на котором сразу все подпрыгнуло. Потом стукнул еще. Потом стукнул обоими кулаками. Эльза крикнула:
— Эйнари! Ты что, с ума сошел!
Но я не сошел с ума. Просто нужно мне было как-то излить все то, что сдавило мне грудь. Не мог я больше сидеть и слушать. Я хотел крикнуть что-нибудь, но вспомнил, что дети в постели, и пошел во двор, а Эльза метнулась к плите, пропустив меня.
И там среди темноты голос мой покатился с бугра на все четыре стороны в черную осеннюю ночь. И потом я стал искать, что бы мне сделать такое, чтобы тяжело стало моим рукам, и пошарил ими по своему бугру и наткнулся на камни, лежавшие у недостроенного сарая. Тогда я стал хватать эти камни и кидать их куда попало с бугра вниз. Сорок два года я молчал. Должен был я хоть раз крикнуть что-нибудь за это время. И я кричал и кидал куда попало тяжелые камни, не помня ничего. Я слишком много выпил в ту ночь. Мы оба много выпили. Не стоило так много пить…
34
За завтраком мы с Вилхо прикончили недопитую вечером пятую бутылку. Мне нужно было скорей поесть и идти на работу. Я и так здорово проспал. Вилхо только поглядывал на меня время от времени. И хотя в глазах его и вспыхивали иногда веселые искорки, но в них я заметил и удивление, как будто он не вчера, а только сегодня встретился со мной, и только сегодня начал ко мне присматриваться. Когда искорки совсем исчезли из его глаз, он сказал:
— Не стоит человеку жалеть о словах, если они сказаны от сердца. Пусть запишутся они за счет прежнего правительства. Это оно достукалось до того, что такие слова были сказаны.
Я подумал немного и спросил:
— О каких словах ты говоришь? Не о тех ли, что были кем-то сказаны в нашем доме после зимней войны?
Он усмехнулся и ответил:
— Нельзя понимать в буквальном смысле все, что говорится от усталости и злости. Это касается и того, что сегодня ночью таким громовым голосом было сказано. Но этого старое правительство добилось своей дурацкой политикой. А новое пусть сумеет устроить жизнь народа так, чтобы не говорилось таких слов. Это в его же интересах.
Я промолчал в ответ. Не знаю, про какие слова, сказанные громовым голосом, он упоминал. Померещилось ему что-нибудь. Правда, и Эльза шепнула мне о каких-то страшных ночных выкриках, но ведь и она у меня любит пошутить иногда.
После завтрака он надел свое черное пальто, а я тужурку, и мы вместе вышли из дому. Уже давно рассвело, и день был такой же тихий и теплый, как накануне. Я поздно шел на работу в этот день. Эльза успела подоить коров еще до завтрака, а я проспал.
У конюшни мы с Вилхо распрощались, но перед расставанием он сказал, погасив опять на время свои искорки:
— Я немного ошибся в тебе и рад, что ошибся. Ты тоже, оказывается, уже хватил где-то такого, что сразу вырос на целую голову. Ты даже крепче меня теперь. Я это чувствую. А я все еще не созрел как человек, которому надлежит хорошенько уяснить свое назначение в жизни. Мне все еще нужны указатели и толкачи. Пока еще я понял только одно, что обязанности человека перед своей родиной заключаются не только в том, чтобы мирно трудиться, есть и пить. Это способен делать и человек без родины. Ты, мне кажется, быстрее меня пойдешь в этом отношении. То, что я постепенно узнавал из книг и от умных товарищей, ты постиг один на своем бугре или где уж там еще, не знаю. Как видно, и бугор — тоже неплохая школа. Не представляю, правда, как скажется в твоей жизни то новое, что в тебе созрело, но уверен, что если тебе приведется сказать где-нибудь слово, то это будет настоящее нужное слово и увесистое, как камень с твоего бугра. Немало труда и забот предстоит еще хлебнуть нашей Суоми, прежде чем вздохнет удовлетворенно грудь и расправятся у каждого плечи. Но если уж стали в ней появляться такие буяны, то это время не за горами.
В глазах его мелькнули веселые искорки, но сразу же погасли, и он добавил:
— Ну, прощай! Не скоро, наверно, теперь увидимся. Но буду рад знать и помнить, что ты для меня теперь не только брат…
И он стиснул мою руку так, как может стиснуть только он. Не знаю, зачем вел он весь этот разговор. Все еще мерещилось ему что-то…
В тот момент, когда он отошел от меня, направляясь к большой дороге, на двор въехала телега, наполненная мешками с картошкой. Люди, оказывается, уже успели поработать.
На мешках сидели Пааво и Хильда Куркимяки. Хильда крикнула: «Вилхо!» и спрыгнула с воза. Пальто, которое было накинуто на ее плечи поверх белого свитера, сползло при этом на землю, но она подхватила его одной рукой и устремилась к Вилхо почти бегом, протягивая на ходу вперед другую, свободную руку.
Не знаю, что она хотела сделать свободной рукой, может быть, только дотронуться до него, а может быть, обнять. Подбежала она к нему совсем близко, почти вплотную. Но он очень вежливо сделал шаг назад, чтобы она на него не наткнулась, наклонил слегка голову и пожал ей протянутую вперед руку.
Он хотел продолжить свой путь к большой дороге, но Хильда воскликнула: «Вилхо!», и он остановился, готовясь очень вежливо выслушать все, что она скажет. Лицо его было спокойно. Очень даже спокойно. Можно сказать, слишком даже спокойно. Я никогда еще не видал у него такого спокойного лица. Это был взрослый Вилхо, без капли мальчишества.
Может быть, и на нее как-то подействовал его вежливый и спокойный вид, потому что она не сразу придумала, что сказать:
— За три года ни одного письма. Не стыдно?
Он спросил:
— А была ли в них надобность?
Она сказала укоризненно:
— Вилхо!
Весь его вид изображал готовность выслушать все, что ему скажут. А Хильда и на этот раз не сразу нашла подходящие слова.
Так они стояли с минуту. Он смотрел на ее широкие штаны, завязанные у щиколоток, на яркий платок на голове, на ее лицо, еще не высохшее от пота и еще не остывшее. Ее пухлые губы опять не были подкрашены, а пышные волосы аккуратно стянул платок.
И оттого, что щеки ее были теперь немного полнее, чем раньше, и больше набухла грудь, и оттого, что руки на этот раз были у нее запачканы землей, выглядела она какой-то другой, не такой, как раньше. Она как будто тверже стояла теперь на земле, сделалась крепче, мало чем отличаясь от поденщиц. Надо полагать, что погоняли их во время войны на работы не один раз.
И только длинные ресницы оставались у нее такими же нежными и пушистыми. Они удивленно вскидывались над ее красивыми темно-карими глазами.
И мне показалось, что по лицу Вилхо словно пробежало что-то другое, кроме спокойствия и вежливости.
Но, может быть, это мне только показалось, потому что он тут же слегка наклонил голову, приподнял шляпу и сказал:
— Надеюсь, нейти извинит меня, но я, ей-богу, тороплюсь.
И он пошел от нее прочь. Но она почти крикнула:
— Вилхо! — И когда он обернулся, торопливо продолжала: — Это ложь, Вилхо! Ты плохой актер. Ты переигрываешь и этим только еще больше выдаешь себя. Зачем, Вилхо? Ну зачем? Ведь я же все равно не поверю. К чему это, Вилхо?
Вилхо еще раз коснулся пальцами шляпы и пошел дальше. Она крикнула: «Вилхо!» Но он не обернулся. Тогда она топнула ногой и решительно направилась к дому.
35
Пааво свалил мешки у погреба и подъехал к конюшне. Я помог ему выпрячь лошадь и положить ей клевера. При этом я заметил, что он все время как-то странно поглядывает на меня, прищуриваясь.
Я спросил его:
— Ты что так смотришь?
Он ответил:
— Что у вас там ночью было?
Я спросил:
— А что?
— Да сюда каждое твое слово долетало. Ведь голос у тебя, слава богу, труба.
Я пожал плечами. А он хрипло засмеялся и закашлялся. Потом вытер слезящиеся глаза и добавил:
— И на хозяина ты бы посмотрел в это время. Ведь он тут был, у конюшни. Все выслушал от первого твоего слова до последнего.
Когда Пааво ушел завтракать, я выкинул из конюшни навоз, сменил у лошадей подстилку и пошел с вилами к коровнику, чтобы там тоже все вычистить и сменить подстилку. И там я встретил хозяина.
Он как раз выходил из коровника. Я остановился, чтобы дать ему пройти. Он тоже попридержал свои шаги, глядя на меня очень странно из-под своих живых занавесок.
Я всегда здоровался с ним при встрече, но на этот раз не поздоровался и промолчал. Мало ли, может быть, он первым захочет мне сказать что-нибудь. Бывает ведь так, что человеку захочется вдруг что-то сказать раньше, чем с ним поздороваются. Зачем я буду ему мешать? И я промолчал, глядя на глубокие трещины, разделявшие рыхлое мясо на его лице. А он кивнул мне головой так, что вздрогнули его тяжелые щеки, и сказал, проходя:
— Здравствуй, Эйнари.
Тогда я тоже кивнул головой. Я хотел, правда, не только кивнуть головой, я хотел тоже сказать ему «здравствуйте», но не успел. Даже кивок мой запоздал. Даже его он не успел заметить, проходя к своему дому тяжелыми, увесистыми шагами, словно пробуя каждой ногой прочность земли.
Я вошел в коровник и принялся очищать его от навоза и провозился с этим добрый час. Я уже дошел в своей жизни до такой точки, откуда незачем было торопиться. Дальше был серый туман, в котором ничего не было видно и в котором едва ли прояснилось бы что-нибудь от моей спешки.
Я выкидывал навоз и подсыпал каждой корове под ноги свежерубленой соломы. После этого я накачал им в длинные желоба воды для питья и отправился в поле копать картошку.
Все были заняты своим делом. Пааво уже пропахивал новые борозды, а все остальные копали. Тогда я взял копалку, нашел у телеги две пустые корзинки и подступил к свежей борозде, только что взрыхленной пропашником.
Кроме этого поля, копать еще надо было в двух местах, а погода вот-вот могла испортиться. Мог пойти дождь или ударить мороз. Поэтому копали все, кроме хозяина, который оставался дома присматривать за хозяйством, копали и торопились изо всех сил. Только я не торопился, потому что куда мне было спешить? Моя жизнь зашла в тупик, из которого уже не было выхода, торопись не торопись.
И все-таки, несмотря на спешку, картошка не была бы выкопана до холодов, если бы не Вихтори. Он приехал домой на месяц в отпуск из своего министерства по земельным делам и привез для копки картошки еще трех человек: двух женщин и мальчика. Это была мать с дочерью, овдовевшая во время войны. Мальчик был их сын и внук. Они не имели ни дома, ни постоянного дела после переселения, и вот Вихтори нашел им работу почти на месяц. Копали они быстро и хорошо.
Но и Вихтори копал неплохо. Он снимал очки, чтобы они ему не мешали, а когда Вихтори Куркимяки снимает очки, с ним не шути. Он засучивал рукава коричневого свитера и обгонял всех. Копалка мелькала в его руках, и картошка непрерывной струей летела то в корзину, то в ведро.
Покопав часа два, он уходил с поля, и после этого его можно было видеть бегающим вокруг своего дома и сада или прыгающим через веревочку. А иногда он подвешивал в саду на яблоню тяжелый мешок и обрабатывал его кулаками в кожаных перчатках. Это он, как всегда, готовился к встречам в рабочем доме Кивимаа. Для него и копка картошки тоже была лишь тренировкой к боксу, а не работой.
Но ему не повезло в эту осень. Он не подумал о том, что люди все побывали на войне и если не имели там времени для тренировки, то вполне достаточно имели времени, чтобы набраться злости. И все они знали, кроме того, что Вихтори даже не понюхал войны, сидя чиновником в конторе министерства земледелия.
Им не приходило в голову, что нельзя ему было никак идти на войну, хоть он и рвался воевать, быть может, не меньше, чем Эльяс Похьянпяя. Ведь у него было столько дел в земельном управлении, которое касалось также и Восточной Карелии. Он только и думал о том, чтобы, упаси боже, не упустить там приличный участок леса.
Надо же было кому-то брать на себя тяжелую заботу о новых сотнях гектаров разной земли, которые мы отхватили у большевиков. И, конечно, это легче было делать тем, кто уже привык считать свои гектары десятками и сотнями. А боксеры из Кивимаа не понимали этого.
Поэтому Вихтори так не повезло в эту осень. Только одну ничью удалось ему сделать, а потом его начали бить. Первым уложил его Юсси Вяхянен, потом Рику Киви, потом Кауко Саркола. А после тяжелых кулаков лесоруба Юрьо Лехтонена он уже больше не пошел в рабочий клуб и остался дома залечивать полученные синяки и ссадины.
Но в это время случилась новая интересная вещь. В рабочем доме появился Вилхо. Он вызвал всех, кто дрался с Вихтори, даже того, кто сделал с ним ничью, и уложил их всех по очереди. Даже железный Юрьо Лехтонен выстоял против него только четыре круга, а на пятом упал на четвереньки и не поднялся до пятнадцатого счета.
И вот опять пошли разговоры: «Что это значит? Чего он этим добивается?» Но многие даже не задавали таких вопросов. Для них уже было ясно, что это значит. Молодой херра Куркимяки желал поупражняться на рабочих спортсменах, чтобы подготовить себя для очередного выступления в Tukholma.[39]Финское название Стокгольма. Рабочие спортсмены вышибали из него всякую охоту упражняться на них. А Вилхо бил всех, кто осмеливался вышибать дух из Вихтори. Тут как будто и не над чем было ломать голову. Для многих членов рабочего клуба в Кивимаа все это было настолько ясно, что они даже не спрашивали: «Что это значит?» Они просто перестали здороваться с Вилхо.
Но вскоре все разъяснилось для меня.
Как-то раз ко мне подошел Вихтори Куркимяки. Я не ожидал, что он ко мне подойдет, и даже не стал смотреть в его сторону. Зачем бы ему подходить ко мне? Но краем глаза я видел, что его высокая сухая фигура движется прямо ко мне. Тогда я тоже повернулся к нему лицом и стал ждать.
Видно было, что ему понадобилось, наконец, сказать мне что-то. Столько дней тянул он с этим и, наверно, с отцом своим совещался по этому поводу не раз, и вот они что-то порешили между собой, наконец. Что ж? Я был готов выслушать от них все, что они пожелают сказать. Пожалуйста, говорите, уважаемый херра, я жду.
Он остановился, глядя на меня сквозь очки. Лицо его было очень худощавое, подбородок узкий и острый, как стамеска, а над ним протянулись такие тонкие и бледные губы, как будто он сжимал их все время.
На его переносице, на скуле и на челюсти еще белели мелкие кусочки пластыря, но остальные ссадины уже заживали. И не похоже было, чтобы он был огорчен тем, что его избили четыре раза подряд. Наоборот, он так решительно нагибал вперед свою упрямую голову на тонкой мускулистой шее, как будто и теперь готов был кинуться в драку. Он просто помешался на этих драках и рад был извести на них всего себя без остатка.
Ясно, что и ко мне он подошел неспроста. Подошел без пальто, без шляпы, в одном легком костюме, несмотря на осенний холод. Как видно, пальто он считал помехой в разговоре, который предполагал со мной вести, и слова, наверно, подготовил очень убедительные. Но и я давно был готов к этому, и на любое слово у меня был готов ответ. И кулаки мои тоже были готовы на всякий случай.
Но пока я так стоял и смотрел на него, он вытащил из внутреннего кармана сюртука белый конверт и спросил:
— Имеете ли вы возможность передать вашему брату это письмо до воскресенья?
Я не ответил. Трудно ответить что-нибудь сразу, если с тобой начали не тот разговор, которого ты ожидал. А он добавил:
— Отец приглашает его в воскресенье на наш семейный вечер. У него дело есть к нему. И у меня к нему несколько слов.
Я все еще молчал, хотя конверт уже был в моих руках. А он подождал немного и еще добавил:
— Мы пошлем за ним лошадь в воскресенье.
Я все еще не мог подобрать подходящих слов для ответа. Тогда он спросил:
— Ну, так как же? Сумеете вы ему передать?
Я пожал плечами.
— Отчего же нет? Конечно, сумеем.
Вечером я сказал Эльзе:
— Передашь это завтра утром, когда повезешь туда бидоны с молоком. Только привет не передавай. Отдашь письмо — и все.
А в воскресенье вечером, придя домой после дойки коров, она сказала:
— Приехал Вилхо. Привезли они его.
Я ответил:
— Ну и что же. А какое мне до этого дело?
Она добавила:
— Говорят, хозяин предложил ему место старшего мастера на молокозаводе.
Я сказал:
— Тебя никто об этом не спрашивает. Подумай лучше, как детей быстрее накормить, вместо того чтобы болтать о разных посторонних вещах.
36
В понедельник утром я заметил, что Пааво опять как-то странно щурит на меня свои глаза, окруженные гармошками из мелких морщин. Я сразу догадался, что у него опять появилась какая-то новость, которую он не прочь мне рассказать. Но на этот раз я не стал у него выпытывать, потому что не ожидал ничего приятного. И в конце концов он сам заговорил. Он спросил меня:
— Вилхо был у вас вчера?
Я ответил:
— Нет.
Он сказал:
— И не скоро, наверно, теперь придет.
— Почему?
— Уехал в Тампере.
— В Тампере?
— Да.
Он помолчал немного, потом опять спросил:
— Значит, ты не знаешь, что он выкинул вчера?
— А что?
Он вытащил из кармана трубку, набил ее табаком и присел у стены конюшни на корточки. Я тоже взял у него немного табаку и свернул сигарету. До войны я совсем было бросил курить, а на войне опять привык, со скуки. Но я бы снова бросил. Первые дни после прибытия домой я совсем не курил. Но теперь жизнь моя зашла в тупик, и мне было все равно. Я свернул сигарету, и мы закурили.
Он закашлялся, как всегда, после первой затяжки, и я долго ждал, пока у него улеглось и успокоилось в груди все то, что там хрипело и сипело. А потом он сказал мне, вытирая слезы:
— Он чуть Вихтори нашего не поколотил.
Я не поверил.
— Откуда ты знаешь?
— Наши доярки были там. Помогали хозяйке управиться на кухне. Гостей собралось человек десять. И вот когда все они уже уселись за стол и пропустили по первой рюмке, Вилхо вдруг встает, подходит к Вихтори, вытряхивает его со стула и говорит: «Думаю, что пришла пора напомнить вам один инцидент. Произошел он в нашем клубе лет пять назад, когда вы однажды наняли его на один день, чтобы устроить в нем свой господский вечер. Так вот прошу вспомнить свое невежливое поведение по отношению ко мне и извиниться сейчас в присутствии уважаемых господ. Пустяковый, правда, был инцидент, и гораздо проще было бы его давно забыть, но тут дело в принципе… итак, прошу». Вихтори смотрит на него так, как будто первый раз в жизни увидел, а Вилхо добавляет: «Поторопитесь, сударь, иначе будете иметь большую неприятность. Нельзя же без конца отыгрываться на посторонних физиономиях». Гости в ожидании притихли. А Вихтори меряет его глазами сквозь очки и говорит: «Вы никак с ума спятили? Что это вы затеяли в чужом доме?..» А Вилхо ему: «Поторопитесь, уважаемый. Не будем терять даром времени и нарушать ваш праздник. Надеюсь, вы достаточно хорошо помните, что обычно ожидало тех, кто выходил победителем при встречах с вами на ринге? Не можете не помнить. Так вот, это было лишь предисловием к тому, что я сделаю сейчас с вами, если не услышу требуемых извинений. А шансы свои и мои вы имели возможность взвесить не раз». Так он говорит, а сам стоит перед ним близко-близко и смотрит на него с улыбкой прямо в очки. «Я жду», — говорит. И вот доярки рассказывают, что Вихтори помялся немного, а потом говорит: «Да, должен признаться, что я поступил тогда по-свински». «Как, — спрашивает Вилхо, — по-свински? Вы громче говорите, чтобы слышал не только я один». Тот повторяет громче: «По-свински». Тогда Вилхо спрашивает: «А что именно по-свински? Что вы сделали?» Тот отвечает: «Ну… не следовало мне препятствовать вам войти в наше общество как человеку, достойному всякого уважения…» — «Вы громче, громче», — говорит ему Вилхо и заставляет повторять извинения по нескольку раз. А потом поворачивается к Вихтори спиной и спрашивает нашего хозяина: «Итак, вы предлагаете мне на вашем новом молокозаводе место старшего мастера? Или вы теперь почему-либо готовы отказаться от своего предложения?» А тот отвечает: «Нет, зачем же отказываться. Я своих слов назад не беру. Ребячество есть ребячество, и оно меня не касается, а дело делом. Я жду только вашего согласия». А Вилхо говорит: «К сожалению, должен вас огорчить отказом. Уже имею предложение от государственного предприятия в Тампере. Итак, я вижу, что после этого надобность в моем присутствии отпадает. Избавляю вас от неприятного гостя. Завтра утром навсегда покидаю эти места. Прощайте». И не глядя ни на кого, он выходит, хватает в прихожей свое пальто и сбегает с крыльца. Гости, наверно, с минуту после этого ничего не говорили. Потом вдруг Хильда вскакивает из-за стола и тоже к двери. Отец ударил кулаком по столу и крикнул: «Хильда!» А она только посмотрела на него молча и вышла. Я в это время в поле был. У меня Бодрый разыгрался и ушел с водопоя. Я был в поле и видел, как Хильда догнала Вилхо на дороге и пошла рядом. Вилхо шагал быстро, и Хильде пришлось довольно часто перебирать своими женскими ногами, чтобы не отстать от него. Ее коричневые чулки так и мелькали рядом с его синими брюками. А встречный ветер относил в это время назад полы их расстегнутых пальто. Потом Вилхо взял ее под руку. И дальше они уже пошли медленнее, пока не скрылись за поворотом. Это я видел сам, потому что был в то время в поле и ловил Бодрого, который разыгрался и никак не хотел даваться мне в руки. Но потом я все-таки поймал Бодрого у опушки.
Я погасил окурок и сказал:
— Молодой он еще. Мальчишка.
Но он возразил:
— Ну и что же. Из мальчишки всегда успеет выйти взрослый. И уж будь спокоен, из этого парня получится настоящий мужчина. Он свое дело сделает…
И Пааво призадумался, подперевшись кулаком так, что не только кожа под его глазом сложилась гармошкой, но и половина щеки.
Я тоже подумал немного, потом кивнул головой и сказал:
— Это верно. Это верно.
37
После этого Пааво отправился на Великане перепахивать еще раз выкопанное картофельное поле, и две доярки пошли с ним, чтобы собрать пропущенную при копке картошку. Так было поставлено дело у Куркимяки, что не пропадали в его хозяйстве ни одна картофелина, ни один колосок. Все у него вовремя подбиралось, подчищалось и чинилось.
Только я уже не годился для такой работы. Жизнь моя зашла в тупик, и тоска грызла мою грудь, а рукам вовсе было не до того, чтобы подбирать и чинить что-нибудь. Но я никуда не мог уйти от этого. Боже мой! Куда я мог уйти — вечный работник на чужой земле! И хотя грызла мое сердце тоска, но руки сами собой потянулись к вилам, как только я пришел к коровнику.
Позади коровника опять успело накопиться много навоза — целая гора. Три десятка коров знали свое дело. Когда я вычищал коровник, то мне все чаще и чаще приходилось выходить наружу и отбрасывать навоз подальше от окошка, чтобы он не мешал мне выбрасывать свежий изнутри. Постепенно гора выросла и передвинулась до большого камня, торчавшего длинным горбом позади коровника, и загородила здесь всякий проход и проезд. Нужно было вывезти этот навоз на картофельное поле будущего года и там запахать. Это была работа, которой не было ни конца ни края.
Я выволок из-под навеса телегу для навоза и поставил ее возле навозной горы. Лошадь я решил запрячь, когда наполню первый воз. Телега была все та же, которую я уже чинил двадцать раз до войны и которую столько же раз чинил до меня Пааво. Ее нужно было осматривать каждый раз, прежде чем пустить в работу, ибо она вся состояла из кусочков и заплат и могла развалиться под большой тяжестью. Гнилое дерево не уживалось рядом с крепким, не удерживало гвоздей и болтов. Давно была пора сменить эту телегу на новую, но ведь если сменить ее на новую, то это не будет экономией для кармана господина Куркимяки.
Я всегда осматривал ее, прежде чем брать в работу, но на этот раз не стал осматривать и сразу начал валить на нее навоз. Жизнь моя зашла в тупик, и на чорта мне все это сдалось!..
Я навалил большой воз. Ничего, что земля раскисла от дождей. Рейпас вывезет. Не для того мы отрастили ему такой жирный зад, чтобы он не вывез. Но когда я уложил наверх последний увесистый ком, телега вдруг затрещала и медленно накренилась, ткнувшись осью в землю. При этом два ее колеса встали так, как будто хотели соединиться верхними частями ободов.
Я воткнул вилы в землю. Потом нагнулся, подсунул плечо под край воза и опрокинул его совсем. После этого я посмотрел на ось. Так и есть. Опять все пошло к чорту! В том месте, где лопнувшее железо было прихвачено гвоздями, гвозди вылезли из трухлявого дерева, железо разъехалось, а дерево треснуло и надломилось во всю толщину оси. Не помогли на этот раз и деревянные планки, прибитые к оси сверху и сбоку. Они тоже надломились вместе с осью.
Чорт бы подрал все на свете! Я схватил телегу за толстую перемычку, соединяющую обе оси, рванул ее к себе так, что сразу вывалились из кузова остатки навоза, поднял телегу над головой и хватил ее о камень с такой злостью, что только куски полетели в разные стороны. А одно колесо сорвалось с оси и покатилось почти до самого сада Куркимяки.
Я оглянулся по сторонам и даже вздрогнул от неожиданности. Возле угла коровника стоял сам херра Куркимяки. Он смотрел прямо на меня. Как это он успел появиться из-за угла коровника, чорт его знает, но на этот раз у него уж, наверно, было что мне сказать. Так что ж? Пусть говорит, перкеле! Нечего тянуть с этим без конца! И я сам сделал несколько шагов к нему навстречу, чтобы избавить его от лишнего труда. Но он не стал ждать, когда я подойду. Он перевел свой взгляд в сторону, потом на небо и, уже не глядя больше на меня, пошел за угол коровника.
Тогда я остановился и посмотрел вокруг. Рядом со мной стояли вилы, воткнутые в землю. Я вырвал их из земли и пустил вслед за колесом прямо в хозяйский сад, а потом пошел домой.
Жизнь моя зашла в такой тупик, из которого сам чорт не мог бы ее больше вытащить.
38
На другой день я не пошел на работу. Эльза сначала все о чем-то спрашивала меня, но потом перестала. А я сидел и молчал. Некому было говорить о том, что я хотел бы сказать. И не сумел бы я как следует сказать, и никто не понял бы сказанного.
Эльза вернулась из коровника, приготовила завтрак, накормила детей, отправила их в школу, убрала со стола посуду и вдруг сказала, глядя в окно:
— Хозяин идет к нам.
Я посмотрел в окно. Да, он действительно шел прямо к нам. Он уже перешел по широкой доске через ручей и поднимался вверх по склону бугра, ступая тяжело толстыми ногами, словно пробуя ими крепость камня.
Я встал из-за стола и вышел к нему навстречу. Если он пришел, наконец, сказать мне что-нибудь, то незачем было ему заходить в дом. О некоторых вещах гораздо удобнее разговаривать на дворе, не заходя в дом.
Он поднялся на бугор, тяжело переводя дыхание, и остановился передо мной так близко, что я отчетливо разглядел все красные прожилки на мягком кончике его маленького носа и на щеках. Все трещины и складки его лица расположились в таком порядке, как будто хотели составить улыбку, и он сказал, протягивая мне руку:
— Ну, как живешь, Эйнари?
Но мои руки были в карманах в этот момент, а сам я как раз посмотрел куда-то в другое место, не помню куда: на небо или на скалу, и не заметил его протянутой руки. Может быть, это было невежливо не заметить протянутой руки своего хозяина, но что ж делать, если я не успел ее заметить, глядя куда-то в другую сторону. А мне так хотелось ее пожать! Я всю жизнь только и мечтал о том, чтобы как можно чаще пожимать руку своего хозяина.
А он покосился на меня и толкнул уже протянутой рукой дверь в сени. В сенях он оглянулся на меня и в комнате тоже еще раз оглянулся с таким видом, как будто ожидал, что кто-то вот-вот стукнет его сзади. Но кто же мог стукнуть его сзади? Я тоже оглянулся и никого не увидел, если не считать Эльзы, стоящей у плиты. Сзади был один я и никого больше. Странно, кого тут было бояться?
Потом он сел за стол ко мне лицом и достал из кармана какую-то бумагу. Он развернул ее и подвинул ко мне, показав рукой, чтобы я прочитал. Я прочитал, не вынимая рук из карманов. Это была купчая на землю. Я вынул руки из карманов и еще раз прочитал ее, поднеся ближе к глазам. Он продавал мне пять гектаров пашни, пять гектаров луга и пять гектаров леса. Платить я мог в рассрочку работой или деньгами по своему усмотрению.
Я оглянулся на Эльзу. Она мыла в лоханке посуду, осторожно водя мочалкой по кастрюльке, чтобы не особенно бренчать. Горячий пар поднимался к ее наклоненному лицу, и я не мог понять, что она думает. Да и что могла она думать, не зная, какую бумагу держу я в руках.
А хозяин достал вечное перо, положил его передо мной и сказал:
— Распишись.
Я снова оглянулся на Эльзу. Но видно было, что она совсем не собирается вступать в наш разговор и предоставляет это делать мне одному. Тогда я пожал плечами и взял перо. Почему бы мне не расписаться на такой бумаге? Господи боже мой! О чем же была тогда вся тоска моей жизни?
А он в это время всматривался внимательно в мое лицо и слегка усмехнулся.
— Ну что? Не ожидал такой радости? Ничего. Зато будешь помнить мою доброту.
И он с довольным видом откинулся спиной к стене, закуривая сигарету. А я подумал немного и, уже не оглядываясь больше на Эльзу, положил обратно на стол вечное перо. Я вдруг вспомнил его доброту. Дым его сигареты напомнил мне, как я, бывало, ходил за ним и выпрашивал, как нищий, то самое, что сейчас он сам принес ко мне в дом. Почему он тогда не пришел ко мне с такой бумагой? Тогда я был моложе и принял бы такую бумагу от него, как святыню. Я молился бы тогда на нее. А теперь — я знал ей точную цену. Теперь я знал точную цену всему, что видел вокруг, и не купишь меня такой бумагой.
Я положил на стол перо и отодвинул от себя договор.
— Не надо мне вашей земли.
Он удивленно подхватил ресницами свои свисающие веки и медленно поднялся из-за стола.
— Как не надо?
— Так. Я сам возьму ее, когда будет нужно.
И снова засунув руки в карманы, я отступил немного от стола, чтобы показать ему, что путь для него к двери свободен.
Он взял перо и бумагу и медленно прошел к двери, но там оглянулся и еще раз спросил:
— Ты подумал ли, что делаешь?
Я ответил:
— Господин может не беспокоиться. Я знаю, что делаю.
Он молча посмотрел на меня и потом взялся за ручку двери. Но за порогом он еще раз оглянулся и попробовал сделать что-то приятное и приветливое из своих трещин на лице, когда спросил:
— Но работу у меня, надеюсь, продолжаешь? И Эльза тоже? А?
Он посверлил нас обоих глазами и, не дожидаясь ответа, закрыл двери и пошел пробовать своими тяжелыми ногами скрипучий пол сеней и каменистый склон бугра.
Я все еще стоял на том же месте у стола, засунув руки в карманы, и видел в окно, как он перевалил через ручей и двинулся дальше, тяжело раскачиваясь на ходу. И я подумал, глядя ему вслед, что трудно было бы вот сбить с ног такого, у которого все книзу грузное и широкое. Он, должно быть, очень крепко стоит на земле.
Но если дело коснется меня, перкеле… Если приведется мне сказать ему свое слово, то еще посмотрим, как он устоит на этих ногах. Конечно, нужен увесистый удар, чтобы пошатнуть такого. Но ничего. Мои руки недаром трудились на его земле тридцать лет. Они научились теперь не только выполнять мирную работу, но и сжиматься в кулаки, крупные и крепкие, как железо. И весь я был в те минуты, как железо, и не боялся больше ничего на свете.
Я повернулся к Эльзе. Она уже вытирала полотенцем тарелки, блюдца и чашки. Я подошел к ней, осторожно взял из ее рук полотенце и чашку и положил их на край плиты. Потом я так же осторожно подхватил ее на руки, шагнул к середине комнаты и подбросил кверху. Но потолок мне показался слишком низким на этот раз, и я вынес ее на двор.
Там над нашей головой был простор до самого неба, по которому южный ветер гнал тяжелые осенние тучи. Но я вовсе не хотел, чтобы она у меня улетела в самое небо, упаси боже. Зачем залетать так высоко? С меня было довольно и того, что ее светлое платье, белокурые волосы и желтые туфли замелькали почти на уровне верхнего края скалы. И каждый раз, когда она взлетала вверх, лучи солнца доставали ее из-за скалы и золотили ее, пронизывая всю насквозь.
Тяжелая она у меня. Маленькая, но тяжелая. Комок огня и звонкого смеха. Дай бог каждому такую жену!
39
Сегодня, пожалуй, первый теплый день после суровой зимы. Почернели вокруг все камни и кусты, почернел ручей, перерезающий вдоль всю длинную лощину из конца в конец, и в воздухе появились запахи, которых не было вчера.
Есть такие дни в жизни, когда хочется почему-то петь или просто кричать что-нибудь во все горло. Но зачем зря шуметь? Если прислушаться и присмотреться хорошенько вокруг, то станет видно, что и без того все поет в угрюмой Суоми в эти дни, когда ветер дует с юга. Сползает снег с высоких мест, обнажая землю, и начинает она дышать новым теплым воздухом.
Похожа наша Суоми сейчас на ту низенькую, крепкую березу, что уцепилась корнями за верхушку этой скалы. Она еще не дала листьев и только что оттаяла после зимы, и, на первый взгляд, нет в ней еще никакой жизни, но уже начали бродить в ней молодые живые соки и наливаться почки.
Жена моя вышла из дому в новом пальто, чтобы пойти в церковь. Иди в церковь, Эльза, помолись там за меня и за всех нас и за нашу новую жизнь, которая еще не началась, но начнется скоро, потому что мы заставим ее начаться!
Белоголовый курносый Лаури выскочил из сеней в одной легкой куртке, без шапки. Он крикнул мне:
— Папа! Смотри, как я высоко могу влезть!
— Ну, ну. Смотрю.
И он полез вверх по отсыревшему отвесу гранита, цепляясь пальцами и носками сапог за каждую трещину.
— Упадешь, Лаури.
— Нет, нет, папа. Я теперь уже не срываюсь. Сегодня не скользко. Оттаяло все. Смотри! Папа! Вот где я!
Я посмотрел и увидел, что он уже поднялся выше дома, к самому верхнему краю скалы, и уже цепляется там за толстые свисающие корни, из которых сочится вода. Руки у него крепкие, он подтягивается на них, заносит через верхний выступ колено и вот уже стоит там рядом с березой и кричит звонко на весь мир:
— Смотри, папа! Я влез! Теперь всегда буду влезать и не сорвусь больше. А отсюда солнце видно, папа! Вон там! Только его еще тучи закрывают, и оно как будто светлый кружочек.
Я говорю ему:
— Ничего. Тучи разойдутся. Этот ветер такой, что разгонит любые тучи, и тогда солнце засверкает во всю свою силу. Мы с тобой взорвем эту скалу, чтобы она не мешала нам больше видеть солнце, и построим на этом месте новый дом. А потом новый сад и огород разобьем уже на солнечном склоне.
Я оглядываюсь во все стороны, стоя на своем крохотном бугре, и чувствую себя на нем прочно, как будто это мой собственный бугор, с которого никто не посмеет меня согнать. Я смотрю на обширные земли вокруг, на длинную лощину, уходящую вдаль широкой лентой с черным ручьем посредине, и уже не тоскую о том, что они не мои. Мой труд создал эти земли, и я знаю, что пришел час получить мне свое. И я получу свое, хотя и не буду больше никого об этом просить. Я чувствую, что у меня теперь хватит на это силы.
И, может быть, оттого мне так весело сегодня и так хочется сделать что-нибудь особенное: запеть или закричать, или сказать кому-нибудь теплое, доброе слово.
Нет у меня тех увесистых слов, о которых упоминал Вилхо. Я сказал бы их и дояркам нашим, которым приходится работать на чужой стороне из-за того, что слишком бедно у них свое гнездо, и двум женщинам с малюткой, не имеющим своего угла, и бедной злой Кэртту Лахтинен, для которой война не оставила не искалеченного жениха, и маленькому выпившему Пааво, который сидит, пригорюнившись, у стены конюшни.
Ему совсем немного надо для полного счастья. Хотя бы два гектара какой-нибудь земли. Хотя бы один гектар самой плохой. Он бы справился с ней. Он развел бы на ней сад и огород, и что ему еще надо на закате лет?
Он бы загородил эту землю забором от всего мира и построил бы маленький домик. И он никого бы не пустил в этот домик. Довольно он натерпелся от людей разных насмешек и обид. Не хочет он видеть больше никого.
Так говорит он, подпирая кулаком свою маленькую желтую щеку. Но потом добавляет, подумав:
— Разве что русский иногда забредет. Его пущу.
И опять он сидит пригорюнившись и ворчит о том, что плохой он мужчина, хотя и дожил до седых волос, и что нет у него зубов, чтобы кусаться, когда нужно. Какой-нибудь Эльяс Похьянпяя может пристать к нему при женщинах и орать, — «Эй ты, коммунист будущий, или как тебя там! Вот вы все твердите, что русские хорошие люди и самые надежные друзья финского народа. А почему же они тогда в тридцать девятом году полезли на нашу землю, а? Вот скажи-ка ты мне!» А он ничего не может сказать в ответ и молчит, и уходит молча, хотя женщины смотрят на него и ждут ответа.
Бедный маленький Пааво Пиккунен! Тебе бы сейчас мою радость и мои зубы или хоть мои кулаки. И тогда сразу нашлись бы слова в твоем рту. Ничего никогда не отвечай дураку. От этого не будет пользы ни тебе, ни ему. А умному все было ясно еще в те дни, когда русские обратились к нам с первым дружеским предложением по обмену земли, и поэтому он не пристанет к тебе с глупым вопросом спустя пять лет. Сейчас правду может видеть всякий, кто этого сам желает. Или, может быть, ты думаешь, что русским очень хотелось отобрать у тебя все твои богатые именья, разорить тебя и сделать на пеки вечные батраком? Не беспокойся. Никто не тронет твоих богатств.
Так говорю я ему, а он смотрит на меня и моргает своими пьяными глазами. Потом вынимает изо рта трубку и долго смеется своим хриплым смехом, давясь и кашляя и вытирая слезы.
Не увесистые у меня слова, дорогой мой Вилхо. Ты плохой предсказатель. Никогда не найти мне таких горячих и сильных слов, какие прочел я на-днях в «Vapaa Sana» с подписью Вилхо Питкяниеми. Твои слова о земельной реформе в Суоми порадовали меня не только тем, что это голос в мою защиту. Я узнал в них все того же Вилхо с живыми огоньками в глазах, твердо знающего, куда ему идти и что хотеть. И, значит, напрасно тревожила меня мысль о том, что назвал ты своей женой Хильду Куркимяки.
Решили вы с Хильдой навестить летом мой домик, чтобы отметить в нем какую-то свою годовщину. Милости просим! Для тебя двери его всегда открыты. Мне тоже нужно отметить кое-какую годовщину. И мне нужен ты, потому что ты мне не только брат…
Я очень сильный сегодня. Запах весны бьет мне в ноздри, а глаза смотрят и видят гораздо дальше лощины, дальше камней. Я расправляю плечи и чувствую, как все звенит у меня внутри. Главное — знаю я теперь, откуда это все пришло ко мне. Вот что хорошо.
Ничего, конечно, не произошло такого, чтобы очень уж буйно плясать от радости, но все-таки немного веселее стало жить на земле.
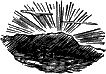
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления