Онлайн чтение книги
Бог, природа, труд
БОГ, ПРИРОДА, ТРУД
БАТРАКИ
Со двора и избу то и дело влетал пастушонок Лудис, оставляя двери настежь, словно калитку. Никто не ругал его за это. Тепло уж не берегли, как зимой. Ветер задувал в двери, окна. Углы опустели. Батрачка, что мыла и чистила их, ушла, чтобы новые жильцы не бранили за оставленные грязь и паутину.
Нынешним летом Лудис подрядился как взрослый, наняли его тут же по соседству. В Каменах он знал все наперечет — прибегал чуть ли не через день. Что здесь нового увидишь? Но сегодня пришел спозаранку — поглядеть, кто уйдет и кто придет в Камены в Юрьев день.
Только влетит в комнату — тотчас к Аннеле.
— Кто твои отец с матерью?
— Батраки.
— Куда идут они?
— На край света.
— А где тот край света?
— За морями, за долами, за высокими холмами, — перечисляет Аннеле, кивая в такт головой и изо всех сил пытаясь выговорить трудное «р».
Лудис громко, заливисто хохочет, потом крутанется на пятке, словно волчок, и выбегает; но вскоре снова тут как тут — и ну выпытывать Аннеле, кто ее отец с матерью.
И так уже в третий раз.
Аннеле сжала губы, насупилась. Будет с нее.
И хоть Лудис из тех людей, кто пользуется ее расположением, но тут было что-то не так. Почему он столько раз переспрашивает, почему так смеется?
— Ну, скажи же, скажи — куда ты пойдешь? На край света? А где этот край света? — приставал Лудис, пытаясь вытянуть из Аннеле слова, которым сам же ее и научил.
Аннеле в ответ ни слова.
— Ну и ладно, и не говори, но и ты не узнаешь, кто такие батраки, — поддразнивал Лудис. — Ну, скажи, кто такие батраки?
Не дождавшись ответа, он рассердился.
— Твои отец с матерью, дурочка! А ты и не знаешь. Вот оно как! Дурочка ты, дурочка, что с тебя возьмешь! — Лудис ткнул девочку кулаком в бок и был таков.
Аннеле, похожая на ворох с вещами, осталась наедине со стулом от материной прялки, на который была посажена. Рано утром укутали ее платками, а после поверху намотали и те, что забыли положить в сундук; и стала она такая большая и толстая, что и с места не сдвинуться.
Но стоит только повернуть голову, увидишь взрослых, снующих по двору: мать, сестру, брата. У сестры платок сбился, лицо раскраснелось, брат успел уже завозить новые постолы, разрешение обуть которые в Юрьев день вымаливал давеча со слезами. Но мать этого не видела. Не до того ей сейчас было. Вот она вывела Бусинку, привязала ее к забору. Та вырывается, мычит. Из всех хлевов ей отзываются. Прощаются с нею.
Пробежали через двор овцы с белыми дрожащими ягнятами, за ними брат и сестра с длинными хворостинами. Мать отвязала Бусинку и торопливо потащила за собой. Два воза с вещами, раскачиваясь, проехали по ухабистой дороге и исчезли.
У Аннеле потемнело в глазах. Что же это? Никто за ней не пришел? Никто не позвал? Ее просто забыли. Как же останется она в этом пустом углу, где раньше стояла высокая мамина кровать с красивым клетчатым одеялом и белыми подушками и который теперь кажется таким чужим, темным и неприветливым!
Это и есть долгожданный Юрьев день, о котором было столько разговоров?! Тут и придется ей остаться. Одной-одинешеньке.
Нахлынули слезы, в глазах закололо, словно раскаленными иголками, но всеми силами сопротивлялась Аннеле слепому, темному страху. Кричать нельзя ни за что. Снова Лудис начнет смеяться. Но и удержаться она не сможет, если никто не придет.
А во дворе, знай себе, насвистывал Лудис и звал кого-то. Ему откликнулся чей-то голос. Это отец Аннеле.
Отец! Он еще тут. Погрузив последний воз, он обходил все закоулки — не забыли ли чего. Лудис не отставал от него ни на шаг. Вот и снова все хорошо. Отец придет, придет!
И отец пришел, взял Аннеле, Лудис подхватил материн стул. Батрацкая совсем опустела. Постель и сундучок Лудиса лежат пока посередине двора. Хозяйка дожидалась остальных батраков, чтобы показать каждому его место.
Отец поднял Аннеле над головой и усадил на воз. У девочки дух захватило, на сей раз от радости, не от страха. Чего ей бояться на отцовском возу? Отец для нее что крепость.
Она ждала так долго, что платки успели сползти. Отец забрался на воз и повязал их, как умел. Аннеле засмеялась, потрясла головой, и все платки сползли снова. Отец сурово погрозил пальцем и завязал их туже. Тут уж Аннеле присмирела. Ясно, что отец играть не хочет.
Когда тронулись, Лудис уцепился за веревку, которой был закреплен воз, уперся в него ногами, так что полы куртки волочились по грязи, и проехал с ними немного к большой радости Аннеле — язык его, словно красный огонек, мелькал то с одной, то с другой стороны красивого желтого ларя. Но тут его заметил отец и поднял кнут:
— И не совестно, озорник ты этакий!
Лудис тут же спрыгнул, угодил прямо в большую лужу, да так и остался стоять, глядя вслед удаляющемуся возу. И вдруг, словно вспомнив, крикнул:
— Аннеле, кто твои отец с матерью?
Ответом ему был залепивший рот резкий порыв ветра, которым он захлебнулся.
Рваные облака над головой растаяли, и клочки их унесло ветром. Засияло синее-синее небо, засверкало солнце.
Когда оглянулись на повороте, Камены стали исчезать. Сначала скрылся овин, потом клеть, и дом, и сад. Торчал только колодезный журавль, похожий на указательный палец, но подступившие к дороге кусты скоро заслонили и его. Камены вместе с Лудисом как сквозь землю провалились.
Но вот издали стали наплывать другие хутора, названия которых Аннеле слышала не один раз, когда жила еще в Каменах.
— Вон Гравмали, — показал отец рукояткой кнута. Это был старый, развалившийся хутор. Изба склонилась над дорогой, словно старуха с перекошенной челюстью. На другой стороне, освещенные солнцем, красовались Вилки, белые и стройные, словно молочные бидоны. Посреди двора стояли пустые и груженые повозки, мелькали пестрые платки, мычал скот. Но вот и они остались позади, исчезли.
Дорога вела сначала сквозь заболоченный кустарник, где над самыми кочками и колдобинами носились чибисы, а в глубоких придорожных канавах блестела ржавая вода; потом — через простиравшиеся до самой кромки леса зеленя, на которые жаворонки без устали сыпали с синего неба свои трели — серебристые жемчужные ожерелья; наконец выехали на развилку, от которой, как от клубка, во все концы света разматывались четыре дороги, и по ним навстречу друг другу, словно в величественном полонезе, катились такие же возы, позвякивая колокольчиками. Телега с отцовским скарбом переехала большак, но продолжала двигаться в том же направлении.
Внезапно дорога оборвалась. На краю глубокого оврага возы остановились и стали медленно проваливаться вниз. У Аннеле перехватило дыхание. Такой бездонной глубины она еще не видывала. А кто это несется внизу сломя голову, пенясь и всхрапывая? Огромный, могучий, она на возу что пылинка рядом с ним.
— Папа, папа, кто там так шумит? — боязливо и удивленно Аннеле показала вниз.
— Тервете, дочка. Вешние воды разлились, вот и большая она нынче.
«Тервете…» — задумалась Аннеле, да так и осталась наедине со своим удивлением — отцовские слова ей мало что объяснили. «Тервете, Тервете, Тервете это, — повторяла она беспрестанно. — Как бежит, как шумит, как пенится!» — И казалось ей, что всю ее заполняет дивная, звонкая песня.
Внизу переехали через мост. Вода, черная, глубокая, крутясь, взбивала пену и неслась так быстро, что догнать ее не могли ни облака, ни ветер.
В низине было безветренно и тепло, как в запечье. Все уже тут: мать и Бусинка, брат и сестра с овцами. Берег речки порос зеленой, мягкой травой, можно было пустить скот и самим передохнуть.
Возницы остановили лошадей и подвесили к их мордам торбы. Аннеле сняли с воза. С другого воза мать достала узелок. В нем оказалось полкаравая с ямкой внутри. Ямка была заполнена свежевзбитым маслом и сверху прикрыта коркой. Хлеб мать нарезала и каждому дала намазанный ломоть. Все расселись на траве, словно цыгане. Только старших детей было не дозваться. Они убежали к бурлящей Тервете — один за ивовыми дудочками, другая за цветами, которых было здесь видимо-невидимо.
Аннеле никуда не пустили, да она и шагу ступить не могла. Шагнет, тут же запутается в платках и падает, а остальные весело смеются.
Да и зачем ей ходить! Сестра прибежала с цветами — для Аннеле, брат с ивовыми дудочками — и они для Аннеле!
Остатки хлеба искрошили овцам, Бусинке достались корки. Мужчины напоследок покурили и засобирались дальше. Вверх по крутой дороге возы взводили по одному, и с каждым шагал отец, то толкая, то придерживая его — бурные после долгой и суровой зимы вешние воды так размыли дорогу, что рытвины кое-где были глубокими, словно канавы.
Когда отец, взмокший, разгоряченный, спустился за последним возом, поднялись и остальные. Ягнят, точно малых ребятишек, в гору внесли на руках, чтобы не так притомились.
Наверху налетел резкий колючий ветер и хорошенько потрепал всех. Здесь был другой мир. Он то раскрывался, как огромная неведомая книга, то подступал вплотную, сужался; то озарялся, величественный и сверкающий, вздымая, словно на гребень волны, белые дома, светло-зеленые рощи, далекие-далекие горы, то снова темнел под большим плывущим облаком, наползавшим на солнце, как грозное чудище. Аннеле вбирала в себя эти бесконечные, сменяющие друг друга картины, пока они не переполнили ее и голова не стала клониться, как спелый колосок. Леса, поля, луга, облака опрокидывались, подминали под себя Аннеле, и вот уже они хотят ее раздавить. Она вскрикнула.
— Держись, дочка! Открой глаза!
Аннеле широко-широко раскрыла глаза и увидела улыбающееся, приветливое лицо отца.
— А где мама?
— Она уже впереди.
— Еще не край света?
— Теперь уже совсем близко.
Ветер стих внезапно, будто его кто-то ударил по губам. Зеленой, мерцающей на солнце излучиной раскинулась впереди березовая роща. В нее и въехали. Бахромчатые тени качались над дорогой, липкие ветки своими закрученными, словно береста, листочками гладили щеки Аннеле. Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку! То рядом, то где-то вдали куковала кукушка.
— Папа, кто это там зовет?
— Это большие лесные часы.
— Большие лесные часы? — удивилась Аннеле.
— Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку! — отозвалось в другой стороне.
— А вон маленькие часы, — отец показал на пернатую семейку, которая чирикала и щелкала в листве.
Ага! Теперь-то Аннеле поняла. Так вот они какие, эти часы! Ну и звенел от них лес! На все лады, красивее, чем звонкая, быстрая Тервете. Чем дальше в лес, тем интереснее. Только успевай смотреть и слушать!
Дорога выбралась на свет. Справа лес отступал, обходя стороной большой лесной луг, слева высился вдоль дороги, словно живая мерцающая стена. Внезапно и луг и лес кончились, тут-то и стояли Калтыни — хутор лесника. Родные Аннеле были уже здесь.
Возы остановились посреди двора. Батраки были дома. Важный шаг — от одного Юрьева дня до другого — сделан, теперь можно приниматься и за обычные дела.
Две большие девочки в розовых кофтах с широкими, пузырящимися от ветра рукавами подошли к Аннеле, громко тараторя и хихикая, и чуть ли не силой стали навязывать свою дружбу, суля удивительные вещи.
— Подойди, Аннеле, подойди, они родня тебе, — подбадривала мать. Но Аннеле прикрылась рукой, что птичка крылом, и больше ничего не хотела видеть. Глаза понасмотрелись всего и отяжелели, словно цветы от утренней росы. Веки смежились сами собой.
ПАЛЬЧИК БОЛИТ
Весна уступала свои права лету, и чем быстрее оно приближалось, тем больше становилось работы. Люди только бегом и бегали.
Мать трудилась не покладая рук. Аннеле же чувствовала себя в безопасности, лишь уцепившись за материнскую юбку. Кто знает, что таится в чужих углах этого незнакомого дома? Как доверишься чужим лицам, которые порой наклонялись со своих высот к маленькому человечку, то смеющиеся, то шутливо сердитые, то приветливые. Кто знает, друзья это или враги?
Матери надоело неотступное преследование, и она часто гнала от себя девочку: пусть сама играет. Но повернуть жизнь на свой лад Аннеле еще не умела.
Как-то утром присела Аннеле у костра, на котором мать готовила завтрак. На закоптевшем крюке бурлил большой котел. Пламя весело потрескивало, красные бусины искр, разбиваясь о толстое дно, разлетались в разные стороны. Аннеле так и подмывало схватить эти бусинки. Но только она потянется, мать тут же осадит: — Берегись, горячо!
Но ведь если все время слушаться, как узнаешь, что такое горячо? Дотронусь, и все!
И дотрагивается.
Ой, как больно, как горячо, до самых косточек, до самых жилочек! Теперь-то Аннеле знает, что такое горячо! И знает еще: сама виновата, и плакать нельзя, а что делать? Втягивает голос внутрь что есть силы. А внутри куда деть? Голос застревает в горле, а когда вырывается, то с таким шумом, что у матери уши глохнут и поварешка из рук вываливается.
Пальчик выпрямился, торчит, словно зайчик на пеньке. Мать схватила, осмотрела — ни крови нет, ни ранки. Этакий пустяк и плакать! И за то, что понапрасну испугала и не слушалась, Аннеле достается хороший шлепок.
Мама побила! Это было еще больнее, чем обожженный пальчик. Но где болело, сказать она не могла. Глубоко-глубоко внутри. Аннеле прижала руки к груди и, жалобно плача, свернулась, словно береста на огне.
Ой, как горячо, как жжет, но где горячо, не знала!
А матери хоть бы что! Схватила посуду и вот-вот выбежит во двор.
Не тут-то было! Не пустит Аннеле, заставит признать, что обидел ее этот гадкий котел, и отругать его как следует. А ее приласкать, приголубить, ведь ей так больно…
И вот куда мать ни повернется — Аннеле тут как тут; одну руку оторвешь, она двумя вцепится и, поджав ноги, повиснет на материнской юбке, словно яблоко на ветке; шикнешь на нее, чтоб молчала, верещит, словно на вертело посадили; а когда мать — в одной руке ведро, а за другую Аннеле ухватилась — пытается выскочить во двор и обе застревают в дверях, Аннеле получает еще один шлепок и, схватившись за косяк, кое-как удерживается на ногах. А мать уходит, пригрозив вернуться с хворостиной.
Аннеле, вцепившись в косяк, поливает его обильными слезами. В дверях она всем мешает, но с места не двигается. Кто ни пройдет мимо, толкнет: «Ай-ай-ай! Как не стыдно! Большая девочка, а ревет, как телка».
Не стыдно? Стыдно, так стыдно, что и глаз не поднять. Но что поделаешь, если такая тяжесть от обиды и боли во всем теле, что не шевельнуться?
Подошла и старшая из девочек, что в Юрьев день встречала ее в блузке с пышными розовыми рукавами. А уж она такая насмешница! Только увидела Аннеле, тотчас завела:
— Гляньте, люди, гляньте:
Козлик убежал,
Рожки потерял!
Ищите, люди:
Где козлика рожки?
Вот они, вот: торчат,
Словно острые наросты!
И она дотрагивается до лба Аннеле.
Аннеле перепугалась до смерти и, затаив дыхание, коснулась лба больным пальцем.
А вдруг и вправду на лбу рога растут?!
Нет, гладкий; как был, так и остался гладким, три сколько хочешь.
А насмешница знай себе хохочет, заливается.
Аннеле поняла, что обманута, и глаза ее снова наполнились слезами.
Вот и эта большая девочка смеется над чужой бедой! Ах, все так плохо! Куда ни глянет, ничего не видит, только словно где-то в тумане мелькает мать, видно, хворостину ищет; если она придет с нею, всему конец. Только и остается, что бежать: далеко-далеко от таких людей.
Ноги несут Аннеле в неведомые края, где она никогда еще не бывала. За хлев, за сад, ну и что с того! Вот и рига позади. Волнуется под ветром молодая рожь, течет, словно зеленая река. Пусть себе течет. Аннеле не до нее — бежать надо.
Но вдруг, откуда ни возьмись, на пути — огромная-преогромная яма. Дальше и ступить некуда. Невольно остановишься.
А что там такое блестит, в самой-самой глубине? Надо посмотреть.
Аннеле ложится на живот и на подушке вязкой глины скользит вниз.
А тут что? А тут коричневая вода, посредине опрокинутая бочка, а на самом ее краю зеленая лягушка. Блестит на солнце и квакает:
— Доброе утро, Аннеле!
Но Аннеле молчит, думает, знакома ли она с лягушкой.
Ей кажется, что знакома. Она опускается на колени на свою глиняную подушку и жалобно тянет:
— Пальчик болит.
— Зеленая трава, зеленая трава, — выпускает лягушка через одну надутую ноздрю.
Аннеле поворачивает голову. Где?
И правда. Самый край ямы оторочен мягкой, бархатистой травой. Вот бы потрогать, но Аннеле еще раз горько вздыхает:
— Очень болит.
— Белые березы, белые березы, — выпускает лягушка через другую ноздрю.
Аннеле запрокидывает голову.
Да, вот она стоит, большая береза, единственной ногой чуть ли не в яме, а за ней еще много таких, не сосчитать.
А первая береза поднялась в самое поднебесье, так что и вершины не видно, сколько ни смотри. Как же так, надо пойти поискать, где она кончается.
Но край ямы наверх не пускает. Куда ногу ни поставь, всюду глиняные подушки, и, весело кувыркаясь, скользят они вниз вместе с Аннеле.
— Никак, — жалуется Аннеле лягушке.
— Зеленая трава, зеленая трава, — поучает лягушка.
Да, если за зеленую траву держаться, то получается, тогда совсем иное дело.
Трава-мурава протягивает пучок то одной руке, то другой, а то обеим сразу, чтобы было за что ухватиться, и вот Аннеле уже наверху.
— Береза, береза, где твоя верхушка? — высматривает Аннеле, бегая вокруг дерева. А верхушки нет как нет.
— Какая ты большая, больше, чем рига в Калтынях, — удивляется Аннеле.
— Что мне калтыньская рига! За пазухой спрячется! — выхваляется береза.
— Теплая, теплая у тебя одежка.
Аннеле прижимается щекой к белой бересте. Теплая. Ласкает, гладит, целует ее.
Кружево свисающих ветвей касается щеки Аннеле, словно легкая, душистая волна.
— Какие длинные-длинные волосы, — дивится Аннеле, сравнивая толстую косу ветвей со своими белыми завитушками, торчащими из-под желтого платка, словно мышиные хвостики.
— А у меня не такие длинные.
— Вырастут, вырастут! — успокаивает береза.
— Где же твой голос? — ищет Аннеле, запрокидывая голову.
— Ищи, ищи!
Где же ему быть, как не в тех зеленых кудрях, не в той синей-синей выси. Там примостился он, на самом верху, сидит и крыльями машет.

— У-у! — смело выкликает Аннеле и снова припадает к березе, пытаясь обнять ее своими маленькими ручонками.
Не получается.
— Толстая-толстая.
— Все толстые, все добрые, — раздается певучий голос на самой вершине.
Да, все добрые. Вон они стоят. Много их. Пересчитает-ка их Аннеле: раз, два, пять; раз, два, пять!
Одни сочтешь, другие появляются, эти сочтешь, новые тут как тут. Раз, два, пять; раз, два, пять!
Аннеле идет, не торопится, Аннеле бегом бегает: эта белая, эта белая. Все, как одна, одна, как все: раз, два, пять!
Вот уж много сосчитано их, и тогда березы начинают прятаться. Одна спрячется, вторая; но тут появляется целая вереница других, низких, приземистых, до самых пят укрытых толстыми зелеными зипунами. Стоят плотно-плотно. Нигде не проберешься.
Аннеле оробела, а остановиться не может. Но как подошла к этим раскорякам, так земля под ногами закачалась; сделала еще шаг — нога утонула, словно в подушке. Постола наполнилась водой, как корытце, ой! Ледяной холод пронизал до костей.
Аннеле приставила вторую ногу — и та промокла. Теперь два корытца. Пузырясь, коричневая струйка поднимается над шнуром, достает до косточек. Все выше и выше.
Ой! Что это? Не шевельнуться. Словно она замурована. Нехорошо это. Недобрые раскоряки. «Чмок, чмок», — раздается в чаще.
Ой! Аннеле оглянулась. Все березы остались позади. А что они могут сделать? Ведь и они замурованы. Но они добрые.
— Березы, березы, подсобите!
— Раскинь руки, вытаскивай ноги!
Да, на это у Аннеле сноровки достанет.
Она вскидывает руки, наклоняется назад, находит равновесие, вытаскивает одну ногу, вторую, снова вязнет; потом быстро, быстро, быстро перебирает ногами, не давая наполниться водой постолам, и, когда ноги ступают на твердую землю, бежит что есть мочи туда, где белеют березы, бежит подгоняемая страхом, все дальше и дальше, туда, где призывно золотится поле.
И вот уже Аннеле на солнце. Тут луг, а вдоль кромки леса вьется дорога, по которой она приехала сюда в Юрьев день. Тогда луг был черным, а сейчас зеленый-зеленый и весь усыпан золотыми звездочками. Иные уже погасли. И вместо них появились ощетинившиеся пуговки одуванчиков. Коснется ветер головок, щетинки отрываются и улетают, летят в дальнюю даль.
Что ветер умеет, умеет и Аннеле. Она надувает щеки и с такой силой дует на пуговки, что сразу целый ворох щетинок испуганно взлетает и бросается врассыпную, как полова. А Аннеле знай себе дует во все стороны да гоняется за ними по лугу, пока все щетинки не попрятались кто куда, так что и гонять стало некого.
Ну, а когда дело сделано на совесть, можно и отдохнуть. Да и прошла она чуть не полсвета.
Трава густая-густая, полевица высокая, на прямых стеблях качаются вокруг красные и зеленые пупырышки. А что там внутри?
Пупырышки твердые. Ой, какие твердые. Аннеле давит изо всех сил, пока они не лопаются.
Аннеле! Аннеле!
Острая, пронзительная боль ударяет по пальцам: лопнул волдырь на месте ожога! Вот тебе за непослушание!
— Ой, как больно, пальчику больно! — Аннеле раскачивается от боли и озирается по сторонам.
Нет никого. Ничего нет.
Аннеле испуганно смотрит.
Ой, что же это?
Где изба? Ой, где изба?
Густая трава, полевица высокая, прямые стебельки с нераспустившимися цветами. Ни одной избы нет. Исчезли, словно и не было их на свете.
— Сюда-а, сюда-а! — зовет Аннеле и ждет, и не знает, кто придет. Стеснилось сердце от страха, тучей подбирается он к горлу, и вот уже разразилась туча потоками слез.
С плачем вскочила девочка и побежала искать дом, бежит, бежит, а лугу конца-края не видно. И такая она маленькая, что не разглядеть ей, где луг кончается; а там, за пологим холмом, за молодым ржаным полем виднеется крыша калтыньской риги.
Посреди луга алеет островок ярко-красных гвоздик. Только Аннеле на него ступила, как цветы стали цепляться за ноги липкими стебельками, и вот Аннеле уже растянулась на земле. Встревоженный шумом зеленый кузнечик прыгнул ей на колени и смотрит — удивляется.
У Аннеле разом высохли слезы и страха как не бывало. Кузнечик! Это же старый друг и знакомый.
— Си, си, си! Синее небо, синее небо! — поднимая то одну, то другую ножку, стрекочет кузнечик.
Аннеле перестала всхлипывать, словно гроза миновала.
Синее, синее небо. Славно.
Кузнечик то одну ножку поднимает, то другую и смотрит.
— Си, си, си! Солнце, солнце, солнце!
И в один прыжок скок Аннеле на лоб и — в траву.
На солнце жарко, точно в бане. От ног пар идет, постолы коробятся. С превеликим трудом, после долгих, настойчивых усилий, цепляя ногу за ногу, Аннеле удается стащить постолы, но как развязать намокшие шнурки? Ладно! Так тоже хорошо.
Было бы и совсем хорошо — лежать мягко, как на подушке, руки, ноги белые-белые, так и светятся, но где-то не так, как надо, где-то темно.
Пальчику темно.
Нет, не только пальчику, где-то в груди скребется маленькое-маленькое пятнышко, солнце обходит его стороной, и стучит оно молоточком, словно зовет: тук, тук! Но что это, Аннеле не знает. Долго-долго смотрит она в небо и думает. Голова наливается тяжестью.
— Баю-баюшки-баю, — шепчет ветер в траве.
— Си, си, си! Солнце, солнце, солнце! — трава и цветы, бутончики на тонких стебельках слили свои голоса в тысячеголосый хор и гладят, гладят Аннеле по щекам.
— Баю-бай! — хохотнул ветер и исчез, словно в воду канул.
Да, ветер-то улетел, но кто это идет?
Вот показалась голова огромной женщины: похоже, бабушки, но и не бабушки: одной рукой она прикрывает солнце, в другой тянет длинный-длинный платок и наступает прямо на Аннеле, прямо на глаза. «Дай мне палец!» — говорит женщина. Аннеле ничего другого не остается. Но только та взяла палец, хватает и саму Аннеле, концом большого платка завязывает ей глаза, и вот уже несутся они, как ветер. Чувствует Аннеле: не держат ее больше, вот-вот отпустят, а когда станет падать, пролетит сквозь землю, и упасть будет не на что. Вот беда-то какая! В горле у Аннеле кто-то кричит, кричит, но вырваться не может. А раз так, будь что будет — Аннеле собралась с духом и открыла глаза!
Открывает глаза и что же видит? Ни женщины, никого, только кто-то бежит по полю, кто-то зовет:
— Аннеле, Аннеле!
Да ведь это мама, ее дорогая, любимая матушка! Ну куда же вы все запропастились?
А нет ли в руках у матушки хворостины? Наверняка-то не знаешь, надежнее заслон выставить.
— Пальчик болит! — уже издали жалуется Аннеле матери.
Мать летит к ней, словно на крыльях.
— Не будет больно, не будет! Завяжу, утешу, приласкаю мою голубушку, дорогую мою, ненаглядную…
И мать поднимает Аннеле и несет ее на руках, целует и милует, все целует и милует, забыв и про хворостину, и про непослушного ребенка, и про мокрые постолы, про все, про все на свете.
А солнце ищет и не может больше найти в Аннеле ни одного темного пятнышка.
ОБРАЗЫ
Никому и невдомек, что Аннеле умеет читать. Увидит книгу или старую газету, выброшенную бутылочную наклейку или пожелтевший клочок бумаги, наклеенный на волоковое окошко, сложит букву с буквой, скажет вслух и слово выходит. Вот чудеса! И что ни слово, то образ. И диво-дивное — видишь то, чего и нет вовсе. Скажешь: з-и-м-а — зима, и тотчас увидишь белые поля, сады, укутанные сугробами, и ребятишек на санках, ну точь-в-точь, как в Каменах, а когда прочитаешь: ц-в-е-т-ы — цветы, то сразу запестреет чудесный калтыньский луг, желто-красный от лютиков и кислицы; скажешь: с-о-л-н-ц-е — солнце, и вот оно, ослепительно белое, стоит над липой, что растет у колодца, и горит красный угол в избе. Назовешь еще слово — новое диво. Вот в какую расчудесную игру умеет играть Аннеле! Никогда не наскучит.
Но случается Аннеле и горевать. Назовешь слово, а оно молчит, как его ни верти, как ни крути. Спросишь у матери, если та не занята, — ответит, а уж если некогда ей, бросит на ходу: «Этого тебе знать не положено. Много будешь знать, скоро состаришься».
Ну и пусть состарится! Подумаешь, беда! А что такое — состаришься? И когда это еще она состарится! Разве что через тысячу-тысячу лет, когда все слова будет знать и все на свете уметь.
Но сколько же можно жить в неизвестности — налилась она неведением, точно спелый колосок. Раз мать не говорит, пойдет к старшей сестрице — та сидит возле клети, чинит мешки и свистит, как батрак.
Подходит Аннеле к ней поближе, садится на корточки, подпирает ладошками подбородок и долго смотрит, как большая, блестящая игла снует взад-вперед.
«Сказать или не сказать?» — гадает Аннеле. Не очень-то она ей доверяет. И доверилась бы, да подчас сестрица так озорничает, что Аннеле никак в толк не возьмет, почему взрослые не бранят ее, — ведь бранят же Аннеле, когда она не слушается. Потому и не может сразу решиться.
Но вот слово выпорхнуло, что птица — и не поймаешь.
— Что это — вос-па-ри?
Штопальная игла замирает, свист обрывается, серо-голубые глаза вспыхивают.
— Воспари? Что это такое?
— Да.
— Хочешь знать?
— Д-да.
— Прыгать умеешь?
— Д-да.
— Ну так попрыгай. И воспаришь.
Аннеле подумала, отрицательно помотала головой.
— Не так.
— Что не так?
— Там еще слова: о-ду-ша!
— Душа! — Старшая так и покатилась со смеху. — Ах ты, кузнечик, где ты слова такие взяла?
— Ду-ша. Что это за слово? Скажи!
— Ах, сказать, чучело ты этакое! Сперва ты скажи, откуда знаешь такое слово?
— Из книги.
— Из какой книги?
— Из большой.
— Большой?! А как ты его узнала?
— Так я же видела.
— Показывай книгу! — приказывает старшая.
Аннеле поспешно бросается в батрацкую. На поставце, где книга всегда лежала, ее нет. Она перебралась на полку, что висит над родительской кроватью. Ничего не остается, как построить лестницу и лезть за ней. Сначала стул, на него скамеечку, а потом на кровать. Но кровать предательски мягкая, словно весенний рыхлый снег, и лишь свернув комом белоснежные подушки и уложив их друг на друга, Аннеле ощущает под ногами опору. До острого угла книги, который торчит над кроватью, дотянуться можно, а саму книгу не достать. Аннеле трудится в поте лица, тянется вверх, цепляет ее кончиками пальцев, пыхтит, подманивает, горит от нетерпения, и успех приходит, внезапный, как лавина: книга летит мимо ее носа, в белоснежные подушки, а потом вместе с подушками и испуганной Аннеле — на глинобитный пол. Но обе остаются целы и невредимы. Схватив книгу, Аннеле молниеносно выскакивает на двор. Сама, без чьей-либо помощи, находит нужное место и, водя пальцем по буквенным бороздкам, читает: «Вос-па-ри, о душа воз-люб-лен-ная».
С громким смехом старшая девочка вырывает у Аннеле книгу и, размахивая ею, кричит во все горло: «Эй, люди добрые! Сюда, сюда! Это чудо-юдо читать умеет!»
Сердце у Аннеле замерло. Только бы обошлось!
Но нет. Не к добру оказался этот крик.
Перепугались все: и мать, и старая Амалия, которая и это время рвала в огороде ботву.
— Что там еще с этой девочкой? — строго спрашивает Амалия, выпрямляясь во весь рост.
— Она читать умеет! Идите послушайте!
— Ты что смеешься, оглашенная? Грешно над словом божьим смеяться! — Старая Амалия оставляет работу, выходит из огорода, выхватывает у насмешницы книгу, осматривает ее со всех сторон — побывала та в грешных руках или нет?
Так и есть, побывала. Амалия, бабушка старшей батрачки Блиценихи, всего на своем веку насмотрелась, но не доводилось ей видеть, чтобы такое дитя малое, как Аннеле, всюду нос свой совало да над божественной книгой насмехалось, над книгой, от которой веет таким благочестием, что трепещет перед ней даже старая, поросшая мохом Амалия, куда уж там птахе вроде Аннеле.
— Боже милосердный! Кого растят! — И, положив книгу на валуны, подпирающие клеть, она оборачивается к матери и грозит ей пальцем.
Мать тоже выходит из сада — ведь Аннеле ее дочка. И начинает оправдываться. И читать не заставляла, и книгу не давала.
— Кто ж ее учит! Как найдет что печатное, так и бормочет про себя. Разве ж грех это?
— Так вот оно как! Не грех! Помутится в голове, такой тебе «не грех» будет! Мало, что ли, развелось богохульников! Сама-то от горшка два вершка, а уж печатное знает. Дай волю, она и по-писаному выучится. Попомни меня, хлебнешь еще с ней горя!
И, углядев, что Аннеле опять взяла книгу, Амалия говорит, как приказывает: «Книгу отобрать! Немедля! И спрятать!»
Аннеле вцепилась в книгу — не оторвать.
— Моя это, моя!
— Так-то вот! Я ли не говорила! Ужо глянете, что вырастет! Драть надо! — причитает Амалия, возвращается и снова сердито принимается рвать ботву. Ей что, пусть себе растет грешницей. Больно надо из-за чужого ребенка убиваться! Но от божьего суда все одно не уйти!
Перечить Амалии мать не может: гнев ее — святой гнев, во имя божье. Если провинилась Аннеле, наказать надо, яснее ясного. Но вот виновата ли Аннеле в том, что читать умеет, или нет, этого мать не поймет.
Посмотрит, что скажет Аннеле, все и прояснится.
— Кто тебе разрешил взять книгу?
Не может Аннеле на такой вопрос ответить.
— Как осмелилась ты взять книгу?
До чего же странные вопросы задают иногда взрослые! Ну как на него ответишь?
Аннеле гордая, прощения не просит. Не плачет. Стоит и молчит словно воды в рот набрала.
— И чего ты, мать, ждешь от такого дитя? — кричит Амалия из огорода, словно с амвона.
Аннеле получает тычок, и ее ведут в комнату.
Вот где вся правда раскрывается! На полу, в пыли, лежат белые подушки и одеяло — неопровержимое доказательство вины.
Второй тычок загоняет ее в угол. Ну и что из того, что краем глаза она видит, куда мать прячет книгу? Не нужна она ей больше! Пусть лежит себе хоть сто лет! И дела ей нет до нее! Для чего заговорила с сестрицей? Зачем спрашивала? Ну почему всегда так кончаются все ее самые горячие желания?
Ну нет, больше Аннеле спрашивать не будет, никогда, ни у кого. Сама будет думать.
Будет думать, пока не придумает.
Тут же в углу и начнет думать, долго думать.
Как же получилось с этой книгой? Пригрозили выпороть за то, что читать умеет, а минувшей зимой Кристапа пороли за то, что не умел читать. Сколько ни бился, все никак и никак.

Стоило Аннеле вспомнить о Кристапе, как комок в горле растаял и захотелось смеяться. Чудной этот Кристап. Только примостится Гедениха за прялкой и откроет книжку с вложенной в нее указкой, как Кристап тут же и спрячется. Куда подевался? И вот она бегает да у всех спрашивает. Но никто не знает. Кристап находил такие местечки, куда и мыши не юркнуть. Но Гедениха его все же отыскивала и с бранью загоняла в избу, охаживая по спине хворостиной. Кристап входил на длинных, негнущихся ногах, вздернув плечи так, что из-под куртки выглядывал край портов, садился, долго вертелся да чесался, пока Гедениха не умостится поудобнее и не поставит прялку на нужное место. Мать силком вкладывала ему в руку указку и книгу — сам он не шевелился, потом ждал, пока мать окликнет, и только тогда начинал протяжно, тягуче читать, тыкая указкой в каждое слово: «Я-а-я е-се-ме-я есмь-ге-о-го-се-гос-пе-о-госпо-де-дь».
— Господь, господь, — толкнет его Гедениха в бок.
— Господь, господь, — подражая матери, произносит Кристап.
— Ах ты, шельмец, обманывать меня вздумал! Там что, два раза «господь»? Там один раз. Скажи — господь!
— Скажи господь, — плача, повторял Кристап.
— Вот тебе: скажи господь, — Кристапу снова достается тычок. — Ах ты, неслух, имя божье вздумал осквернять? — И громким, срывающимся от гнева голосом Гедениха кричит прямо в лицо Кристапу: — Я есмь господь. Повторяй.
— Я есмь господь, — сквозь рыдания выдыхает Кристап, и крупные слезы капают с кончика его носа.
И так они сражались каждый день.
Кристап плавал по катехизису, пока тот не размокал, словно пареный веник. Тогда Гедениха со злостью вырывала книгу, и нос Кристапа тотчас высыхал. А пока мать заменяет катехизис книгой песнопений, Кристап зыркает вокруг и на Аннеле; потом вдруг сгорбится, растянет большими пальцами рот до ушей, остальные растопырит и скорчит самую что ни на есть препротивную рожу. Но так просто Аннеле уже не испугать, не маленькая, она только смеялась и подходила к Кристапу все ближе и ближе, чего никогда не осмеливалась делать во время чтения катехизиса. Книга песнопений ей нравилась, а катехизис нет. Кристап уже прочел ее и теперь только повторял наизусть. Для Аннеле эта книга тоже была что дом родной — ведь с тех пор как выпал снег Кристап читал ее вслух изо дня в день.
Все песни, которые повторял Кристап, запомнились и Аннеле. И когда чтец спотыкался на трудном слове, Аннеле, которая оказывалась поблизости, подсказывала; это ускользало от внимания Геденихи, дремавшей под монотонное жужжанье прялки. На добро Кристап отвечал добром. Когда ему удавалось заполучить книгу в неурочное время, он становился умником и хвастунишкой и раскрывал Аннеле все книжкины тайны: рассказывал про строгих «га» и «ка», про высокомерное «ха», безропотный, безликий мягкий знак, сердитые «ща» и «ча» и про всех их братьев и сестер. Тут Кристапу было раздолье, не то что с матерью. А когда Аннеле узнала каждую букву порознь, что ей стоило сложить их и прочесть!
И вот после того как Аннеле, не выходя из своего угла, побывала в Каменах, перепела все песни и села было в санки — прокатиться вместе с другими ребятишками по каменскому лугу, в избу вошла мать. «Будешь слушаться, можешь выйти», — сказала. «Непременно буду», — тут же пообещала она. Лишь бы не стоять больше на месте, лишь бы умчаться, как ветер. Но мать берет ее за руку, и обе направляются в клеть.
— Мама, мама, ты ларь откроешь, платки покажешь?! — Аннеле бежит вприпрыжку, скачет то на одной, то на другой ножке.
Мать и вправду подходит к зеленому, расписанному красными петухами сундуку. Когда тяжелая крышка откидывается, Аннеле хлопает в ладоши — не надо больше становиться на цыпочки и вытягивать шею, она и так может заглянуть в его самые потаенные местечки.
— Мам, сундук маленький какой стал! — удивляется она.
— Нет, это ты выросла, — отвечает мать.
— Выросла? — переспрашивает Аннеле и кладет руку на макушку. — Как это — выросла?
И она думает об этом долго, так долго, что мать успевает вытряхнуть все шелковые вещи и вот-вот захлопнет крышку. Вместе с крышкой взлетают вверх чудные дяденьки и тетеньки, столпившиеся на ее внутренней стороне.
— Мам, кто это? На каком хуторе они живут?
— Ни с какого они не с хутора. Это дамы и господа.
— Дамы и господа! — восторженно восклицает Аннеле, вцепившись обеими руками в крышку и не давая ей закрыться. Мать разрешает посмотреть.
Так вот они какие, дамы и господа! Один в длинных, выше колен чулках, туфлях с золотыми пряжками, в коротких штанах, вздувшихся пузырями, на плечах короткая зеленая накидка, шляпа с длинным белым пером. На одном боку сабля, на другом — кинжал. Усы лихо накручены, одной рукой в бок упирается, другой за саблю держится и смотрит прямо на Аннеле: «Ну, каков я?» «Дон-Жуан», — читает Аннеле. Второй и одет по-другому, и осанка у него другая, стоит в отдалении. Держит в огромных ручищах свиток и что-то показывает. «Ле-по-рел-ло», — читает Аннеле. А за ними дамы, в таких пышных одеждах, такие нарядные, что в глазах рябит. Донна Анна сложила руки, словно молится, Донна Эль-ви-ра схватилась руками за грудь. И много-много их, таких чудных, таких удивительных, но матери надоело, и вся недолга. И пока Аннеле просит, торгуется, мать захлопывает крышку, донжуаны и донны падают обратно в зеленый сундук, словно в могилу.
Но не тут-то было. Кто теперь похоронит их, раз они уже выходили из сундука! Куда ни пойдет Аннеле, они за ней следом. Отправится в свой роскошный Шишковый замок на опушке леса, где у нее чего только нет — и сад, и амбары, избы, огромные стада, — они тут как тут. «Откуда вы?» — смело спрашивает Аннеле. «Мы из господского дома», — отвечают тоненькими голосками. И ни капельки не важничают. Дамы и господа делают все, что ни прикажет Аннеле. Донна Анна и донна Эльвира поднимают свои шелковые юбки и идут доить коров, Лепорелло сажает снопы в овин, Дон-Жуан скачет в ночное. Вон мелькнуло его белое перо у ив, что возле бани! А уж как затеет Аннеле пир, есть на что посмотреть! В Шишковый замок съезжаются не только гости из зеленого сундука, но и родня отца и матери, и родня родни. Детей что муравьев в муравейнике, дам и господ тьма-тьмущая, в Шишковом замке всех не разместить, вот и приходится их выбрасывать в окна. Но они зла не держат. Там бескрайний луг, где все бутончики цветов — принцы, а полевица и цветы — прекрасные принцессы, там можно наиграться вволю, натешиться, какого бы роду-племени ни был каждый господин, и как бы ни была важна любая дама.
Так проходит лето, а когда подступит зима с ее морозами и метелями, спрячется Аннеле в самом укромном уголке избы, и всего у нее вдоволь — раскинет она золотую ткань своей фантазии и окутывает ею весь мир.
Но настает однажды темное утро, просыпается Аннеле, хочет открыть глаза и не может — залепил их кто-то воском, накинул путы на руки, на ноги. Напрягается она, открывает глаза и видит: во всех углах притаилась черная тьма, и лезут из нее Дон-Жуан со своим длинным пером, Лепорелло, донна Эльвира и кто-то еще, целая толпа, так что в глазах рябит, проскальзывают друг через друга, словно тени облаков, вытягиваются в тонкие нити, а лица их надуваются, как шары, и вот уже страшные чудища наступают на нее, давят на глаза, на самые веки, как колоды наваливаются на грудь, жарко дыша, так что теснит дыхание. «Мама, мама!» — только успевает вскрикнуть Аннеле, и непонятно откуда доносится до нее голос матери, которая из тумана протягивает к ней руки, и больше не помнит она ничего.
Долго еще одолевают Аннеле образы, черными и длинными лабиринтами хотят заманить в свое царство теней, и лишь после долгих недель блужданий память по тонкой шелковой нити выводит ее обратно на свет.
И снова поют скворцы, снова Юрьев день, и батраки собираются в путь — начинать новую жизнь.
БЕРЕЗОВЫЕ ГОРЫ
С таким же восторгом и беспокойством, с таким же предвкушением тайной радости, как и год назад, спозаранку качалась Аннеле в беспокойных волнах этого дня, словно камышинка в стремительном потоке. Повозка стоит посреди двора. Грузят пожитки. Коровы мычат, овцы блеют, ветер завывает и треплет Калтыни. Стоят они у самой северной оконечности леса. Но как ни треплет, с места сдвинуть не может. Так и оставаться им тут на веки вечные, так и покинут их тут, а вот Аннеле улетит, словно певчий дрозд: то на груше свистел-заливался, глянь, уж вспорхнул и — в лесу.
Скорее бы уж, скорее! Но утро нынче так тянется, столько всякого случилось, что и на неделю хватило бы! Сколько раз доставалось Аннеле, что вертится у взрослых под ногами, сколько раз она плакала и снова радовалась, сколько раз ее бранили и снова голубили, пока не настал, наконец, тот самый миг, когда скарб уложен и отъезжающие, утирая слезы, прощаются с теми, кто остается. Аннеле не плачет. «Не жалко расставаться?» — спрашивают ее. Она мотает головой. Она не знает, что значит расставаться.
Ножками в небо смотрит стол, привязанный на самом верху отцовского воза. Это место дня Аннеле. И сидит она там, как в носилках с пологом из небесно-голубого шелка, разукрашенного белыми розами облаков. Липкие, распускающиеся ветки гладят ее щеки, как и год назад, и кукует кукушка: «Ку-ку! Ку-да?»
— В другие места, в другие места!
— Ку-ку! Ку-да? В какие места?
— Солнцу навстречу, солнцу навстречу!
Лес, в котором ветер пел свою песню, остался позади. Едет Аннеле и тоже поет бесконечную песню. Едет и едет. Вдруг воз начинает раскачиваться — вот-вот опрокинется. Ей становится страшно. Где она тогда окажется? Снизу выныривает голова отца.
— Ну, ну, держись, дочка! С горы съезжаем. Тут я, рядом.
— Далеко еще ехать?
— Совсем уж приехали, скоро.
И снова под уклон, потом по залитой солнцем долине, снова в гору — и вот они, Авоты, прямиком во двор!
Посреди двора стоит маленькая сгорбленная старушка — встречает их. Это бабушка Аннеле, мать отца, которую иначе и не называют, как матушкой Авот. Первое, что она произносит: «Там, наверху, и есть твоя Аннеле?»
— Она и есть, — отвечает отец, снимая Аннеле с воза.
Бабушка берет Аннеле за руку и уж больше не отпускает.
— Пошли-ка в избу, может, что в моем поставце для тебя и найдется.
И так идут они с бабушкой, и вдруг, откуда ни возьмись, еще три такие же сыроежки, мал мала меньше. Это Лулите, Тинците, Юлците, дочки другого бабушкиного сына, живущие по соседству. Пришли посмотреть на Юрьев день в Авотах.
Бабушка достает из шкафчика белую штуковинку, похожую на меловую палочку, кладет на нее нож и, легко ударяя молотком, откалывает для каждой по кусочку. Оставшуюся палочку снова прячет в поставец. Юлците сразу засовывает свой кусочек в рот, грызет его, хрумкая и причмокивая. Аннеле стоит и не знает, что ей со своим делать и зажимает его в кулачке. Лулите шепчет: «С березовым соком ух как вкусно!»
Только бабушка отпускает девочек, Лулите тут же подбивать начинает: пошли да пошли к большой березе!
— К большой березе, — повторяет Тинците.
— Белезе, белезе! — лопочет Юлците.
Каждая из сестричек хочет взять Аннеле за руку, но у нее всего две руки. Лулите крепко держит одну, обе младшие сражаются за вторую, отталкивая друг дружку.
— Что дразнишь ребенка? — Лулите прогоняет Тинците, и младшая, одержав верх, гордо вышагивает рядом с Аннеле.
— То длазнис лебенка? — повторяет она, отталкивая Тинците.
— А где большая береза? — спрашивает Аннеле.
— На березовой горе, — отвечает Лулите и издали показывает: — Во-он она, большая береза.
— Бошая белеза, — Юлците протягивает розовый пальчик.
— Слышь, как течет, — настораживается Лулите. — У этой березы сок самый сладкий.
— Шладкий, шладкий, — шепелявит Юлците.
Идет Аннеле и диву дается — на такую высокую гору ей еще не приходилось взбираться. Авоты со всеми их крышами остаются у самых ног, а гора все выше и выше.
Из подсочины на большой березе так и журчит. Возле дерева прыгает босоногий мальчишка в холщовых портах, на голове не волосы, а настоящая пакля.
— Эй, сюда, сюда! Что покажу! — зовет мальчик. Когда девочки подходят, он зачерпывает полные пригоршни березового сока и швыряет им прямо в глаза.
Лулите топает ногой и сердито произносит: «Уходи отсюда, противный мальчишка!»
— Не уйду, вот и не уйду, — дразнится тот. — Хотите, я покажу этой чужой девчонке, где шишки растут?
— Где ж им расти? На сосне! — откликается любопытная Лулите.
— А вот и нет, — выпаливает мальчишка. — Вот где! — И изо всей силы щелкает Аннеле по самому кончику носа. — Ага! Что, больно, да? — с наслаждением, словно смакуя кусочек сахара, спрашивает он.
Больно до слез, но уж мальчишке Аннеле этого ни за что не покажет.
— Экая жалость, что не зима, а то бы я этой девчонке и Ригу показал, — тараща глаза, хвастливо произносит мальчишка.
— А где ж она, Рига? — Лулите и этого не знает.
— А-а! Делается вот как. Раскалить лезвие ножа на льду добела, а потом — раз! — к языку. Сразу Ригу и увидишь.
— Не слушай ты его, — притворяясь храброй и словно бы защищая Аннеле, поучает Лулите и тащит девочек ближе к дереву, предлагая по очереди попробовать вкусное питье и отбиваясь при этом от назойливого мальчишки, который так и норовит щелкнуть кого-нибудь по макушке, неожиданно крикнуть в ухо или вытворить что-нибудь еще. А когда и сама Лулите наклоняется к посудине, мальчишка подкрадывается сзади, ложится девочкам прямо под ноги, и стоит всем им разом повернуться, как валятся они в одну кучу. Кто-то испуганно вскрикивает, все бранятся, зато уж как злорадно веселится мальчишка!
И тут Лулите обрушивает на него поток таких бранных слов, что Аннеле даже опешила — откуда Лулите знает эти нехорошие слова? А что ни скажет Лулите, тотчас повторит Тинците, за ней лопочет Юлците. А мальчишка ничуть их не боится, то на одной ноге поскачет, то на другой и все дразнит и дразнит девочек.
Внезапно снизу донеслись ржание и лай. Мальчишку как ветром с горы сдуло.
— Ты не бойся, — утешает Лулите. — Он скоро уедет. За ним мать приедет, отдаст его в пастухи. А что еще с этаким озорником делать?
— Озолником делать! — откликается эхом Юлците.
Теперь, когда мальчишка убежал, можно спокойно оглядеться, поиграть на березовой горе. Вон там цветут перелески, чуть дальше желтеют баранчики, под прошлогодними листьями кое-где попадаются целые орехи, да из других посудин сок надо испробовать. Но вдруг откуда-то доносится протяжное: «У-у!» Лулите выпрямляется, прислушивается — откуда прилетело это «у-у!» на березовую гору?
— Это наша мать. Домой зовет. — Лулите смотрит в сторону соседнего хутора, двор которого отсюда виден как на ладони. Посреди двора стоит женщина, зовет, бранится: «Ну, дождешься ты у меня! А еще старшая! Куда детей увела! На Авотскую гору! Ну, достанется тебе, воротись только!»
— Мать зовет. Живо, живо!
— Мать зовет, живо.
— Зовет, зиво.
Схватившись за руки и даже не оглянувшись на Аннеле, они стали спускаться с горы. Вдруг, откуда ни возьмись, тот самый мальчишка как выскочит из кустов и давай кричать им вслед: «Горшок с ручками бежит, горшок с ручками!»
Только Аннеле вышла из-за клети, как навстречу ей выбежал огромный лохматый пес, напружинился и замер.
— Пусти, собаченька, пусти!
— Нет, нет, нет, — отвечает он, открывая свою огромную пасть.
Что же делать? Аннеле стоит как вкопанная, ни шагу ступить не может, и пес ни с места.
— Цитрон, Цитрон, не стыдно тебе? — окликает собаку какая-то девушка, сбрасывает ношу с плеча и бежит выручать Аннеле. — Ну кто ж на дитя лает? Не видишь, что своя? А ну, тихо! Дай лапу!
Пес умолкает.
— Погладь, не бойся! — говорит она Аннеле.

Осторожно дотрагивается девочка до головы лохматого пса. Цитрон прижимает уши и тыкается мордой в ее кулачок. А в кулачке что? Кусочек сахара, что дала бабушка. Самое что ни на есть для Цитрона лакомство.
— Ну вот вы и подружились. Цитрон не будет на тебя больше лаять.
Сглотнув сахар, Цитрон вылизал Аннелину руку и завилял хвостом.
А девушка уже подхватила свою ношу и умчалась. Она большая, щеки румяные, волосы пышные, золотистые. Красивая.
Вот и солнце садится. Идет Лизиня, зовет Аннеле. Пора спать укладываться. Она ей покажет куда.
На новом месте постлан мешок со свежей соломой, белая-белая простынка. Лизиня укладывает сестру, а сама спешит, торопится. Издалека доносится: «Ли-го! Ли-го!»
— Какие звонкие большие часы! Как долго поют!
— Это не часы, это девушки поют. Лето встречают. И мы пойдем. С наших гор далеко летит. Услышишь, когда станем с ними перекликаться.
— Возьми меня с собой, возьми!
— Нельзя! Мала еще. Заквакают лягушки, ты и оглохнешь. Только взрослые пойдут. И мать с нами. Ее голос далеко слышно. Будут и другие батрачки, и Лузе, и Карлина.
— Карлина — это та — с золотыми волосами?
— Она, она.
— Красивая.
— Лежи, лежи и слушай! Начнем вскорости!
И Лизиня убегает. Огорчилась было Аннеле, что ее не взяли, но печаль заслонили собой образы. И так много их. Вон Калтыни. Вон весенний лес. Синее небо. Белые облака. Бабушка. Лулите, Тинците, Юлците. Мальчишка в холщовых портах. Цитрон. Карлина. Березовая гора.
Неожиданно с березовой горы нахлынула волна звуков и смыла все эти картины. И вот уже унеслась далеко-далеко, переплетаясь с другими, нежными, долетающими издали. Не откатилась еще первая волна, как взметнулась другая — словно из бурлящего водоворота выплеснулась. Поле поет, изба поет, поет сердечко Аннеле. Ах, какие сладостные звуки! Слаще, чем самый сладкий березовый сок. Текут легко, нежно баюкают, вздымают высоко-высоко.
«Так вот они какие, Авоты!» — думает Аннеле.
МАЙСКОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Синее-синее воскресное майское утро. Отец с матерью собрались в Калтыни и берут с собой Аннеле. Аннеле от радости вприпрыжку скачет. В Калтыни! И хоть всего две недели прошло с тех пор как приехали они оттуда, кажется ей, будто Калтыни далеко-далеко и придется шагать за тридевять земель в тридесятое царство.
— Не носись ты так, утомишься, распаришься. Дорога не близкая, как бы после не пришлось отцу тебя на руках нести, — беспокоится мать, глядя, как Аннеле скачет по обочине — то кошачью лапку сорвет, то за баранчиком наклонится, то за шпорником.
Это она-то устанет? Ну нет! Пусть хоть сто верст прошагать придется, она их бегом пробежит! Только б дозволили, только б назад не звали все время. Разве устанешь, когда столько дел вокруг! Ведь не просто идти надо, а еще и все дела по дороге переделать.
А сколько цветов насобирала Аннеле! Сложила их до поры до времени в придорожной канаве: пусть дожидаются ее возвращения. Пойдет обратно, луг тут устроит. Место славное. А возле луга лес. Лес прямо сейчас поставить можно. И вот она уже в поте лица трудится возле молодой березки — ветки отломать пытается, кудрявые, тонкие.
Отец даже остановился, глядя, как она старается.
— Что ж ты делаешь, дочка? Столько цветов нарвала, а поникнут — выбрасываешь. А теперь и березке не даешь покоя. Сломаешь ты ее живо, только быстро ли она вырастет? И каково ей будет, безрукой, среди других стоять? Подумай, дочка, березка ведь тоже творение божье, как и ты. Живое создание. Ей, как и тебе, больно.
Аннеле пугается. Виновато и непонимающе смотрит на отца: березке больно? Цветку больно? Как мне?
— Ну да, — произносит отец серьезно. — Не ломай почем зря, не порть деревца. Пусть себе растут, пусть свету божьему радуются.
Долго идет Аннеле задумавшись. Позовет ли яркий цветок или пушистая зеленая ветка, она говорит себе: «Божье творение. Такое же дитя божье, как и ты. Больно. Не ломай. Больно».
А что ж тогда делать? Отец с мамой идут медленно. Идут, разговаривают. Аннеле убегает далеко вперед, возвращается, а они все говорят и говорят. О чем так долго разговаривать можно?
Но вот они сворачивают с дороги. Садятся на траву под высокой, раскидистой березой, что растет на солнечной поляне. Отец снимает картуз, у матери платок сполз на плечи. Так и сидят они, прислонившись к березе.
Аннеле тоже растягивается на траве. Смирная-смирная, тихая-тихая. Хорошо здесь. Как будто бы это Калтыни. Остаться бы тут на весь день!
«Почему отец с мамой теперь молчат?» — недоумевает она, приглядываясь к родителям. Мать пристально смотрит куда-то. Аннеле начинает смотреть туда же, и взгляд ее уносится высоко-высоко, далеко-далеко. В синее-синее небо.
Но вот он возвращается и снова ищет отца и мать. Ах, как любо ей смотреть на них. Каждому б таких отца с матушкой. И нисколечко они не такие, как третьего дня и намедни. Глаза у отца что небо синее, а у матушки щеки и рот — ах, какие? Аннеле думает и никак не может припомнить цветок, который был бы столь же пригож, как мама. Так и хочется ей смотреть на обоих. Как на цветы, на синее небо, березы. Но отчего? Никогда не было так, как сегодня. Думала-думала Аннеле и придумала. Оттого, что сегодня воскресенье. Лес, цветы, синее небо — воскресенье, отец с матерью — воскресенье. И руки их — воскресенье. Они не трудятся, лежат себе спокойно. И ноги никуда не спешат. И не говорят ни отец, ни матушка Аннеле: «Отойди, не путайся под ногами! Не до тебя!»
У мамы руки вместе сложены, и такие они спокойные, а глаза все так же смотрят ввысь, в самое-самое небо. Губы шевелятся. С кем-то она разговаривает. Не с отцом, не с Аннеле. С кем же? А вот и слова стали слышны. Колышутся они, словно на волнах спокойной реки, которую миновали они нынче утром:
— Господь-пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться:
он покоит меня на злачных пажитях
и водит меня к водам тихим.
Господь! Аннеле переворачивается ничком, упирается в землю локтями, и глаза ее снова устремляются ввысь — высоко-высоко, далеко-далеко в небо. Где же он там?
Мама сказала: господь — пастырь, пастух. Пастух? А ведь и вправду пастух, если подумать. Тулуп у него из барашков пены, весь в небесно-голубых складках. Сам он большой-пребольшой, сквозь лесную чащу пробиваются золотые острия его крыльев. Где ни скользнут, там луг раскинется, усыпанный цветами, засияют солнечные прогалины. А он все смотрит, все ищет. Кого отыскать старается? Ну, коли пастух он, значит высматривает овец своих.
Подкрепляет душу мою,
направляет меня на стези правды
ради имени своего.
Душа? Аннеле насторожилась. Что это: душа? Где она: душа? То самое незнакомое слово. «Воспари, о душа возлюбленная». Так написано в книге песнопений, что читала Аннеле в Калтынях. Смешно было сестрице, когда Аннеле спросила, что такое душа, но ответить она так и не ответила. Душа, душа! И у Аннеле есть душа! Сама она, знай себе, лежит на траве, а душа унеслась высоко-высоко в поднебесье. Сама она глаза закроет, а душа смотрит и смотрит, все видит. И все-то ей видеть надобно. Хлебом ее не накормишь, водой не напоишь. Ей все одно чего-нибудь да подавай. То солнца, то цветов, то птичьей трели, то быстрых крыльев. Нынче ей надо, чтоб было завтра, завтра — третьего дня, третьего дня — четвертого дня. А то вдруг опечалится, поникнет, и оживить ее нужно. И приходит главный пастырь и ее воскрешает. И тогда покой настает. Воскресенье. Синее небо — воскресенье, луга, лес, цветы, птицы, отец с матерью — все-все тогда воскресенье.
Если я пойду и долиною смертной тени,
Не убоюсь зла, потому что ты со мною;
Твой жезл и твой посох — они успокаивают меня.
Долина смертной тени! Нет-нет-нет, не туда! Не хочет Аннеле и слышать о ней, не хочет и видеть. Что ей за дело? Но увидеть придется. Так душа хочет. Вот и долину смертной тени ей подавай. Открывает душа глаза и смотрит. И следом летит. Отворяется земля, словно сундук без стенок и дна. И летит душа вниз, все глубже и глубже. Туда, где черные пещеры, каменистые гряды. Тьма ледяная. Утесы крутые. Ни зеленой травы, ни неба лазурного. Носится из конца в конец. Плутает, дорогу найти не может. Кто вызволит ее отсюда, из тьмы кромешной, из пучины бездонной?
Твой посох и твой жезл. Вдруг сверкнуло, словно молния. Золотой пастуший жезл опускается вниз. С горных высот в самую бездну долины смертной тени. И по нему, словно по золоченой лесенке, взлетает душа, и снова вокруг земля зеленая, небо лазоревое.
Ты приготовил предо мною трапезу
в виду врагов моих,
Умастил елеем голову мою,
Чаша моя преисполнена.
Прочь, прочь из долины смерти! Вот и снова земля как земля. Словно зеленая горница под голубым шатром неба. Белые столы стоят. Все рассаживаются. Отец, мать, сестра, брат, добрая старая бабушка и все-все домочадцы. В руке у каждого золотая чаша. Слуги господни в белых одеждах, подпоясанных золотыми поясами, обходят всех и наполняют чаши сладким-пресладким березовым соком. Ну и вкусный же он! Слаще, чем на Авотских горах, слаще, чем у самой большой березы.
Так благость и милость да сопровождают меня
Во все дни жизни моей, и я пребуду
В доме господнем многие дни.
А как же! Останется в доме господнем! Так вот же он, дом господень! Высокие зеленые деревья-великаны, раскидистые кусты, овеваемые прохладой солнечные просторы.
Аннеле прижимается щекой к земле. Она влажная, словно умылась сладкими слезами. И пахнет, как мед. Добрая, любимая земля!
— Пошли, дочка!
Мать встает, встряхивает платок и снова его повязывает.
— Ноги отдохнули? — спрашивает отец. — Пить не хочется?
Как же не хочется, еще как хочется! Испить бы березового сока из золотой чаши, вот была бы благодать. Но Аннеле знает — не течет больше березовый сок, дело к летнему празднику идет. А другого питья в лесу нет. Придется терпеть до самых Калтыней.
Отец берет ее за одну руку, мать за другую. На тенистой дороге в шелковой паутине застряли солнечные зайчики. Аннеле подтягивает ноги и, раскачиваясь на родительских руках, словно на качелях, перескакивает через яркие пятна; и весело, и радостно ей оттого, что родители дозволили так сделать. А все потому, что воскресенье. И потому, что в лесу кукует кукушка и цветут желтые лютики и первоцветы.
ЯНОВ ДЕНЬ
Торопятся батрачки управиться со всеми спешными работами. Летают, словно ветром их носит. Печь топят, круглые серые булки — караши — пекут, полы, столешницы, лавки скоблят, окна моют.
И у Аннеле, за что ни возьмется, все спорится, все в руках горит.
Но вот, вроде, и кончили. Карлина доделывает последние дела. Отряхнув ноги и взобравшись на лавку, девочка спрашивает у Карлины:
— Лиго да лиго! Что это за лиго?
— А ты по сю пору не знаешь? Глупая ж ты девочка! — смеется Карлина.
— Ну и что, что глупая! — строптиво произносит Аннеле.
— А ну-ка, слезай тогда с лавки! — гонит ее Карлина.
Но Аннеле и не думает уходить. Карлина встряхивает ее хорошенько. А та все равно ни с места. За что и получает сильный шлепок: не слушаться?! Ишь ты какая!
В избе пахнет свежеиспеченным хлебом.
В полдень каждый получает вкусный ароматный пирожок с мясом.
Лизиня и Карлина надели чистые кофточки, повязали праздничные платки. У каждой в руке корзинка с клубком ниток и ножик. Аннеле знает: пойдут они к излучинам Тервете за дубовыми венками. Но сегодня рассердила она Карлину, та ее с собой не возьмет.
Аннеле выбегает во двор, стоит, подпирая изгородь. Смотрит просяще, выжидательно. Неужто мимо пройдут, не заметят? Неужто не позовут ее? Карлина, та наверняка. Так и есть. Торопливо проходит мимо, даже глазом не повела. За ней Лизиня. Но у старой липы, что растет возле повети, она оглядывается.
— Ну что стоишь дожидаешься? Беги давай! Да поживей! Карлину нагоним!
Такое Аннеле дважды повторять не приходится. И обе как припустят! Вот-вот догонят Карлину. Ну что бы ей подождать их самую малость! А та и не собирается.
Возле леса только и оглянулась. И уж как рассердилась!
— Чего ты тащишь за собой эту мелюзгу? Раз так, я тебя дожидаться не стану.
И понеслась, только пыль столбом.
Аннеле даже остановилась, глаза слезами заволокло.
— Это я-то мелюзга? — произнесла она сквозь всхлипывания. — Я мелюзга?!
Ни шагу больше ступить не могла — ничего от слез не видно.
— Что ты, что ты, разве ж тебя Карлина назвала мелюзгой? Это она на галку, глянь, на сосне сидит.
— Галку не тащат, она сама летает.
— Ну, так она про жука, посмотри на дорогу, вот он с золотыми крылышками.
— И жук летает.
— Так давай и мы полетим. Покажем-ка этой Карлине, что и мы не лыком шиты, — весело произносит Лизиня.
И помчались они через лес и оказались на незнакомом поле. Карлины и след простыл. Ну и пусть себе бежит! Зашагали сами, выбирая путь покороче. Брели через густую рожь по узенькой меже. Голова Лизини, освещенная солнцем, плыла над колосьями, у Аннеле колосья над головой шумели, раскачивались.
Межа упиралась в самое клеверище. На нем паслись две косули. Увидев идущих, они подняли головы и застыли, выжидая: то ли бежать, то ли оставаться. Когда люди свернули в сторону, к обрывистому берегу Тервете, косули опустили головы и снова стали мирно щипать траву.
На высоком и крутом склоне среди чернолесья рядами возвышались дубы, затмевая своею красой остальные деревья. Таких красавцев Аннеле еще не видывала.
И хотя казалось, что дубы опустили свои ветви к самой земле, дотянуться до них было непросто — только ступишь, земля обрывается, из-под ног уходит. Попрыгает Лизиня с одной стороны, попрыгает с другой — все попусту. Вдруг она поскользнулась и, ойкнув от неожиданности, сорвалась вниз, прихватив с собой и Аннеле. И за кусты они цеплялись, и за траву, и за колючие стебли ежевики, но остановились только внизу, где, словно огромная столешница, раскинулся цветущий луг.
Блестящей, сверкающей лентой вилась внизу Тервете, зажатая с обеих сторон обрывистыми, поросшими кустарником склонами. А на самом верху начинался густой хвойный лес. Птицы щебетали в прибрежных зарослях, в лесу ворковала горлинка, но громче всех звучал жалостливый голосок какой-то незнакомой птахи.
— Болотный соловей, слышишь?! Жаль, что настоящий уже не поет. Вот бы послушала, подивилась!
Но Аннеле и так есть чему дивиться. Ну и деревья тут, а луг, а заводи! И птицы другие, и цветы не такие, как в Авотах. Ветреницы растут, тесно-тесно прижавшись друг к дружке, словно кинул кто на землю расцвеченный желтыми и синими узорами платок, ромашки похожи на огромные звезды, над головой Аннеле поднимаются диковинные цветы на усыпанных золотыми бубенчиками стеблях, которые Лизиня окрестила таким гордым слоном: королевина трава.
— В Авотах таких цветов нет.
— В Авотах ветры дуют, а тут, гляди, какая гора высится и от ветров цветы укрывает. Чего б им так пышно не цвести, раз гора укрывает, солнышко пригревает, Тервете водицей поит!
Тропинкой, вьющейся по пологому склону, девочки снова взобрались в гору. И оказались в молодой дубраве. Тут дотянуться до веток было легче, и взяли они сполна от их зеленого пышного наряда. Наломав дубовых веток, Лизиня примостилась на обрыве и принялась плести венки, Аннеле вскарабкалась еще выше и стала оглядывать окрестности. И горы-то тут другие, и берега, и долины, и опять горы, незнакомые хутора, рощи, леса. Из двух труб, утонувших во ржи, поднимаются высокие, ровные синие столбы дыма. А над полями дрожит и переливается зыбкое марево, пронизанное косыми лучами солнца.
— Чьи это трубы? — шепотом спросила Аннеле, словно боясь спугнуть напоенную солнцем тишину.
— Это Лаукмали. Близкая родня наша. В гости как-нибудь пойдем.
Долго стояла Аннеле, охваченная восторгом, убаюканная тишиной.
И вздрогнула от неожиданности, когда с бугра по ту сторону реки долетела первая песня:
Через год приходит Янис, лиго, лиго!
Как мы Яниса встречаем, лиго, лиго!
Молоком и пирогами, лиго, лиго!
И дубовыми венками, лиго, лиго! [1]Песни Лиго здесь и далее в переводе Ф. Скудры.
И тут же с другого пригорка, словно эхо, откликнулось:
Янов день, священный день, лиго, лиго!
На другие не похожий, лиго, лиго!
Сын небесный в Янов день, лиго, лиго!
Приветствует дочку солнца, лиго, лиго!
И вот уже зазвучало вблизи и вдали, на том берегу реки, на этом. Пастухи запели, славят Янов день!
— Ну, слушай! Праздник Лиго начинается! Пастухи первые запевают.
И тут кто-то громко-громко затянул, совсем рядом, совсем близко, в овраге:
Я весь год копила песни, лиго, лиго!
Праздник Яна поджидала, лиго, лиго!
Наступает праздник Яна, лиго, лиго!
Мои песни пригодятся, лиго, лиго!
— Слышь, как поет! Это Карлина! Больше некому. Никто так красиво не умеет, как она. Ее песня летит далеко, над полями, над пашнями. Ау-у! Карлина, ау-у!
Карлина отозвалась. Появилась совсем рядом.
— Думали, не слышу? Я тут неподалеку была, только и ухом не повела, притворилась, что не слышу. Хотела венки сплести побыстрее. Зато у меня и красивее! Глянь-ка! Есть у тебя такие?

Карлина тряхнула висевшими на руке венками. А потом вытащила один, что прятался в самой середке, надела на голову Аннеле.
— Получай за мелюзгу, — и от души рассмеялась.
Венок был из листьев земляники, пышный, с сочными красными ягодами.
Добрая была Карлина.
— Подожди чуток, вместе домой пойдем, — сказала Лизиня.
— И минуточки дожидаться не стану. Дел-то еще сколько: ворота украсить надобно, скотину встретить, работников накормить. Не дашь Ингусу в положенный час, землю перевернет. Да к вечеру костры приготовить надо.
Всколыхнулась рожь. Карлина шла межой, торопилась. И уже издали долетел ее голос:
Боже, все восполни в доме, лиго, лиго!
Где мы ели, где мы пили, лиго, лиго!
Как ты реки наполняешь, лиго, лиго!
И глубокие озера, лиго, лиго!
Но вот и Лизиня покончила с венками. Бабушке из одних дубовых листьев, отцу с красным и белым донником, матери с васильками, дяде Ансису с ромашками. Теперь можно и домой.
На другом берегу запылали сосны. В зеленовато-алом небе, над темной полосой леса, показался ярко-белый серп луны. Легкой молочной кисеей укутал туман одинокую иву, склонившуюся к воде.
— Лиго, лиго, лиго! — летит с холма на холм, звенит в воздухе, взметнется ввысь и затихнет вдали.
Рощи и леса замерли, стоят, затаив дыхание, слушают, как дивно, чарующе звучат человеческие голоса.
СЕЯТЕЛЬ
— Пойдем к отцу, Аннеле.
— А где он?
— За бугром. В поле, что у большака.
Аннеле рада-радехонька, готова за какие угодно горы идти, куда ни позовут.
За руку маму не взять, обе у нее заняты. Вцепилась в материну юбку и поднимается за ней по косогору.
Посередине гора прогнулась, точно корыто. А над ним небесный полог, отороченный лесом. Стебельки отцветших цветов, травинки, жнивье, кусты и деревья — все опутано легкими серебристыми нитями. А многие не нашли себе пристанища, парят в воздухе, липнут к одежде, к волосам. Трава в тени леса вся в жемчужных росинках.
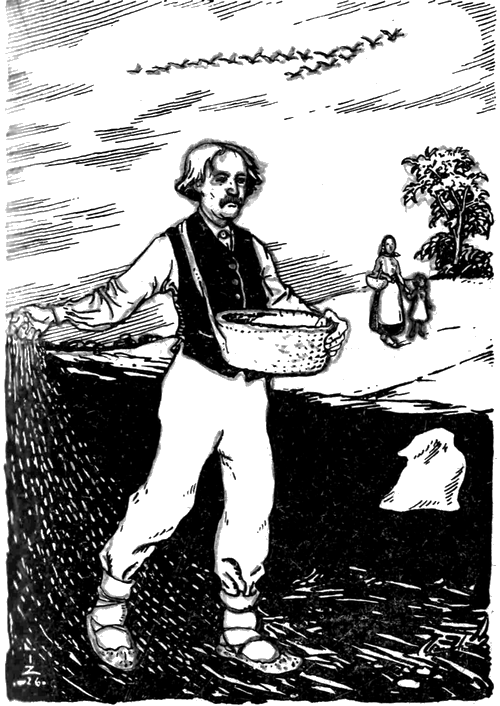
Послышался шелест, мелькнула чья-то тень. Словно бы прокричал кто-то: «Прощай, Аннеле!»
Запрокинула она голову и глядит ввысь. Черный треугольник растаял в далекой синеве.
— Кто это, мама?
— Перелетные птицы. От зимы улетают.
— Куда улетают?
— В теплые края.
— В теплые края? А в какие теплые? Как в Янов день?
— Должно быть. Ни снега там не бывает, ни холода.
— Ни снега, ни холода! Там что, всегда цветут ветреницы и баранчики, кукует кукушка?
— Не знаю, я там не бывала. А кто бывал, те чудеса рассказывают.
— Чудеса рассказывают? А почему мы не уходим в теплые края?
— Потому что бедные мы. У кого денег нет, тому путь туда заказан.
— А у птиц есть деньги?
— Ну и сорока, все бы трещала!
— Ну да! А птицы отчего дорогу знают? У них что, деньги под крыльями?
Мать молчит.
— А что это деньги? Откуда они берутся? Мы разве нигде-нигде не можем добыть денег?
— Вот тараторка! Глянь-ка лучше, где отец!
— Где отец?
Они уже за бугром. По другую его сторону тянется ровное-ровное, залитое солнцем поле. Черное еще, только-только прошлись по нему с бороной. Кто-то в белой рубахе и белых штанах вышагивает по полю.
— Вон тот дяденька, что ли?
— Ты что ж, отца не признала?
— А почему он такой маленький? Как я.
— Потому что мы на горе, а, отец под горой. Сверху все меньше кажется. А кто на горе стоит, больше становится.
— А почему?
— Почему, почему! Все-то тебе расскажи!
Аннеле долго стоит, понять старается. Как отец странно шагает! Ноги высоко поднимает, словно кто за ниточку дергает. Поднимет одну ногу, а рука в большое, висящее на шее лукошко тянется, поднимет другую ногу — рука, словно молния, вылетает, а за ней — серое облачко. Облачко тотчас на землю опускается. И ни разу не собьется с шага, ни разу рука не задержится. И так без конца, никак не остановится. Что он там кидает? Может быть, это птички летают, величиной с пылинку? И-раз! — хватает из лукошка. И-два! — бросает на землю. «И-раз! И-два! И-раз! И-два!» — считает Аннеле. И кажется ей, что ее ноги тоже начинают подниматься, как отцовские. Дошел отец до конца поля, поворотился и легко зашагал по той же дороге обратно. И-раз! И-два! И-раз! И-два!
— Пошли, дочка! Что загляделась?
На меже, что огибает поле, мать расстилает белое полотенце, достает ложку, хлеб, миску с молочным супом. Но отец все не идет и не идет, все сеет. Но вот лукошко опустело, и только тогда он подходит, идет своей обычной походкой, улыбается.
— Ну что, пришли помощники? Сможешь меня заменить, малышка? Держи-ка лукошко!
И он вешает лукошко Аннеле на шею. Придерживая за перевязь, легко опускает его на плечи. И кажется девочке, что повесили на плечи жернова. До другого края лукошка старается дотянуться — никак!
— Ой-ей-ей, какое тяжелое!
— Да оно ж пустое. Это что! А вот когда отец наполнит его вровень с краями да носит целый день, пока все поля не засеет, вот тогда оно тяжелое.
Аннеле соглашается. Не помощница она отцу в этом деле, не смогла бы ходить пританцовывая рядом с ним, будь на плечах лукошко.
Отец утер лицо, обвел взглядом голубой небосвод и неторопливо принялся за еду. А вокруг парят, летают серебристые, сверкающие нити.
В воздухе снова раздается крик. И шелест белых крыльев.
Все трое запрокидывают головы. Долго глядят вслед. Пока колеблющийся неровный треугольник не исчезает за горизонтом.
— Перелетные птицы.
— Гуси дикие. Все утро летят и летят. Рано зима ляжет.
— Солнце греть перестанет? — спрашивает Аннеле.
— Перестанет.
— Кто б и нам дозволил поглядеть на теплые края! — печально произносит мать.
— Ничего. Возвратится и к нам тепло, словно перелетные птицы. По этой черной пашне летом с косами пойдем. Зашумят колосья, закачаются, словно лес. Мы их в снопы свяжем. Новый хлеб уродится. То-то будет на что поглядеть! Так ведь, дочка? — спрашивает отец, глядя только на Аннеле.
— Да, — отвечает Аннеле, и лицо ее озаряется улыбкой.
Пока отец здесь, в Авотах, на этом поле, тут и есть те самые теплые края.
— Почему отец танцует? — Аннеле заливисто смеется.
— Не танцует он, детка. Новый хлебушек сеет. Нельзя смеяться, святой это труд.
Аннеле замолкает.
— Святой труд! Это святой труд!
И вот они уже внизу, возле отца.
БАБУШКА
Говорила бабушка мало, да и долгие разговоры слушать не любила, особенно если касались они работы. Скажет, бывало: «Чем слова попусту тратить, взяли б и сделали», и пока батрачки спорят, кому за водой идти, подхватит ведра и засеменит вниз по склону. В гору подниматься ей было трудно, а через порог, да еще с ношей, — и того труднее. Но она только тяжко вздохнет: «Ах ты, сила моя, силушка, куда подевалася», — и больше ни словечка не вымолвит. Вот и все ее жалобы.
Не раз задумывалась Аннеле над тем, куда ж это бабушкина сила подевалась. И как часто с нею случалось, подумала вслух: «Сила, сила бабушкина, куда ты подевалась?» Услышала это старая Анюс и ответила:
— И то, куда подевалась сила-то бабушкина? Да тут она ее и растратила, горы в Авотах переворотила!
— Где переворотила?
— Да тут же, в Авотах, и ворочала.
— Большие горы? Больше, чем нынче?
— А что ж ты думаешь!
— А куда ж они подевались?
— Эвон одна гора-то и идет, — Анюс махнула клюкой.
А шел там отец Аннеле. Какая ж гора это? Ничего не понять.
Анюс же рассказывала дальше.
— И таких, как твой отец, было у бабушки шестеро. И две дочки. Да еще двое, те давно уж в земле лежат. А скотина, а поля — на версты протянулись. И молотьба, и ночи бессонные. Да и странники всякие: цыгане, евреи, нищие со всех сторон помощи ждут, со своими болестями и горестями — все к бабушке. Это что ж, по-твоему, не горы ворочать? Вот я и говорю: король в своем королевстве столько не сотворил, сколько бабушка твоя на этом свете дел переделала. Пять раз вокруг света обошла, если б кто ее шаги считал.
Тут только и поняла Аннеле, что это за горы такие, что бабушке приходилось ворочать.
Бабушка стоит на пороге, разделяющем столетия, и от каждого есть у нее ключ. Что бы ни сказала она, что бы ни сделала, все у нее иначе, все не как у других. И все, что ни скажет она, ни сделает, жадно подхватит повсюду следующая за ней, все тонко подмечающая младшая внучка Аннеле, дочка бабушкиного сына.
От порога хозяйской избы, словно корни от комля, растекаются тропки. Столько ими хожено-перехожено, что, считай кто-нибудь бабушкины шаги, как Анюс сказала, пять раз свет обойти можно. Но есть среди них три особенных. Одна тропка вела вниз к роднику. Долгие-долгие годы ходила по ней бабушка с ношей в гору. Летней порой, когда батрачки были в поле, одной приходилось обихаживать детей, по дому управляться, смотреть за скотиной. Многие сюда приходили и уходили, а она оставалась все такой же, всех подбадривала, за всеми присматривала, обо всех заботилась.
Вторая тропинка вилась через поле, через лес, потом поднималась круто в гору и выводила на дорогу, что вела к церкви. Сколько по ней хожено! Церковь была для бабушки деревней, городом, местом встреч с родней и знакомыми — дальше она никуда не выбиралась. И как бы стар и немощен не становился ты, в церковь надо было ходить пешком — запрягать в воскресенье лошадь считалось грехом. Так повелось еще в годы бабушкиной юности, и в старости она строго придерживалась раз и навсегда заведенного, не хотела нарушать устоявшегося обычая.
Третья тропинка, уже заросшая травой, вела когда-то к хибаре. Там, где прежде стояла она, по сю пору еще лежали четыре валуна, а вокруг росли посаженные дядей Ансисом молодые яблоньки. Когда-то это была обмазанная глиной лачуга, с трубой и железными крюками, под которыми разводили огонь, чтоб готовить еду. Поставили ее в годы бабушкиной молодости, когда сгорела хозяйская изба и имение вместо нее построило для жилья глиняную избенку, но без очага. И вот к этой-то продуваемой со всех сторон лачуге с очагом ходила молодая хозяйка десять лет, в стужу и жару, приходила ни свет ни заря, уходила затемно.
Зимними стылыми утрами, поднявшись вместе с петухами, она первая спешила сюда — посмотреть, не загасил ли ветер старательно присыпанные пеплом горячие угли. И тяжко было, если снова приходилось высекать огнивом искры из кремня — в те времена о спичках мало кто знал. Но если добрый дух уберегал угольки, и они, возрожденные теплым дыханием, вспыхивали, рассыпаясь искрами на конце сухой лучины или в коричневых ветках можжевельника, и свет слизывал причудливые тени с закоптелых стен, считалось это счастливым предзнаменованием предстоящего хлопотливого дня.
Запереть клеть, глянуть, накормлены ли собаки, засыпать пеплом угли в очаге, как повелось с молодых лет, — этим и сейчас еще завершает свой день бабушка. Особенно заботит ее очаг. Никому не доверит она этого. Разобьет пламенеющие угли, загасит тлеющие головешки, сгребет все в одну кучу и засыплет пеплом — сперва тем, что поближе, самым горячим, потом чуть остывшим и, наконец, совсем холодным. Когда кучка становится похожей на пирамиду и на ее поверхности не видно ни одной искорки, бабушка осеняет ее крестом и тихо шепчет что-то. Может быть: бог отец, бог сын, бог святой дух! Может быть: мать огня, мать огня, сохрани, сбереги, не дай погаснуть святой искре очага!
И хоть сама бабушка редко покидала дом, гостей в Авотах всегда было полным-полно. Правда, не все гости были настоящие. Одни приходили или приезжали один-единственный раз, и больше их никто никогда не видал. Они шли к бабушке за помощью: скотину ли вылечить, свои ли болезни и напасти…
Приезжали женщины с ребятишками, даже еврейки из Жагаре и еще более дальних мест. Ребятишки все были худые, с большими, уродливыми головами; говорили, бабушка избавляет таких детей от хвори. Про одну еврейку вот что рассказывали: осмотрела бабушка ребенка ее, как и других больных детишек, все косточки поразмяла, взвесила его на весах и дала матери пузырек со снадобьем и пучок корешков, сказала, как ими пользоваться, как за ребенком присматривать, и велела каждый день в отваре из корешков купать. Но мать ребеночка то ли все советы перезабыла, то ли смотреть за дитем не умела, но только посчитала, что самое главное — взвешивать, и давай стараться: и утром взвешивает, и вечером. А ребенок на глазах тает. Вернулась она в Авоты, плачет-заливается: «Вешай я, вешай свой ангел, а весы все не помогай!» Слова эти после часто повторяли в Авотах, когда кто-то ждал результата от бестолково сделанного дела.
Таких просителей принимала бабушка обыкновенно в полдень. И всегда бабушка спрашивала, а сам больной или тот, кто приходил за больного, отвечал. Кто приезжал раньше и не очень спешил, дожидался полудня, когда дом затихал и бабушка бывала посвободней. Но и тут ей не сиделось на месте. И пока шептала чудодейственные слова, по большей части написанные на серой или синей бумаге из-под сахара и обведенные меловым кружком с крестом посередине, шла она то в амбар, то в погреб, продолжая нашептывать слова и правой рукой легко осеняя бумажку крестом. В эти минуты даже Цитрон, попадавшийся у нее на пути, сворачивал в сторону, не осмеливаясь приластиться. Глянуть украдкой, ничего не спрашивая, — вот и все, на что решалась в эти минуты Аннеле.
В избе под самым потолком висели пучки сухих трав и корней, животворная сила которых была известна одной бабушке. Некоторые травы можно было собирать только в тот час, когда вставало солнце, другие — только в полдень, третьи — поздним вечером. Одни корни были выкопаны весной, другие — осенью; одни надо было сушить обязательно в тени, другие на солнце, третьи — в печи, на сильном жару.
Много целебных трав бабушка собирала сама, особенно из тех, что росли поблизости — места были знакомы ей издавна. Но немало трав приносили ей издалека в обмен на мешочек крупы или муку.
Приходила изредка старая цыганка, такая же знаменитая травница. Принесет, бывало, редкостное, невиданное растение прямо с корнем, найденное ею где-нибудь в лесной чаще. Бабушка внимательно осмотрит его: корни разотрет, сок из листьев попробует, цветы распотрошит и, если оставалась довольна находкой, на вознаграждение цыганке жаловаться не приходилось.
А перед началом летней страды Авоты становились огромной красильней. Куда ни повернешься — всюду разноцветные мотки ниток сушатся. Горшков с отварами и настоями из цветов, коры и корней у бабушки было видимо-невидимо. Ни одной хозяйке не удавался такой ярко-синий цвет — только бабушке. Красить научилась бабушка еще в юности. Рассказывали, что как-то еще деду своему наказала она привезти из города протраву, которую в отвар клали, чтобы краска ярче становилась и дольше не выгорела, а тот возьми да и забудь. Бабушка попрекнула его как раз в полдень, когда он с поля вернулся и постолы снимал. Так это его так задело, что он тут же вскочил, да, как был в одной постоле, прыгнул в телегу, на которой только-только навоз возили, и умчался в город. И не успели еще люди встать после полуденного отдыха, воротился он с покупкой обратно. Потом всем мужчинам советовал: избави вас бог женщинам на глаза попасться, коль нападет на них охота красить.
Случается Аннеле спать в бабушкиной каморке. Проснется она иной раз ночью и видит в тусклом свете, льющемся из маленького оконца: сидит бабушка и в руках у нее шевелятся спицы — позвякивают чуть слышно, словно крохотные бубенчики на колпачке у гнома.

Бабушка вяжет длинный чулок, серый, как вечерние сумерки. И что-то тихо шепчет. Считает. Словно вырывается на поверхность бурлящий под землей ручеек. Потом она сворачивает вязанье, складывает руки и начинает шептать еще проникновеннее, еще неистовее, словно стоит перед нею самый верный друг и поверяет она ему в ночной тиши тайны, о которых не должен знать никто на всем белом свете.
В ясные ночи бабушке часто не спится, она встает, подходит к окну и долго смотрит на звезды. Шаги ее легки, словно дыхание. Аннеле кажется тогда, что бабушка далеко-далеко, так далеко, что даже окликнуть ее нельзя, потому что не одна она. А вот кто с нею рядом, Аннеле не знает. Но он добрый. И в Авотах все могут спать спокойно.
Как-то в ясный зимний день бегала Аннеле по двору и вдруг увидела бабушку — стояла та у изгороди и пристально вглядывалась в сторону заходящего солнца. И чего это там бабушка заприметила? Так и подмывает узнать.
Но бабушка словно бы не замечает девочки. Ветер шумит, рвет бабушкину одежду, а по щекам ее катятся слезы.
Но отчего так пусто в той стороне, где садится солнце? Чего там не хватает?
Ой! Аннеле внезапно пугается. Там же нету, совсем больше нету березовой горы! Нет, нет, гора стоит, как стояла, нет только на ней ни одной березки, ни одного деревца. Все словно бритвой срезаны. Под корень их скосило, и лежат они теперь, как снопы поваленные, в своих белоснежных одеждах.
— Где березовая гора, бабушка? Где березы?
— Ты же видишь, дитя!
— Кто это сделал, бабушка?
— Кто б ни сделал, — отвечает бабушка.
— Почему же ты позволила?
— Куда уж мне! Вырастают дети, своим умом живут, родительских советов не слушают. Мог бы дождаться, пока глаза закрою, но нет, так, говорит, лучше. Может, и лучше, но придет лето, и этой красы нам уж не видать больше.
Аннеле понимает, что срубить березы велел дядя Ансис, и ни о чем больше не спрашивает.
Наступит лето, но не зазеленеют больше кудрявые березы, не будет туесков со сладким соком, не будет редкой красоты цветов, росших на тенистой горе, не будет и освещенной солнцем тропинки между березами и нивой, где шептались над ее головой колосья.
Так стоят они обе возле изгороди и оплакивают любимую березовую гору.
В ПОИСКАХ ЗЕМЛИ
По воскресеньям, в послеобеденную пору, приходят в Авоты гости — мужчины с соседних хуторов. Не играть в карты — они не так беспечны, как молодые парни. Не осматривать авотские луга и пашни, лошадей и постройки, как приезжающие в гости хозяева, нет у них ни лошадей, ни земли, они батрачат на соседних хуторах, как отец Аннеле в Авотах. И к отцу они приходят поговорить.
Аннеле по душе и эти люди, и их разговоры. Микелис Гелзис — маленький сухонький мужичок в клетчатых портах и сермяжной светло-серой куртке, которая, как он похваляется, еще со свадьбы сохранилась. Только войдет в комнату, какой-нибудь зубоскал не преминет встретить его словами: «Эй, Микелис, не шпи, не шпи, заворонки уз поют!» На что Микелис в ответ: «Вот жлые, так жлые! Правду бог говорит, што яжык беж коштей!»
И все — и больше не сердится. Привык, что посмеиваются над ним сызмальства за то, что некоторые звуки не произносит, а словами этими: «Не шпи, не шпи, заворонки уж поют!» — он будил как-то другого батрака.
Микелис говорун не ахти какой, но зато слушает он и глазами, и ушами, и рот откроет. И каждый раз, только кто-нибудь кончит говорить, он подтверждает: «Как зе, как зе! Вот и я говорю!» И бледно-голубые глаза его блестят, раскрасневшиеся щеки горят — так нравится ему тот, кто говорит.
Вилис Рудметис — тот горяч и зол, вспыхивает, словно сухой куст можжевельника. Кто бы ни говорил, тут же слово вставит, словно угрожая неизвестно кому. Одет он в толстый вязаный камзол, ему жарко, рыжая борода торчком, он то и дело ерошит густые вьющиеся волосы. Тут уж ему под ноги не попадайся!
Батраки заводят разговор о чужих, дальних странах, о войнах и перемириях, о курфюрстах и королях, господах и слугах. Но чаще всего говорят они о земле. И как родники сливаются в ручей, а ручьи — в реку, так и все их речи сводятся к одному — к разговору о земле. В центре всего этого отец Аннеле. Когда он заговаривает, остальные молчат, внимательно слушают. И даже Вилис Рудметис не перебивает. Чаще всего отец встанет посреди комнаты, а остальные вокруг. Кто помоложе да погорячей — стоит, кто постарше да поспокойней — сидит.
Много-много раз доводилось Аннеле слушать их разговоры, пока не поняла она, что земля нужна батракам и что земля — это такая штука, которую найти надо во что бы то ни стало. Для молодых парней земля ничего из себя не представляла. Ингус говорит: «На что мне ваша земля… Одна голова не бедна, а и бедна, так одна».
Тогда отец ему отвечает: «Будет жена, будут дети, хлебнешь и ты нашего горя».
— Нету правды на свете, нету, — сердится Вилис Рудметис. — По справедливости, у каждого должен быть свой клочок земли. А теперь как? У него есть, у меня ист. Почему у меня нет?
— Как зе, как зе! Вот и я говорю! — спешит вставить Микелис.
— Должна быть на свете правда. Искать только надо, — произносит Зангус, отец Юритиса.
А Вилис Рудметис перебивает:
— С дубинкой в руках надо искать. Отчего в имении все блестит? Отчего господа лоснятся? Не от нашего ли пота? А? Кто бедняку правду даст, если сам ее искать не станет? Вот я и говорю, с дубинкой!
Вилис Рудметис сыплет искры, как лучина, которой размахивают во тьме, а отец Аннеле произносит примирительно:
— Распустится ли цветок, если силой почку раскроешь? Заставишь хлеб созревать к Юрьеву дню? Всему свое время. Я только так скажу: настанут когда-нибудь справедливые времена и земля у всех будет.
— Как зе, как зе, вот и я говорю! — радостно соглашается Микелис. А Вилис Рудметис только шмыгает носом да помалкивает.
Так они беседуют, и слова отца примиряют всех. Но опять настает воскресенье, и опять все начинается сызнова. Пока Аннеле, наконец, как следует не разобралась: землю искать — значит искать правду.
И вот однажды утром просыпается и вся горит от нетерпения: самое важное из самых важных сегодняшних дел — отыскать землю и обработать ее.
Где она только ни побывала: нет такой земли, как ей надо, и все тут. Не диво, что и работники не нашли. Не простое это дело. Придется идти далеко-далеко. Искать как следует. Но прежде надо в дорогу собраться.
И Аннеле идет в комнату, где мать хранит корзинку с лоскутами для шитья, что-нибудь из нее да сгодится. И правда, хватает и на передник, и на шаль большую, и на платок — голову повязать. Собралась было Аннеле во двор выйти, да в сторону окошка глянула. Сидит возле него Карлина, серые льняные нитки мотает. А на подоконнике лежат огромные очки Юрисова деда в роговой оправе. Когда дедушка ищет что-нибудь или разглядывает, он цепляет очки на нос и сразу все видит и все находит. Вот ведь как просто: надеть очки, тут же и земля отыщется. Так-то, поди, надежнее.
А что Карлина скажет? Что скажет, то и скажет!
Аннеле тихо подходит к окну.
— Это можно? — несмело тыкает она пальцем в очки.
— А что, не даются? — спрашивает Карлина. — А ты попробуй, можно ли.
А разве нельзя? Аннеле размышляет, сомневается и, наконец, протягивает руку с твердым намерением: «Возьму».
— Коль можешь взять, бери.
И Аннеле не только берет, но тут же и надевает их, так что очки висят на самом кончике носа, а Карлина не только не говорит ни слова, но еще помогает Аннеле завязать тесемки за ушами. И так хохочет, так хохочет, что и Аннеле вторит ей.
Да, в очках совсем другое дело — далеко и искать не надо, со двора видно, где земля — вот она, под боком.
И в таком укромном местечке, что никто, кроме Аннеле, ее не видит, никто о ней не догадывается.
Надо только проползти под высокой дощатой изгородью, и работай себе хоть до седьмого пота.

Земля, которую посчастливилось отыскать Аннеле, круглая, словно каравай хлеба, вокруг поднимается лес раскидистых высоких стеблей, а на самой земле какие-то хилые, пожухлые ростки с одним-двумя крохотными листочками.
Они-то ей зачем? Повыдергала их Аннеле все до одного, кинула в высокую траву.
И давай землю обихаживать. Вспахала ее, отбороновала, межи провела и со знанием дела наделяет ею всех, кто нуждается. Юрисову отцу — под картошку, Микелису Гелзису — под ячмень, Вилису Рудметису — под рожь, на то он и косарь первый, отцу родимому самый большой кусок — под пшеницу. Трудится Аннеле не покладая рук, угодья свои обходит: не проклюнулось ли уже, а там, где не взошли ростки, там пересеять надобно.
Давно уж скинула свое дорожное одеяние, и даже очки, отыскавшие землю и исполнившие свое предназначение, соскользнули, упали неведомо куда.
И кто знает, что вырастила бы Аннеле на своей земле, не испугай ее в самую страдную пору устрашающий вопль, раздавшийся над головой, словно гром среди ясного неба. Глянула она вверх и увидела прямо над собой бахрому серого платка, из-под которого метали искры черные, злые глаза Каминскенихи.
— Оюшки, грядка моя! Люди добрые, гляньте, что надо мной учинили! Да пристало ли человеку дите свое так распушать! Да и не дите это вовсе, тварь злобная! Что из нее вырастет! Ни богу не уступит, ни людям… Я этого так не оставлю! Пусть мне возместят! Пусть до последней копеечки выплатят…
Чувствует Аннеле, что самое время припустить со всех ног. И мчится она сквозь заросли крапивы, сердечко вот-вот из груди выскочит. Но куда тут спрячешься? Мир вдруг съежился, стал крохотным-крохотным, осталась только одна карающая рука. Рука матери. Близко она, близко, ах, как близко! И самое важное, самое прекрасное дело сегодняшнего дня закончилось так невесело, потонуло в горестных и долгих всхлипываниях.
Весь оставшийся день Аннеле бродила печальная, понурая. Не пойдет к людям, пойдет лучше к соснам, что на опушке леса, к незабудкам, что цветут в канаве вдоль болота. Незабудки и сосны могут цвести и расти, как вздумается, делать то, что по сердцу, а с Аннеле слово взяли — никогда-никогда так не поступать, как сегодня. А чтоб не забыла она своего обещания, ей хорошенько всыпали.
Ну и пусть! Боль быстро проходит, если приноровиться втягивать мускулы в том месте, которому достается больше всех. Больно совсем другое — как нежданно-негаданно белое стало черным, добро оказалось злом.
Как сладко томилась душа, когда вышла она поутру искать землю и правду, и вдруг стало так, что и земля, и правда — все принадлежит злой Каминскенихе.
Рыдания уж поутихли, когда проходившая мимо Карлина погрозила Аннеле пальцем.
— Спасибо еще скажи, что прибрала я дедовы очки, а то б досталось тебе на орехи как следует.
Аннеле даже опешила. Неужто это та самая Карлина, которая еще поутру была ее сотоварищем, сама помогала надевать очки и так весело, так заразительно смеялась?
ДЕНЬ НА ПАСТБИЩЕ
— Вставай, вставай, — кричит кто-то над самым ухом, норовя стащить с Аннеле одеяло. — Вставай! Солнце-то уже вон где! Хорош пастух, допоздна спит! — И выбегает, хлопая дверьми.
Аннеле цепляется за одеяло, закрывается им с головой, и грезится ей: ночь еще длинная-длинная… как дорога до самых Лейниеков, еще длиннее… как до Петермуйжи… еще длиннее. Спать и спать можно, долго-долго, и сны такие сладкие.
Резко звякает щеколда.
— Аннеле, Аннеле! Гляди, дождешься, прибежит мать с хворостиной!
Это бабушка. Она подходит, стаскивает с головы одеяло, кутает ноги Аннеле.
— Да гони ты этот сон палкой! Разве ж из него каравай испечешь? Сбегай, ополосни глаза в роднике, растает сон, что облачко.
Аннеле присела на постели на корточках, а глаза закрыты.
«Все бы на свете сокровища отдала, позволили б только поспать еще ну хоть чуть-чуть», — шепчет в полусне она кому-то несуществующему, как и ее «сокровища».
Снова входит бабушка и, глянув на сидящую в постели внучку, давай ее нахваливать:
— Умница, дочушка, умница. Вот тебе хлеба ломоть, коль проголодаешься. Нынче и завтрак тебе нести некому — в поле все.
Ресницы у Аннеле все еще смежены. Глаза словно покрывалом укутаны.
— Бабушка, а на дворе вёдро или дождь?
— А у тебя что, глаз нету? Никак все сон не одолеешь? Стыдись!
Стены в избе толстые, старые, в батрацкой промозгло, словно в погребе. Распахивает Аннеле на миг глаза: солнце! Старая яблоня, заслонившая окно, переливается солнечными бликами — ни дать ни взять расселись по веткам золотые пичуги. Сон тут же и рассеялся, точно облачко.
Сени залиты светом. Вон оно, солнце, только-только выглядывает из-за конька повети.
Мать уже выгнала скотину. Стоит за воротами, дожидается Аннеле.
— Да когда ж она выйдет, эта девчонка! Поторапливайся! У меня уж и руки зудят, столько дел переделать надо. Все собрала? Торба? Хворостина? Хлеба положила? И пускай их по оврагу, по оврагу. Там поутру хорошо пасти. Да и я буду знать, откуда домой покликать. А теперь гони!
Последние слова мать произносит уже смягчившись. Но Аннеле далеко, старается поспеть за своим стадом, которое, хрюкая и визжа, взбирается вверх по склону.
Спросит кто-нибудь Аннеле: «Долго ль пастушишь?», она наморщит лоб, думает, думает и, наконец, отвечает:
— Ой, как долго! С Юрьева дня.
А сейчас уж до Янова дня рукой подать.
Будущее Аннеле решилось при ней. Когда отец нанимался, уговор был, что каждый третий день его очередь пасти.
— Что ж делать-то будем? Не нанимать же пастуха? — мать была обеспокоена.
— Хочешь не хочешь, а придется! Ничего не поделаешь! — не раздумывая ответил отец.
— А я так считаю… — и мать пристально посмотрела на девочку, — Аннеле пусть идет…
— Мала больно! — Отец положил свою большую руку Аннеле на голову.
— Где ж мала?! Семь годков уже.
— Осенью только и минет.
— Пусть и осенью. Глянь, как вымахала, словно все девять, да и ума набралась. Управится.
— Управится! — засмеялся и отец. — Что ж, пусть обвыкает, не оглянешься, как в пастухи наниматься подоспеет время, тут уж паси каждый день.
Так и повелось — минуют два легких дня, третий настанет трудный, минуют два чудесных дня, настанет третий — порой еще чудесней.
В овраге Аннеле «усмиряет» свое стадо. Обежала вокруг, согнала в кучу и давай «учить» — только свистит хворостина в воздухе; более сурового наказания она не признавала. Свиньи тотчас зарываются пятачками в черную землю, ищут лакомые корешки.
По одну сторону оврага к самому краю поля подступает густой, плотный, как стена, лес, по другую — высятся горы, поросшие молодым стройным березнячком.
На опушке, в лесной тени, трава усыпана белыми каплями росы. Туда и бежит Аннеле, бродит по росистой траве, оставляя за собой широкие черные дорожки.
Постолы от росы намокли. Но ей хоть бы что. На березовые горы надо еще глянуть. Вершины берез окунулись в голубое небо, словно в синее озеро, ни листик не шелохнется, только там, где вспорхнет птица, ветка качнется.
Но Аннеле все мало, ноги так и зудят — и туда сбегать хочется, и сюда. И тут опоздала, и там, раньше встать надо было; каждое утро сулит столько нового, невиданного, но такого, как нынешнее, такого удивительного, замечательного утра еще не было; бегом, бегом, раньше солнца добежать, чтобы творило оно свои чудеса не тайком, а у тебя на глазах, чтоб рядом быть, чтоб все увидеть.
— Ку-ку! — раздается в лесу. Прыжками мчится Аннеле через овраг, стрелой вонзается в полог листвы. — Ку-ку! — зовет уже вдалеке; — ку-ку! — опять близко. Словно мышка затаилась Аннеле в орешнике. А сверху, с высокой сосны, так и сыплется прямо на голову: ку-ку! ку-ку! ку-ку!
Сквозь листву видно Аннеле, как при каждом «ку-ку!» щелкает клюв, будто клацает железяка.
— Хватит ку-ку! Хватит ку-ку! — кричит она и смеется.
— Ку, — торопливо выталкивает кукушка и замолкает испуганно; далеко-далеко в лесу она роняет вторую половинку: — Ку!
Но Аннеле ее уже не слушает. В ушах звон стоит от голосов: свиристит, цвенькает, щелкает — дрожит от них лес. Она тоже крикнет в самую гущу этих голосов.
— У-у! — тянет осторожно. Звуки гаснут совсем рядом, в зеленой листве. Аннеле тянет дольше, голос летит к самым вершинам: у-у! Птичьи голоса все равно громче. Тогда Аннеле набирает полную грудь воздуха и начинает высоко-высоко, голос заглушает пение птиц, летит выше деревьев, далеко-далеко; и вот уже спалась грудь, прилипла к спине. — У-у-у! — торжествующе заканчивает Аннеле. Серебристые звуки повисают в воздухе, и вот уже их не слышно, и вот они исчезают. Все птицы дивятся: ну и ну!
Вдруг Аннеле встрепенулась, вспомнила о своем стаде, вскочила и во весь дух помчалась к опушке, только сучья под ногами затрещали. Все ли? Пересчитала, загибая пальцы. Все!
Пеструха-Щетинное Ухо все ближе и ближе подбирается к кромке леса, ей только бы в лес удрать, но тут хворостина как свистнет, и она, сердито хрюкая и перебирая ногами, поворачивается и утыкается мордой в бодяк, растущий на краю поля.
А от поля глаз не оторвать — зеленый ковер с разноцветными крапинками. Тут и ромашки, и анютины глазки, мак и вьюнок из земли выглядывают; солнце ласкает, зовет их: вставайте, вставайте! Срывает с них одеяло, как мать нынче поутру с Аннеле.
Цветы распускаются, лес звенит от радости, в прозрачном воздухе деревья нежатся, и сердце Аннеле переполняют желания, бьют через край: и в лес сбегать хочется, где тропинки из солнечных лучей сотканы, и в молодой лесок, что за березовыми горами, где, должно уж, земляника поспела, и на луг, где в заболоченной канаве еще накануне незабудки видела, — везде бы побывала, но — не может! нельзя! Долг, словно на веревочке, держит.
Вдруг лицо ее розовеет, глаза искрами вспыхивают. Большими прыжками она мчится туда, где в тени валяется ее торба. Хватает ее: толстая! Так и есть. С вечера сквозь сон слышала, как сестра говорила. Лизина книжка в ней новая!
Аннеле гладит, прижимает к себе торбу: «Милая моя, хорошая! Милая моя, хорошая!» «Милая моя, хорошая!» — это Лизиня. Увидела она горящие глаза сестренки и сама дала книжку — попросить Аннеле не осмелилась.

Книжку эту, маленькую, в черном переплете с позолоченными слипшимися краями, подарили сестре в день причастия. Откроешь ее и сразу же картинка — Спаситель. Аннеле затихла и долго-долго вглядывается в него. Смотрит и чувствует, как в глазах закипают горячие слезы.
Книжка что давний знакомый в новом платье. Коротенькие молитвы, отрывки из библейских сказаний и песни. Много, много песен! И все Аннеле спеть может. Протяжно, с переливами и без них, как сейчас поют. Молятся все, голоса вибрируют, а они с Лизиней придержат голос, а потом как затянут, звонко и высоко, всех перепевают. Никто не умеет, как они с Лизиней «аж в ушах звенит», говорит бабушка.
Аннеле листает, песню ищет. Но одной все нет и нет, самой красивой. Такой, которая могла бы передать все, что делается нынче в лесу и в небе, в поле и в сердце.
Да нет же, вот она. Самая-самая красивая, самая чудесная.
Мне б тысячу языков дали
И ртов целую тысячу,
Среди тех, кто славит бога,
Была б на первом месте я!
Аннеле начинает чуть дрожащим голосом, но восторг растет, и голос взлетает над обрывом на зеленую гору, летит над вершинами — в синее небо. Словно струны кокле, дрожит и сама Аннеле, словно тысячи голосов в ней поют; лес вековечный, самоцветы луговые, ширь поднебесная слушают ее песню; глаза наполняются горячей влагой, ни шевельнуться она не смеет, ни оглянуться: стоит у нее за спиной бог и через плечо заглядывает в книгу с золочеными страницами.
Полдень. Аннеле бегает по двору.
— Спать, спать, Аннеле! Поутру не добудиться было, к вечеру совсем сон одолеет!
Аннеле — нырк! — за кучу хвороста, руки за спину; спрятала, в руках кружка. Стоит на самом солнцепеке, выжидает.
Выбегают «взрослые» дети, кто откуда, собираются стайкой, перешептываются и — как припустят к лесу.
Аннеле за ними. Коновод оглядывается: «А ну, быстрей! Давай, давай, нажми!» — приказывает. Но не тут-то; было. У Аннеле ноги длинные, чуть не на пятки им наступает.
У леса ватага, словно по окрику, остановилась, с угрозой все оборачиваются к Аннеле. Она тоже стоит, словно к земле приросла, и глазом не моргнет. Старший кричит:
— Пойдешь ты домой или нет? Знаешь, куда мы?
— По ягоды.
— А вот и нет, а вот и нет!
— А чего кружки за пазухой?
— Нельзя тебе с нами! Знаешь, куда мы?
— Потому и нельзя! Знаешь хоть, что за место это такое?
Еще бы не знать! Давно, ой, как давно хочется ей в Лосиный сад, мимо которого ни одна живая душа по ночам не ходит, а если кто пойдет — поглотят его синие и красные огни, что трещат там и полыхают, а пойдешь в полдень один, так из-за каждого куста белые женщины выглядывают. Лосиный сад — таинственное, запретное место; если лесник поймает там кого, пощады не жди. В Лосином саду и так бывает: смотришь на человека во все глаза, а он тут же исчезает неведомо куда. В Лосином саду удивительные голоса поют, но попробуй начни искать, кто поет, увидишь, куда он тебя заведет! Живут в Лосином саду птицы с такими блестящими перьями, что глянешь — сразу и ослепнешь, а земляника в Лосином саду поспевает величиной с полпальца.
— Потащись только за нами! Мы убежим, спрячемся, а тебя увидит ведьма с зелеными глазами, как посмотрит, так головой больше и не повернешь!
— Закукует тебя недобрая птица, крестом осенить себя не успеешь, как скособочит.
— Окликнет тебя голос, обернешься и тут же в соляной столб превратишься, как жена Лота.
— Придет лесник, мы-то убежим, а тебя он поймает, бросит в яму, как Иосифа.
— Вместе с убийцами.
— В Лосином саду ям с убийцами видимо-невидимо.
Аннеле слушает и бровью не поведет, и слова не вымолвит. Только весь ее вид говорит о том, что она пойдет с ними во что бы то ни стало, пусть наговорят ей страстей хоть с три короба.
И ребятишкам ничего другого не остается, как смириться.
— Пусть бежит, коль так приспичило. Все лучше, чем дома после ее рев слушать. Все удовольствие тогда испортит.
— Пусть! Но, чур, на меня не сваливать, если что случится!
— Что с ней случится! Она ж большая у нас. Вот и скотину пасет.
И какая-то девочка берет Аннеле за руку, и спор затихает сам собой.
Вся ватага мчится под гору — в гору, под гору — в гору, внизу девочки хватаются за руки, настороженно вглядываются в чащу: никого! Под пологом леса земля рябит, словно водная гладь, усыпанная крошечными блестками, которые трепещут поверх черных теней.
Вдруг лес обрывается широкой, благоухающей, пышущей жаром полосой света. Лосиный сад!
Это большой, окаймленный лесом четырехугольник. Сосенки-подростки, по одной или по нескольку разом, выкарабкиваются из пышных сочных веток, распластавшихся по самой земле, и устремляются вверх, стройные, словно маленькие церковки с крестом на куполе. И все пространство между крестами залито солнцем. Пчелы, стрекозы, кузнечики, оводы «парятся», словно в бане, в этом белом мареве. Земля вся усыпана цветами, словно узорчатые платки по ней раскиданы. А высокие травяные подушки усыпаны земляникой, и столько ее, что в глазах красным-красно.
Все тут же и кидаются собирать.
— Я первый!
— Нет, я! Не подходи! Уходи отсюда! Это мое место! Ищите сами! — И раскинул руки, других отпихивает. А второй зовет: — Сюда, сюда! Хоть горстями собирай! Сюда! Пусть подавится этот обжора своими ягодами.
И ребятишки бросаются к другому холмику.
Но так дело не идет. Больше подавишь, чем насобираешь. И старший мальчик решает: каждый пусть собирает отдельно. Только не разбредаться далеко и тихо-тихо перекликаться, вот так: у-у! — чтобы лесник не услыхал.
Глаза уже свыклись с чудесами. Никто не вскрикивает, не ойкает, когда тут же рядом — вон, вон и вон! — видит еще краше, еще крупнее ягоды: знают, что в Лосином саду землянику хоть граблями сгребай, и то всю за день не соберешь. Здесь самая первая ягода, ароматная, — в лесу еще не созрела.
Кружка у Аннеле с верхом полна. Горкой насыпаны самые крупные ягоды, самые зрелые. Она устраивается в тени под сосенкой, вытягивает ноги. Можно и передохнуть — рубашонка прилипла к спине. С боку на бок перекатывается, плашмя ложится — все ягоды вокруг, до которых рука дотягивается, в рот попадают. Чуть дальше манят пунцовые венчики липких гвоздик, пахучие лесные фиалки. Встанет, сорвет обязательно.
Но хочет подняться, а руки и ноги свинцом налились, гвоздики ввысь тянутся, растут, растут, чуть не до облаков вырастают и обступают со всех сторон. Но вот чудо! Нет вдруг ничего, ни гвоздик, ничего, только огромный серый дядька с зелеными глазами. Аннеле шевельнуться хочет — никак. Словно к земле прикована. А зеленые глаза выскакивают у дядьки изо лба и — бумм! — Аннеле по лбу, и опять все исчезло. И снопа два глаза — бумм! — по лбу и исчезают. И третьи также. Не вытерпит Аннеле, вот-вот закричит. Но только рот открыла, серый дядька как крикнет ей в самое ухо: «Лесник, беги!»
Глаза распахнула — словно обухом кто по голове стукнул. Голова у самого комля сосны, зелеными ветками прикрыта. Но отчего так, раздумывать некогда. Шуршат, качаются вокруг ветки, все припустили, мчатся стрелой. Только слышно то тут, то там: «Ходу, ходу, быстрей, быстрей!»
Аннеле хватает кружку и стремглав мчится следом. Ветки, потревоженные бегущими, качаются далеко впереди, она последняя. От страха похолодела вся. Истории про ведьм, привидения, про псов бешеных, про змей вновь ожили, лезут со всех сторон, на пятки наступают.
Скорее, скорее! Сердце колотится, ноги едва земли касаются. Стрелой вылетает она из Лосиного сада, влетает в лесную чашу, где ее уже поджидают. Стоят тихо, насторожились, и полные страха глаза их зовут Аннеле из зловещего места. Только очутившись рядом со всеми, Аннеле осмелилась оглянуться.
— Кто там был? — спросил один громко, и все заговорили разом, перебивая друг друга.
— Лесник.
— А ты его видел?
— Нет, не видел!
— А кто видел?
Все молчат. Никто не видал.
— А я слышу, шуршит. Только наклонился за ягодой, как снова — шурк! Совсем рядом. Ну, думаю, змея! И вдруг ясно так слышу — кто-то идет, насвистывает. Шагнет и остановится, шагнет и остановится.
— А я вижу — все бегут, только ветки трещат, ну, думаю: не иначе, бешеная собака. И как припущу!
И все рассказывают, перебивая друг друга, хохочут. Каждый струхнул не на шутку, но хочет казаться смельчаком, хочет посмеяться над чужим страхом.
Миновал полдень, и снова Аннеле на круче. Сейчас пасти не то что поутру. Долго и упорно сражается она со своими подопечными, которые так и норовят сбежать в прохладный хлев. Но когда смутьяны, тяжело дыша, зарываются в землю, она видит, что одержала верх.
Сейчас все бы, кажется, спряталось под землей. Цветы поникли, опустили головки, лес замер, даже солнце, белесое, ленивое, на длинные белые пики опирается.
Будь оно там, где в полдень, еще б жарче палило. Похоже, что оно и не движется. А вдруг там избранный богом народ со своими врагами сражается, как при Иисусе в Гаваонской долине, когда Иисус повелел: стой, солнце, над Гаваоном и луна над долиною Аиалонскою?
Аннеле вскакивает и, приставляя пятку к носку, быстро измеряет тень. Нет, все-таки длиннее, чем в Лосином саду. Значит, движется солнце, только еле-еле, как и все в такую страшную жару.
Аннеле бредет к опушке, где стоит куст боярышника, и падает в тень, на траву. Руки и ноги налились истомой, на сердце невесело. Где ты, ясное, лучезарное утро?
Как хорошо-то было, как весело! А сейчас всем тяжко, не до веселья!
Аннеле ничком припадает к земле, затихает. Думает долго-долго.
Почему надо было тайком бегать в Лосиный сад? Почему там нельзя собирать ягоды? Чтоб траву не вытоптать? Но никто там не косит, а сосенки так вытянулись, что ребятишки рядом с ними будто карлики. За что гоняет лесник взрослых и детей, если поймает в Лосином саду? Ягоды оберут? Но их там так много, что и всем миром не обобрать. Граф, мол, запретил. Но сам-то граф землянику не собирает. Что ему Лосиный сад! Лесов у него столько, что и за день не объехать; куда ни глянь, что лес, что роща — все графское; старый Микус, еще когда жив был, говорил, что ему б и одной сосны хватило целый год печь топить, а у графа миллионы миллионов сосен. Зачем ему одному столько?
А что он делает, граф? Взрослые иной раз говорят, что он, знай себе, ест и спит. Но так ведь не бывает. Какой же человек это вытерпит?
А может, граф и человек-то не всамделишный?
Нет, всамделишный. Должно быть, все так, как сказал батрак Ингус — граф день-деньской деньги считает. Вот и бабушка, когда мука, или свечи, или сахар на исходе, кручинится: нельзя, нельзя покупать, осенью графу нечего нести будет. И отцовы братья тоже. Придешь к ним погостить, так они с отцом обойдут все поля и возвращаются — задумчивые, озабоченные: сами, говорит, уж как-нибудь перебьемся, лишь бы графу было что нести. Отец, правда, графу не носит, зато целый год трудится и трудится рук не покладая, чтоб дяде было что графу отнести.
Нет, незачем графу день-деньской деньги пересчитывать. Хоть и граф он, все одно не вытерпит. Он, верно, и верхом ездит, наденет белые в облипочку штаны, красный картуз и как припустит! Как тот, что вместе с молодой графиней во двор влетел на прошлой неделе. Словно ветер неслись они с горы. Одного коня графиня за холку держит, сама на другом сидит. Конь на задние ноги встает, а графиня сидит, и все ей нипочем. Люди в дверях толпятся, в окна выглядывают, а дядя так даже на двор вышел. На колени упал, руку графине целует. Ну и чудно! Такая молодая, а уж руку ей целовать! Графиня на коне гарцует, перья на шляпе, словно петушиный гребень, колышутся, а язык коверкает, точно пастушонок Янка: «Казяин любезный, почему цыган гонит с пастбищ? Где идти бедный цыган?» А тем утром дядя прогнал цыган со своей земли на цыганскую гору; потравили ему цыгане весь луг; ну, чистая напасть они: крадут, поля травят, каждый день попрошайничать приходят. А графиня велит цыганятам редьку сажать, а потом их рисует. Дядя стоит, затылок чешет, а графиня своим гребнем петушиным колышет, лошадь под ней кругами ходит: «Благодарью, казяин любезный, благодарью!» — говорит. И умчалась, словно ветер. А тот, что в красном картузе, за ней.
Странная эта графиня. Вроде бы женщина, вроде и нет. Настоящий ли человек графиня, вот что?
Многое на свете совсем не так, как надо. Дядя вот, так он никогда не работает, как другие. И хозяйские дети тоже. Скотину не пасут, зимой все во дворе: работы им никакой не дают, в школу начинают ходить, когда и год их еще не подошел. Хозяйским детям многое дозволено, а для Аннеле все это «грех».
Какой он, этот замок, где граф и графиня живут? Старая Анюс говорит: кресла шелком обиты, стены все в золоте, посуда из фарфора белого, полы глазурью покрыты. Все там блестит-переливается!
Возле замка Аннеле довелось быть, когда чудеса показывали. А в замке-то побывала? Как бы не так!
Ну да ладно, замок он и есть замок. До него дойти можно. Старая Анюс ходила изо дня в день, дядя ходил, и все, кто графу деньги носит. Но граф подолгу дома не живет. Соберет все деньги и уезжает в чужие края, туда, где солнышко все время землю греет, не прячется. Чужие края! Вот это да!
По осени улетают туда перелетные птицы. Никому-никому из наших там не побывать. Туда только граф может уехать, у которого денег куры не клюют. Но все-таки доехать до них можно. Пусть один только граф и может доехать. А вот что там, куда ни дойти, ни доехать? За всеми лесами, за сводом небесным, за тем местом, где солнце встает, за тем, где оно садится? Там то, что никто-никто не видел, никто-никто не слышал!
Можно дойти дотуда, когда умрешь? Там ли нынче старый бобыль Мик, который чуть-чуть пожил в Авотах и зимой умер? Не сам он, конечно, самого его в гроб положили, на погост свезли, а вот куда голос делся его, смех? Пока он думал, он везде был, разговаривал, бранился, и вдруг его не стало! Сколько хочешь жди: вот-вот раздастся Миков голос — не дождешься! Чей хочешь голос услышишь, а Миков никогда; сколько хочешь гляди на дверь и приговаривай: вот, вот сейчас войдет Мик — не дождешься! Там, где положено ему быть, — пусто.
Анюс сказала, что теперь-то уж Мик на небесах. Но не всегда Анюс верить можно. Когда Мик еще живой был, сколько раз говорила она, что он в ад попадет, потому что так и сыплет проклятиями. И все, что о чудесах рассказывала, было совсем не так.
Ругаться-то Мик ругался. Стоит какой собаке под ноги ему подвернуться, так он ее как пнет! Мама говорит, что Мика «работа заела». А ребятишкам ни одного дурного слова не сказал и плохому не учил.
Нет, в ад Мик не попадет. А если господь и захочет, Спаситель не пустит. Спаситель возьмет Мика за руку и долго-долго молиться станет, пока господь ему все грехи не отпустит.
А богу — что ему от того, что Мик в ад попадет? Что для него Миковы грехи? Тому, у кого глаза мерцают, как звезда утренняя, одежда словно солнечное сияние. Окропит он Миковы грехи пучком иссопа, и станут они белые-белые, белее снега. Ведь господь бог всемогущ, господь бог вездесущ.
Но всегда ли вездесущ господь? Вот поутру был, когда в книжку заглядывал. Сердце ее большим стало, весь бы мир обняло; и пылало оно как терновый куст в Моавитской равнине, а сейчас она съежилась, что червяк, заползающий в землю. Бог стоит вдалеке и не зовет ее к себе.
Почему же не тянется больше ее сердце к богу? Потому что теперь она грешница.
Аннеле тяжко вздохнула.
Грешница! Человек зачат и рожден во грехе. Куда ж от греха денешься?
Ходила вот в Лосиный сад, а надо было спать идти, как велели. Ослушалась, значит.
А как всегда слушаться? Уж лучше тогда совсем не жить на свете. Жить-то как? То прыгать и смеяться грех, и по воскресеньям положено читать только слово божье, другую книгу — грешно, а на неделе грешно читать всякие книги — работать положено, в другой раз и не поймешь, что грешно, а что нет. Старая Анюс скажет, бывало, чего, мол, голову ломать, думай не думай, нутро у человека сызмальства порченое, вот и надо искупать зло свое всякий раз.
Злой человек, злой. Так и есть. Глаза щиплет от слез, сердце разорваться готово — так ему тяжко. И обильно поливая сложенные руки слезами, она произносит громко: «Очисть сердце мое, господь, обнови мой дух. Не отвергни от меня лицо твое, не лишай меня своей благодати».
Вот теперь хорошо. На сердце легко-легко стало. Мысли угомонились, попрятались, кто куда. Аннеле обняла колени руками, прикрыла глаза; сквозь ресницы, через маленькую-маленькую щелочку видно, не разбегается ли стадо.
Сидит она, притихла.
Время тянется и тянется, ползет как улитка.
Вдруг из-за леса доносится глухой рокот, прокатывается по лесу, летит за горы, грохочет за горами, за полем, затухая вдали.
Аннеле открывает глаза. Прислушивается: гроза?
«Нет. Приснилось, видно». Но вдруг почудилось ей, что горы и деревья, цветы и травы затаились, словно ждут чего-то. Тихо-тихо становится. Все замирает. Аннеле прижимается щекой к коленям.
Снова загрохотало — на этот раз сильнее. Лес вздрогнул, закачался, загудел — словно грозный зверь проснулся.
Аннеле вскочила, отбежала подальше от кромки леса и посмотрела вверх. Гроза, гроза! Уже тут! Небо за лесом заволокло черными громадами туч с прозрачными серыми кромками. Солнце тонет в них, вонзая в тучи добела раскаленные лезвия. Сверкает молния. Аннеле начинает считать — далеко ли гроза, но путается; сердце прямо в ушах стучит, сбивает. Не успевает и до шести сосчитать, как грохочет снова, и небо раскалывается пополам.
Воздух рокочет. Лес освещен белесоватым светом, листья повисли, ни травинка не шелохнется. Рычание гулким эхом прокатывается по замершему лесу, во весь опор мчится к ней; ржаво-белые пенистые клочья облаков растекаются по свинцовым грудам туч.
«Ой! Вон она, вот! Над самой головой!» — вскрикивает Аннеле, а сама словно приросла к земле.
Завывая, выкручивая деревья, налетает на лес ураган, срезает вершины, и те с треском валятся на землю. Аннеле и глазом моргнуть не успела, а в лесу уж полно бурелома. Тучи рычат над головой, заглушают вой урагана.
И вдруг в лесу зазвенело, засвистело, дробно застучало, словно речная галька рассыпалась по огромному листу жести.
«Град, град!» — шепчет Аннеле и, сжав кулачки, бросается, не помня себя, в ту сторону, где должны быть свиньи. Но их давно и след простыл. «Домой, домой!»
Но куда бежать? Вокруг, куда ни глянь, мутная завеса дождя. Огромные градины, даже кусочки льда секут Аннеле по спине, плечам, шее, ладошками она пытается прикрыть голову, бежит наобум в сторону дома, как вдруг мутная пелена прямо перед глазами озаряется ослепительным зигзагом, и она падает на землю.
Очнулась Аннеле от нового удара грома. Зубы у нее стучат, руки и ноги онемели; шевельнула одной ногой — на месте, шевельнула другой — эта тоже двигается.
«Вытерплю, вытерплю, что бы ни было! Не убьет, не убьет!» — твердит она, успокаивая себя, вскакивает и мчится дальше.
И тут из пенящихся, бурлящих потоков дождя выныривает человек в рубахе, с непокрытой головой. Отец.
Молча подхватывает он Аннеле, сажает на плечи и шагает по клокочущей воде, загребая ногами, словно веслами.
Только вошли в избу, вокруг сразу же натекла огромная лужа. Куда ни встанут, от них тут же ручейки разбегаются в разные стороны. Зашла в избу бабушка, на голову наброшено толстое одеяло — свиньи по огороду разбежались, с трудом в хлев загнала.
Аннеле даже в жар бросило. «Вот тебе и помощница! — слышится ей. — Не доглядела!»
И вот лежит она уже в постели, все на ней сухое, только глаза мокрые.
— Отчего глаза мокрые? — спрашивает мама. — Сильно градом побило?
— Побило.
— Больно так, что ли?
— Не-а.
— Так что ж плачешь?
Молчит Аннеле.
— Сильно испугалась?
— Испугалась.
— Оттого и плачешь?
— Не-а. Стану я от этого плакать!
— Так чего нюни распустила? — уже строго спрашивает мать. И Аннеле выталкивает сквозь рыдания: «Не досмотрела! Не досмотрела!»
Мать треплет Аннеле по голове, смеется.
— Что ты, глупышка! Вся в синяках, а туда же — не досмотрела! Тут и взрослый бы не справился.
В комнате тихо и прохладно, как и утром. Нигде и мышка не зашуршит. Аннеле смотрит на солнце — оно теперь заглядывает в окно на другой половине избы. Только что груша стояла вся в красных полосах света, алело поле молодого клевера, и вот все погасло. Солнце словно тонет в земле — вот половина осталась, вот край — краешек — два длинных-длинных золотых луча…
Два золотых луча зацепились за ресницы и повисли на них.
В ПРЕДЧУВСТВИИ ДОРОГИ
Понятие о времени пришло к Аннеле только в Авотах. До этого глаза застилала розовая мгла, из которой, словно золоченые шпили башен, выплывали мгновения, миги, переливались, мерцали невиданным светом и гасли. Но стоило приехать в Авоты, время словно привязало нить от своего огромного клубка к последнему придорожному столбу и давай из него разматывать дни и ночи, зимы и весны, недели и месяцы, месяцы и годы. Время то летело на крыльях, то с места не двигалось, как лентяй-лежебока. Но если уж заберет что-нибудь, больше ни за что не отдаст, кого уведет, тот уж не возвращается.
Раньше, бывало, со стороны Аков каждую субботу спешила домой Лизиня. Теперь она живет в Елгаве. Но наступает суббота, и снова Аннеле у окна, смотрит вдаль, ждет. Так ей хотелось, чтобы пришла Лизиня, чтоб не было больше того времени, которое увело сестричку в дальнюю сторону. Как хотелось порвать ей нить и выбросить тот кусок времени, забыть о нем. Не будет его, и Лизиня сможет вернуться. Как молила Аннеле, как звала: «Приди, приди, Лизиня! Приди, приди, Лизиня!» Закрывала глаза, приговаривала: «Открою, а на тропинке стоит Лизиня, будто и не уезжала, идет ко мне, как прежде». Но ничего не получалось. Увидеть Лизиню можно было только с закрытыми глазами, сомкнешь ресницы — и вот она, несется, словно на крыльях, улыбается, привычно размахивает своей корзинкой. А вот она уже в избе. Светлеет вокруг, все улыбаются, и отец, и мать. А вот они обе бегут по полю, зимой Лизиня ее через сугроб переносит, летом вместе в лесу, среди звонких птичьих голосов, среди цветов. И говорят, говорят, наговориться не могут. И тогда так легко на сердце делалось. Словно запутанный клубок размотаешь, все понятным становится.
Но были дни, когда Аннеле к окну и близко не подходила. Не любила его больше. Знала — хоть все глаза высмотри, никогда Лизиня не придет с той стороны. Время то миновало.
Аннеле казалось, что время бывает разное: белое и черное. Раньше оно всегда было белое-белое, мелькнет только кое-где черное пятнышко: отругают или накажут за то, что взрослые называют проделками. Пусть себе называют, как хотят, беда невелика. Постоишь недолго в углу — как силе противиться? — поплачешь, горе все изойдет слезами, повернешься на одной ноге, на другой, и опять время яркое, белое, как само солнышко. Теперь все по-другому. Темные пятнышки времени расползались, заслоняли собой мгновения, минуты, превращались в часы. А то вдруг привяжется какая-нибудь мысль, мучает, докучает. На самом деле все так, как видится, или нет? Чувствует, что на многое вокруг другими глазами смотреть надо, по-другому понимать; видеть и то, что глазам не видно. И кажется ей иногда, что люди говорят не то, что надо, смеются, когда не смешно. И такое могут сказать со смехом, что тот, кому скажут, от злости, досады и боли чуть не плачет. Особенно батрачки вдруг ни с того ни с сего начнут браниться, выкрикивать скверные слова. Странно, как можно злить; обижать друг друга и этому радоваться? Какая может быть радость, если радует вовсе не то, что любишь — как любишь солнце, цветы, птиц, лес, Лизиню, бабушку, отца и всех-всех таких добрых и хороших. Странно, когда радует, что другой сердится, странно, что нравится браниться. Непонятно все это. Должно быть, это и есть черная радость. Радость, которая не приносит добра.
Дел у Аннеле сейчас не меньше, чем у взрослых. Вот уже второе лето каждый третий день пасет она скот. А как пришла осень, снова заняла она свое старое место — наматывать нить на цевки. Были дела, которые и летней, и зимней порою выполняли дети: полоть, травы нащипать, листьев нарубить, вязать, шить, трепать и чесать шерсть. Работа была не в тягость. За каждое дело бралась горячо, но уж если не нравилось, то сидеть становилось невмоготу: все сидишь и сидишь, а глаза все сто раз сделали-переделали и забыли. Мысли жили не в лад с руками — сердились на них за то, что такие неповоротливые, непроворные. А то и вовсе забудут о них — улетят далеко-далеко, в неведомые страны. И тут же отец легонько — толк! «О чем задумалась, дочка? Так ли работать надо?» С быстротой молнии мысли возвращались к рукам, исправляли ошибку, но удар и обиду помнили долго. А дел переделать мыслям надо было видимо-невидимо: и новые земли сотворить, и населить их образами; мысли приходили и уходили и сладу с ними не было никакого. Что поделаешь, если уводят они ее совсем не туда, куда велено? Что поделаешь, если из-за них валится все из рук, если заставляют они забывать то, что для взрослых самое важное? Вот тогда-то часто доставалось ей, и довольно ощутимо: не думай, не мечтай! И если доставалось от матери, то обидно бывало до слез. Как может мама наказывать ее за то, в чем она не виновата? Мать тогда становилась далекой, чуть-чуть чужой. Она, верно, ничего не знала об Аннелиных мыслях. Нет, наверняка не знала. Ведь как часто случалось — выскочит у Аннеле неожиданно вопрос или возглас, взрослые и давай смеяться да еще приговаривают, чтоб впредь глупостей таких не говорила. Это ее отпугивало. И стала она тщательно скрывать свои мысли и игры от взрослых, стала понимать, что ее обижают, и как раз те, кто был ей дороже всех. Когда ее наказывали, она думала: взрослые наказывают потому, что им власть дана на это; провинилась ты или нет, надо все перетерпеть; и никогда не плакала, не просила прощения. За это слыла она упрямицей. Другие дети, мол, плачут, прощения просят, а она ни за что. Батрачки все уши Аннелиной матери прожужжали — и радости ей от этого ребенка не видать, и все-то она будет делать по-своему, и своенравна, не то, что другие.
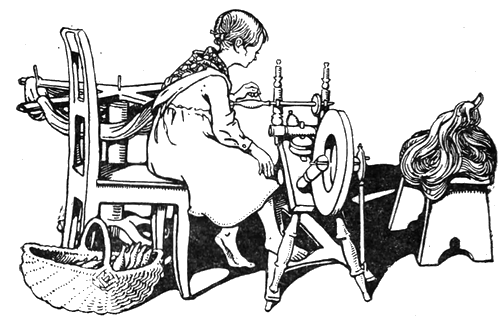
И тут мать принималась еще строже следить за тем, чтобы деревце Аннелиной жизни не пускало ненужных ростков, не раскинуло бы пышной кроны упрямства. Что-то было в Аннеле такое, что противилось миру взрослых, но сама она не считала себя упрямой, огорчалась, что не похожа на других детей и готова была по первому зову откликнуться, при первой же улыбке броситься маме на шею, прильнуть к ее груди.
Но приласкать ребенка, понаблюдать за ним, проникнуть в его мир — до того ли было рабочему человеку. Такое могли позволить себе только богачи, господа, что жили в роскошных дворцах и изнывали от безделья.
Невесело стало без доброй, отзывчивой Лизини, которая одна была отрадой для Аннеле. Даже затейница и насмешница Карлина стала молчаливой и неулыбчивой. Однажды, зайдя к бабушке в каморку, Аннеле наткнулась там на Карлину с красными, заплаканными глазами.
Впервые она видела плачущей веселую красивую батрачку.
— Отчего Карлина плачет? — с тревогой спросила Аннеле.
Не сразу ответила бабушка. Закрыла большую книгу песнопений, в которой каждая песня начиналась красивой продолговатой картинкой и буквой, сплетенной из причудливых завитушек, а остальные буквы были такие большие, что хоть рукой трогай — у нее одной была такая книга, — поставила ее на полку и только тогда сказала: «Карлина и Ингус порешили идти к пастору».
Почему Карлина должна идти к пастору с Ингусом, Аннеле не поняла, но что при этом полагалось плакать, ее не удивило — все, кто собирался идти к пастору, обычно плакали.
Однако Карлину отчего-то стало жаль. Жаль тех дней, когда Карлина была веселой, часто смеялась, хоть нередко и подшучивала над Аннеле.
Многого было жаль. Многое причиняло боль. Наступило черное время, которое так часто прорывалось сквозь бело-розовое.
— Что с тобой? — не раз спрашивали взрослые.
— Болит у тебя что? — спрашивала мама.
Могла разве объяснить Аннеле, что болит?
— Растешь. Так бывает: то там поболит, то тут. То одна косточка, то другая. Все оттого, что растешь.
И в Авотах было уже не так, как прежде. Что-то должно было измениться. Смутно сознавала Аннеле, что это «что-то» касается всех их и дяди Ансиса.
Дядя Ансис был хозяином в Авотах и младшим сыном бабушки. Каждый старший сын, когда миновал его черед идти в солдаты, оставлял дом младшему брату, потому что в те времена хозяева не служили в русской армии. Каждый делал для своих все, что мог, лишь бы спасти от рекрутчины, иной раз даже больше, чем если бы тот заболел и был при смерти. Так вот и Авоты переходили от брата к брату, пока хозяином не стал самый младший.
С первой же встречи отношения с дядей Ансисом у Аннеле установились не совсем дружеские. Когда она приехала из Калтыней, дядя, увидев ее, всплеснул руками и с деланным удивлением воскликнул: «А кто там приехал! Моя маленькая невестушка! Ну, иди же ко мне, иди!» и попытался обнять и поцеловать девочку. Но Аннеле стала плакать, царапаться, колотить руками и, вырвавшись, ничего лучшего не нашла, как спрятаться под кроватью. Дождавшись, пока все стихло, она смело выбралась из своего укрытия, но тут, откуда ни возьмись, налетел на нее дядя, подхватил своими большими, сильными руками и поцеловал, невзирая на ее крики и сопротивление. Зато потом, когда он отпустил ее, она чуть не час навзрыд плакала, пока мать не рассердилась и, не зная причины слез, виня во всем ее упрямство, не поставила Аннеле в угол, чтобы та на досуге как следует подумала. С тех пор Аннеле сторонилась дяди, хотя смотреть, что делает он, как и о чем разговаривает, ей очень нравилось.
Дядя часто уезжал. А когда бывал дома, редко оставался один — приезжали гости. Случалось, что он привозил их с собой. Говорил: студенты. Все были молодые и веселые. Жили, бывало, по нескольку дней кряду. Пили и пели. Все чужие песни на немецком языке, редкую песню споют латышскую. И сами на разных языках говорили. А бабушка тогда чайник за чайником кипятила и мясо жарила. Но видно было, что такие гости ей не по душе. То и дело слетало у нее с языка «пустомели». Больше ничего она не добавляла, но слово это и само по себе было нелестным. Потом распорядится лошадей чужих выпрячь, задать им корму — если про них забывали, они начинали ржать, бить копытами землю в ожидании ездоков. А то заедут гости ненадолго. Тут же бросались запрягать, и дядя уносился с ними.
Дядя привозил новые плуги, бороны, кое-что из утвари. Посуду бабушка прятала в шкаф и никогда ею не пользовалась. Не признавала всякие там «жестянки».
А зайдет, бывало, разговор о дяде Ансисе, бабушка только и скажет: «Новые времена, новая жизнь. Ничего-то я в ней не разумею, пусть делает, как знает».
Любимую упряжную лошадь дяди Ансиса часто гладила, кормила лучше других, все приговаривала: «Загонят, загонят бедную лошадку».
Дядя всегда куда-то спешил, всюду опаздывал, приезжал, когда его и ждать перестанут, невесть что передумают. Новые мысли, новые планы прямо-таки одолевали его. С южной стороны дома дядя разбил большой сад и собирался расширять его из года в год.
Братья только плечами пожимали: «Денег он разве не требует? Да и что сад? Хлебом, что ли, накормит?»
— Не сразу, конечно, со временем принесет он мне хорошие деньги, — отвечал по обыкновению дядя и продолжал задуманное.
Не только свой хлеб, но и скупленный по соседним хуторам возил он на мельницу, а муку отправлял в город. За это окрестные хозяева прозвали его купцом.
Купец так купец, от этого дяде ни жарко ни холодно.
Большую часть времени проводил он в городе, по кабакам да судам, тяжебщик он был большой. Откупая в надел свой дом, затеял спор с самим графом за какую-то обиду и от тяжбы не помышлял отказываться и только посмеивался, когда ему говорили, что сломает он себе на этом шею.
Дядю часто приглашали почетным гостем, особенно на похороны, говорили, что никто не умеет проводить усопшего в последний путь так, как Авот, и никто, ни один пастор, не умеет говорить краше, чем Авот. Воскресным утром за чтением молитвы такая вдруг дрема нападала на всех, что изба превращалась чуть не в сонное царство; тут дядя поднимал глаза от книги и начинал говорить своими словами. Лица тогда обращались к нему, глаза светлели — все слушали, затаив дыхание, утирая слезы. Слова его текли плавно, и слова-то все знакомые, понятные, понятнее, чем у пастора, — ведь он знал, что у кого на сердце, кого что печалит, кого что радует.
Но когда видела Аннеле, как бабушка останавливалась посреди двора и глядела вдаль, туда, где виднелась широкая дорога, или как поднималась среди ночи и тихо, словно тень, стояла у окна, знала она, что ждет бабушка дядю Ансиса, и ни один ее ребенок не причиняет ей столько хлопот, сколько этот статный, широкоплечий парень.
Как-то, дело уж шло к весне, дядя подозвал к себе Аннеле.
— Подойди-ка ко мне! Знаешь, что случится? А ну, угадай! Не можешь? Ну так и быть, сам скажу — сестричка на пасху приедет. Вот так! За это можешь и спасибо сказать!
Аннеле захлопала в ладоши, зарделась от радости, но спасибо так и не сказала — осталась в долгу. Да дядя, похоже, не очень и ждал.
И вот настало вербное воскресенье. Теплое, теплое. На узкой деревянной скамье возле батрацкой избы сидят отец, мама и бабушка. Беседуют, похоже удручены. «О чем это они говорят?» — нет-нет да и глянет Аннеле с тревогой в их сторону. Мать молча кивнула ей, и когда девочка подошла с вопросом в глазах, посадила к себе на колени, прижала крепко-крепко. Аннеле замерла от счастья — как редко выпадает ей такое! Разрешили остаться, слушать, о чем говорят взрослые!
— Неужто другого исхода нет? И слово ваше последнее? — спросила бабушка, словно не хотела верить тому, что услышала.
— Последнее, мать. Нынче утром с Лаукмалисом окончательно поладили. На Юрьев день и уйдем, — промолвил отец.
— Что ж, Лаукмалису счастье привалило. Ну, и ладно, и хорошо, такое ж дитя мое, как другие. Но что станется с Авотами без твоего догляда?
— Что вы такое говорите, мама? Что изменится? Не калека хозяином остается, здоровый человек. Да и умный человек к тому же.
— Отродясь не ходил он и не станет ходить за плугом. Кому как не тебе знать это.
— Приспичит, так станет.
— Нет, сынок. Слишком легко ему все доставалось. За годы, что прожил ты здесь, хозяйство-то вон как поднялось, сердце радовалось, глядя. Чужой разве станет так спину гнуть, трудиться в поте лица? А по-другому в Авотах и работать нельзя — коли хочешь здесь жить да хлеб есть. Малосильному горы ничего не вернут.
— Ладно, ладно, мать. Столько сил отдавать только тогда и можно, если никто по рукам, по ногам не связывает. А Ансис что ж? Да и жениться задумал осенью. Кто знает, как все обернется, если промеж нами чужой окажется? А мешать никому не хочу. Ни себе, ни другим зла не желаю.
— Что ж, чужой он и есть чужой. Но это все ж дом твоего отца.
— Из которого ушел я с посохом в руке.
— Так, сынок, так, — вздохнула бабушка. — Будь моя воля, так бы не вышло, но что я могла поделать? Думаешь, не терзается мое сердце?
— А кто мог и должен был что-то сделать, и пальцем не шевельнул. Пообещали мне братья, что будет и у меня свой дом, свое хозяйство — ведь каждый из них получил долю наследства, только мне ничего не досталось. Имущества мне не дали, зато обещаний надавали: понадобится, мол, получишь. А когда понадобилось, когда первое место подвернулось, кто стал отговаривать? Братья. Тут, мол, плохо, и там плохо, и на третьем месте плохо. Тогда-то и понял я — что ни попадись мне, от всего будут отговаривать, а то как бы помочь не пришлось, завершить дело по справедливости, как обязаны перед богом. Смирился я, отказался от мысли о своем куске земли. Да коли б и захотели мне помочь, никакого согласия меж ними не было б. А причиной ссоры между братьями стать я не хотел.
— Только и есть у тебя богатства, что справедливый ум, — заметила бабушка.
— Да, не могу терпеть неволи и несправедливости. Не могу по чужой указке работать, оттого и решил — пойду лучше к Лаукмалису хутор новый ставить. Работа тяжкая. Придется новь подымать, там же пустошь голая, но не я первый, не я последний. Зато уж делать буду, что по душе, а не ждать, когда прикажут сделать то, что и делать-то стыдно. Как все сложится, еще не знаю. У Лаукмалиса жить не доводилось. Справедливый он. Может, самым лучшим братом окажется. И еще: там сможем больше скотины держать, фунт-другой масла продадим, глядишь, парень в городскую школу осенью поедет. Да что уж говорить теперь. Решено, значит так тому и быть.
— Может, и впрямь так оно лучше. Что ж, с богом.
Бабушка попыталась встать и не смогла.
— Ноги отяжелели, — улыбается она. — Посидишь, так и вовсе немеют. Вот она, весна, косточки ломит.
Отец помог ей подняться и проводил в гору.
Мать сидела молча, только время от времени вытирала глаза. Она и сейчас молчала.
Впервые Аннеле слышала, чтоб отец с бабушкой так говорили. Недоумевая, поглядывала она то на одного, то на другого. Что все это значит? Что такое стряслось? Что еще должно случиться?
— Отец уйдет из Авотов? — спросила она испуганно, когда они с матерью остались вдвоем.
— Не только отец, все мы уйдем.
— Из Авотов?
— Да.
— Уйдем из Авотов? Насовсем? — девочка своим ушам не верила.
— Да, детка, да. Скоро уж, на Юрьев день.
— Нет, нет! — замотала головой Аннеле. — Это ты шутишь со мной? Ты нарочно, я знаю.
— Ты же слышала, что говорил отец. Разве шутил он?
— Но как же можем мы уйти из Авотов?
— А ты думала, что мы здесь век проживем? Это же не наш дом. Нет у нас дома нигде. Знай об этом. Ты уже большая. На Юрьев день и уйдем.
Да, все это было правдой. Отец не шутил, и мать не обманывала девочку. Аннеле слушала, как будто все это ее не касалось, и понять ничего не смогла. Никогда, никогда не думала она, что настанет час и придется покинуть Авоты. Подошел отец, присел с ними рядом.
— И для тебя настанут трудные дни, — сказал он Аннеле. — Каждый день пасти станешь.
— Какой из нее пастух, — жалеючи произнесла мать, лаская девочку. — Только восемь исполнилось. Да еще овцы, которых Лаукмалис сулился пригнать на лето. Где ж ей с ними управиться!
— Не так страшно. Зачем работой пугать, ни темная, ни светлая стороны которой ей неведомы. Пастбище большое, на версты тянется, ни полей, ни пашен нет, так что и стеречь нечего. Да и дочка у нас не балованная. Сызмальства к труду приучена. Как сама думаешь, сможешь пастушить, как большая? — улыбнувшись, обратился отец к Аннеле, пытаясь скрыть за улыбкой чувство горечи.
Девочка не нашлась, что ответить. Она была оглушена столь неожиданно свалившимся на нее известием. О переезде говорили, как о деле решенном, она должна была смириться с неизбежностью надвигавшихся событий, с неотвратимостью будущего, в которое и ей позволили заглянуть; и она поняла, что впредь труд будет для нее не игрой, а нелегкой обязанностью. Все эти чувства Аннеле испытывала впервые. И казалось ей, что все происходит не наяву, а во сне.
— Что поделаешь? Неужто я с легким сердцем покидаю Авоты? Здесь стояла моя колыбель, здесь прошло детство. Именно потому и бился я все эти годы. Неужто в радость каждую весну рушить собственное гнездо? Но такова она, жизнь!
— Жизнь? Жизнь? Кто она, эта жизнь? — подняла испуганные глаза Аннеле. Но ни отец, ни мать словно не заметили ее вопрошающего взгляда и продолжали начатый разговор.
— Послушай ты тогда своих братьев, — промолвила мать, — не пришлось бы тебе ходить с места на место, был бы у тебя свой дом, свое хозяйство. Разве мало возили тебя братья по хуторам, где были дочки на выданье? Мог пойти в примаки. Но не захотел. Взял бедную батрачку, и вот оно как все обернулось.
— Братья хотели, чтоб жил я их умом, а не так, как мне по душе. Я же выбрал жизнь с тобою в бедности, а не с богатой да нелюбимой. Ты была девушка совестливая, пригожая, работящая, чего больше желать?
— Я тогда еще всерьез на тебя не заглядывалась, — проронила мать с глубоко затаенной улыбкой.
— Для детских ли ушей все это? — Отец обеспокоенно обернулся к Аннеле, словно собираясь ее отослать.
— А что дурного мы говорим? — заметила мать, еще крепче прижимая к себе дочку. — Я думаю, все наши речи и ребенок может слушать. Да, заглядывалась я тогда на другого парня, только и ждала, когда отступишься от меня, пойдешь в примаки. Потому-то все тянула и тянула с ответом. В Упесмуйже, где тогда батрачили, был парень, может, помнишь…
— Юрген? — удивленно произнес отец.
— Он самый. Красивей тебя был и на выдумки горазд.
— Знаю, знаю. Ветрогон!
— По молодости разве понимаешь? Нравился он мне. А родители все отговаривали — Юрген, мол, перекати-поле, никто ни роду, ни племени его не знает. Нынче здесь, завтра там. Авот, мол, тот другое дело. Все говорят — человек порядочный. За таким мужем всегда сыта будешь. Вот так и случилось — то ли родительский совет, то ли верность твоя неколебимая, то ли беспечность Юргена — а может, все вместе — только мысли мои все чаще стали к тебе обращаться, все о тебе думала, пока сама не заметила. И вот как-то по весне, черемуха уж зацвела, была я воскресным утром у родителей в Межсаргах и слышу вдруг, как зазвенел лес — идет кто-то, песню поет. А уж как славно ты пел тогда! У меня точно пелена с глаз упала: до чего, думаю, пригож и хорош должен быть человек, который так поет. И нет на всем белом свете лучшего. Вот тогда и решила: пойду за тебя.
Аннеле захныкала. Незнакомые слова обрушились на нее тяжкой ношей, от которой как-то надо было освободиться.
Мать умолкла, словно спохватилась — может, и вправду неладно так говорить при детях? Отец пересадил девочку к себе на колени.
— Что плачешь, дочка? Мы ведь все вместе. Живы-здоровы. И вся жизнь у нас впереди. Все уладится с божьей помощью.
Глаза его лучились, он наклонился и поцеловал дочку. А потом и мать поцеловала и крепко прижала к себе. Неслыханное, невиданное, небывалое чудо в жизни Аннеле!
С порога хозяйской избы бабушка звала отца. Бегом избежал он на горку, послушный, как ребенок. А мать не шевельнулась. Казалось, она далеко-далеко отсюда, наедине со своими мыслями.
— А что вы делали в Упесмуйже? — спросила Аннеле.
— Где? В Упесмуйже? Отец был там старшим работником, я по дому помогала. Я ведь тоже молодой ушла из отчего дома — какой у лесника достаток, да если еще детей мал мала меньше. В Упесмуйже только и пришлось мне батрачить. Господа людьми оказались, не то, что другие немцы, и работа у меня спорилась. Потому и жаловаться не на что было. Не очень-то хотели нас отпускать, хотя на свадьбу нашу смотрели милостиво. Но отец думал, что в Айзприедах мне легче будет, чем в имении. И в Айзприедах неплохо было. Молодому везде ладно. Но уж как несладко с места насиженного подниматься — только обживешься, обвыкнешь, пора расставаться. Трудно было уходить из Айзприедов, где после свадьбы жили, где дети родились, а уж отсюда и того горше.
— А почему отец ушел из Айзприедов?
— А вот почему. Не может отец жить, затаив зло. С Айзприедом, свояком своим, мужем сестры, они ладили. Отцу, когда нанимался, выделили кусок земли, которую он сам и поднял, и обработал. А когда? Вечерами да ополдень, от сна время урывая. И с каждым годом отцовская пашня все щедрее становилась. И позарился на нее другой. Пришел в Айзприеды брат хозяина. Подумал, видно, что отцу лучшая земля досталась, та, что ему причитается, как ближайшему родичу. Нашептывал Айзприеду, пока тот не отдал. Отец не захотел смириться с этим. Вот и ушел.
И в Каменах чуть не то самое приключилось. По уговору, мог отец засеять пуру пшеницы на лучшей земле, но Каменис обманул его и выделил самую плохую землицу, так что летом костру только и накосили. Не мог отец простить такое брату и на другой год не остался, даром, что Каменис с утра до вечера вокруг ходил, уговаривал, невесть что обещал, увидев, какой отец работник. Но не верил отец ему больше.
С пригорка спускался отец, и мать смолкла. На этом и закончился разговор.
Аннеле шла медленно-медленно — тяжелая ноша досталась ей нынче. Казалось даже, что за этот час созрело в ней все, что исподволь копилось четыре года, проведенные в Авотах. Разговор родителей она восприняла не только как пересказ чего-то происходившего или происходящего, но ощутила и свою причастность к тому, что происходит, ощутила свою связь с чем-то глубоким, неосознанным. И хоть больно было покидать Авоты, горько и обидно за отца с матерью, которым выпала в жизни нелегкая доля, неведомая сила помогала смело идти навстречу чему-то смутному, далекому, вселяла уверенность в то, что удастся преодолеть в жизни любую преграду.
Почти все работники собирались уходить в Юрьев день из Авотов, каждый в свою сторону. Дядя решил больше не нанимать батраков, обремененных семьей, и подрядил только парней и девушек. Карлина и Ингус подались в соседнюю волость. Старой Анюс работу в имении давать перестали, и она перебралась к своей дочери. Зангус со своими ушел еще в прошлом году. Слово свое дядя сдержал. На пасху привез из Елгавы Лизиню.
Ее отпустили до Юрьева дня, и она решила помочь своим перебраться на новое место.
Лизиня вытянулась, и Аннеле казалось, что она еще больше похорошела, но и стала чуть-чуть чужой. Карлина долго и печально смотрела на нее.
— Побледнела наша дикая розочка в этом городе, — только и проронила.
— Погоди, через неделю снова стану румяная. По лесам да лугам набегаюсь, как бывало. В избе ни часу лишнего не просижу.
Где только ни побывали они с Лизиней — и в лесу, и на заливных лугах. Но разговоры уж не прежние меж ними были. Часто-часто засмотрится Лизиня вдаль, словно сама с собой беседует. Задумается старшая, а младшая потревожить ее не решается. Да ей и самой было о чем поговорить с пригорками, с деревьями.
— Аннеле, Аннеле, хочешь покинуть нас? — спрашивали они с укоризной.
— Нет, нет, — кричала в ответ Аннеле.
— Уйдешь и забудешь.
— И уйду, не забуду, никогда, никогда, ни одного деревца не забуду, ни одного холмика.
Наступила пасха. На горе между двумя старыми березами повесили качели. Вешать их помогал и Ингус — пусть помнят о нем в Авотах. Понабежали ребятишки и молодежь с соседних хуторов. Все славили легкие качели, взлетающие высоко-высоко в небо. На другой день пришла даже челядь из имения. Стройный, красивый парень в сапогах с высокими блестящими голенищами и красном картузе как подошел к Лизине, так и прилип, словно репей.
Весь гнев, на который только была способна Аннеле, отражался в ее взгляде, когда она смотрела на парня, но тот и не думал уходить. Только сбегал куда-то, и снова тут как тут. Но и Аннеле от Лизини ни на шаг. Когда красивый парень заметил это, он учтиво посмотрел ей в глаза, как бы предлагая: «Ну, что, будем друзьями?» Но глаза Аннеле говорили другое: «Не будем, уходи отсюда!»
А Лизиня, глянув на них, засмеялась, тряхнула головой и убежала качаться. И два мальчугана, подрядившиеся на лето пастушить, тут же натянули веревку.
— Высоко качать?
— Что есть силы!
Они и давай стараться. Качели летали, словно челнок, с каждым разом все выше и выше. Вот они самую малость не достают до перекладины, вот уже вровень, а вот и над нею взлетает золотистая головка с пышными длинными косами.
— Ой, как далеко видно! Синие горы, синие леса, красные избы! Никому так далеко не видно! — ликовала она. А на красивого парня больше так ни разу и не глянула.
И еще после пасхи случилось два важных события.
На пасхальной неделе Ингус и Карлина снова ездили к пастору, а с ними отец и дядя Ансис.
А дома бабушка готовила для них угощение — варила похлебку с лапшой и жарила мясо. Когда они вернулись, всех позвали к столу.
Но сели не сразу. Дядя Ансис с торжественным видом сложил руки и обратился к таким же торжественным и смущенным Ингусу и Карлине — говорил о новой жизни, о радостях и бедах, о любви и согласии. Карлина то и дело шмыгала в рукав. После хором прочитали молитву. Аннеле поняла, что теперь Ингус и Карлина стали мужем и женой. Должно быть, это хорошо, но это уже была не та Карлина.
На следующей неделе брат ходил к конфирмации. Когда Аннеле увидала его, высокого, стройного, в полусуконном кафтане, с белым платком на шее, она испугалась и отступила. Неужто теперь почитать его надо, как взрослого? Это что ж, теперь всегда придется его слушаться? Над этим надо было хорошенько подумать. Брат с сестрой, как вернулись после полудня из церкви, так все и ходили вместе, только и говорили о том, как теперь будет, что ждет их впереди. А для Аннеле не нашлось и словечка.
Последние дни промелькнули незаметно, даже оглянуться не успели, как настала пора уходить. Вот их всего пять осталось до Юрьева дня, вот три, и вот настал последний вечер в Авотах.
Все ходили притихшие. К ужину никто не притронулся.
Занимался рассвет нежеланного сердцу Юрьева дня, о котором было думано-передумано и в который все еще не верилось.
«Добегу до опушки, еще до большой березы, еще до родничка», — решала Аннеле.
— Не уходи далеко, дочка, вот-вот двинемся. За скотиной надо приглядывать, — строго сказала мать, разом обрывая все мысли девочки о прошлом, настраивая ее на новые обязанности.
В нынешний Юрьев день Аннеле на воз не сажали. Она бежала по обочине дороги и присматривала, чтоб с ее стороны животина не забредала в только что проклюнувшиеся зеленя.
Глянет назад раз, глянет другой — Авоты все дальше и дальше. Отступают назад лесистые горки, напоенные ароматом душистой смолы, родниковые овраги, цветущие яблоневые сады.
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления