Онлайн чтение книги
Визитная карточка флота
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. КОРАБЛИ РОЖДАЮТСЯ НА СТАПЕЛЯХ
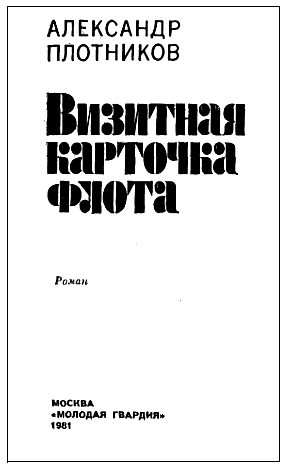

Глава 1
Телеграмму доставили за полночь. Шаркая войлочными туфлями, Иван Егорович вышел в прихожую, отворил дверь. Пряча виноватую улыбку, не зазря ли потревожила старого человека, юная почтальонша протянула ему свернутый манжетиком бланк.
— Благодарствую, дочка, — ласково кивнул ей Иван Егорович, но сразу разворачивать бандерольку не стал.
«Небось ктой-то из прежних знакомцев проездом жалует», — соображал он, возвращаясь в комнату. Редко кто за последние годы, не считая детей, наведывался к нему специально, зато известно, что все пути в стране ведут через Москву. Потому и держал в хозяйстве отставной мичман две раскладушки с полным ночлежным припасом при каждой.
Подсев к столику и включив корабельную лампу с железным откидным колпаком, Иван Егорович не спеша водрузил на нос очки, раскатал и расправил ребром ладони пахнущий клеем листок.
«Встречай восемнадцатого поезд тринадцать вагон восьмой много вещей возьми такси целую Татьяна» — значилось на бумажных полосках.
От неясной тревоги захолонуло в груди. Приезжала дочь, свет его очей. Но собралась она в неурочное время: сентябрь на дворе, внук Димитрий в школу пошел. Может, купить чего приспичило? Тогда на кой лях «много вещей, возьми такси»?
Так и не заснул в эту ночь Иван Егорович. Ворочался на мягкой, с поролоновым матрасом, кровати, вздыхал и глотал вязкую слюну. Припомнил недавнюю обиду, когда шибко звал внука к себе на лето, но дочь с мужем устроили Димку в какой-то модный оздоровительный лагерь.
Манило курнуть, только год уже, как бросил баловаться табачным зельем, дав зарочное слово лечащему врачу…
Пошаливало сердце у Ивана Егоровича, нет-нет да и давало о себе знать. Корабельные эскулапы нашли у него «грудную жабу» незадолго до того, как пришлось списаться с последнего в его жизни корабля. А непогоду он мог предсказывать не хуже барометра: чувствовал, как ныли кости в суставах, и в такие дни был хмур, серьезен, вспоминал о дальних плаваниях, о друзьях. И все же здоровье никогда не подводило его на море; только здесь, на берегу, пришел он к мысли, что стар уж стал, пожалуй, и болезни его не выдуманы докторами.
Закадычный друг Иван Бочкарев, боцман с миноносца «Счастливый», еще до войны несколько раз ездил в отпуск купаться в теплых сероводородных ключах на Камчатке. Привозил с собой снимки: гейзеры, теплые реки, туманы над распадками… Красотища! Звал с собой, говорил, что горячая камчатская вода ревматизм за месяц смывает как пену. Боевой был моряк, наверное, и сейчас бы тянул нелегкую матросскую лямку, да погиб от фашистской торпеды неподалеку от Шпицбергена, когда проводил в Заполярье транспортные караваны…
Мысли Ивана Егоровича снова вернулись к дочери, описав какой-то невидимый, но широкий круг, в котором могло бы уместиться полжизни. Думал он о Татьяне в последние годы не меньше, а больше, чем раньше. Это можно было объяснить новым его сухопутным образом жизни, а может быть, и старостью. Полвека принимал он соленые ванны, дышал колким морским воздухом. Помнил все моря-океаны… А теперь только мысленно мог перенестись туда, за тридевять земель. Снились ему морские сны: жестокие штормы, ласковые океанские дали.
«Сейчас бы сделать хоть две-три затяжки», — подумал Иван Егорович, но сста не сдвинулся, так и лежал на койке с открытыми глазами. Еще больше маялся от того, что не с кем было поделиться нехорошим предчувствием. Третьегодняшним летом схоронил он на Перловском кладбище супругу свою Татьяну Трофимовну, с которой прожили без малого полвека, подняли на ноги двух сыновей и дочку. И хотя крутовато порой обходилась с мужем «мать-боцманша», но теперь по целковому заплатил бы Иван Егорович за каждое ее сердитое слово. Ведь ничто на свете не ценится дороже навсегда потерянного.
В шестьдесят семь лет овдовел Иван Егорович. Звали его после похорон в свои семьи сыны Андрей и Павел, приглашала к себе и дочь Татьяна. Не захотел. Отверг и услуги досужих кумушек, которые сватали ему младшую сестру покойной жены Алевтину Трофимовну: «И телом еще свежа, и на Татьяну страсть как похожа!» В ответ на такие слова Иван Егорович усмехнулся невесело:
— Хошь с одного стапеля каравеллы, да разное у них плавание…
Так и зажил бобылем отставной мичман, благо что неподалеку от его дома была столовая, работавшая без выходных. А будни проводил с ребятами в районном Доме пионеров, где на общественных началах руководил судомодельным кружком. Когда спрашивали, чем он занимается, отвечал:
— Корабли строю.
Одну из поделок Ивана Егоровича — модель крейсера «Аврора» в сотую часть натуральной величины — ребята пронесли через Красную площадь во время первомайской демонстрации. Радости старого моряка не было предела…
…Через неплотно задернутые шторы доглядел Иван Егорович, что в высотном доме напротив высветлились желтые пятна окон. «Вот уж и утро подкатило», — подумал он, поднимаясь с постели.
Часы показывали половину шестого. До прихода поезда оставалось добрых полсуток. «Надо квартиру хорошенько пролопатить, — оправдывался сам перед собой Иван Егорович, — одеяла гостевые выхлопать, пропылились небось на антресолях…» Да и в столовую надо было сходить пораньше, договориться со знакомой раздатчицей, чтобы плеснула в обед чего повкусней — с первого черпачка. Танюшка проголодается с дороги.
При мысли о дочке у него защипало веки. Давно уже выросла дочка, хорошего человека встретила, свое гнездо свила, а для отца она все тот же «поскребыш», любимица всей семьи. Отчего-то врезалась она в память такой, какой привезла ее Татьяна Трофимовна из эвакуации: в нагольном полушубочке и валенках, этакий неуклюжий мужичок с ноготок. Жаль, что не сохранились те шубейка да валенки, доконала их ненасытная моль.
Говорят, что внуки порой становятся роднее детей, а только не случилось с Иваном Егоровичем такого. Сын старшего, Андрея, Игореха, уже морское училище окончил, лейтенантом стал, двое пацанов у Павла, тот же Димка-невидимка подрастает, а сердце Ивана Егоровича по-прежнему тянется к дочери. Даже обиду единственную ей простил. А состояла она в том, что отказала когда-то Танюшка Сергею Урманову, сыну старого друга Ивана Егоровича. «Прости меня, папа, — сказала, — Сережа чудесный парень, но ведь сердцу не прикажешь…» И вышла за своего однокурсника по медицинскому институту Илью Юркевича. Иван Егорович даже слегка робел перед зятем, не по годам серьезным и рассудительным человеком, а особенно перед его очками в черепаховой оправе. Еще сызмальства вынес он убеждение, что человек в очках — ученый человек. И в самом деле зять теперь уже кандидат наук.
Иван Егорович протер паркетный пол веревочной шваброй — другого инвентаря он не признавал, — смахнул пыль со старенького полированного гарнитура, долго отдраивал заляпанную газовую плиту на кухне. Между делом оборвал листик календаря, на котором значилось: «18 сентября 1965 года, суббота».
К восьми часам он пошел в столовую, заказал на дом обед из четырех блюд, к одиннадцати занял очередь возле винно-водочного отдела гастронома, запасся бутылочкой армянского коньяка: сам он давно уже не выпивал, но знал, что Танюшка балуется рюмочкой-другой.
Все эти несложные хлопоты отвлекли мысли Ивана Егоровича, но когда он ехал на такси к Казанскому вокзалу, неясная тревога вновь заледенила сердце. «Нет, но с доброй вестью едет Танюшка», — тоскливо думал он.
На платформе он встал немного позади предполагаемого места остановки восьмого вагона, и первым, кого он углядел в окне, был внук Димка. Увидев деда, малец радостно заколотил кулачонками по стеклу. Чуть глубже в купе угадывалась высокая прическа дочери.
Из вагонной двери горохом посыпалась нетерпеливая молодежь, прямо с подножки бросаясь на шеи встречающих. Ивана Егоровича оттеснили в сторону, пару раз двинули в бок углом чемодана. Когда он наконец протиснулся в тамбур, вагон был почти пустым.
— Милый мой старенький папка, — целуя его, прослезилась Татьяна, позабыли тебя все, позабросили… Но ничего, теперь я буду с тобой, обстираю тебя, откормлю, выхолю!
Иван Егорович мысленно поразился этим ее словам, но по флотской привычке допытываться не стал, а занялся главным в данный момент делом. Увидев внушительную стопу чемоданов, опустил фрамугу окна, пригласил в купе носильщика.
— Деда, а твой крлейсер у меня стащили, — пожаловался Димка, забавно картавя, словно шарик в свистке катая во рту букву «р».
— Ничего, Димитрий, мы с тобой новый сварганим, — успокоил его Иван Егорович, берясь за ручку кожаного баула.
— В нем сто пудов, папа! — попыталась остановить его дочь. — Пусть носильщик возьмет.
— Носильщик тоже без работы не останется, — буркнул он, поднимая увесистую ношу.
Чемоданы сложили на железную, похожую на широкий утюг тележку, носильщик погнал ее своим, одному ему ведомым путем, а Иван Егорович с дочерью и внуком напрямик через вокзал пошли к остановке, где поджидало их нанятое заранее такси.
Когда ехали домой, то говорил один Димка; ни Татьяна, ни Иван Егорович не решались завести важный для обоих разговор при внуке и при шофере.
В квартире на тесной кухоньке хлопотала соседка по лестничной клетке: Иван Егорович попросил ее получить в столовой обед и разогреть к их приезду. Татьяна холодно поздоровалась с этой добродушной, заметно расплывшейся сорокалетней молодицей, с пристрастием оглядела чистую, обклеенную свежими обоями комнату.
— Дорого взяли за ремонт, папа? — спросила по-хозяйски.
— Зачем платить, — сухо усмехнулся Иван Егорович. — Чай, у самого руки не отсохли…
— Ну что ж, за встречу, папа, — подняла рюмку Татьяна.
— А мне ничего не налили… — капризно выпятил губы Димка.
— Прости, внук, я ведь не ждал тебя в гости, — сказал Иван Егорович. — Хочешь, я тебе смородинный морс разведу?
— Хочу, деда, хочу! — обрадованно заерзал внук.
Иван Егорович разболтал в бокале с кипяченой водой ложку смородинового варенья, подал внуку. Тот с серьезной миной потянулся чокаться к нетронутой дедовой рюмке.
— Ты сыт, Димуля? — немного погодя спросила Татьяна. — Теперь иди на улицу, знакомься с ребятами. Только смотри, чтобы со двора ни ногой! Понял?
— Понял, мамочка! — обрадованно воскликнул Димка, устремляясь к двери.
— Коньяк, милый папа, в холодильник не ставят, — наливая вновь свою рюмку, заметила Татьяна. — Пропадает букет.
— Я вашим манерам не обучен, дочка, — промолвил Иван Егорович. Сказывай лучше, что у тебя стряслось…
— Я ушла от Ильи. Ушла навсегда, — фальшиво-равнодушным тоном сказала Татьяна и залпом выпила коньяк.
— Так, — обескураженно крякнул отец. — Ушла, значит. А что же он тебе такого плохого сделал?
— Просто я поняла, что наш брак был ошибкой…
— Ваш брак… — сердито повторил Иван Егорович. — Браком все порченое называют… Плохого слова тебе твой Илья не говорил, с другими не путался. Чего тебе еще надо?
— Я не люблю его, папа.
— Восемь лет в ладу прожили, а теперь разлюбились…
— Тебе это трудно понять, папа… Слишком у нас с Ильей все было разложено по полочкам: каждый вечер прогулка в парке, дважды в месяц билеты в театр, летом семейная путевка в Сочи либо в Евпаторию. Даже спать вместе ложились два раза в неделю по расписанию… Благополучная скука! Голос ее сорвался, встав из-за стола, Татьяна вынула из сумочки пачку сигарет. — Ты мне позволишь закурить, папа?
Иван Егорович кивнул, внимательно присматриваясь к дочери. Она была куда заметнее, чем ее мать в молодости. Может, оттого, что пригожесть Татьяны Трофимовны была робкой и стеснительной, а красота дочери броской, почти кричащей: «Любуйтесь все и сохните от зависти!» Чуть выше среднего роста, по-женски ладная, она горделиво держала голову над узкими покатыми плечами.
«Какая бы добрая пара были они с Сергеем», — невольно подумалось старому мичману.
— Надеюсь, мы тебя не стесним? — выдохнув клуб табачного дыма, вновь заговорила Татьяна.
— Живите у меня сколько надо, дочка.
— Поблизости есть какая-нибудь школа-интернат?
— В соседнем квартале…
— Димку устроим туда, я пойду работать, участковые врачи и в Москве нарасхват.
— Ишь, как все сама по полкам разложила, — невесело усмехнулся Иван Егорович. — А что скажут Андрей с Павлом?
— Я уже не в том возрасте, когда оглядываются на старших братьев. У них своих забот хватает. Андрей вот-вот адмиралом станет.
— Адмирал тоже человек, дочка, и нервы у него не казенные.
Во входную дверь сильно затарабанил Димка, он еще не дотягивался до кнопки звонка.
— Мамуля, я обменялся с Андрюшкой, я ему дал фонарик, а он мне свисток, — прямо с порога зачастил малец. — Папа на меня не рассердится?
— Какой Андрюшка? Что за свисток? — недовольно оборвала его мать. Не успел на улицу выйти и уже обратно летишь! Иди гуляй, потом про все расскажешь…
— А вот о нем ты подумала, дочка? — негромко спросил Иван Егорович, когда Димка вновь был вытолкан на лестничную площадку.
— Он самое мое больное место, папа… Но ведь я не собираюсь лишать его отца. Пусть ездит к нему на каникулы, встречается. А когда вырастет сам сделает выбор…
— Мда-а, — хмыкнул Иван Егорович, — эдак все у тебя просто…
Вечером он уступил Татьяне с Димкой свою кровать, а сам пристроился в кухне на раскладушке. Но, как и накануне, сон бежал от него. Чтобы избавиться от тревожных мыслей, Иван Егорович стал вспоминать свою молодость… Из белого морока прожитых лет выплыла расшатанная теплушка, в которой ехали они с Татьяной Трофимовной и трехлетним Андрейкой в двадцать третьем году на Дальний Восток. Под нарами два фанерных баульчика да несколько узлов — все их немудреное имущество.
То ли от скудных харчей, то ли от дорожной маеты занедужил животом Андрейка. Всего его перевернуло, даже губы подернуло синюхой. И быть бы беде непоправимой, если бы на одной из остановок не пожалела молодую семью какая-то сердобольная бабуся. «До срамоты довели парнишку!» — пристыдила она проезжих и пожертвовала кулек с черемуховой мукой. Духмяная каша из нее возродила Андрейку к жизни…
Во Владивостоке поселились на Эгершельде в бывшей казарме, разгороженной фанерными стенами на клетушки-комнаты. Лежали они с Татьяной на скрипучей солдатской койке и слушали охи-вздохи соседей с трех сторон. И все равно не завелись в казарме злоба и зависть, дружно жили военморские семьи. Целым полуэкипажем собирались вечерами чаевничать на общей кухне.
Беляки эскадры адмирала Старка испоганили и разграбили Владивостокский порт. Очистили склады и пакгаузы, а суда либо увели за границу, либо затопили. Поднять и восстановить топляки стало главной задачей военных моряков. Ивану Егоровичу довелось работать на подъеме ледокола «Надежный». Техника судоподъема в ту пору была аховой, а широкопалубный ледокол лежал на боку, пришлось крепко помозговать, чтобы вызволить судно из плена. И все-таки подняли, поставили к причалу Дальзавода, капитально отремонтировали, и стал недавний утопленник канонерской лодкой «Красный Октябрь».
Иван Егорович поднимал со дна корабли, а ремонтировала их Татьяна Трофимовна. Пошла она работать на Дальзавод сперва маляром, через два года назначили ее бригадиром. Сутками не вылезала из трюмных шхер, но не обижал ее муж ревнивыми подозрениями. Верил больше, чем самому себе. В двадцать восьмом году подарила. Татьяна Трофимовна мужу другого сына, Павлушку. А поставили они родительскую точку в тридцать седьмом, когда появилась на свет младшенькая, Татьяна-вторая.
В трудах и заботах не заметил Иван Егорович, как пролетели лучшие годы. Когда спохватился, учиться было уже поздно. Так и остался он навсегда в высшем матросском звании — мичман. Зато сыны пошли дальше его. Андрей закончил перед войной военно-морское училище, Павел в послевоенные годы — кораблестроительный институт. Словом, не обошло их с Татьяной Трофимовной счастье стороной… «Пусть будет земля тебе пухом, родная моя», — беззвучно прошептал он.
* * *
В прихожей длинно зазвонил телефон. Иван Егорович торопливо поднялся и босиком ступил на холодный пол. Звонила междугородная. «Будете говорить с Куйбышевом», — сообщила телефонистка.
— Але, але! — бился в трубке искаженный хрипотой голос. — Это вы, папа? — Он понял, что звонит Илья.
— Да, да, слушаю…
— Татьяна уже у вас?
— Спят они с Димитрием.
— Извините, что так поздно беспокою, папа. Она вам рассказала, чего натворила?
— Это ваше с ней дело… Я вам не судья…
— Нет, папа, она ваша дочь! — взвился в трубке голос зятя, который так же, как и Димка, шариком катал букву «р». — Уговорите ее выбросить дурь из головы!.. Пусть возвращается домой! Вы же мудрый человек, жизнь прожили! У вас тоже были дети!..
Надрывный крик зятя ожесточил Ивана Егоровича, и он сердито закричал в трубку:
— Я мужиком был всю жизнь, а не бабой! Слюней не распускал!
— Простите, папа… — сразу сник зять. — Нервы у меня сдают… Почти каждый день трудная операция…
— Позвать, что ль, Татьяну? — уже спокойнее спросил Иван Егорович.
— Да, да, обязательно! Скажите, что я очень прошу…
— Подь сюда, Татьяна! — позвал отец и, не услышав ответа, повысил голос: — Не спишь ведь, чего прикидываешься!
— Не сплю, — спокойно сказала Татьяна, беря из рук отца трубку.
— Я же тебе все сказала, Илья. Зачем ты устраиваешь эти психологические эксперименты среди ночи? Правильно тебе сказал папа: стань же наконец мужчиной! Назло мне женись на молодой и красивой. За тебя всякая пойдет…
Муж, видимо, что-то говорил в ответ, Татьяна нетерпеливо перебивала его, потом заявила:
— Ну, хватит мелодрамы, Илья! Мы разбудили Димку. Если хочешь, во время зимних каникул приезжай к нему в гости или забери его на неделю к себе… — и положила трубку.
Лежа на своей неудобной раскладушке, Иван Егорович слышал, как дочь чиркала спичкой, прикуривая сигарету, почувствовал терпкость табачного дыма, которым потянуло из комнаты, и отчетливо понял, что судьба Татьяны всерьез надломилась. Что не вздорный это ее каприз, не случайная размолвка с мужем, а самый настоящий крах ее семейной жизни.
«А ведь от Сергея Урманова Танюшка бы не ушла…» — с легким оттенком злорадства подумал Иван Егорович.
Тут припомнились ему скорбные дни апреля шестидесятого, когда хоронили в Севастополе отставного каперанга Прокофия Нилыча Урманова. На поминках обнаружилось, сколько уважения людского заслужил бывший матрос с миноносца «Твердый», старый большевик, соратник Сергея Лазо, потом командир корабля возрожденного Тихоокеанского флота. Тесным-тесно было в просторной его квартире, а посередке поминального стола лежала груда телеграмм со всех концов страны нашей. Вместе с Иваном Егоровичем и Татьяной Трофимовной Русаковыми проводили в последний путь Нилыча оба их сына, только вот дочь Татьяна не осмелилась приехать, хотя и ей отбивали телеграмму.
А Сергей, видать, ждал ее, все смотрел на Русаковых и не решался спросить о Татьяне. Все не мог забыть безответной своей любви. Был он тогда капитан-лейтенантом, а нынче, Андрей написал, ходит во вторых рангах, скоро крейсер получит под свое командование. Умом и характером пошел весь в отца, жаль, что в личной жизни парню не повезло. Женился было на очень пригожей, говорили, да недолго пожилось ему с молодой супругой…
Иван Егорович сердито заворочался на скрипучей раскладушке, потом попросил вполголоса:
— Дай-ка и мне сигарету, Татьяна.
— Тебе нельзя, папа, — сухо откликнулась дочь. — И не уговаривай меня, я все-таки врач.
Глава 2
Спуск на воду корабля большой праздник для завода. Именинниками чувствуют себя все — от директора до слесарного ученика. Но главный именинник, конечно, строитель. Потому-то вырядился нынче Павел Иванович Русаков в лучший свой костюм, прикрепил на левой стороне пиджака орден Трудового Красного Знамени и две медали.
Шура, жена Павла, заботливо отутюжила брюки, хотя и не преминула заметить:
— Опять костюм послезавтра в химчистку тащить, ведь обязательно заляпаешься…
— «Горделивый» толкаем со стапеля, женушка! — обнял ее Павел. Такого корабля еще на свете не бывало, а ты — химчистка!
— Не серчай, Павлуша, я же просто к слову, чтобы поберегся… Я так рада за тебя, умница ты мой! — Жена ласково погладила его гладко выбритую щеку.
— То-то же…
— Андрей с Сережей приезжают на спуск? — спросила Шура.
— Про Андрея не знаю, а Сережа обязательно будет. Корабль на воде не может быть без командира!
— Уговори его у нас остановиться. В Юриковой комнате поселим.
— Попробую, мать, только ты его знаешь, он на садовой скамье переночует, чтобы никого не побеспокоить. Да и номер Сереге заказан в нашей заводской гостинице.
— Все одно уговори!
— Попробую, мать. А теперь целуй меня и отправляй!
Возле подъезда Павла Русакова ждала машина. Шофер Вася, недавний флотский старшина, по случаю праздника надел матросскую форменку с темными квадратиками на месте споротых погон.
— Двинули помаленьку, Василек, — сказал Русаков, устраиваясь на переднем сиденье.
— Вы который корабль спускаете, Павел Иванович? — вырулив на прямую улицу, спросил шофер.
— Такой самый первый, браток… — ответил Русаков и усмехнулся, припомнив, с какой робостью изучал тактико-техническое задание на постройку «Горделивого». Жутковато становилось от мысли, что надо создавать технический шедевр. Ни дать ни взять настоящий завод-автомат на плаву, со своей электростанцией, конвейерными линиями, счетно-решающими устройствами. Один впечатлительный журналист назвал будущий крейсер «Авророй» военно-технической революции на флоте. Громко, конечно, но сравнение это не так уж далеко от истины…
— А я на подлодке служил. Рулевым-сигнальщиком… Оттого вот и теперь баранку кручу…
— Лодки тоже отличные корабли. Призраки глубин — так, кажется, называли их в первую мировую войну. Тогда они на самом деле были почти неуязвимы. Только для нашего крейсера эти призраки страшны не будут, он их за много миль обнаружит. И тогда придется спасаться им, а не ему…
— Так уж и спасаться, — недоверчиво хмыкнул Вася. — А если у них дальноходные торпеды?
— Хоть ракетоторпеды, все равно я бы им не позавидовал.
Вася хотел было возразить Русакову, но раздался прерывистый свисток автоинспектора, который красноречивым жестом приглашал автомашину на обочину.
— Я извиняюсь, товарищ депутат, — козырнул Русакову милиционер, увидев эмалевый значок на лацкане пиджака. — Но ваш водитель нарушил правила. Совершил двойной обгон…
— Там же какая-то инвалидная коляска стояла… — попытался оправдаться Вася.
— Коляска тоже самодвижущееся средство, — строго оборвал его инспектор. — Ваши права, товарищ водитель!
— Послушай, друг, — по-простецки обратился Русаков к милиционеру. Ты нас не огорчай сегодня. Праздник у нас на заводе — новый корабль со стапеля сходит. В следующий раз ты его вдвое строже накажешь. Лады?
— Так вы с судостроительного? То-то туда городское начальство направилось… Ладно, по такому случаю дырку в талоне колоть не стану. А вот номерок запишу на память. Смотри у меня, — погрозил он пальцем шоферу. — Снова попадешься — не отвертишься!
Дорожный инцидент ничуть не огорчил Русакова. Он дружески потрепал шофера по плечу.
— Ничего, Василек, бывает. Это я тебя отвлек. Машину поставишь, приходи на стапель. Я тебя приглашаю.
— Спасибо, Павел Иванович.
До начала рабочего дня оставалось еще более получаса, но в заводоуправлении было людно. Русаков направился прямо к директору.
— Сам уже здесь? — спросил он секретаршу.
— Полон кабинет гостей, — кивнула та на обитую коричневым дерматином дверь. — Велел вам сразу заходить.
— А вот и герой дня пожаловал! Не торопишься, Пал Иваныч!
— Кто долго запрягает — быстро едет потом, Константин Сергеевич!
Директор, невысокий и худощавый (начальственным был у него только голос, басовитый и раскатистый), представил Русакова гостям. Тот с удивлением увидел среди них старшего брата Андрея в новенькой, совсем еще не обмявшейся адмиральской тужурке.
— Здравствуй, Павлуха!
— Андрей!.. Здравия желаю, товарищ адмирал! Представляется инженер-капитан третьего ранга запаса Русаков по случаю… Что за случай, ты сам знаешь! — И, не выдержав шутливо-официального тона, обнял брата за шею. — Когда произвели?
— Два месяца назад, перед днем Военно-Морского Флота.
— И даже телеграммы не дал!
— Хвастаться не привык.
— Батя тоже не знает?
— Скоро буду в Москве, покажусь.
— Выходит, я на тебя работаю?
— «Горделивый» будет плавать в моей эскадре.
— Под командой Урманова?
— Пока командиром планируется он.
— Почему пока?
— Пока ты достроишь корабль, ему могут предложить что-нибудь другое.
— Ну и болваном будет, если согласится! С такого трамплина, как наш крейсер, он и тебя перепрыгнет!
— Вот ему самому это и скажи. Он с минуты на минуту заявится.
— Павел Иванович, — прервал разговор братьев директор завода, — у тебя все готово? Шампанское не забыл?
— Целый ящик припас, Константин Сергеевич.
— Ящик ни к чему, бутылки достаточно.
— Одну о форштевень, остальные по бокалам разольем.
— Коллективку хочешь учинить? При высшем партийном руководстве города?!
— Кого же крестной матерью выбрали, Константин Сергеевич? — подал голос секретарь горкома партии, до того с улыбкой слушавший забавный разговор.
— Марью Даниловну Сапожникову. Она сорок лет на стапеле трудилась. Теперь на пенсии, но по-прежнему в коллективе, молодежь учит.
— Достойная кандидатура.
— Ну что ж, товарищи заводчане, — сказал директор, — гости остаются у меня, а хозяева по местам! Собираемся без четверти десять на смотровой площадке.
В вестибюле заводоуправления Павел Русаков увидел высокого морского офицера в модно скроенной тужурке с широким — от уха до уха — козырьком и вздернутой тульей.
— Сергей! — окликнул он моряка.
— Здравствуй, Павлуха! Сколько лет, сколько зим!
— Ты все такой же молодец, девицам на загляденье!
— Только уже шашель жениха побил, — усмехнулся Сергей Урманов, касаясь кончиками пальцев виска.
— Седина нынче в моде.
— Только вам, Русаковым, ничего не делается: ни сединки у тебя, ни морщинки.
— Не скажи… перешел вот в другую весовую категорию, — хлопнул себя ладонью по животу Павел.
— Просись на корабль, в море быстро вытрясет!
— Ты же мне, кроме электромеханической боевой части, ничего не предложишь. А для «бычка» я, пожалуй, староват. Ты вот на два года моложе, а метишь в командиры!
— Не хватает скромности отказаться!
— Откажешься — всю жизнь потом жалеть будешь. Мы тебе такой крейсерище отгрохаем, какого свет еще не видывал. Похлеще всяких там «галвестонов».
— Не говори гоп…
— Гоп уже конструкторы сказали, а наше дело их золотые мысли в каленое железо перевести! — засмеялся Павел, довольный своим каламбуром.
— Мой адмирал уже тут? — выдержав деликатную паузу, спросил Урманов.
— Андрюха-то? В кабинете у директора. Третий этаж направо, через секретариат. Там весь синклит собрался. Ты надолго к нам? Надеюсь, после спуска в гости ко мне заглянешь? Обмоем купание младенца, покалякаем.
— Спасибо, Павел, постараюсь…
К половине десятого смотровая площадка на заводском причале запестрела синими спецовками заводчан, среди которых островками выделялись костюмы и военные мундиры гостей. Короткий митинг открыл директор, затем передал слово секретарю городского комитета партии. Его встретили аплодисментами, несколько лет назад он был секретарем парткома завода.
— Дорогие товарищи! — сказал он. — Я сам судостроитель и знаю, какое большое событие спуск на воду каждого нового корабля или судна. Ведь из заводского затона начнет он свое долгое и, возможно, славное для нашей Родины плаванье… И вместе с ним в морях будут всегда тепло ваших рабочих рук и привязанность сердец. Спасибо вам за ваш доблестный труд, дорогие мои земляки!
Так же лаконично и взволнованно говорила с трибуны будущая крестная мать.
— Сынки мои и дочери! Ушла я на пенсию после четырнадцатого своего кораблика. Думала, и помирать мне с этим счетом. Низко кланяюсь вам за то, что вспомнили обо мне, оказали честь высокую благословить со стапеля пятнадцатый!
После митинга директор распорядился по телефону начать спуск. Смотровая площадка притихла в ожидании.
— А я вспомнил вас, Мария Даниловна, — вполголоса сказал секретарь горкома стоявшей рядом крестной матери. — Это же вы мне когда-то всю шею перепилили из-за детского комбината на Сухановке…
— Что было, то прошло, Георгий Яковлевич, нынче у нас пять таких комбинатов да еще два дома отдыха — профилактория для рабочих и служащих.
Сапожникову пригласили поближе к воде, секретарь смотрел ей вслед и с удовлетворением думал про то, как весомо прозвучало «у нас» в устах этой старой женщины, давно уже пенсионерки.
На стапеле между тем раздалось несколько команд, и вдруг рыжая от сурика громада корабля шевельнулась и, быстро набирая скорость, поползла вниз. Громкое «ура!» прокатилось по смотровой площадке, вверх взметнулись замасленные береты заводчан.
Когда форштевень крейсера коснулся поверхности воды, об него со звоном разбилась бутылка шампанского, и пенистый след от вина тотчас же был смыт вздыбившейся волной. Корабль вначале грузно осел в воду, затем вскинулся над белесым водоворотом, колыхнулся несколько раз и с неторопливой важностью поплыл от причала. Навстречу ему торопились два закопченных, словно жуки, портовых буксирчика.
На самой верхней надстройке крейсера стояла кучка людей, восторженно махавших руками. Контр-адмирал Русаков разглядел среди них младшего брата Павла.
— Твое место занимает, Сергей Прокофьевич, — с улыбкой заметил он, обращаясь к Урманову.
Тот лишь улыбнулся в ответ, продолжая разглядывать лениво раскачивающийся на разведенной волне остов нового корабля.
Сергей вырос возле моря и среди моряков, потому уже в пятилетнем возрасте уверенно отличал эсминец от сторожевика. Он хорошо помнил неуклюжие, как утюги, крейсеры 30-х годов, тихоходные угольные тральщики, тянувшие за трубами дымовые завесы, переоборудованные из грузовых пароходов минные заградители. Не до красоты было тогда с трудом возрожденному военному флоту. Потому-то белыми лебедями среди утиной стаи выглядели поначалу уцелевшие после гражданской войны «новики» да лидер эсминцев, построенный для нас зарубежной фирмой.
Иное дело теперь… «Если увидишь в солнечном мареве идущий навстречу стремительный дредноут, от стройных обводов и кружевных надстроек которого невозможно оторвать взгляд, знай наверняка: он идет под русским флагом», писал недавно один английский журналист, а уж британцы издавна знают толк в кораблестроении и мореплавании.
Вот и сейчас, угадывая опытным глазом будущую красу среди аляповатого хаоса лесов, окружающего мачты и ярусы рубок, Урманов представлял, сколько восхищенных и завистливых взглядов выпадет на долю «Горделивого» в морях-океанах.
«Мы с тобой будем добрыми друзьями, верно, парень? — мысленно, словно к одушевленному существу, обратился к кораблю его будущий командир. Станем понимать друг друга с полуслова…»
— Объясняетесь в любви, командир? — заметив его беззвучно шевелящиеся губы, добродушно усмехнулся контр-адмирал. — Таким бы сам адмирал Ушаков не погнушался покомандовать. Считай, что ты вытащил счастливый билет, Сергей Прокофьевич.
— Мне с детства везет, — ответил ему Урманов.
Буксиры между тем подвели крейсер к причалу монтажного цеха и пришвартовали лагом к тому месту, где ему предстояло стоять до тех пор, пока не соберут и не апробируют последний механизм. Только после этого поднимется на его гафеле государственный флаг и крейсер отправится в первое свое плавание на ходовые испытания.
С носа и кормы на стенку подали широкие грузовые сходни, и директор пригласил гостей на палубу.
— Прошу только поберечь фраки, — пошутил он. — Флотской чистоты пока не гарантируем!
Следом за директором ступил на трап секретарь горкома, за ним контр-адмирал Русаков. Сергей Урманов шел четвертым, и вряд ли кто другой испытывал такой же щемящий душу трепет. Только тот, кому довелось пройти весь тернистый путь от скромного лейтенантского поста до командирского мостика, может оценить тот момент, когда впервые поднимаешься на борт своего корабля. СВОЕГО — в высшем морском смысле этого слова, ибо для каждого матроса и офицера экипажа он тоже свой, но для командира он СВОЙ в превосходной степени.
Носовая палуба была широкой и пустынной, как не залитый на зиму каток, еще не смонтировали ракетные установки, орудийные башни универсального калибра, отсутствовало даже шпилевое хозяйство. Но опытному морскому глазу нетрудно было заметить выступающие выше настила шаровые погоны и станины будущего грозного оружия.
По наружному трапу навстречу гостям торопился Павел Русаков, полы его расстегнутого пиджака разлетелись, на одной красовалось яркое суричное пятно. Он был возбужденный, какой-то взъерошенный, даже зачесанные обычно на пробор русые волосы стояли торчком.
— Милости прошу в кают-компанию, товарищи! — без предисловия выпалил он.
Кают-компания походила пока на железный ангар с круглыми дырами незастекленных иллюминаторов, гулко отдавались в ней звуки шагов. Посредине желтовато-рябой загрунтованной, но еще не покрытой линолеумом палубы стоял раскладной стол, на котором теснились граненые стаканы, наполненные шампанским.
— Шампанское дуть стаканами! — в притворном отчаянии шлепнул себя ладонью по лбу директор. — Что за вкус у тебя, Павел Иванович!
— Бокалов не припасли, — улыбнулся Павел.
Секретарь горкома первым поднял свой стакан.
— Большому кораблю пусть будет большое плавание! — воскликнул он и, выпив вино, хватил стакан о палубу. — На счастье!
Следом за ним выпили остальные, но бить посуду не решились. Да и не следовало — традиция была уже соблюдена.
— Желающие могут осмотреть корабль, — сказал Павел Русаков. — Только в шхеры заглядывать не советую, туда нужно в комбинезоне.
— Ну что ж, исполать вам, — подал ему руку секретарь горкома. — Мы, ближние, еще не раз побываем у вас в гостях, а вот дальним обязательно покажите и расскажите, какой подарок мы им готовим.
Вместе с братьями Русаковыми Сергей Урманов поднялся в ходовую рубку. Она тоже была пустой, без ветрового стекла, но по великому множеству креплений, приваренных на переборках, кабельных вводов и монтажных перекрытий Сергей представил, какой уймищей приборов и устройств будет начинена рубка.
— Кресло поставим шик-модерн, помесь самолетного с зубоврачебным! подмигнул Урманову Павел Русаков.
— В этом кресле все равно не мне сидеть, — ответил ему Сергей.
— Кто это тебе сказал, что крейсер твой будет флагманским кораблем? насмешливо прищурился Русаков-старший.
— Своим умом дошел, товарищ контр-адмирал. Каюту флагманскую такую спроектировали, какой и на старых линкорах не было.
— Видал мореплавателя, Павлуха? — насмешливо кивнул на Урманова Андрей Русаков. — Мечтает за чужой спиной укрыться в трудную минуту. Не выйдет, товарищ командир! В кресле том вам придется торчать круглые сутки, а флагман будет полеживать на боку в своих апартаментах…
— Вечером я посылаю за вами обоими свою машину, — вставил словечко Павел Русаков. — Шуренция моя пельмени заделала, сибирские тройные. Горючего не покупайте, держу запас в достатке. Все ясно?
— Обо мне можешь не беспокоиться, — шутливо напыжился Русаков-старший. — Директор персонально закрепил за мной «Волгу».
— Балуют вас, товарищ контр-адмирал, — с усмешкой глянул на брата Павел. — Не успели лампасы нашить — уже пешком ни шагу…
— Не забывайтесь, товарищ капитан третьего ранга запаса!
Сергей Урманов, пряча улыбку, слушал эту перепалку братьев. С младшим из них он еще на прутиках скакал, редкий день в детстве не встречались, да и старшего знал достаточно хорошо. Потому и было ему известно, как любят и держатся друг за друга Русаковы, живут по принципу: один за всех и все за одного.
— Добро, Павел, договорились. А пока мы с командиром полистаем технический формуляр…
Вечером Павел Русаков и в самом деле прислал за Урмановым машину, хотя от заводской гостиницы до квартиры было рукой подать. Зато Сергею польстило, что шофер приветствовал его по-флотски:
— Здравия желаю, товарищ капитан второго ранга!
— Приветствую. С флота недавно вернулся?
— Прошлой осенью, только душой до сих пор не остыл. По ночам часто лодку нашу вижу, корешков своих из команды…
— Значит, море в крови осталось. Кем демобилизовался?
— Старшиной первой статьи, первый класс имел, звание лучшего сигнальщика части…
— Чего же на сверхсрочную не остался?
— Свои соображения были… Да и не всем же мичманами становиться, должностей на флоте не хватит!
— А теперь небось жалеешь? — испытующе глянул на шофера Урманов.
— Может, и жалею, — улыбнулся тот.
— Слушай, как тебя зовут?.. — тронул его рукой за плечо Урманов. Так вот, Вася, скоро будут формировать команду на новый крейсер «Горделивый», ты о нем слышал, конечно. Костяк экипажа будет набран по комсомольскому призыву из ваших земляков. Пойдешь командиром отделения для начала? Подавай в военкомат заявление на восстановление в кадрах, я обещаю поддержать.
— С ходу такие дела не решаются, товарищ командир. Подумать надо хорошенько, со стариками посоветоваться…
— Вот и думай как следует, время еще есть. Надумаешь — не опаздывай. Неувязка какая выйдет — черкни мне несколько строк, адрес мой у Павла Ивановича возьмешь.
— Спасибо, товарищ командир, подумаю…
Павел вышел на звонок в прихожую, из-за его плеча выглядывала худенькая, похожая на девочку, жена.
— Ой, Сереженька, — нараспев, по-южному заговорила она. — Вымахал-то как! Не дотянешься и в щечку тебя чмокнуть!
— Я всегда такой был, Александра Осиповна, наоборот, уже книзу гнусь, — рассмеялся Урманов, склоняясь, чтобы поцеловать ей руку.
— Да брось ты меня навеличивать! Знакомы не первый день. А височки у тебя никак закуржавились?
— Командиры, мать, седеют рано, — сказал Павел, приглашая гостя в комнату. — Андрея в гостинице не видел?
— Точность — вежливость королей и адмиралов. Должен быть секунда в секунду.
И в самом деле Русаков-старший перешагнул порог с последним ударом настенных часов.
Когда уселись за стол, Павел спросил, открывая бар:
— Коньяк, водку?
— Водку, конечно, — откликнулся брат, — побережем печень.
— Уинстон Черчилль, говорят, кроме армянского коньяка, ничего не признавал.
— То Черчилль, у него печенка буржуйская была, а у нас пролетарская. Наливай, Павлуха, рабоче-крестьянской!
— Ну, други, за встречу, — сказал Павел. — Не так просто в наш атомный век собраться вместе. Спасибо «Горделивому» за сегодняшний вечер…
— Подождем хозяйку, — вставил словечко Урманов.
— Мать, где ты там?
— Иду, иду! — откликнулась с кухни хозяйка. — Пельмени запустила.
Вскоре она появилась в гостиной с миской дымящихся сибирских пельменей.
— Ты что, золовушка, решила нас накормить и выпроводить? подхватывая миску, сказал Русаков-старший. — Не выйдет, мы тебе сегодня спать не дадим.
— Вы сами меня усыпите казенными разговорами!
— Сергей Прокофьевич, уговор: о службе ни слова. Добро?
— Согласен, товарищ контр-адмирал.
— Здесь я тебе не адмирал, а просто товарищ!
— Хорошо, Андрей Иванович…
Некоторое время мужчины молча закусывали, первой подала голос сама хозяйка:
— Игорек-то еще не женился, Андрюша? — спросила она.
— Разве бы без вас свадьба обошлась? — хохотнул Русаков-старший. Парню надо сначала просолиться как следует, а уж потом о береговой базе думать… Кстати, Сергей Прокофьевич, — повернулся он к Урманову, — Игорь спит и видит себя на «Горделивом». Возьмешь его командиром стартовой батареи?
— О чем разговор? Конечно, возьму…
— Только соглашайся не за страх, а за совесть… Сам знаешь, у парня характер не медовый. Воспитывать его надо без оглядки на отца. Сможешь так?
— Вот и завели свою шарманку! О чем я говорила…
— Прости, золовушка, вот те крест, больше не будем!
Выпили по следующей, похваливая, принялись за пельмени.
— Ешьте на здоровье, у меня еще два решета в холодильнике.
— От доброго харча еще ни одна тельняшка не лопнула!
— Ты извинишь, Сереженька, если мы при тебе о семейных делах потолкуем? — смущенно произнесла хозяйка.
— Пожалуйста, Александра Осиповна, я же у вас в гостях…
— Андрюша, ты письмо из Куйбышева получил? — спросила она деверя.
— От Ильи? Получил перед самым отъездом. Отколола фортель сестрица.
— Может, не стоит, мать, об этом?
— Когда еще доведется посоветоваться, Павлуша?
— Я с вашего позволения подымлю на кухне, — поднялся со своего места Урманов.
— Сиди, сиди, Сереженька, у нас от тебя секретов нет!
— Курить хочется, Александра Осиповна.
Урманов вышел из гостиной, а за столом наступила неловкая пауза.
— Илья просит меня вразумить Татьяну, — нарушил молчание Русаков-старший. — Напомнить о ее материнском долге и прочая и прочая…
— Не понимаю, что за кошка между ними пробежала, — вздохнула хозяйка. — Так ведь славно жили, другим на зависть…
— А мне, к примеру, этот лопоухий Илья никогда не нравился! — стукнул ладонью по краю стола Павел.
— Мало ли кто кому не нравится, Павлуша. Не тебе с ним жить, не тебе о нем судить…
— Променяла сокола на домашнего индюка, вот теперь ей и аукнулось!
— Она же родная сестра тебе, Павлуша! Как ты можешь…
— Характер у Танюшки крутой, уговорить ее трудно, порешит как отрежет, — вздохнул Русаков-старший.
— Были бы они вдвоем, а то ведь сын между ними. Мальчишке трудно будет без отца…
— Мальчишку в обиду не дадим!
— Ну так что же будем делать, мужики? Чего Илье Борисовичу ответим?
— Я думаю, надо повременить. Скоро я по делам буду в Москве, встречусь с Танюшкой, с отцом потолкую. Тогда и порешим, что к чему.
— Лады, Андрей. Что там у тебя еще, мать, на горячее? Баранина? Тащи ее да Серегу позови к столу. Хватит ему деликатничать.
Глава 3
Второй месяц работала Татьяна Русакова участковым врачом районной поликлиники. С утра принимала приходящих больных, а во второй половине дня моталась по вызовам. Домой возвращалась поздно, измученная.
Димка учился в школе с продленным днем. Устроил его туда дед, которого в школе хорошо знали и частенько приглашали проводить уроки мужества в старших классах. И вообще мать как-то очень быстро отошла у Димки на второй план, по вечерам в квартире только и слышно было: «Деда, а это куда?», «Деда, распишись в дневнике!» Дед с внуком старательно мастерили старинный парусник с башенкой на корме и маленькими пушками в два ряда по бортам. Мачты парусника Димка выстрогал собственноручно.
Спал Димка в одной постели с матерью, ворочаясь во сне и больно шпыняя ее коленками. Деду же купили кресло-кровать, которое раскладывалось к ночи, а днем умещалось в свободном углу маленькой кухни. Часто, пробудившись среди ночи, Татьяна слышала вздохи и покряхтывания отца.
Может быть, Татьяна и смирилась бы со своим, как ей казалось, незавидным существованием, если бы не произошла неожиданная встреча на платформе станции метро.
К ней быстрыми шагами подошел молодой мужчина в форме моряка торгового флота.
— Татьяна Ивановна, вы ли это? — радостно воскликнул он.
— Да, я Татьяна Юркевич, то есть Русакова, — растерянно ответила она. — Но вас, простите, не припоминаю.
— Вы приглядитесь получше, Танюша! Неужели я так сильно изменился?
— Нет, не узнаю…
— Тогда разрешите представиться: штурман дальнего плавания Борис Павлович Ролдугин!
— Неужели тот самый Борька?!
— Именно он, собственной персоной, Танюша! Можно полюбопытствовать: вы здесь проездом или в командировке?
— Я теперь живу в Москве.
— Илья, наверное, уже в министерстве здравоохранения?
— Нет, по-прежнему главный врач клиники в Куйбышеве.
— Вы живете врозь?
— Это долгая история, Борис… Павлович. А вы каким образом сменили военный флот на торговый?
— Вот эта история совсем не долгая… Вы из морской семьи и, конечно, помните, что в свое время проходило сокращение армии и флота, а профессиональные моряки становились вольными казаками. Вот и пошел сначала в сельдяной флот, а позже перебрался в сухогрузный. Правда, раза два приглашали в военкомат, предлагали вернуть погоны, но я сказал, что второго сокращения мне не перенести…
— А вот брат Андрей говорит, что нет худа без добра: зато теперь строим первоклассный флот.
— Ваш старший брат всегда был оптимистом. Нынче он небось в капразах ходит?
— Командует эскадрой кораблей. Павел — строитель на морском заводе. Сын Андрея — Игорек — военно-морское училище закончил.
— Подумать только, сколько перемен за эти годы!
— А вы, Борис, где бросили якорь? В Москве, насколько я знаю, морей нет.
— У меня как у черепахи, дом там, где я сам! Меняются только названия городов и гостиниц.
— Разве вы не женаты?
— Моряку жениться все одно что интересную книгу купить: деньги заплатишь ты, а читать станет каждый, кто заинтересуется!
— Слишком мудрено, Борис Павлович…
— Я не мудрствую, Татьяна Ивановна, я пытаюсь образно мыслить. Я ведь немного пописываю в газетах, в журналах… Вам никогда не попадалась на глаза повесть «За синими далями» некого Б. Кливерова? Нет? Жаль… Б. Кливеров — литературный псевдоним вашего покорного слуги.
— В самом деле? — искренне удивилась Татьяна. — Среди моих знакомых никогда еще не было писателей…
— Считайте, что теперь один есть! Ну хватит обо мне! Вы-то как поживаете?
— Трудами праведными, работаю участковым врачом…
— Послушайте, Танюша, чего это мы с вами стоим тут как неприкаянные? Вы не очень торопитесь? Вот и прекрасно! Давайте двинем в ЦДЛ Центральный дом литераторов, он здесь совсем недалеко. Поужинаем вдвоем и вспомним зарю туманной юности.
Идти Татьяне никуда не хотелось, но она пересилила себя и согласилась. Такие встречи выпадают не каждый день.
— Только всего на часок, Борис. Телефона у нас нет, — солгала она, папа с Димкой будут беспокоиться.
— Димка? Это ваш сын? Представляю, какой прелестный малыш!
— Обыкновенный мальчишка, уже ходит в первый класс. Хотя для каждой матери собственное дитя — свет в окошке…
Перед входом в ЦДЛ Ролдугин поправил фуражку, застегнул на все пуговицы форменное пальто.
— У меня гостевая карточка, — заискивающе улыбнулся он дежурной. — А девушка со мной.
В ресторане в этот предвечерний час посетителей было немного. Через цветные стекла оконных витражей пробрезживал лучик неяркого осеннего солнца. Официантка предложила им двухместный столик возле резной дубовой колонны, поддерживающей балкон, подала меню в потертой кожаной обложке. Борис не стал его раскрывать, все с той же робкой улыбкой попросил:
— Нам чего-нибудь повкуснее на ваш вкус. И бутылочку коньячку, если можно, армянского… Вам здесь нравится, Таня? — повернулся он к своей спутнице. Та неопределенно передернула плечами. — Чуть позже сюда привалит народ, возможно, будет кто-нибудь из знаменитостей. Хотя один уже есть, прошептал он, указывая глазами на сидящего поодаль полного мужчину с растрепанной седеющей бородой. — Вы знаете, он прославился своими чудачествами. Мне рассказывали, что однажды…
— Простите, Борис, но я не люблю сплетен, — невежливо перебила Татьяна.
— Простите… Тогда давайте о другом. Вы, конечно, позабыли, когда мы познакомились? А было это летом пятьдесят второго года. Серега Урманов и я — два свежих мичманца — пожаловали в гости к брату вашему Паше. Помню, нажали звонок, а из-за двери выпорхнуло юное создание в коротеньком платьице и с голубыми бантиками в косичках…
— В пятьдесят втором я закончила восемь классов…
— А мы с Сергеем осенью того года получили дипломы и офицерские кортики. Я свой до сих пор храню. Не захотел сдать при увольнении в запас, хотя положено было. Заплатил полную стоимость «утерянного» казенного имущества. Зато теперь меня могут привлечь за незаконное хранение холодного оружия…
— Вас, наверное, очень обидели, Борис?
— Что было, то прошло, милая Танюша. Ваш старший брат Андрей прав: не бывает худа без добра. Что бы я увидел в военном флоте? Сегодня — район «А», завтра — полигон «Б». Два лаптя по карте. Пиф-паф! Щит вдребезги, всем благодарность в приказе — вот и конец романтике! Зато теперь — дуга Большого круга, Южный крест, кокосовые пальмы и банановые рощи! Давайте выпьем, Танюша, за терпеливую сиделку — судьбу и за великого лекаря время. Простите, Таня, за бестактный вопрос: вы развелись с мужем?
— Пока только разъехались, но он предупредил меня, что развода не даст.
Ролдугин положил вилку и посмотрел на Татьяну странным оценивающим взглядом, от которого ей стало неловко.
— А как вас любил мой бедный друг Серега… Да и не он один…
— Не надо об этом, Борис. Мне такой разговор неприятен.
— Экскьюз ми, извините, Танюша. Давайте еще по одной?
— Мне достаточно. А вы не обращайте на меня внимания.
К их столику подошел молодой парень в жакете канареечного цвета и брюках-дудочках. Одной рукой он волочил за собой стул.
— Можно с вами сесть, капитан? — тоном, не допускающим возражений, спросил он.
— Конечно… пожалуйста, — растерянно пробормотал Ролдугин.
— А почему вы хотите сесть именно здесь? — холодно взглянула на пришельца Татьяна. — В зале полно свободных мест.
— А мне нравится сидеть именно здесь, — нагловато прищурился парень.
— Будьте любезны, оставьте нас в покое!
— Зачем ты так, Танюша… — подал голос Борис.
— Не вынуждайте приглашать администратора, молодой человек!
— Провинция, — насмешливо стрельнул взглядом парень и отошел к пустому соседнему столу.
— Мне пора, — чуть погодя сказала Татьяна.
— Как же? Еще горячее не подавали, — умоляюще поглядел на нее Ролдугин.
— Я не хочу есть…
Ролдугин отвез Татьяну домой на такси. Проводил до подъезда. Задержав ее руку в своей руке, воскликнул:
— Эврика! Я, кажется, знаю, как повернуть вашу судьбу к лучшему. Вы способны на отчаянный поступок?
— Допустим…
— Тогда слушайте, Танюша: у нас на судах плавает немало женщин-врачей. Рейсы по полгода, дальние страны, заморские диковины. Хотите, я помогу вам устроиться?
— Куда же я дену сына?
— Ах да, о нем я совсем забыл… Хотя он у вас уже большой парень, станет жить с дедом.
— Отцу скоро будет семьдесят.
— Он у вас крепкий старик, как смоленый канат. Можно еще взять приходящую домработницу. Заработок у вас будет приличный, хватит на все.
— Спасибо, я как-нибудь сама о себе подумаю.
— Танюша, вы не торопитесь решать… Завтра я улетаю в Калининград. Вот вам на всякий случай мой адрес. Надумаете, черкните, я вам сообщу, где и как все оформлять…
Поцеловав ей руку, Ролдугин распахнул дверь подъезда, потом долго стоял возле машины, уже в лифте она услышала громкий, как выстрел, хлопок автомобильной дверцы.
Отец, чиркая лобзиком, что-то выпиливал, сгорбясь над кухонным столом.
— Есть хочешь? — спросил он, отряхивая мятые домашние штаны.
— Я из ресторана, папа, — ответила Татьяна, проходя в комнату. Быстро раздевшись, она осторожно приподняла краешек одеяла и прижалась к теплому Димкиному тельцу. «Нет, никуда я от сыночка не уеду, в чужие руки его не отдам», — растроганно подумала она.
В конце недели Татьяне Ивановне на работу позвонил Андрей.
— Андрейчик, ты откуда звонишь? — радостно откликнулась она.
— Из одного высокого присутственного места.
— Ты в Москве?
— Разумеется…
— К нам-то когда?
— Сегодня, если позволите. Разделаюсь со служебными делами и прямиком к вам.
Аппарат на том конце провода был очень чувствительным, Татьяна услышала посторонний голос, который сказал: «Товарищ контр-адмирал, начальник штаба приглашает вас…». — «Есть!» — откликнулся Андрей.
— Так ты у нас уже адмирал! — изумилась Татьяна. — А я-то тебя по-простецки Андрейкой…
— Мы с тобой дома разберемся, что к чему… — сказал Андрей. — А пока извини, меня зовут.
Татьяна долго еще держала трубку в руке, забыв положить ее на рычаг.
По вызовам она в этот день не пошла, а ринулась в продуктовые магазины. По дороге заскочила в интернат за Димкой.
— Дядя Андрей приехал! — обрадованно закартавил сын. — А какие бывают адмиралы?
— В расшитых мундирах, в брюках с лампасами.
— Мам, что такое лампасы?
— Такие желтые полосы сбоку.
— Это как у швейцаров в гостинице?
— При чем тут швейцары? Вот придет дядя Андрей, все сам увидишь…
— Мам, ты на меня не сердись, я две пятерки получил!
— Молодец, сыночка, учись хорошо и тоже станешь когда-нибудь адмиралом.
— Нет, я хочу стать мичманом! Как деда.
— На мичмана тоже надо учиться.
— Деда меня всему научит!
Андрей приехал в девятом часу вечера, когда Татьяна уже второй раз разогревала ужин. Иван Егорович, который весь вечер простоял в коридоре, вздрагивая при каждом стуке лифта, широко распахнул дверь.
— Андрюха, сын… — И уткнулся лицом ему в шею.
— Батя, сырость ни к чему, от сырости ржавчина заводится, — ласково проговорил сын.
— Потешил ты мою старость, Андрюха… — шептал отец, трогая пальцем вышитую звезду на широком погоне сына. — Не посрамил русаковского рода.
— Постой, батя! — решительно отстранил его сын. — Не нарушай флотского ритуала.
Он принял строевую стойку и вскинул руку под козырек.
— Товарищ гвардии мичман! Представляюсь по поводу присвоения очередного воинского звания контр-адмирал!
Отец на мгновение опешил, затем тоже поднял ладонь к простоволосой голове. Лицо его стало торжественно-просветленным.
— Вот так-то, батя! — удовлетворенно воскликнул Андрей.
Из-за дедовой спины выглядывал Димка.
— Дядя Анрей, а где ваши лампасы?
— Какие лампасы? — склонился к нему гость.
— Которые как у швейцара, — пояснил племянник.
— Таких у меня нет! — засмеялся Андрей. — Зато у меня есть персональный катер! Вот приедешь в гости — прокачу с брызгами!
За ужином Иван Егорович растроганно поглядывал на старшего сына, даже пригубил рюмку за семь футов под килем и долгое сыновнее плавание. Однажды только вздохнул и высказал свои мысли вслух:
— Жаль, что Прокофий тебя не видит…
— Сережка, батя, тоже в большие командиры выходит. Скоро будет принимать лучший корабль флота.
— Верю, сын, не посрамит он памяти отцовской…
— Мой Игорь к нему под начало просится.
— И уважь парня. Сергей его худому не научит.
— Да уж придется, батя, уважить.
Андрей первым встал из-за стола и, озорно глянув на Татьяну, предложил:
— А что, сеструха, двинем-ка мы с тобой на свежий воздух. Покажешь мне вечернюю Москву.
— Балакайте здесь, я мешать не буду, на кухню к себе пойду, — мудро глянув на него, сказал Иван Егорович.
— Да что ты, у нас от тебя секретов нет! Хочешь, прогуляемся втроем?
— Ноги у меня не те, чтобы за вами поспешать…
— Тогда позволь нам с Танюшкой.
— Воля ваша, гуляйте хоть до зорьки.
— Мы всего на часок, батя!
Вечер был тихим и теплым. Над крышами домов катилось желтое лунное колесо. В обвале лунного света бледными мазками застыли неоновые уличные фонари. Едва ощутимый ветерок нес влажную речную свежесть.
Брат с сестрой молча пересекли дремлющий парк Речного вокзала, вышли на берег Химкинского водохранилища, остановились на невысоком взлобке. Смотрели, как по темно-серебристой глади воды медленно двигался буксирный караван, подмигивая цветными огнями.
— Ну что, сестра, — первым нарушил молчание Андрей, — рассказывай, что у тебя стряслось…
— Никакого землетрясения не было, — желчно усмехнулась Татьяна. Обычная житейская история: жена ушла от нелюбимого мужа.
— Нелюбимого, говоришь? — резко вскинул голову Андрей. — А не ты ли когда-то заявляла, что жить без него не можешь? Забыла тот наш семейный совет?
— Ну и что из того? В ту пору жить без него не могла, а теперь с ним мне тошно. Разлюбила — и все тут!
— Убедительная логика: полюбила — выскочила замуж, разлюбила развелась. Словно в куклы поиграла. Ты мне, старшему брату, честно скажи, что у вас с ним получилось. Зазнался твой Илья, пренебрегать тобою стал?
— Если бы дело было только в этом, Андрей! Разве можно о таком рассказать словами? Такое бывает по велению души, когда человек вступает в пору переоценки ценностей…
— Складно говорить ты всегда умела, сестра. Только у человека есть голова на плечах, чтобы контролировать свои поступки. Есть элементарные обязанности перед близкими, общественное мнение, наконец…
— Ты бы никогда не поступил по велению души! Ты у нас ортодокс! Ходячая мораль! В твоей голове никогда не бывало грешных мыслей!
— Ты права, сестра, я всю жизнь исповедую одну веру, название которой — порядочность.
— Не та ли, что именуется ханжеством?
— На этот раз ты заблуждаешься. Я никогда не был ханжой, зато всегда был принципиальным противником легкомыслия. В твоем же поступке подобный факт трудно отрицать…
— Ты же должен быть психологом, Андрей! Столько лет воспитываешь своих матросов! Неужто не понимаешь, что в моей жизни наступил такой отчаянный момент, что притворяться любящей, лгать самой себе стало противно!
— Ладно, поступай как знаешь, только я советую тебе хорошенько подумать…
— Пошли домой, Андрей, — зябко передернула плечами Татьяна. — Я продрогла насквозь…
Андрей Иванович еще дважды наведывался в Москву и каждый раз возвращался к прежнему разговору с сестрой. Проводив брата из последней командировки, Татьяна закрылась на ключ в своем врачебном кабинете и написала письмо в Калининград штурману Ролдугину.
Глава 4
Экипажу «Горделивого» отвели под жилье казарму, выстроенную еще в начале века для юнкерского училища. Ее метровые кирпичные стены уцелели после двух войн, сносило только крышу и превращало в крошево оконные стекла. Гулкие железные лестницы, которые теперь именовались трапами, помнили еще звон шпор офицеров гвардии его императорского величества.
Комната, она же рабочий кабинет командира, слепыми стенами напоминала хранилище матросских вещей — баталерку, из которой вынесли стеллажи. Противоположный от двери угол был зашторен тяжелой гардинной портьерой, скрывавшей железную койку. Впрочем, капитан второго ранга Урманов мог бы снять комнату, даже отдельную квартиру в городе, но ему было удобнее жить здесь, бок о бок со своими людьми.
Командир покидает гибнущий корабль последним, но не всегда приходит на строящийся первым. Когда Урманов с предписанием в кармане приехал на завод, его встретили заместитель командира по политической части капитан третьего ранга Валейшо, инженер-механик Дягилев, несколько младших офицеров и среди них командир стартовой батареи лейтенант Игорь Русаков.
«Добрый день, дядя Сережа…» — хотел было сказать он, но, не увидев ответной улыбки на лице Урманова, произнес: — Здравия желаю, товарищ командир.
— Здравствуйте, лейтенант, — нарочито сухо поздоровался Урманов. «Парень как парень, — мысленно отметил Сергей. — Подтянут, дисциплинирован».
В первый же день командир корабля познакомился с ведущим конструктором проекта Георгием Оскаровичем Томпом, который в день спуска «Горделивого» со стапеля был болен. Они встретились в диспетчерской главного строителя и разговаривали под аккомпанемент хрипловатого зуммера селектора.
— Ну вот весь наш триумвират в сборе, — хохотнул Павел Русаков. — Кто же из нас будет Цезарем?
— На корабле бывает только один командир, — сказал Томп, заметно смягчая букву «б», так что она звучала как «п».
— У нас пока не корабль, а заказ номер триста тридцать три, хитровато глянул на Урманова Павел.
— Я думаю, следует вспомнить старый флотский принцип: каждый занимается своим делом и головой за него отвечает, — отпарировал Сергей.
— Позволь справиться, за что же будешь отвечать ты?
— Долго перечислять, товарищ главный строитель. За многое и, в частности, за специальную подготовку экипажа.
— Стало быть, толкаться возле механизмов и мешать моим рабочим? А заодно сманивать тех, кто помоложе, на сверхсрочную?
— Я не вербовщик, а у нас, как известно, всеобщая воинская обязанность.
— Кто же тогда сманил моего шофера Васю? Адмирал Нельсон?
— На твоем месте я бы водил машину сам. Невелика персона!
— Сам сначала дослужись до персональной, тогда будешь судить и рядить…
Диспетчер подозвал Павла Русакова к телефону, и тот, выслушав что-то, рысью выбежал за дверь.
— Что получилось? — спросил диспетчера Томи.
— ОТК сварной шов забраковал, — ответил тот.
— Не велика беда, — буркнул Томп и повернулся к Урманову: — Мне говорили, вы из семьи потомственных мореходов?
— Отец был капитаном первого ранга, а вот дед рабочим на заводе Гужона.
— О, мой род семью коленами связан с морем! Я ведь из Кингисеппа, что на острове Сааремаа. Знаете такой?
— А как же! Еще в училище лоции всех наших морей наизусть вызубрил.
— Жаль, что вы не побывали на Сааремаа! Такой красоты на всем свете больше нет.
— А мне кажется, что самый красивый город в мире — это Севастополь.
— Мы с вами как кулики, каждый свое болото хвалит! — рассмеялся Томп. — У вас есть сын?
— Я не женат.
— Это нехорошо! Род надо продолжать. Мой сын Ян закончил мореходку, теперь плавает механиком на Балтийском пароходстве. Я рад, что мы познакомились. Будем работать вместе.
Ступив на палубу «Горделивого», Сергей Урманов сразу заметил, как поматерел корабль за пять месяцев, прошедших после спуска на воду. Перед носовой надстройкой связкой гигантских стручков красного перца казались поднятые вверх контейнеры ракетной установки, возле самого форштевня волнистыми рядами выложены черные калачи якорь-цепи. Надстройка уже была остеклена, а над нею широко раскинула сетчатые крылья антенна станции поиска цели. Только этажерки монтажных лесов, окружавшие некоторые наружные устройства, портили внешний вид крейсера.
Вдоль обоих бортов сновали туда-сюда люди; непосвященному этот человеческий муравейник показался бы странным, даже бессмысленным, но Урманов видел, что почти никто из рабочих не идет с пустыми руками, каждый что-то несет: детали, инструменты, укупорочную тару, ведерки с краской либо со смывкой. Да и не особенно разгуляешься на стылой, промозгшей на февральском ветру палубе под щетиной сосулек, свисающих всюду: на мачтах, буртиках надстроек, на металлических скобах, скрепляющих леса.
Бежавший навстречу Урманову человек в рыжей телогрейке и заляпанной краской ушанке остановился, поспешно вскинул к виску ладонь правой руки:
— Здравия желаю, товарищ командир! Вы меня не узнаете? Главный старшина Хлопов. Тот самый, который бывший шофер Павла Ивановича…
— А, стало быть, тот самый Вася, — усмехнулся Урманов. — Ну, здравствуйте. Я успел за вас нахлобучку получить от главного строителя. Службой довольны?
— Трудимся, товарищ командир. Служить пока недосуг.
— Любопытное заявление! Выходит, сейчас вы не на службе?
— Смотря как считать, товарищ командир. Если по принципу: солдат спит, а служба идет, то она есть. Только у моряка настоящая служба в море начинается.
— А разве плохо собственными руками на корабле каждую железку пощупать? Уверуешь в надежность техники, плавать спокойнее будешь.
— Все это правильно, что вы говорите, товарищ командир. Но есть тут некоторые особые обстоятельства…
— Какие же, если не секрет?
— Вы скоро сами о них узнаете, — уклонился от продолжения разговора Хлопов. — Разрешите идти?
Урманов тоже двинулся дальше, не особенно задумываясь над смыслом недосказанного старшиной, но то, что Хлопов задолго до начала плавания думает о море, командиру понравилось. В любом из своих подчиненных он прежде всего ценил ту профессиональную жилку, которая впоследствии вплетется в прочный канат под названием «морская выучка экипажа».
Одна из времянок на крейсере — будущая матросская столовая — была отведена для нужд личного состава. В ней размещались шкафчики для хранения сменной одежды матросов и офицеров. Просторное помещение сейчас пустовало, только в дальнем углу возле раскладного стола заместитель командира Валейшо разговаривал с какой-то женщиной в заляпанном краской комбинезоне.
— Познакомьтесь, Сергей Прокофьевич, — сказал замполит, — это бригадир маляров Ирина Петровна Снеговая, можно ее звать просто Ирой.
— А еще меня называют Кармен, — игриво глянула на Урманова новая знакомая.
В ней действительно угадывалось что-то цыганское: слегка выдающиеся скулы обтягивала смугловатая кожа, глаза под узкими серпами бровей были тоже темными с янтарными миндалинами зрачков, и даже аляповатый комбинезон сидел на ней подчеркнуто кокетливо.
— Мало ли кого как звали в детстве, — выдержал ее взгляд командир. Меня, например, величали Серым…
— А меня Валенком, — улыбнулся замполит.
— Смею вас заверить, товарищи офицеры, — бесцеремонно оглядела обоих женщина, — эти клички вам теперь не подходят.
— Ира пришла к нам с просьбой, — сказал Урманову замполит.
— Не с просьбой, а с рационализаторским предложением, — поправила его Снеговая. — Выделите нам в помощь десяток самых пригожих ребят, и мы беремся вдвое сократить сроки покрасочных работ.
— Может, не красивых, а самых работящих? — усмехнулся командир.
— Нет, именно самых пригожих! — притопнула ногой Снеговая. — И будьте покойны, надорваться мы им не дадим!
— Я вижу, вам нужны женихи, а не помощники…
— Женихаться будем потом, после работы. А пока распределим ваших красавцев по одному на каждый объект, и девчата друг перед дружкой так расстараются, что по две нормы выгонят!
— Шутки шутите с другими, — нахмурился Урманов, — а помощь, коли требуется, окажем. Подавайте заявку диспетчеру.
— Вы не по годам серьезны, товарищ капитан второго ранга, насмешливо прищурилась Снеговая.
— Должность обязывает.
— Смотрите, за такого ни одна замуж не пойдет! — погрозила ему пальцем Снеговая и, засмеявшись, выбежала из подсобки.
— У девчат на всех нас полное досье, — смотря ей вслед, улыбнулся Валейшо. Потом продолжал уже серьезно: — И такие обстоятельства надо учитывать, Сергей Прокофьевич. На корабле работают четыре десятка женщин, в основном молодых. Кое-кто из наших холостяков уже засматривается. Особенно на таких вот, как эта Ира…
— Достанется кому-нибудь счастье, — нахмурился Урманов.
— Это она с виду такая ершистая, а на самом деле славная дивчина, руководит передовой молодежной бригадой. И неплохо бригадирствует.
— А вы, Федор Семенович, тоже кой на кого досье завели.
— Должность обязывает! — рассмеялся замполит.
Урманов порадовался в душе, что волею судеб, а точнее волею кадровых органов, достался ему такой толковый заместитель по политической части. Сергею было приятно простоватое мужицкое лицо Валейшо, которое освещали голубые добрые глаза. Руки у замполита были жесткими и жилистыми. Настоящий «политрабочий», как иногда с горделивым оттенком величают себя сами замполиты.
— Проблем здесь хоть отбавляй, — продолжал разговор Валейшо. — Как-то захожу в обеденный перерыв а машинное отделение и обнаруживаю дружеское застолье. На сложенной стремянке бутылка водки, закусочка разная: огурцы, лук, яйца вареные, а возле стремянки двое рабочих и двое наших. Один из заводских — человек пожилой, с виду серьезный. «Как же так, дорогой товарищ, — говорю ему, — небось сами срочную отслужили, что матросу можно, а что нельзя, знаете». А у того улыбка до ушей. «Промашка вышла, товарищ начальник, — отвечает мне, — жена вместо кефира „Столичную“ в кису сунула по ошибке. Одному на грех, а четверым — для поднятия настроения!» Пришлось конфисковать до конца рабочего дня…
— В таких случаях надо делать представление главному строителю. Пусть воспитывает своих людей, — нахмурился командир.
— С Павлом Ивановичем Русаковым мы работаем в контакте, — ответил Валейшо. — Только ему пуще нашего достается. Энергии его позавидовать можно. Ему и со своим народом надо ладить, и с соподрядчиками, и с нашим братом — военными. Только успевай поворачиваться…
— Он за это большие деньги получает. А нам с вами дело надо так поставить, чтобы нас хозяевами считали на корабле, а не подсобниками.
— В этом вы правы, товарищ командир, — поскучнел замполит. — Только в заводских условиях не всегда так получается. Экипажу тоже хочется приложить руки к строительству корабля. Народ молодой, силы через край… Ну да теперь, с вашим приходом, все пойдет как следует.
Первый заводской день показался короче медвежьего хвоста. Не успел Урманов разобраться с первостепенными делами, как затихло все на большом корабле. Перестали надсадно стрекотать пневмомолотки, подвывать переносные вентиляторы, не бухали больше тяжелые надстроечные двери. Словно пропал звук в телевизоре.
— Может зашабашим, Сергей Прокофьевич? — смущенно кашлянул замполит.
Урманов взглянул на часы, было уже без четверти двадцать.
— Расхода мы не заказывали, а ужин заканчивается, — напомнил Валейшо.
— Добро. Вы ступайте, Федор Семенович, я чуть погодя…
К ночи похолодало. От вспоротой ледокольным буксиром воды сизыми клубами валил пар. С хрустом крошился под ногами Урманова ноздреватый ледок, покрывший асфальтовые дорожки, порывистый ветер швырял в лицо пригоршни морозных игл. Все это отвлекало Сергея, мешало сосредоточиться, осмыслить первые впечатления. И все-таки четко вырисовывалась главная задача: надо срочно сколачивать коллектив. Матросы не все еще перезнакомились друг с другом, да и офицеры пока живут особняком. Команда «Горделивого» маленькими ручейками растеклась по корабельным шхерам, затерялась среди работяг-заводчан и сливается воедино лишь в столовой да в казарме перед сном. «Такое положение надо с завтрашнего дня похерить», решил командир.
Возле заводской проходной он нагнал главного конструктора. Георг Томп зябко прятал лицо в поднятый меховой воротник пальто.
— Неужто и вам некуда торопиться? — увидев командира, воскликнул он. — Тогда, может, заглянете ко мне? Я живу один, совсем рядом с заводом.
Урманов трудно сближался с людьми; за это его кое-кто считал гордецом, нередко и сам он страдал от своей некоммуникабельности, хотя ему не нравилось это модное словечко. Вряд ли бы он принял приглашение едва знакомого человека, но случай был особый: звал в гости создатель «Горделивого».
— Попьем по-холостяцки чайку с настоящим ямайским ромом. Сын презентовал несколько бутылок после заграничного рейса. Чай с ромом — моя давняя слабость.
Ведущий конструктор жил в небольшой двухкомнатной квартирке пятиэтажного дома времен борьбы с архитектурными излишествами. Высокий Урманов почувствовал себя в ней жирафом в транспортировочной клетке. Снимая шинель в тесной прихожей, задел рукавом плафончик, закрепленный под самым потолком.
— Врачи говорят, что инфаркт — болезнь лифтов и нижних этажей, улыбнулся чуть запыхавшийся на лестнице Томп. — Мне здесь, под самой крышей, эта болезнь не грозит…
В гостиной Урманов с опаской покосился на старинную люстру с гроздьями хрустальных подвесок на уровне его головы, но тут же забыл о ней, увидев редкостную коллекцию. Вдоль стен комнаты на аккуратных стеллажах лежали десятки самых разнообразных раковин и кораллов, чучела экзотических рыб и моллюсков.
— Это наше с Яном хобби, — пояснил Томп. — Трогать руками разрешается, — улыбнулся конструктор. — И прошу извинить за произношение. Полжизни среди русских, а так и не научился выговаривать ваши согласные. Однажды пригрозил побить одного негодяя, получилось «попить», и этот самый негодяй услужливо подал стакан воды!
— Надо же, сколько чудес водится в морях-океанах! Первый раз вижу их собранными вместе.
— Тут лишь крохотный кусочек подводного царства, — сказал Томп. Полного комплекта нет пока ни в одном музее мира, даже у самого Жака Ива Кусто, Мне мой Ян привозит их мешками, но скоро негде станет прописывать, жилплощади на них не полагается!
Хозяин вышел на кухню, оставив гостя наедине с реликвиями глубин. Урманов подошел к полке, на которой громоздились раковины, похожие на причудливые греческие амфоры, взял в руки одну из них, приложил к уху. Сквозь шорохи воздуха из пустотелого нутра моллюска послышалось эхо прибоя, разбивающегося о коралловые рифы далеких южных островов, вечно живое дыхание океана. Этому эффекту морских раковин Сергей не переставал удивляться с несмышленых ребяческих лет.
Положив раковину на место, он перешел к полке напротив, с россыпью ракушечной мелочи. Рядом кокетливо выставляли рожки белые, розовые, палевые и даже совершенно черные кораллы, поражающие ажурной вязью стеблей. Урманову припомнилась прочитанная в юности книга, где говорилось, что раковины и кораллы долгое время служили островитянам Океании в качестве денег. «Георг Томп был бы тогда миллионером!» — улыбнулся он своей мысли.
— Покойная жена поначалу была противницей нашего увлечения, зато потом могла лучшее платье отдать за редкую ракушку! — заговорил Томп, внося поднос, на котором стоял дымящийся электрический самоварчик и несколько крохотных заварных чайничков. — Когда мы с Яном хоронили Лайму, то положили в гроб Яванскую Жемчужину — самую дорогую раковину из нашей коллекции…
— Вы давно один, Георг Оскарович? — деликатно спросил Урманов.
— Нет, всего восемь лет. Но мне кажется, что жена еще вчера была со мной… Хотя почему я один? — спохватившись, улыбнулся Томп. — У меня есть сын! Огромный человечище, пожалуй, повыше вас ростом. Все это останется ему…
Он снова вышел и вернулся с бокастой бутылкой, оплетенной золотистым шнуром.
— Вы были когда-нибудь на Ямайке?.. — спросил Томп. — Я тоже не был, но благодарен людям этого антильского острова за чудесный напиток.
— Считается, что кубинский ром ничуть не хуже.
— «Бокарди»? Может быть, но мы, эстонцы, не любим менять своих привычек.
Томп стал кудесничать с заварными чайничками, сливая кипяток из одного в другой, а затем в третий.
— Позвольте, я вам налью по своему вкусу? Не понравится — выплеснете.
— Будьте любезны, Георг Оскарович.
— Рому следует добавлять вот столько, — показал Томп крошечную серебряную мензурку с длинной ручкой. — Ею пользовались еще мои прадеды…
Подобный чай Урманов в самом деле пил впервые, с каждым глотком ощущая тонкий, неповторимый аромат.
— Ну как рецепт?
— Бесподобно!
— Этот состав называется поцелуем любимой женщины, — пояснил Томп. А вот когда вы познакомитесь с моим Яном, он заварит вам морского черта либо благословение Нептуна. Эти букеты вышибают из костей любую простуду, а из головы самое жестокое похмелье!
— Вы давно строите корабли, Георг Оскарович?
— Всю жизнь. В детстве ремонтировал с отцом рыбацкие лодки, а подрос — подался на судоверфь. Хотя, честно признаться, всегда хотел плавать на кораблях, а не строить их… Здоровье, понимаете, подвело. Врачи нашли у меня врожденный недуг сердца, который до конца дней привязал меня к берегу… Но все равно я повидал весь белый свет! Глазами своего сына Яна. Когда он приезжает на побывку, целыми вечерами рассказывает мне о далеких землях, о диковинных зверях и рыбах…
— «Горделивый» который ваш корабль? — поинтересовался Сергей, выдержав паузу.
— Смотря как считать, если со всей мелюзгой, то он распочал четвертый десяток. На моих глазах произошла техническая революция на стапелях: ввысь потянулись борта кораблей, вширь их палубы, вглубь осадка. А главное, мы не пристегнулись к чужой конструкторской мысли, мы создали свое, новое направление в кораблестроении. На Западе его называют русским, хотя точнее следовало бы звать советским. Ведь развивали его и русские, и украинцы, и мы, прибалты, и много людей других национальностей большой страны нашей…
— Скажите, а этот проект долго рождался?
— Очень долго, — улыбнулся Томп. — С тех самых пор, когда со стапеля сошел первый советский военный корабль. Ведь создавая сегодняшнее, думают о будущем. Лично я мечтал о таком корабле еще в сороковых годах, только тогда не по зубам была нам комплексная автоматика. Башенные приводы крутили вручную.
— А какое, на ваш взгляд, самое слабое место у «Горделивого»?
— Слабые места проектом не предусматривались! — рассмеялся конструктор. — Если хотите знать о трудностях, то мы долго бились над уменьшением парусности надстроек. И кое-что придумали! За это кое-что вы нас не раз еще поблагодарите, когда будете швартоваться в непогоду!
— А управляемость на заднем ходу?
— Не отличите от переднего хода.
— А отыгрываемость на встречной волне?
— До шести баллов будет стоять как вкопанный.
— А защита гидроакустики?
— Вы решили узнать все, товарищ командир, а всего мы сами пока еще не знаем, — внимательно глянул на Урманова конструктор. — Вот выведем корабль на ходовые испытания и вместе будем считать, чего больше, чего меньше проектного. Мы ведь тоже люди, а не боги…
— Извините за назойливость, Георг Оскарович, — сообразив, что переборщил, сказал Урманов, подымаясь из-за стола. — Спасибо за чудесный чай, за полезную беседу.
— Всегда буду рад видеть вас своим гостем, Сергей Прокофьевич, любезно попрощался Томп.
Глава 5
В Калининград Татьяна приехала под вечер. Последние километры пути простояла в коридоре вагона возле окна, настороженно приглядываясь к частым полустанкам с обязательной водонапорной башней из красного кирпича посреди островка похожих как близнецы двухэтажных домишек. Редким на этом ощетинившемся островерхими крышами островке был дом современной постройки, многоэтажный, с плоской кровлей, и казался он случайным гостем на чужом подворье.
Настроение Татьянино было тревожным, порой она казнила себя за сумасбродство: какая еще из женщин может бросить на произвол судьбы малолетнего сынишку со стариком отцом и закатиться невесть куда, невесть зачем?.. В прежние времена таких, как она, возвращали по этапу.
Всю ночь Татьяна промаялась без сна; в сине-призрачном свете ночника, под монотонный перестук колес, ее одолевали тревожные мысли. Как могла она оставить малолетнего сынишку со стариком отцом, а сама помчаться сломя голову невесть куда и зачем! Татьяна понимала, что это всего лишь начало ее страданий, а что будет потом, на палубе судна в морской пустыне?
Наконец за окошком проплыли разбитые купола готических соборов, развалины домов, окруженные буйно разросшейся зеленью, и поезд втянулся под стеклянную, напоминающую соты из-за выбитых ячеек, крышу огромного мрачного вокзала. Давно собравшиеся соседи по купе заторопились к выходу, а Татьяна в душевном оцепенении опустилась на полку.
— С приездом вас, Татьяна Ивановна! — В дверном проеме возник улыбающийся Борис Ролдугин. Был он одет в щегольской чесучовый костюм, на голове прилепилась крохотная кожаная эстонская кепочка с козырьком-клювом.
— Здравствуйте, Борис Павлович, — не подняв глаз, ответила Татьяна.
— Отчего такой минор? Кто посмел обидеть? — бесцеремонно затараторил штурман, оглядывая купе. Затем подхватил ее чемоданы, выставил в коридор. — Идемте, мотор ждет! — сказал он, трогая ее за локоть.
Она с трудом поднялась и пошла впереди него. На платформе Ролдугин передал чемоданы услужливому носильщику, решительно взял Татьяну под руку. Она оперлась на его руку машинально, как опирается человек, потерявший равновесие, на первый подвернувшийся предмет.
— Я вам выбил номерок в межрейсовой гостинице, — сообщил Борис. Приличный, угловой, соседи только с одной стороны…
— Благодарю вас, — разжала губы Татьяна.
— Кого это нас? Меня одного! — хохотнул он. — Я не старый учитель, а вы не школьница! Давайте, по праву давних знакомых, перейдем на «ты»? Хорошо?
Татьяна молча кивнула. Ею овладело какое-то тупое безразличие, даже слова попутчика она воспринимала с трудом, как будто в полусне.
Пожилой усатый таксист распахнул перед ними заднюю дверцу «Волги», принял от носильщика багаж, уселся на свое место и включил скорость.
— Слушай, шеф, сделай кружок по Кутузовской, потом по Каштановой аллее, в общем, там, где поинтересней, — сказал ему Ролдугин.
— Как будет угодно, — понимающе хмыкнул шофер.
— Это самые зеленые улицы Калининграда, — пояснил Борис. — На Кутузовской, говорят, растет сто пород деревьев, как в ботаническом саду. И вообще в городе больше ста озер и прудов, уймища парков, летом он чертовски красив. Тебе Калининград понравится, вот увидишь!
Он продолжал увлеченно рассказывать, но Татьяна не слушала, да и ничего не видела за боковым стеклом.
— Пожалуйста, Борис Павлович, поедем в гостиницу, я устала с дороги, — вдруг попросила она, с трудом повернув голову на занемевшей шее.
— Шеф, на площадь Победы, в межрейсовую! — скомандовал шоферу Ролдугин.
Машина затормозила возле подъезда серого пятиэтажного здания, замыкающего просторную несимметричную площадь. Таксист следом за пассажирами внес в номер чемоданы.
— Счастливого отдыха, — сказал он, пряча в карман деньги.
— Ты и в самом деле сегодня отдыхай, а завтра утречком я отведу тебя на шип, — сказал Ролдугин.
Едва за ним захлопнулась дверь, как Татьяной овладел приступ отчаяния. Страшили обклеенные бесцветными обоями стены, серое казенное покрывало на широкой деревянной кровати. Первой мыслью было схватить свои вещи и помчаться на вокзал за обратным билетом…
— Борис! Борис! — закричала она, выглянув в коридор.
— Что случилось? — встревоженно спросил мигом вернувшийся Ролдугин.
— Прошу вас, не оставляйте меня сегодня одну…
Он изумленно вскинул белесые брови, губы его тронула радостная улыбка.
— В таком случае, давай закатимся в ресторан! Послушаем музыку и поужинаем, — предложил он.
— Хорошо. Только побудьте минутку в коридоре, я быстро переоденусь.
На двери ресторана «Нептун» висела табличка «Свободных мест нет», рядом со входом нетерпеливо топталась кучка молодых людей.
— У меня заказано, — бросил им Борис, хозяйски постучав костяшками пальцев в толстое дверное стекло.
— Прошу вас, — предупредительно посторонился швейцар. — Направо у стены свободный столик, — затворив дверь, подсказал он.
Едва ли не половина людей в зале была одета в морские тужурки с шевронами, либо в синие куртки с узенькими погончиками. А загорелые, обветренные лица и громкие голоса выдавали даже переодетых марсофлотов.
Ролдугин, придерживая за локоть, вел Татьяну по узкому проходу, кивком головы приветствуя знакомых.
— С законным браком, штурманец! — хихикнул какой-то подвыпивший субъект.
— Заткнись! — шикнул на него Борис, извинительно шепнув Татьяне: Один балбес из здешних бичей-прилипал…
Столик оказался двухместным. Ролдугин выдвинул стул для Татьяны, сел напротив, небрежно смахнув трафаретку «Не обслуживается». Тут же к ним подлетел официант.
— По полной схеме, Юра, — сказал ему Ролдугин, а Татьяна заметила про себя, что тут он держался совсем иначе, чем девять месяцев назад в Москве, в Центральном доме литераторов.
Вскоре на столе появилась бутылка французского коньяка, кувшин с банановым соком, стало тесно от закусок.
— Первую за встречу, — поднял налитую до краев рюмку Борис. — За очень радостную для меня встречу!
Чтобы заглушить щемящую грудь тоску, Татьяна одним глотком осушила рюмку, но даже не почувствовала крепости коньяка. Ролдугин тут же налил ей снова.
— Вторую за тебя, Танюшка, за самого прекрасного врача во всем Балтийском пароходстве!
И опять она выпила до дна, а чуть погодя все поплыло у нее перед глазами, растворилось в клубах табачного дыма, висевшего над столиками. Существо ее как бы расщепилось: словно со стороны смотрела она на себя, с усмешкой выслушивающую красноречивые признания собеседника.
— Слушай, Борис, а кто такие бичи-прилипалы? — раскурив сигарету, спросила она.
— Бездельники, норовящие кутнуть за чужой счет. По ошибке они разок сходили в море, а теперь разыгрывают из себя бывалых мариманов. Прилипнут к морячку, загулявшему после рейса, и крутятся возле него, пока не вытрясут… Но знаешь, Танюшка, среди них не бывает военных моряков. Все-таки военный флот дает не только физическую, но и моральную закалку.
— Они, наверное, думают, что и я прилипла к тебе, — натянуто усмехнулась Татьяна.
— Чего ты мелешь, Танюшка? — Ролдугин опрокинул бокал, у которого хрустнула тонкая ножка. — Пусть кто-то посмеет обидеть тебя! Вот и посуда разбилась на счастье…
— Разве кто-нибудь знает, что такое счастье?
— Я знаю, Танюшка! Нынче я самый счастливый человек в этом зале, в этом городе, на всей земле! Давай учудим, Танюшка, пойдем завтра в загс и распишемся!
— Я уже один раз учудила, Борис…
Они выпили третий тост «за тех, кто в море», и еще одна полная рюмка совершенно оглушила Татьяну…
Проснулась она в ознобе. В распахнутое окно гостиничного номера врывался холодный утренний ветер, парусами надувая ситцевые занавески. Потянула с пола упавшее одеяло, и тут только различила чье-то дыхание за своей спиной. Борис спал, повернувшись лицом к стене, спал тихонечко, как ребенок. Только теперь поняла Татьяна, что ничего ей не пригрезилось, все было на самом деле…
Татьяна поднялась, укрыла одеялом спящего Ролдугина, собрала с пола разбросанную одежду. Быстро натянув платье, торопливо поправила перед зеркалом прическу и потихоньку выбралась за дверь.
На улице было не по-летнему свежо. Люди, торопившиеся на первые электрички, были одеты в плащи и куртки. Но Татьяна не стала возвращаться в гостиницу, срезала угол площади и углубилась в большой неухоженный сквер, весь исполосованный тропинками. Села на влажную скамью, съежившись, застыла словно в оцепенении. На душе было пакостно…
Здесь, в сквере, и разыскал ее Ролдугин.
— Ты с ума сошла, Танюшка! — ужаснулся он. Торопливо сдернул пиджак и укутал ее плечи. — Что случилось? Я тебя чем-то обидел? Но все, что я говорил вчера, я могу повторить сегодня: я люблю тебя, Таня!
— Никто меня не обижал… — попыталась она улыбнуться непослушными, вздрагивающими губами.
— Сейчас же идем обратно! Буфет уже открылся, буду тебя отпаивать горячим кофе!
После завтрака Ролдугин вызвал такси по телефону. И Татьяна ничуть не удивилась, увидев за рулем вчерашнего шофера, бросившего на нее мимолетный проницательный взгляд. Она потеряла способность чему-нибудь удивляться.
— В этот рейс мне не удалось устроить тебя вместе с собой, Танюша, обняв ее за плечи, негромко говорил Борис. — Но в следующий мы обязательно объединимся. У меня есть надежный кореш в кадрах.
Она молча кивала в ответ, почти не вдумываясь в смысл его слов. Мысли ее были далеко…
Ролдугин оформил ей пропуск, затем повел в глубь порта мимо огромных мастодонтов-кранов, огибая стоявшие на путях составы.
— А вот и твой «Новокуйбышевск», — сказал он, указывая на застывший возле причала большущий сухогруз. Еще вчера, когда Татьяна услышала название своего судна, ей показалось оно знамением судьбы. В Куйбышеве остался бывший муж, а здесь начнется ее новая жизнь.
Высокий борт «Новокуйбышевска» был выкрашен в черный цвет, с которым выгодно контрастировала белая надстройка. Судно стояло с полным грузом, легонькая волна омывала грузовую отметку.
— Мировой шип! — оживленно говорил Татьяне Ролдугин. — Полуавтомат, экономическая скорость шестнадцать узлов! По сравнению с ним мой «Аральск» — старая калоша.
Он легко вспрыгнул на покачнувшуюся нижнюю площадку трапа, подал руку Татьяне, широкие ступеньки чуть подрагивали под их ногами, позвякивали цепи, на которых был подвешен трап.
— Принимайте пополнение, мореплаватели! — воскликнул Ролдугин, обращаясь к вахтенному матросу. — Кэп у себя?
— Капитан на берегу, — ответил тот. — На борту старпом с помполитом.
— Знакомься, парень, это ваш новый врач Татьяна Ивановна Юркевич.
Вахтенный смущенно улыбнулся, поправил повязку на рукаве и назвался:
— Гешка… Геннадий Некрылов, матрос.
Он был среднего роста, неширок в плечах, но крепок. Из-под фуражки выбивалась кудрявая прядь темных волос. «Вряд ли этот будет когда-нибудь моим пациентом», — подумала Татьяна, протягивая матросу руку.
Борис провел Татьяну в жилой коридор, костяшками пальцев стукнул в дверь каюты.
— Прошу! — послышался изнутри высокий голос.
За квадратным столом сидел пожилой человек с коротко подстриженными седеющими волосами, щеку наискось метил белесый шрам. Увидев на пороге женщину, он неторопливо, с достоинством поднялся, вышел ей навстречу.
— Кузьма Лукич Воротынцев, первый помощник капитана, — назвался он. А вы наш врач? Татьяна Ивановна, если не ошибаюсь?
От его пытливого со льдинкой взгляда Татьяне стало чуть не по себе, но она скрыла неловкость за любезной улыбкой.
— Я самая, товарищ помполит.
— О! — вскинул кустистую бровь Воротынцев. — Вы, оказывается, разбираетесь в судовых должностях.
— Татьяна Ивановна из флотской семьи, — подал голос Ролдугин. — Отец у нее мичман, старший брат адмирал.
— А вы, товарищ, тоже ко мне? — спросил его помполит.
— Да нет, я вот только проводил к вам… — растерялся тот. — Я третий помощник с «Аральска». — И заторопился к выходу, сказав на ходу: — Я буду ждать тебя вечером возле проходной, Таня.
— Он ваш родственник? — спросил помполит Татьяну.
— Нет, просто давний знакомый.
— Ваш или вашего мужа? — снова уколол ее взглядом Воротынцев.
— Какое это имеет значение? — нервно передернулась в кресле Татьяна.
— Большое, — невозмутимо ответил помполит. — На судне вас будет всего три женщины… Впрочем, даже не три, а две, повариха не в счет, ей уже за пятьдесят… Так вот, имейте в виду, к вам будут присматриваться. Каждое лыко, как говорится, вам в строку поставят.
— Спасибо за предупреждение, товарищ помполит, учту.
— А почему вы не носите обручальное кольцо?
— Не хочу, потому и не ношу, — уже ожесточаясь, буркнула Татьяна.
— Рекомендую надеть, чтобы не вызывать брожения мужских умов…
— Простите, но я его оставила дома, в Москве. Можете сообщить об этом экипажу! — с вызовом сказала Татьяна.
— Это не входит в мои обязанности, — по-прежнему спокойно-ледяным тоном ответил Воротынцев. — Ну что ж, — подытожил он, — времени для разговоров у нас с вами впереди предостаточно. Принимайте дела и имущество. Надеюсь, все в порядке, ваш предшественник был человеком аккуратным… Да, кстати, — остановил он Татьяну возле самой двери каюты, — возьмите-ка эту книжицу, почитаете на досуге. Она называется «Устав плавания на судах советского морского флота».
«Удивительный сухарь, — размышляла Татьяна по пути в лазарет, — не человек, а бесчувственный робот. Без сердца, без печенки-селезенки… Хотя это может и к лучшему, нечему болеть. Попадись такой пациент, всю душу вывернет…»
Лазарет оказался симпатичным трехсекционным помещением с небольшой, но просторной приемной, такой же уютной процедурной, со спальным отделением на четыре койки и санузлом. По сравнению с этим великолепием ее комнатушка-кабинет в районной поликлинике выглядела жалкой лачужкой. Два иллюминатора наполняли приемную ярким солнечным светом, сверкали белизной переборки, искрился никелем инструментарий в застекленных встроенных шкафах. У Татьяны даже настроение поднялось от подобного великолепия. Полюбовавшись своим хозяйством, она достала из ящика папку с документами, сорвала пломбу на сейфике с медикаментами и занялась подсчетом коробок, ампул и облаток.
Стук в дверь заставил ее прерваться.
В каюту, чуть согнувшись, вошел высоченный, под два метра ростом, мужчина в комсоставской тужурке. Черты его лица были под стать фигуре крупными и шероховатыми, словно голову его отлили в форме и забыли пошлифовать. И все-таки — Татьяна это отметила сразу — моряк был красив какой-то особой буйной, мужественной красотой.
— Здравствуйте, дорогой доктор, — склонился перед ней неожиданный визитер.
По тому, как мягко произносил он согласные звуки: «Трасвуйте таракой токтор», Татьяна догадалась, что перед нею прибалтиец.
— Добрый день. Чем обязана?
— Я отец. Значит, второй механик. Меня зовут Ян Томп.
— Меня — Татьяной Ивановной. И много у вас детей?
— Каких детей? Я холостой.
— Но у отца должны быть дети.
— А! В моем заведовании машина и вся ее обслуга. Какое у вас чудесное имя, доктор! «Онегин, я скрывать не стану, пезумно я люплю Татьяну!» неожиданно высоким тенорком пропел он, и забавный его выговор «пезумно я люплю» заставил ее улыбнуться.
— И все-таки вы ко мне по делу? — погасив улыбку, спросила она.
— Да, конечно. Я две ночи не сплю, доктор. Нету сна!
— Такое бывает от переживаний. Наверное, вам трудно было расставаться с родными.
— Мои родные только папа. Он далеко отсюда. У нас мужчины расстаются без переживаний.
— Тогда виновата невеста.
— Моя невеста ушла к другому. Еще не успев познакомиться со мной…
— Давайте, я измерю вам кровяное давление, — сухо предложила Татьяна, чтобы не продолжать глупый разговор.
— С удовольствием! — просиял Томп. Повесив на крюк тужурку, он закатал рукав рубашки, обнажив мускулистую, покрытую белесым пушком и мелкими родинками руку.
Давление у него было как у космонавта, сто десять на семьдесят, а светлые голубоватого оттенка глаза хитровато поблескивали.
— Сколько вам лет? — для приличия спросила Татьяна.
— Много, доктор! Осенью будет тридцать один.
— На каком боку спите?
— На правом, доктор.
— Перевернитесь на левый, обязательно заснете.
— Да что там, доктор, я сплю как сурок. Просто я зашел познакомиться. Не браните меня, пожалуйста!
И снова его «не праните» вызвало улыбку. Почувствовав ее расположение, Томп еще более осмелел:
— Мой отец приказал мне жениться только на враче! Чтобы никогда не вызывать к нему «Скорую помощь»!
— Где он живет, ваш папа? — машинально спросила Татьяна.
— У самого синего моря. Он строит корабли…
Услышав название города, Татьяна встрепенулась, выпалила обрадованно:
— Так там же работает мой брат Павлик!
— Павлик? А как его фамилия?
— Русаков.
— Ха! Павел Иванович Русаков! Мы же знакомы! Я его угощал поцелуем любимой женщины!
— Чем угощали? — озадаченно переспросила Татьяна.
— Так называется чай, заваренный особым способом, с ямайским ромом, Мой отец о вашим братом большие друзья!
— Вот уж действительно мир тесен, — улыбнулась она.
— Нет, нет! — закрутил головой Ян. — По-настоящему мир тесен только в океане. Вот там уж действительно увидишь все флаги мира.
— Вы давно плаваете?
— Всю жизнь! Помнить себя начал на корме рыбацкой лодки. Я ведь по рождению островитянин.
— И я детство и всю молодость провела возле моря, а в настоящее плавание иду впервые…
— Море вас примет, вот увидите! Море — оно живое. Оно тоже умеет ценить красоту.
Остаток дня Татьяна находилась под приятным впечатлением знакомства с голубоглазым великаном. Что-то было в нем трогательное, несоразмерное с внешностью. Ей подумалось, что Ян напоминает кого-то другого, непонятого и забытого…
В портовой проходной ее ждал Борис Ролдугин. Рядом с ним скучал таксист в форменной фуражке, на этот раз молодой парень с франтоватой ниточкой усов над верхней губой.
— Заводи, шеф! — распорядился Борис, увидев Татьяну. — Ну как первые впечатления? — спросил он ее в машине.
— Ничего, — ответила она.
— С помпой тебе не повезло. Он из бывших шкрабов, говорят, был завучем в какой-то школе. Случайный человек на море, Странно получается: чтобы стать самым младшим — четвертым помощником на судне, надо пять лет протирать штаны в мореходке, а тут — прошел двухмесячные курсы или просто инструктаж в парткоме — и третий человек после капитана со старпомом. Неправильно это… Ну да ничего, тебе от него детей не рожать! — шутливо заключил он.
— Знаешь что, Боря, — повернулась к нему Татьяна. — Ты позволишь мне побыть сегодня одной?
Глава 6
Урманов спускался по трапу в будущий боевой информационный центр, осторожно ставя ноги на заляпанные краской ступени. Неожиданно снизу донеслось пение. Звонкий женский голос выводил:
Отпустили сто рублей
На постройку кораблей…
«Ишь ты, резвятся красны девицы», — усмехнулся Сергей, нарочно затопав яловыми сапожищами, чтобы услышали внизу. Действительно, песня сразу же оборвалась.
В неуютном без иллюминаторов помещении при свете переносных ламп работали маляры. Слепящие лучи переносок ударили в глаза командиру, заставив на момент зажмуриться.
— Душевно поете, девчата, — сказал он, поздоровавшись.
— А мы сочетаем приятное с полезным, — ответила Снеговая, выходя на середину отсека.
— Рад вас видеть, Ирина Петровна, — учтиво поклонился Сергей.
— Мы вас, товарищ командир, тем более. Такие женихи на дороге не валяются, — картинно подбоченясь, ответила она.
«А все-таки хороша, мерзавка», — любуясь ею, беззлобно подумал Урманов. Нет ничего удивительного, что охмурила она взбалмошного Игоря Русакова. Их часто видят вместе то в ресторане, то на танцевальной площадке городского парка.
— Напрасно вы, товарищ командир, пригожих ребят нам в помощь не выделили, — продолжала балагурить Снеговая. — Давно бы уже и здесь, в БИЦе, и в посту управления монтажники вкалывали…
— Вы-то себя не обделили, товарищ бригадир, — улыбнулся Сергей.
— Я за всех своих подружек душой болею, — не замешкалась она с ответом. — Нам ведь до ваших лет в невестах ходить нельзя!
— График работ вам известен? — чтобы пересилить неловкость, спросил Урманов.
— Я на планерках мух не ловлю, — ответила Снеговая.
— Ну добро, — скомкал разговор Урманов и затопал обратно по трапу. Снизу донесся дружный хохот, который окончательно разозлил Сергея.
На палубе под горячую руку ему подвернулся спящий в укромном уголке рабочий, судя по заплывшим глазам, с тяжкого похмелья. Сергей приказал выставить лодыря с корабля, а сам медведем вломился в диспетчерскую.
— Давай поменяемся ролями, Серега! — парировал его наскоки Павел Русаков. — Ты корабль строй, а я стану порядки наводить. Что, не хочешь? Тогда хватит мелочиться. Разве можно в таком большом деле обойтись без изъяна? Да завтра этот самый Канарейкин на трезвую голову двойную норму выдаст. А уволю я его по твоему настоянию, ты мне на его рабочее место своего матроса поставить?
— Не поставлю.
— То-то же! А мне что прикажешь делать без Канарейкина? Он у меня сварщик-ювелир…
— Да пойми ты, Павел, твои разгильдяи мою команду разлагают!
— Вот ты своими-то побольше и занимайся. Да с помощников спрашивай построже. Вон сколько их у тебя ходит, и все с нашивками до локтей!
Урманов и сам понимал, что погорячился. Он видел: мелкие неурядицы все-таки не влияют на общий ход строительно-монтажных работ. С каждой неделей «Горделивый», как копилка монетами, наполнялся новыми механизмами и устройствами. Зато и заводчан на нем прибавлялось. Появилось много смежников из субподрядных организаций, которые подчинялись главному строителю сугубо формально и таили от него многие фирменные секреты.
— Вот и попробуй совладай с таким разношерстным народом! — огорченно вздыхал Павел. — Фирмачей полным-полно, а стрелочник по-прежнему один я…
Правда, — и в этом командир имел возможность убедиться, — в налаживании отношений со смежниками главному строителю помогал ведущий конструктор Георг Томп, авторитет которого на всех уровнях был велик.
Как-то раз, когда они утром, по обыкновению, сидели втроем в диспетчерской, Томп вынул из кармана почтовый конверт.
— Письмо получил от Яна, — улыбнулся он. — Скоро они двинутся рейсом на Кубу. И знаете, Павел Иванович, кто идет у них судовым врачом? Ваша сестра Татьяна!
Урманов невольно вздрогнул при этом сообщении и с удивлением глянул на Павла: «Неужели тот до сих пор не знал?»
— Ударилась в бега от мужа, от родных… — сердито проворчал тот, давая понять, что разговор ему неприятен.
Тогда Сергей сам предпринял обходной маневр.
— На каком судне плавает ваш сын? — спросил он Томна.
— На сухогрузе «Новокуйбышевск». Это полуавтомат нового типа. Пятитысячник финской постройки…
— Экипаж на нем большой?
— Полагаю, человек пятьдесят…
— Наверное, сплошная молодежь?
— Капитан на нем опытный, Семен Ильич Сорокин, старый балтиец. Я когда-то сдавал ему судно…
— А женщин на таких судах много плавает? — продолжал выведывать Урманов.
— Полагаю, не больше трех-четырех. Поварихи, буфетчица, дневальная, иногда врач, совсем редко маркони — значит радистка… Все-таки моряк профессия не женская.
— Рейс будет долгим?
— Сдадут генеральный груз в Гаване, забункеруются там сахаром и через Суэцкий канал пойдут в Находку. Так пишет Ян…
Опытному моряку нетрудно было прикинуть в уме примерное время плавания. С учетом стоянок выходило больше полугода. Но Сергей понимал еще и то, какими долгими кажутся дни вдали от дома. Не зря же случаются в далеком океане такие парадоксы, когда после пересечения линии перемены дат можно угодить из дня нынешнего обратно в день вчерашний.
— Слышь, Серега, — окликнул Урманова копавшийся в груде монтажных схем Павел. — Подбрось мне на сегодня десятка три гавриков. Люди позарез нужны!
— Ни одного матроса. У нас строевые занятия.
— Тебе что важнее, корабль побыстрее получить или подметки протереть?
— Мне важно наладить организацию службы. Без нее твоей чудо-технике грош цена будет в море.
— Значит, ты в головы своих матросов хочешь знания через ноги вбить?
— Зато твоих ювелиров ноги не всегда твердо держат, — съехидничал Урманов.
— Ох и зануда ты, Сергей. Потому и бабы с тобой не уживаются…
Урманов резко повернулся и поспешил к выходу.
— Обиделся, — кисло ухмыльнулся Павел. — Умный парень, но самолюбив, как прима-балерина.
— Ум, труд и самолюбие делают обыкновенных людей великими, задумчиво произнес Томп.
Урманов тем временем торопился к заводской проходной, то и дело поглядывая на часы. Ровно в десять он был на плацу, где в двухшереножном строю стоял весь экипаж «Горделивого».
Раздалось протяжное «смир-рноо!», от строя отделился офицер и со вскинутой под козырек фуражки рукой подошел к командиру.
— Товарищ капитан второго ранга! — прищелкнув каблуками, четко начал рапортовать он. — Экипаж ракетного крейсера «Горделивый» для строевого смотра построен. Старший помощник командира капитан третьего ранга Саркисов.
Старпом сделал шаг в сторону, пропуская вперед командира, и повернулся кругом. Чуть приотстав, сопроводил Урманова к середине строя.
— Здравствуйте, товарищи! — на одном дыхании выкрикнул Урманов.
— Здравия… желаем… товарищ… капитан… второго… ранга! шестикратно пророкотали шеренги.
Разрешив стоять «вольно», командир направился к правому, офицерскому флангу. Почти весь командный штат был укомплектован молодежью, на погонах которой поблескивали по две-три, реже по четыре звездочки. Урманов даже посетовал на такое положение в отделе кадров. «Молодость — это недостаток, который быстро проходит!» — успокоил его один из кадровиков. В деликатное положение поставило командира и назначение к нему старпомом Саркисова, закончившего академию в одной с ним группе. Все три учебных года слушатели были на одинаковом положении, называли друг друга в лучшем случае по имени-отчеству и, уж конечно, на «ты».
Урманов шел вдоль строя, пожимая руки офицерам, и невольно вздрогнул, увидев перед собой лейтенанта Русакова. Тот стоял, понуро наклонив голову, в куцем и несвежем кителе, с разошедшимися складками на давно неглаженных брюках.
«Прошастал, стервец, всю ночь и форму не привел в порядок, — сердито подумал командир. — Как же с ним поступить? Прогнать со смотра? Но ведь в строю стоят подчиненные Русакова… Не обратить внимания? Значит, бросить тень на собственный авторитет…» Он стоял в нерешительности, забыв даже подать руку офицеру, пока его не осенило:
— Лейтенант Русаков, — сказал он ледяным тоном. — Прошу вас подменить дежурного по казарме и направить его сюда.
— Есть подменить дежурного, — пряча усмешку, повторил приказание Игорь. Неторопливо вышел из строя и, не оглядываясь, зашагал прочь.
Второй раз за это утро было испорчено настроение Урманова. Он с облегчением вспомнил о том, что отказался от приглашения Русаковых. Иначе ему пришлось бы встретиться со своим нерадивым подчиненным за одним столом. Игорь жил не в казарме, а на квартире у дяди.
Когда строевой смотр закончился и команду повели на обед в столовую, Урманов задержал на минутку старшего помощника.
— Иван Аркадьевич, — обратился он к Саркисову по имени-отчеству, как бывало в академии. — Ты проверял форму одежды офицеров?
— Так точно, товарищ командир, — бодро подтвердил старпом, старательно выговаривая шипящие звуки. И все равно вместо «ч» у него получалось «сч», вместо «щ» выходило «шч».
— И ты не обратил внимания на безобразный вид лейтенанта Русакова?
— Почему не обратил? Я предложил ему переодеться, он сказал, что нет у него другого кителя.
— Тогда почему вы оставили его в строю? — непроизвольно перейдя на «вы», раздраженно воскликнул Урманов.
— Как же можно, товарищ командир? Он же сын командующего нашей эскадрой контр-адмирала Русакова!
— Прежде всего он наш с вами подчиненный, старпом! И требовать с него надо безо всяких скидок.
— Понял, товарищ командир. На будущее учту.
Поздним вечером в каюту Урманова заглянул капитан третьего ранга Валейшо.
— Я не помешаю? — деликатно осведомился он.
— Входите, Федор Семенович, безо всяких церемоний, — откликнулся Сергей.
Валейшо присел на краешек куцего диванчика, притулившегося к стене неподалеку от рабочего стола.
— С утра до ночи в заботах? — улыбнулся он, заметив стопку наставлений с многочисленными закладками.
— Готовлю групповое упражнение с офицерами, — поднял голову от стола командир. — Хватит им заниматься мастеровщиной.
— Мастеровщиной… — повторил последнее его слово замполит. — У вас это прозвучало как ругательство. А ведь на мастеровом люде вся наша промышленность держится, только называем мы его иначе — рабочим классом.
— Против рабочего класса я ничего не имею, — зыркнул на него колючим взглядом Урманов. — Сам из мастерового клана вышел. Только подсобничать заводским рабочим наши матросы больше не будут.
— А как же классовая солидарность, взаимовыручка? — снова улыбнулся Валейшо.
— Не надо громких слов, Федор Семенович, ими из бомбомета не выстрелишь. Нам с вами, между прочим, надо постараться, чтобы матросы не только знали, но и умели применить в бою технику и оружие.
— Вот в этом я с вами совершенно согласен, товарищ командир! Потому-то и нужна золотая середина между теорией и практикой… Впрочем, я зашел к вам по другому делу.
— Слушаю вас внимательно.
— На днях у нас выборы комсомольского комитета. Как вы смотрите на то, чтобы рекомендовать в секретари главного старшину Хлопова? По-моему, парень он серьезный, принципиальный.
— А комсомольцы его поддержат?
— Думаю, да. Он один из самых авторитетных старшин в экипаже.
— Ну что ж, я не возражаю.
— И еще, — замполит смущенно замялся, — один деликатный вопрос… Не могли бы вы потолковать с лейтенантом Русаковым? Я знаю, он вырос на ваших глазах и очень вас уважает…
— О чем же мне с ним говорить?
— С ним что-то странное происходит, друзей у него нет, ко всему безразличен, на службу приходит как на принудиловку…
— Все это больше по вашей части, Федор Семенович, — пряча усмешку, сказал Урманов.
— Пробовал, только ничего у меня не вышло, — бесхитростно ответил замполит.
— Добро, я попытаюсь разговорить лейтенанта Русакова, — согласился Урманов, красноречиво поглядывая на палубные часы, висящие на стене. На языке вертелся банальный вопрос: не пора ли гостю домой, но Сергей вовремя спохватился, вспомнив семейную историю замполита. Три года назад Валейшо овдовел, остался с двумя сыновьями-погодками, старший ходил тогда в первый класс. Помаявшись один с детьми около полутора лет, Федор Семенович женился вторично, привел в дом супругу намного моложе себя. Говорят, жили они поначалу дружно, мачеха была внимательна к мальчишкам до тех пор, пока не родила дочку. Как часто бывает в таких случаях, собственное дитя заслонило ей весь белый свет, а сердце отца оказалось разорванным надвое… «Все мы мастаки по чужим душам, — косясь на застывшего в невеселой позе заместителя, размышлял Урманов. — Зато в своей не всегда можем разобраться…»
— Может, перехватить для вас дежурную машину? — негромко осведомился он, чувствуя, что пауза слишком затянулась.
— Спасибо, Сергей Прокофьевич, — встрепенулся Валейшо. — Поздно уже, мои все спят. Переночую в лейтенантской каюте, там есть свободная койка.
Когда Валейшо, пожелав спокойной ночи, ушел, Сергей быстро разделся и юркнул под одеяло. Но пожелание замполита не сбылось, долго еще лежал Урманов без сна, думая о своем.
…С Ниной он познакомился в одном из крымских санаториев. По вечерам, когда спадала жара, Сергей обычно приходил на волейбольную площадку. Он слыл хорошим игроком, его косые резаные удары никто не мог принять. Правда, для такого удара пас требовался особый: резкий и точный, а толковых разыгрывающих в команде Сергея не было, потому мяч нередко врезался в землю за чертой площадки.
Но вот однажды на задней линии появилась высокая и стройная молодая женщина в капроновой сеточке, под которую были упрятаны пышные темные волосы. Сначала Сергей даже разозлился, увидев ее на месте своего мало-мальски способного партнера, но вскоре получил от нее такой точный пас, что мяч гвоздем врезался в угол площадки соперников. Вскоре они понимали друг друга с полувзгляда.
— Вы из сборной страны? — кокетливо спросила она, когда матч был выигран с сухим счетом.
— Увы, такой чести не удостоился, — в тон ей ответил Сергей, — но был чемпионом ВВМУЗов.
— Чемпионом чего? — не поняла она.
— Высших военно-морских учебных заведений, — пояснил он.
— Так вы моряк?
— Капитан-лейтенант флота российского Сергей Урманов к вашим услугам! — церемонно представился он. Тогда он носил звание, которым очень гордился и считал его самым красивым из всех существующих в армии и на флоте.
— Нина Пайчадзе, аспирант, — сняв сеточку и рассыпав по плечам водопад волос, назвалась она.
— У вас знаменитая спортивная фамилия! — улыбнулся Сергей. — Вы не сестра центрфорварда тбилисского «Динамо»?
— Кажется, он мне приходится дальним родственником.
— Но уж вы наверняка были чемпионкой Грузии!
— Ошибаетесь, я родилась и выросла в Москве. Кстати, мама у меня русская.
Видимо, она походила на мать. Овал лица был у нее славянским, нос без горбинки. Только восточная глубина карих глаз да волосы цвета воронова крыла свидетельствовали о примеси грузинской крови.
После ужина Сергей пригласил новую знакомую на танцы. Когда он в белой флотской тужурке, а Нина в парчовом с блестками бальном платье появились на летней веранде курзала, им присудили приз как самой эффектной паре. До конца заезда они ни одного вечера не провели врозь.
Свадьбу сыграли осенью в «Украине» — недавно открывшемся новом ресторане Севастополя. Поселились временно на квартире у отца Сергея, который только что вышел в отставку и очень томился одиночеством. Прокофий Нилыч души не чаял в невестке, открыто гордился ее красотой.
Потом Сергей, в ту пору помощник командира эскадренного миноносца, ушел в длительное плавание и, оставшись один на один со своими мыслями, почувствовал, как наступает отрезвление… Он понял, что не было любви, а было только увлечение уже потому, что Нина не заслонила в его мыслях Татьяну…
Когда он вернулся, в их отношениях не стало прежней искренней близости, а всегда веселая и жизнерадостная Нина заметно сникла. Сергей понимал, что долго так продолжаться не может.
Они разошлись, не прожив вместе года, расстались без ссор, без взаимных обвинений, даже провели прощальный вечер в кафе, а назавтра Нина вернулась в Москву. Развода не оформляли, лишь после, несколько лет спустя, она написала Сергею, что встретила хорошего человека, и попросила письменного согласия на развод. Нина вышла за своего творческого руководителя — профессора, и Сергей от чистого сердца пожелал ей счастья.
Глава 7
Балтика встретила «Новокуйбышевск» приличным штормом. Короткие злые волны сначала только сотрясали судно, но постепенно раскачали его с борта на борт.
Татьяна почувствовала, как тупая боль обручем сдавливает виски, противный липкий пот обволакивает тело. Когда вязкий комок подкатил к горлу, она вспомнила, что в аптечке есть аэрон, лекарство, снимающее нагрузку с вестибулярного аппарата. Татьяна полезла было в сейф с медикаментами, но в это время прострекотал телефонный звонок.
— Как самочувствие, доктор? — услышала она в трубке резанувший ухо голос помполита. — Советую не ложиться, а переносить качку на ногах.
— Спасибо, ночью я хорошо выспалась, — нашла в себе силы бодро ответить Татьяна. Едва успев положить трубку, ринулась к раковине умывальника. «Что же это делается, черт побери? — прополоскав рот, досадливо размышляла она. — Я же дочь и сестра моряков! Надо брать себя в руки».
Так и не разорвав облатки, Татьяна положила аэрон обратно в сейф, решительно надела белый халат. Было время снимать пробу обеденного меню. При мысли о пище новый комок перехватил дыхание, усилием воли она протолкнула его и распахнула дверь лазарета.
На камбузе в клубах пара несуетливо двигалась повариха, или, как ее по-флотски величали, кокша Варвара Акимовна Петрова, дородная женщина, широкоплечая, с крупными и сильными руками.
— Не изловчилась зачерпнуть, плеснула на плиту, — охотно пояснила она, увидев врача. — Море чуток горбатое. Однако проба готова.
Смотря на ее раскрасневшееся, невозмутимое лицо, Татьяна невольно представила себя такой, какой видела в зеркале несколько минут назад: бледно-зеленой, с рыбьими глазами. Словно разгадав ее мысли, Варвара Акимовна заговорила улыбчиво:
— А ты молодец, Танюшка, не укачиваешься. Вон Лидка, наша буфетчица, плавает второй год, до сих пор в хороший шторм пластом лежит… И не обижайся на то, что тыкаю, я тут со всеми так, окромя Семена Ильича, капитана. Все остальные в сыновья мне гожи…
— Ну а я — в дочери, — тоже попыталась улыбнуться Татьяна, но только судорожно дернула щекой.
— И еще прими мой совет: ешь поболе, когда качает. На сытый желудок оно легче переносится. Даже если все из тебя, а ты взамен новую добавку!
Татьяна открыла пробный судок. Наваристый дух вызвал у нее нервическую дрожь. Первую ложку борща проглотила с усилием, словно касторку, но все равно зачерпнула вторую и третью. Заставила себя съесть щепоть истомленного в жиру янтарного плова, запила его полстаканом компота.
Сделав разрешительную запись в журнале, почувствовала, как неудержимо тянет ее наружу, на свежий воздух. Все равно, что там ее ждет — холод, ветер или дождь, лишь бы расправить стесненную грудь, освободить голову от тяжелого гнетущего дурмана.
Татьяна почти бегом одолела коридор, но осилить запор задраенной по-штормовому тяжелой надстроечной двери не смогла. Опрометью бросилась назад, ворвалась в лазарет, схватив из шкафа кислородную подушку, жадно прильнула к загубнику. Ожогом полоснуло легкие, сразу полегчало, кислород подействовал на нее, как нашатырь на обморочного.
Кто-то несмело постучал в дверь.
— Войдите! — прохрипела она. Но ее не услышали, стук повторился.
— Входите же! — разозлилась она на того, кто стоял за дверью.
— Позвольте, товарищ доктор? — смущенно сказал Ян Томп, переступив порог. В руках он держал графин, наполненный розоватой жидкостью. — Вам нехорошо? — Еще больше растерялся он, увидев ее распростертой на медицинской кушетке. Звякнул горлышком графина о стакан, протянул его Татьяне, второпях плеснув ей на халат. — Выпейте, это газировка с клюквенным экстрактом. Очень помогает…
Она покорно стала цедить сквозь зубы пузырящийся кисловатый напиток, а Ян придерживал стакан широкой, как лопата, ладонью.
— Мы в машине по два графина за вахту приканчиваем, — утешая ее, говорил механик. — Качка ведь на любого действует, только мы стараемся не обращать внимания.
«Хорошо тебе „не обращать“, такому здоровущему, — тоскливо думала Татьяна, страшась нового приступа морской болезни. — А тут жить не хочется…»
— Я говорил с вахтенным штурманом, скоро мы повернем на другой курс, станем под волну, качать перестанет. Можно будет спокойно пообедать.
— Можете, Ян, съесть и мою порцию, — криво усмехнулась Татьяна.
— Мне и так положен двойной рацион, — негромко рассмеялся Ян. — Вы знаете, — оживился он, — у нас в мореходке были два — как это по-русски? два закадычных друга, фамилии у них Лаум и Зорин. Их прозвали барометром и вот такую частушку про них придумали:
Лаум скис и чуть не плачет,
Зорин весел, сладу нет,
Значит, в море будет качка,
За двоих умнет обед.
Лаум радуется лихо,
Зорин хмурится в тоске,
Значит, в море станет тихо,
Камбуз будет на замке.
Смешно, правда? А теперь тот самый Зорин, который ел, работает в портнадзоре на берегу, а тот самый Лаум, который укачивался, плавает, как и я, вторым механиком в Латвийском пароходстве. Вы заметили иронию судьбы?..
Татьяна слушала его забавный мягкий выговор, почти не осознавая смысла слов, почему-то ей становилось легче.
Судно вдруг резко накренилось на один борт, мелкой дрожью заколотились переборки, тоненько дзенькнула пробка в графине.
— Ага, вот и поворот! — обрадованно воскликнул Ян. — Теперь до самого Рюгена будем катить как по асфальту.
Действительно, качка сразу же прекратилась, щеки Татьяны стали розоветь, она поднялась с тахты и благодарно улыбнулась Томпу.
— Вы собирайтесь, доктор, а я минут через двадцать приглашу вас в кают-компанию, — сказал он, поднимаясь.
Во главе широкого обеденного стола восседал капитан, худощавый по-юношески человек с жестким бобриком светло-русых волос, только внимательный взгляд мог заметить в них добрую примесь седины. Когда Татьяна представлялась ему, решила: капитану где-то около сорока, и поразилась, узнав, что тому уже за пятьдесят и тридцать из них отданы морю.
По левую руку капитана возвышался первый помощник, широкий и плотный, шрам делал его лицо суровым, даже неприветливым, место справа от торца стола пустовало — старший помощник был на мостике, дальше сидел грузовой помощник — «секонд», как его называли на английский манер, Марк Борисович Рудяков, средней комплекции, с аспидными бровями, сходящимися над крупным бесформенным носом; напротив него «маркони» — начальник радиостанции Юра Ковалев, рыжеволосый паренек комсомольского возраста.
Место врача было в середине стола на стороне помполита, Ян Томп сидел у противоположного конца.
Когда Татьяна села, капитан подал знак, и буфетчица Лида, видная, но флегматичная девица, внесла фарфоровый ковчежец с борщом и поставила его возле капитана. Тот налил половником в свою тарелку и передвинул ковчежец к помполиту.
Когда подошла очередь, Татьяна плеснула себе чуть-чуть, начала есть и пожалела о своей скромности. Казавшийся час назад касторкой борщ теперь был таким вкусным, что Татьяна с завистью покосилась на полные тарелки соседей. Зато плова она положила себе без стеснения.
Подав компот, Лида включила вентиляторы, их лопасти чуть слышно зажужжали под подволоком.
— Можно курить, с мест не сходить! — шутливо скомандовал капитан. На столешнице появились пачки сигарет, вспыхнули желтые язычки зажигалок. Татьяна тоже не удержалась от соблазна, закурила предложенную соседом «Яву».
— Как вели себя новички? — задал общий вопрос комсоставу капитан.
— Твое в машине укачались, — откликнулся со своего конца стола Ян Томп. — Кланялись обрезу…
— «Твое» погоду на судне не делают, — шутливо передразнил второго механика капитан. — Пока был всего лишь штормик, настоящие шторма впереди… Новичков держите под контролем. — Капитан пригасил в пепельнице окурок, живо глянул на Татьяну. — Вы, я слышал, держались молодцом. Ну а первые пациенты уже были?
Татьяна от неожиданности поперхнулась дымом, закашлялась, а Томп тут же пришел ей на помощь.
— Первый пациент — я. Бессонница замучила, — простодушно выпалил он.
За столом дружно хохотнули. Не смеялся один помполит, он вперил свой колючий взгляд во второго механика.
— Кто же тогда храпел сегодня в твоей каюте? — лукаво прищурился грузовой помощник Рудяков. — Аж переборка вибрировала.
— Это из него бессонница выходила, — довольный собственной остротой хихикнул Юра Ковалев.
Но Томпа нелегко было смутить, он сидел монументально спокойный, неторопливо, мелкими глотками осушал третий стакан компота. Татьяна мысленно поблагодарила механика, вовремя подкинувшего ей спасательный круг.
— По вашей части, Доктор, есть радиограмма из пароходства, дождавшись тишины, сказал капитан. — Велено продырявить наши дубленые шкуры. Какая-то прививка против тропической хвори.
— Чур не я первый! — испуганно крякнул Ян, едва не опрокинув стакан; механик, это знали многие, панически боялся уколов.
Кают-компанию снова охватило веселье.
— Теперь Ян лазарет по верхней палубе станет обходить и про бессонницу забудет! — подначил кто-то.
— Он как тот бегемот из мультфильма!
— Вы, доктор, пожалуйста, разберитесь, что это за прививка, как она переносится народом, а уж потом беритесь за шприц, — серьезным, даже немного менторским тоном заговорил капитан. — Не оставьте мне судно без экипажа.
«Что, они меня за легкомысленную фельдшерицу принимают? — обиженно думала Татьяна, теребя под Столом скатерть. — У меня высшее медицинское и семь лет практики… Илья даже на кандидатскую материал собирать заставлял…» Впервые за последнее время она вспомнила о муже, вспомнила мимолетно, как о свидетеле прожитых лет.
— Хорошо, товарищ капитан, я разберусь, — негромко промолвила она.
— И обязательно подготовьте информацию про эту самую болезнь, — подал голос до того упорно молчавший помполит. — Как она протекает, какие последствия после нее бывают. Чтобы ни у кого не осталось желания увильнуть от прививки. Выступите по трансляции, возможность я вам предоставлю.
— Ясно, товарищ помполит, подготовлю.
— И вообще не отсиживайтесь в лазарете как бычок под камнем, обласкал ее взглядом веселых голубых глаз капитан. — Ходите по судну, запоминайте, что для чего, авось пригодится! В порядке исключения можно даже заглядывать в ходовую рубку. — Капитан сделал паузу, оглядел сидящих за столом и уточнил: — Во время капитанской вахты.
После обеда Татьяна проштудировала инструкцию по вакцинации против указанной в радиограмме болезни. Обещалось легкое недомогание без температуры, обычно переносимое на ногах. Зато сама болезнь грозила коварными осложнениями. На них-то и решила Татьяна обратить внимание экипажа.
— Я готова выступить по трансляции, — сообщила она по телефону помполиту.
— Как вам лучше: записаться на магнитофон или вести прямую передачу? — спросил Воротынцев.
— Мне все равно.
— Заикаться не будете?
— Не буду, — решительно заявила Татьяна.
Через полчаса она уже сидела возле трансляционной установки с нежным названием «Березка». Юра Ковалев, потряхивая рыжими кудрями, включил нужные тумблеры и подал ей микрофон.
Стараясь отчетливо произносить каждое слово, Татьяна рассказала о происхождении болезни, ее эпидемическом характере, о том, что единственный способ предотвращения возможного заражения — прививка.
— Особенно не рекомендую уклоняться от уколов мужчинам, — подчеркнула она в заключение, — ибо одно из самых распространенных осложнений — это угнетение половой функции, вплоть до полного бессилия…
Едва она успела положить на место микрофон, как дверь рубки распахнулась, пропуская взъерошенного помполита.
— Вы забываете, товарищ доктор, что находитесь на государственном судне, а не в интимной компании! — хрипло выпалил он.
— О чем вы, товарищ помполит, я вас не понимаю?
— Общесудовая трансляция предназначена вовсе не для того, чтобы разносить скабрезности!
— Простите, но я всего-навсего прочла статью из «Краткого медицинского справочника». Издание вполне официальное, утвержденное Академией медицинских наук. Вот, посмотрите. — Татьяна протянула помполиту объемистый фолиант. Тот машинально полистал страницы и положил книгу на стол.
— Это индивидуальное пособие врача, а не информационный бюллетень, и никто не разрешал вам цитировать его с такими подробностями.
— Но ведь вы же сами просили меня проинформировать экипаж…
— Давайте договоримся раз и навсегда, — перебил ее Воротынцев, прямых передач по трансляции вы больше делать не будете. Сперва на магнитофон, чтобы я мог прослушать пленку, а потом…
Заскрежетал зуммер телефона. Юра Ковалев вынул из упругих креплений трубку, поднес к уху.
— Это вас, доктор.
— Эк вы нас по самому чувствительному месту! — услышала она веселый голос капитана. — Ну теперь держитесь: очередь на прививки будет через весь коридор!
Татьяна невольно улыбнулась, жалея, что эти слова не слышит помполит.
— На мостик у вас нет желания подняться? — продолжал капитан. Приглашаю. Обстановка самая благоприятная.
— Спасибо, товарищ капитан. Непременно воспользуюсь вашим приглашением.
— Так вы меня поняли, доктор? — почуяв неладное, поспешил закруглить разговор Воротынцев.
— Я вас поняла. Думаю, что микрофон теперь мне понадобится не скоро.
По окованному медными пластинами трапу Татьяна поднялась в ходовую рубку, казавшуюся полукруглой из-за выпуклых ветровых стекол впереди и по бокам. В просторном помещении было прохладно и тихо. Возле квадратной тумбы переминался с ноги на ногу матрос Гешка Некрылов. Татьяна кивнула ему, словно старому знакомому. Она поняла, что тумба — это рулевое устройство, а Гешка несет вахту возле него. Оглядевшись по сторонам, она догадалась о предназначении еще нескольких приборов, ведь ей неоднократно приходилось бывать на кораблях отца и старшего брата.
— Это радиолокатор? — спросила Татьяна, подойдя к высокой колонке, прикрытой сверху резиновыми наглазниками.
— Угу, — откликнулся матрос. — Навигационная станция кругового обзора.
Татьяна прильнула к наглазникам и увидела зеленоватый экран, обрамленный сероватой каймой; по кругу бежала желтая линейка, расцвечивая экран серебристыми оспинками. Она сообразила, что кайма — это очертания ближнего к судну берега, а оспинки — попутные и встречные пароходы. Радиолокатор ей тоже показывали и объясняли суть его работы.
До рези в глазах всматривалась она в белесое кружево побережья, словно в абстракции света и тени хотела разглядеть свой дом на Беломорской улице в Москве. Поймав себя на этой мысли, горько усмехнулась: нет больше у нее собственного угла, живет она у отца по временной прописке. Правда, говорят, у женщины дом там, где ее дети…
— Ага, у меня гости! — вернул ее к действительности бодрый голос капитана. Он был при полной форме: в тужурке с четырьмя шевронами, в широкополой фуражке, с большим биноклем на груди. — Идемте-ка на крыло мостика, — предложил он. — Там пейзаж повеселей!
Следом за капитаном Татьяна вышла в боковую дверь на открытую площадку, защищенную спереди широким обвесом. Возле борта на возвышении стоял репитор гирокомпаса под круглым колпаком, Татьяна узнала этот прибор. Она поднялась на возвышение, капитан Стал рядом, по другую сторону тумбы репитора.
— Видите, какой курорт, — глянув окрест, улыбнулся он.
Действительно, ветер дул в корму, и на мостике было тепло и уютно. Сверху волнение не было заметно, видно только, как нос судна вспарывает воду, отваливая на обе стороны пестрые пласты.
Ноздри Татьяны щекотали сызмальства знакомые запахи. Ими были пропитаны одежды отца и брата Андрея, когда те возвращались домой из плавания. Дух моря был стойким и подолгу не выветривался из прихожей, где на вешалке отдыхали флотские регланы. И вот теперь, спустя много лет, она сама полной грудью вдыхала этот воздух, различая в нем привычную терпкость йода, жесткость соляной эмульсии, сладковатость сырой прели.
— Здесь торная дорога, — подал реплику капитан. — Тесно, как на улице Горького в столице. Сейчас в нашей зоне более двадцати судов. Вон, смотрите, совсем рядом чапает норвежский лесовоз. Капитан на нем бережливый, даже флага не поднял, чтобы на ветру не обтрепывался…
Он предложил Татьяне бинокль, и она увидела серый, изборожденный ржавыми потеками остов судна, идущего встречным курсом. На палубе его громоздились штабеля бревен, они были видны так отчетливо, что Татьяне почудился запах соснового бора. На обшарпанной скуле она прочла латинское название судна «Сеуда». Лесовоз шел на волну и ритмично клевал носом, вздымая фонтаны брызг.
— Грузился, видать, второпях, — рассуждал капитан. — С креном идет… У них, у капиталистов, время — деньги. Хотя в этом нам не мешало бы у них поучиться. Уймищу времени теряем на стоянках, бьем по государственному карману… Тридцать лет я морским извозом занимаюсь, портовое оборудование за это время в десять раз мощнее стало, а вот денежки считать до сих пор не научились…
— Но ведь государство, Семен Ильич, за бесхозяйственность по головке не гладит, наказывает нерадивых, штрафы берет.
— Верно, штрафует. Перекладывает деньги из одного кармана в другой. Вот если бы раскошеливались лично те, кто возле причалов пробки создает, тогда бы мигом порядок навели…
Видимо, капитан говорил о наболевшем, выстраданном за долгие годы бродяжничества по морям и океанам, даже лицо его посуровело. Татьяна перевела разговор на другое:
— Жена ваша мужественная женщина, Семен Ильич. Столько лет провожать и встречать — великое терпение нужно.
— Наталья у меня — надежный товарищ, — снова улыбнулся капитан. Такого сынищу мне вырастила — загляденье! Митька наш в армии в ракетных войсках, старший сержант. Только после демобилизации намерен в мореходку двинуть, хочет продолжить династию Сорокиных.
— Значит, ваша жена и сына тоже будет провожать и встречать, вздохнула Татьяна, — а мы, женщины, труднее переносим разлуку…
— Вы никак успели соскучиться по муженьку? — усмехнулся капитан.
— Нет, мы с мужем живем врозь. Сынишка у меня на берегу остался, тоже Димка…
— Знаете, как я растил, в кавычках, своего Дмитрия! — оживился Сорокин. — Впервые увидел его трехмесячным Чебурашкой, во второй раз годовалым ползунком. Когда пришел домой после третьего рейса, он уже лопотать научился. Прогоняет меня от мамки: «Дядька, — сопит, — уходи!»
— Но ведь это грустная история, Семен Ильич…
— Такова наша морская планида, доктор. Мы вот с Натальей, когда бронзовую свадьбу отмечали, сочли по денечкам, сколько же за десять лет вместе пробыли: не наскребли и трех годочков. Зато есть во всем этом и добрая сторона: каждая новая встреча — настоящий праздник! Такого, когда всю жизнь бок о бок живешь, не бывает…
— А почему бы старым капитанам, не по годам, конечно, а по стажу плавания, таким, к примеру, как вы, не разрешить брать с собой в плавание жен?
— Вас бы в наши министры! — весело рассмеялся капитан. — За границей это испокон веков практикуется.
Глава 8
Приворотом линий валов на «Горделивом» начались швартовые испытания. Крейсер уперли форштевнем в бревенчатый щит, опущенный с углового выступа причала, подстраховать корму от рыскания пришел заводской буксирчик-толкач, нос которого был оплетен большущим веревочным кранцем.
Сергей Урманов, Павел Русаков и Георг Томп стояли на противоположном от берега крыле ходового мостика, возле пульта временной трансляционной установки.
— Правая машина к запуску готова! — послышался в динамике глуховатый голос сдаточного механика. Урманов знал, что там, внизу, в машинном отделении, находится сейчас и командир боевой части пять Дягилев, который волнуется не меньше заводчан.
— С богом! — после паузы, возможно неожиданно для самого себя, откликнулся Павел Русаков, и эта его «команда» не удивила ни стоящих на мостике, ни ждущих приказания в машинном.
Корабль мелко задрожал, наполняясь прерывистым гулом, гладкая, подернутая мазутной пленкой поверхность воды за его кормой всколыхнулась, выбросив шапку пузырей.
— Первый вздох младенса, — сказал Георг Томп, и это его «младенса» прозвучало так ласково и проникновенно, что Урманов с Русаковым невольно улыбнулись.
— Хорош младенец, почти полмиллиона пудов! — хмыкнул Павел, вытирая платком вспотевший лоб.
Кормовые швартовые надраились струной; Урманов дал знак рукой капитану буксира, и маленькое суденышко, как теленок слона, боднуло борт крейсера.
— Готовы дать реверс! — доложили из машинного отделения.
— Валяйте! — разрешил главный строитель.
— Тебе, Павел, не мешало бы командные слова подучить, — не выдержал такого легкомыслия Урманов. — Все-таки с военным флотом дело имеешь и морское звание носишь…
— Мои меня с полуслова понимают! — ощетинился Павел.
— Твои, может, и понимают, а вот мои плечами пожимают.
— Сухарь ты, Серега. Неужто не доходит до тебя торжественность момента? Младенец наш вздохнул и ножонками дрыгнул! Через годик заберешь ты его у нас — и прощайте, родные, прощайте, друзья!..
— Этот корабль останется в истории судостроения, — задумчиво вымолвил Томп. — Совершенно новые принципы конструирования, другая технология… Я вот, грешник, думал, что флот никогда не распрощается с госпожой заклепкой.
«А ведь и в самом деле постройка „Горделивого“ — факт исторический, подумалось и Сергею, на душе у него потеплело. — Коль войдет в историю корабль, не должны забыть и первого его командира…» Он пожалел о том, что не привился у нас добрый обычай помещать на видном месте палубной надстройки фамилий командиров — снизу вверх. Верхняя — фамилия действующего. В этом и преемственность поколений, и дань уважения к первому человеку на корабле. Не зря ведь марсофлотам бывшей владычицы морей Великобритании внушали веками: «Бог на небе, король в Лондоне, а капитан на мостике. Он для вас и бог, и король, и воинский начальник!»
Правда, Сергей не посмел бы высказать эти честолюбивые мысли вслух, не всякий поймет… Как не все знают обыденную изнанку командирской должности, в которой огорчений бывает не меньше, чем радостей. Одно ему довелось пережить совсем недавно.
Урманов долго готовился к разговору с Игорем Русаковым, обдумывал, как бы поделикатнее все обставить. Но потом на все махнул рукой, решив объясниться попросту, как мужчина с мужчиной.
— Ты не торопишься вечером, Игорь? — спросил он лейтенанта в конце рабочего дня и, не дав тому ответить, добавил: — Тогда загляни ко мне после ужина.
— Есть, — буркнул Русаков, и глаза его настороженно сузились. Видимо, он догадался, что разговор предстоит не праздный.
Таким он и явился в командирскую каюту: настороженно-собранным, закованным в панцирь холодного равнодушия. Урманов это почувствовал сразу и разозлился.
— Послушай, Игорь, — сказал он, сев напротив лейтенанта, лицом к лицу. — Мы знаем друг друга давно и давай не будем финтить. Сначала ответь на мои вопросы. Ты ведь сам просился на «Горделивый»?
— Сам, — ответил лейтенант, не поднимая взгляда.
— Хорошо, это уяснили. А теперь ты жалеешь о своем выборе?
— Кто вам сказал, товарищ командир? — шевельнул бровями Игорь.
— Сам вижу. Тянешь служебную лямку, будто она тебе бока трет!
— Я свои обязанности выполняю. От и до…
— Вот именно: от и до! А где твоя пытливость? Где профессиональная гордость?
Русаков откинулся на стуле, во взгляде его промелькнула насмешка.
— Служба не женщина, чтобы ее любить, товарищ командир.
— Но как можно по-настоящему узнать свое дело, не полюбив его?!
— Выходит, можно…
— Ремесленником стать можно, а настоящим моряком нельзя!
— Ремесленники пока тоже нужны…
— Стыдно мне слушать тебя, Игорь! Ты ли это говоришь? Ты — моряк уже в третьем колене! Не забывай, чью ты фамилию носишь, ее весь наш флот знает. Ишь ты, служба для него не женщина! А вот дед твой ее на всю жизнь полюбил и отцу твоему эту любовь передал!
Урманов разволновался, встал, резко отодвинув стул, прошелся туда-сюда по комнате. Лейтенант продолжал спокойно сидеть.
— Кстати, о женщинах, — снова подошел к нему Сергей. — Может, потому тебе служба в голову не идет, что другим твоя голова занята? Что у тебя с этой маляршей?
Русаков встрепенулся, словно его неожиданно окликнули, на скулах проступили багровые пятна.
— Ничего особенного, — выдохнул он. — Ирина моя невеста.
— Так, — обескураженно крякнул Урманов. — Вон, значит, куда у вас зашло. А сколько же тебе лет, Игорь?
— Вы же знаете, двадцать три…
— Совсем перестарок! Пора, пора тебе жениться, не то всех невест расхватают, в бобылях останешься, как твой командир!
— Не понимаю вашей иронии…
— Чего тут понимать! Зеленый ты еще для женитьбы! Ты сначала на палубе как следует стоять научись, ракушками хоть чуть-чуть обрасти, а уж потом заводи семью!
— Женитьба — мое личное дело, товарищ командир! — повысил голос лейтенант. — И просить разрешения я ни у кого не намерен.
— А совета у отца с матерью спросить ты намерен? Им не безразлично, кого ты в свой дом приведешь. Кстати, а сколько лет твоей избраннице? Мне думается, она постарше тебя…
— Это не имеет никакого значения.
— Пока не имеет, а пройдет десять-пятнадцать лет, ох как будет иметь. Я уже не говорю о сомнительной репутации твоей невесты…
— Не смейте так говорить о ней! — вскочил со стула лейтенант. Щеки его пылали, алые пятна выступили даже на шее.
— Словом, так, товарищ лейтенант, приказываю вам завтра же переселиться в казарму, будете жить вместе со всеми командирами групп.
— Вы не имеете права!
— Имею. Не нравится — можете жаловаться по инстанции, как положено по уставу. Вам ясно мое приказание? Свободны, товарищ лейтенант.
После ухода Игоря Урманов долго еще не мог успокоиться. Чувствовал, что неубедительно говорил с парнем. Наорал как на мальчишку, а тот уже сам людьми командует, сложнейшая техника ему доверена… Ехидный червячок точил совесть Сергея: «Вспомни, сколько было тебе, когда ты собирался делать предложение его тетке Татьяне? Двадцать шесть? Велика ли разница?» И тут же самолюбиво оправдывался тем, что был в ту пору уже просоленным морским волком и должность занимал на две категории выше…
Назавтра Павел Русаков встретил его в диспетчерской вопросом:
— Ты чего заставил Игореху чемодан собирать?
— Перевел его на казарменное положение.
— А по какой причине?
— Пусть живет вместе со всеми. Ему полезно побыть в коллективе.
— Понятно. Значит, выразил недоверие его дяде, — многозначительно произнес Павел.
— Отчасти да, — в тон ему ответил Сергей. — Ты, к примеру, знаешь, с кем он время проводит?
— Знаю. С Ириной Снеговой. Красивая деваха, не со всяким пойдет.
— А говорил он тебе, что жениться на ней хочет?
— Нет… — заметно опешил Павел, но тут же приободрился. — Ну что ж, коль решил, пусть женится. Он вполне взрослый человек.
— А тебе известно, какие разговоры ходят о его невесте?
— Завистники болтают, те, которым она от ворот поворот дала. А я не верю сплетням, Ирина себе цену знает.
— Дело твое. Но ему вообще рано семью заводить, еще моряком настоящим не успел стать. Пусть сначала мудрости житейской поднаберется.
— Русаковы все рано женились, — хитро улыбнулся Павел. — Но это не помешало им в приличные люди выбиться, даже в адмиралы…
— Коли так, я в этом деле не участник, — сердито махнул рукой Урманов. — Единственно, о чем тебя прошу, напиши ты сам обо всем Андрею Ивановичу.
— Разве Игореха сам не напишет?
— Я в этом не уверен, Павел. Он знает, что отец не одобрит его намерения.
— Ну ладно, на днях черкну письмишко.
— Это дело нельзя затягивать, Павел! Может, Андрей Иванович сумеет его переубедить. Отцовское слово весомей.
— А наше с тобой, выходит, ничего не значит? — хмыкнул Павел. Что-то ты слишком мрачно настроен, Серега. Тебе, видно, самому жениться надо, чтобы жена тебя отогрела.
— Спасибо за совет, но я уже один раз обжегся.
— Один раз не в счет! — хохотнул Павел, а Урманов мысленно подивился его беспечности, словно речь шла не о судьбе родного племянника, а о ком-то постороннем. С такими, как эта самая Кармен, шутки плохи. Вцепится — и будет играть как кошка с мышью, пока не надоест…
— Греется подшипник левой линии вала! — прервал его размышления доклад из поста управления машинами.
— Тьфу ты, черт! — ругнулся Павел. — Вот и запоносил наш младенец…
— Будет еще и корь и коклюш, — одобряюще усмехнулся Георг Томп. Пусть в детстве всем переболеет, тогда расти здоровым будет.
Они говорили о корабле, будто о живом существе, и Урманову тоже передалось их благоговейное родительское чувство. И он подумал о том, что не зря на средневековых парусниках форштевень украшали фигурой человека либо животного, а в минуты смертельной опасности марсофлоты молились не только о спасении своих душ, но в первую очередь слезно просили о милости божьей к грешной душе их судна.
— Я в машину, — сказал Павел и загромыхал по трапу.
— Достается ему больше всех, — поглядел вслед главному строителю Томп.
— Ничего, ему полезно похудеть, — усмехнулся Сергей.
— Я помню, как в пятидесятом строили головной сторожевик, — продолжил разговор конструктор. — Все души он из нас вымотал, там хандрит, здесь не ладится… Но все-таки довели проект до ума. До сих пор эти корабли пользуются доброй славой…
Урманов уважительно смотрел на седовласого, костистого эстонца, понимая, что каждый спроектированный, построенный и отправленный в плавание корабль унес в далекий океан частицу его большого и щедрого сердца.
Почему бы не приваривать на кораблях памятную табличку: «Генеральный конструктор проекта имярек, главный строитель такой-то». Ведь делают такие на уникальных зданиях, мостах, даже на вокзальных виадуках. Неужто создатели кораблей не заслужили подобной чести?
— Как ваш сын, Георг Оскарович, вести о себе подает? — осторожно осведомился Урманов.
— Ян очень внимателен ко мне, — дрогнувшим голосом ответил Томп. — Из этого рейса уже две телеграммы прислал. Последнюю с Азорских островов…
Справляясь о Томпе-младшем, совсем о другом человеке думал сейчас Сергей. «Как же принял тебя суровый океан, заблудшая душа? — с грустью мысленно вопрошал он. — Потому, видно, решилась ты пойти нелегкими мужскими дорогами, что не сумела на земле выбрать верного пути…»
* * *
Вспомнился Урманову далекий уже майский вечер, самый печальный в его жизни… Весна в том году была ранней и бурной. Еще в конце марта, не страшась ночных заморозков, отчаянно зацвел миндаль, в апреле окутались зелеными облачками листьев платаны и вязы, а в начале мая зажгли свои белые свечи каштаны. На душе Сергея было той весной постоянное щемящее чувство тревоги и радости…
Танюша тогда на два дня приехала домой из Симферополя, схимичила чего-то с лекциями, а эсминец Сергея временно стоял в Севастополе и потому он имел возможность бывать на берегу.
Сергей назначил встречу на Приморском бульваре, возле раскидистой старой ивы над фонтаном и, коротая время, прохаживался неподалеку по отмытым весенними ливнями асфальтовым дорожкам.
Он был в сшитой на персональный заказ у доброго портного тужурке, в белой фуражке с высокой тульей, и ему доставляло удовольствие ловить на себе пристальные взгляды встречных девушек. И вообще дела у него в ту пору шли здорово. Только что он получил звание старшего лейтенанта и назначение командиром штурманской боевой части.
Кажется, это была единственная пора в его жизни, когда он пытался даже писать стихи. Несколько строчек застряли в памяти:
Вновь в Крыму капризный ветер марта
Шелестит цветущим миндалем,
Тонкой паутинкою на картах
Остается путь за кораблем.
А вокруг, за мачты задевая,
Бродят тучи в небе штормовом,
Клочья пены чайками взлетают,
Шапками вскипают под винтом.
Отчего же петь хочу я звонко,
Почему я вдруг лишился сна?
В сердце синеглазою девчонкой
Входит черноморская весна…
— Привет блестящему морскому офицеру! — воскликнула Татьяна, переводя дух. Пышные белокурые волосы ее были перехвачены надо лбом голубой бархатной лентой, цветастое шелковое платье двумя резкими клиньями ломалось на груди, на стройных ногах белые туфельки с модными каблуками-шпильками. Сергей невольно залюбовался ею: она походила на какую-то ослепительно яркую бабочку-махаона.
— Здравствуй, Танюша, — негромко сказал он, нежно прикоснувшись к ее руке. — Ты стала делать маникюр? — обратил он внимание на густо-малиновые ногти.
— А разве это плохо? — кокетливо оттопырила она нижнюю губку.
— Нет, просто непривычно.
Они спустились по широким ступеням на бетонную набережную, которую лизали суетливые волны от снующих туда-сюда катеров, подошли к знаменитому памятнику «Затопленным Кораблям».
Сергей смотрел на иссеченную ветрами мраморную колонну, которую венчал позеленевший бронзовый орел с лавровым венком в клюве, и представлял себе торчавшие здесь более ста лет назад высокие кресты мачт, перекрывшие вход в Севастопольскую бухту. Ничуть не походили они на сиротливые кладбищенские надгробья, это были грозно щетинившиеся реями пики, готовые пропороть днища вражеским фрегатам. По сути дела, они были прообразом будущих боновых заграждений…
— Знаешь, Сережа, мне моя профессия нравится все больше и больше, говорила Татьяна. — Я уже начинаю привыкать даже к анатомичке. Именно там уясняешь себе предостережение древних: помни о смерти! Последний раз экспонатом была молодая женщина, скончавшаяся от родов… Слово-то какое экспонат! Жил человек на свете, радовался и страдал и вдруг стал наглядным пособием для студентов медфака…
— Зачем такие грустные разговоры, Танюша? — ласково прижал к себе ее локоть Сергей. — Ты думай о том, сколько людей будут тебя благодарить за возвращенное здоровье. Лично я готов всю жизнь быть твоим пациентом…
Она как-то странно глянула на него, но ничего не ответила. А у Сергея от этого ее взгляда застряли в горле все слова, которые он собирался сказать. Нехорошее предчувствие ознобило его.
— Ты простишь меня, Сережа? — вдруг виновато опустила голову Татьяна. — Мы погуляем еще чуток, а потом ты проводишь меня на автовокзал, мне сегодня обязательно надо быть в Симферополе.
— Зачем же? — недоуменно воскликнул он.
— Нужно, Сережа… Неотложные институтские дела.
— Какие могут быть дела в выходной день? — все еще цеплялся он, как утопающий за соломинку.
— Важные, Сережа…
Урманов почувствовал тогда, что бетон набережной качнулся под ногами, словно корабельная палуба от внезапно налетевшего шквала.
— Тебя кто-то ждет? — хрипло пробормотал он.
— Да, Сережа! — решительно тряхнула она волосами. — Меня ждет один человек, который мне очень и очень дорог…
— Вопросов больше нет, — выдавил из себя он. — Все ясно…
— Мы ведь останемся добрыми друзьями? Правда, Сережа? — виновато говорила она, ловя его повисшую плетью руку.
— Останемся, Таня…
— Ты что, оглох? — спросил Урманова поднявшийся на мостик Павел. Кричу тебе, кричу, а ты ноль внимания.
— Что с линией вала? — деликатно вмешался Томп.
— Будем перебирать подшипник, Георг Оскарович, — ответил Павел Русаков и поднял над головой скрещенные руки, давая знать капитану буксира, что на сегодня работы закончены.
Глава 9
Вторично «Новокуйбышевск» тряхнуло в проливе Скагеррак. Это был уже настоящий шторм. Даже во внутренних помещениях было слышно, как волны с ревом набрасываются на судно.
Татьяну вновь скрутил приступ морской болезни. Некоторое время она пыталась сопротивляться, держалась на ногах, но мучительные спазмы пищевода и головная боль уложили ее в постель. Сквозь дремотную одурь она смутно улавливала какие-то команды по судовой трансляции, необычно резкие выкрики капитана, видимо, наверху что-то происходило.
Потом гулко хлопнула входная дверь лазаретного отсека.
— Доктор, где вы? — позвал ее кто-то.
Собрав все силы, Татьяна поднялась с койки, сунула обмякшие ноги в домашние шлепанцы.
В приемной стоял секонд — грузовой помощник Рудяков, держа правой рукой левую, перевязанную окровавленной тряпицей.
— Точите скальпели, доктор! — попытался шутить он, но болезненная гримаса согнала с его лица улыбку.
— Что с вами? — встревоженно спросила Татьяна, чувствуя, как свежеет ее голова и четким становится сознание.
— Маленько шмякнуло грузовой оттяжкой. Раскрепился контейнер, пришлось выбираться на палубу…
— Идите сюда, Марк Борисович, — позвала она его в процедурную: Быстро набросила на плечи белый халат, вымыла над раковиной руки.
— Да, — вздохнула она, убрав с кисти секонда тряпицу. — Вас не шмякнуло, а рубануло…
Тыльная сторона ладони Рудякова была глубоко рассечена, в ране видны были следы какой-то грязной смазки.
— Придется вам потерпеть, голубчик, — покачала головой Татьяна. Надо продезинфицировать и наложить пару шовчиков.
— Потерплю, доктор, — покорно кивнул головой секонд.
Он и в самом деле не шевельнул ни одним мускулом, пока Татьяна промывала и зашивала ему рану. Сделав тугую повязку, она сказала:
— Денька три руку надо держать в покое. Каждое утро приходить на перевязку. А пока составим акт производственной травмы.
— Что вы, доктор! — отчаянно замахал здоровой рукой Рудяков. — Если мы станем по таким пустякам акты плодить, нас с вами после рейса заклюют! Инспекторов по технике безопасности нагонят, душу всем наизнанку вывернут.
— И все-таки положено…
— Мало чего положено! Пальцы целы, рука работает, а шрамы только украшают мужчину.
— Ну ладно, уговорили. Будьте только в следующий раз поосторожнее.
— Спасибо, доктор. И послушайтесь моего совета: никогда не становитесь грузовым помощником!
— Меня моя профессия вполне устраивает, и я менять ее не собираюсь, рассмеялась Татьяна.
Рудяков вышел, а Татьяна с приятным удивлением обнаружила, что все эти четверть часа, пока обрабатывала рану секонда, не замечала качки. «Похоже, начинаю привыкать, — обрадованно размышляла она, — ни за что теперь не позволю себе раскиснуть и завалиться в постель!»
Когда Татьяна во время обеда появилась в кают-компании, раздалась грозно-шутливая реплика старпома:
— Кто тут утверждал, что наш доктор моря не нюхала?
— Танюша у нас молодцом! — ласково пропела Варвара Акимовна, подававшая комсоставу вместо укачанной буфетчицы Лиды. — Сразу видать морского роду-племени.
— А вы знаете, как классно наш доктор секонда заштопала? — подал голос Юра Ковалев. — Он теперь ждет, пока рука заживет, чтобы еще какую-нибудь конечность под оттяжку подставить.
Дружный смех засвидетельствовал, что острота маркони оценена по достоинству.
— Советую всем быть поосторожнее, — улыбнулась и Татьяна. Отрубленное напрочь не пришивают даже в клинике профессора Богораза.
Место Рудякова за столом пустовало, это добавляло пылу разошедшимся острякам.
Ян Томп рассказывал Татьяне об удивительной незлобивости грузового помощника, который не обижался даже на присвоенное ему шутливое звание «дамского мастера». У него росли три дочери, и утверждали, что он предъявил жене ультиматум: не остановишься и на дюжине, пока не родишь продолжателя фамилии!
Всякое упоминание о детях вызывало у Татьяны приступ щемящей тоски. Димку на все лето забрал Илья. Из Калининграда она несколько раз звонила в Куйбышев, разговаривала с бывшим мужем. Тот деликатно передавал трубку сыну.
— Мне здесь хорошо, мамочка! — радостно кричал Димка. — Папа мне чешский велосипед купил с тормозом и трещоткой! Приезжай поскорее к нам!
Слова его неприятно задевали Татьяну, она представляла, как Илья выпытывает у Димки: поздно ли приходила мама домой, бывали ли у них гости, кто звонил по телефону и прочие подробности ее жизни. Она не боялась, что Илья станет настраивать сына против матери, знала порядочность его в подобных делах, но даже само сознание того, что долгое время Димка будет находиться возле отца, тревожило ее. Почему? Не хотелось об этом думать.
— Вы знаете, Татьяна Ивановна, — вытер губы салфеткой старпом Алмазов, — лет двенадцать тому плавал я четвертым помощником на одном сухогрузе. Был это старый лапоть, угольщик, в хороший ветер двух узлов не выгребал. На другие коробки нашего брата — бывших офицеров тогда не брали. Вся механизация на лапте — четыре грузовых стрелы, а в остальном: мешок с угольком на плечи, нажал пальцем собственный пуп — и рысью по сходне до палубного бункера! Так вот, была на этом ихтиозавре собственная знаменитость: фельдшер с морским стажем Григорий Савельевич Быков, в обиходе — Докбык. Силищи мужик невероятной, двухпудовкой мог несколько раз перекреститься, и такой же могучей лени. Спать мог в любом месте, при любой погоде и в любой позе. Собственно, и дел у него особых не было, ребята в экипаже подобрались здоровые и выносливые. А вспомнил я сейчас о нем потому, что очень уж забавным был метод его лечения. Приходит, к примеру, матрос с царапиной, Докбык осмотрит его и говорит: «Пустяки, паренек, у моей жены такое было. Помазал ей руку три раза зеленкой, и прошло!» Другой заявляется, не к столу будь сказано, с чирьяком на мягком месте. Докбык опять свое: «Такое я у жены за неделю вылечил. Пришлепал ей, где следует, тампон с ихтиолкой…» А третий моряк в Одессе вернулся утром с берега и, грешным делом, что-то неладное у себя заподозрил. Покаялся Докбыку, тот было завел обычное: «Пустяки… — но тут же спохватился: Стоп, — говорит, — такого у моей жены не бывало, лечить не умею! Придется тебя, паренек, направить в больницу…»
За столом прошелестел негромкий смешок, слушатели застеснялись доктора, не зная, как та прореагирует на старпомовскую травлю.
— Муж у меня тоже врач, — усмехнулась Татьяна. — Так что домашней практики я не получила. Что касается последнего названного прецедента, то подобное и я лечить не умею…
— Татьяна Ивановна, милый наш доктор, я же ни умом, ни сердцем не хотел вас обидеть! — прижал картинным жестом ладони к груди Алмазов. — Я просто вспоминаю, каким тогда был наш торговый флот и какие дремучие люди в ту пору на судах плавали. Разве с нынешними их сравнишь?
— А я вовсе и не обиделась, Генрих Силантьевич. С чего вы взяли? Тем более, что такие быки до сих пор не перевелись… И не только в медицине.
Старпом закашлялся, не находясь с ответом. Выручило его появление в кают-компании Рудякова с рукой на марлевой перевязи.
— Явление героя дня народу! — прыснул Юра Ковалев.
Рудяков добродушно поздоровался со всеми присутствующими.
— Ты зачем это ляльку нянчишь? — притворно нахмурил брови Алмазов. Захотел мне свою вахту сплавить?
— Охотно сдам вахту, только вместе с должностью! — отшутился секонд.
— Чтобы по твоей милости кто-нибудь другой без головы остался? Генгруз под твоим руководством раскрепляли.
— Под нашим с вами общим руководством, товарищ старпом, — деликатно уточнил Рудяков.
— Дайте же человеку поесть! — вступилась Варвара Акимовна.
— Он столько крови потерял, ему теперь калории нужны! — не удержался от последней подначки Юра Ковалев.
— Ладно, — смилостивился Алмазов, — оставим секонда в покое и перейдем к самокритике. Эти все про меня знают, я специально для вас, Татьяна Ивановна, расскажу один эпизод… — Алмазов стрельнул в ее сторону озорным взглядом и продолжил без улыбки: — Было это в одном из портов «энского» моря. Мой шип безнадежно застрял под разгрузкой, и заела меня тоска зеленая…
Вы еще не знаете, что эта морская хандра страшнее всех ваших инфекций, вместе взятых, и единственное лекарство — какое-нибудь сумасбродство. Так вот, однажды вечером швартуется напротив нас шикарный лайнер, наш сухогруз — запачканный поросенок рядом с этим лебедем белым. И так мне захотелось побывать на палубе этого круизера, поглазеть на расфуфыренных женщин — спасу нет. Надеваю свой выходной смокинг — и туда. Возле самого чужого трапа встречаю двух корешков по училищу, оказывается, они со своими милашками совершают свадебное путешествие. Тут, разумеется, начались представления, приветы, поздравления, а еще через полчаса оказались мы все вместе за столиком судового ресторана. Тосты за молодых, им сладко, а мне горше горького… Словом, набрался до полной грузовой отметки, кое-как снялся с якоря и побрел куда глаза глядят… Проснулся оттого, что покачивать стало. Первая мысль: неужели свою вахту проспал? Потом огляделся, понять ничего не могу: все в каюте чужое, незнакомое. Распахнул дверь, увидел ковровую дорожку в длиннющем коридоре и тут только сообразил, что меня везут куда-то на том самом шикарном теплоходе… Кое-как добрался до ходовой рубки, спрашиваю вахтенного штурмана: куда идем и скоро ли новая стоянка? Выясняется: к черту на кулички, швартовка через сутки. Что предпринять? Хоть «SOS» давай, хоть волком вой персональный катер не пришлют. Тут, как на грех, пассажирский помощник объявился. «Ну и фокус, — говорит, — который год билеты проверяю, а такой жирный заяц первый раз попался!»
Нечего делать, пришлось давать своему кэпу радиограмму, а тот был мужик серьезный, юмора не понимал, взял и тут же доложил в пароходство. Уходил я в тот круиз вторым помощником, а возвратился уже третьим…
Слушатели хохотнули для приличия, видимо, зигзаги биографии Генриха Силантьевича были им хорошо известны, а Татьяна впервые подумала о той непосредственности, которая возникает в отношениях моряков дальнего плавания. Разве бы стал Алмазов выставлять себя в таком невыгодном свете где-то в компании случайно собравшихся людей? Нет, конечно. А здесь, вдали от родимых причалов, не считается зазорным позабавить товарищей рассказом о себе самом, непутевом. К тому же истории, подобные только что услышанной, невозможно сохранить в тайне, они изустно и письменно разносятся по всему флоту, обрастая домыслами и преувеличениями, становятся легендами. Татьяна вспомнила, что этот сюжет обыграл в своей книжке Борис Кливеров, он же Ролдугин, только его незадачливый герой угодил из английского порта Кардифф в ирландский Дублин и добирался обратно на свое судно с немалыми приключениями.
Ролдугин подарил ей свою книжку, поставив на титуле автограф: «Владычице моих грез и яви с негаснущей надеждой».
Татьяна не сомневалась в искренности этих вычурных слов, да и самому Борису была благодарна, что поддержал ее в самые трудные дни, когда растерянность у нее сменялась тоской, а тоска отчаянием. Даже ночной гостиничный эпизод казался просто неприятным сном. До сих пор в ее каюте стоял букет засохших цветов, которые Ролдугин принес на причал в день отхода «Новокуйбышевска».
— Вы читали сборник «За синей далью»? — чтобы поддержать разговор, спросила она Алмазова.
— Опус Кливерова-Шиверова? — подскочил на своем кресле старпом. — За него Борьке Ролдугину по шее надо накостылять. Наврал с три короба, осрамил товарищей, а срам фиговым листочком прикрыл. Я у него Талмасов, Серега Иконников — Оконников, капитан Девятов — Десятов. До чего додумался: сделал меня судовым сердцеедом, всех буфетчиц и дневальных в мою постель положил! Я его взял было за грудки, а он мне: в литературе нельзя обойтись без прототипов! Тоже мне Станюкович! Никакие мы для него не прототипы, а просто противные типы!
— Я бы этого не сказала, — простодушно улыбнулась Татьяна. — Лично мне, например, штурман Талмасов определенно понравился. Широкой душой, бесшабашностью натуры…
— Верно? — благодарно глянул на нее старпом. — Если честно говорить, он, собака, кое-что во мне точно подметил. Кроме юбочных дел, конечно.
— А вдруг он вас, Ген Силантьич, обессмертил? — встрял в разговор Юра Ковалев. — Станет классиком, критики будут на нем хлеб зарабатывать и выяснят, что штурмана Талмасова он с вас изобразил! Войдете в историю литературы.
— Мне из нее сейчас выйти хочется, — проворчал Алмазов.
— Старшего помощника приглашают в ходовую рубку! — вежливо проворковал динамик судовой трансляции.
— Кэп проголодался, — вслух расшифровал команду старпом. — И верно, засиделся я тут с вами, пора и о службе вспомнить.
Алмазов неожиданно шустро для своей комплекции вскочил с охнувшего кресла, властно захлопнул за собою дверь.
«Вот кто тоже никогда не будет моим пациентом», — глядя ему вслед, подумала Татьяна.
— Пойду-ка и я крутану для поднятия настроения хорошую пленку, сказал Юра Ковалев. Вскоре после его ухода из динамика полились чарующие аккорды из «Времен гола» Чайковского.
Дверь кают-компании распахнулась, стремительно вошел капитан Сорокин.
— Хорошая музыка помогает пищеварению, — сказал он, потирая руки. Давай-ка мне, Акимовна, со дна погуще!
Глава 10
Сергей Урманов поджидал поезд на перроне. Предстоял неприятный для него момент встречи с контр-адмиралом Русаковым. Сергей не чувствовал за собой никакой вины, но знал крутой характер Андрея Ивановича и потому зябко поеживался, стоя на разогретом беспощадным августовским солнцем асфальте. Поезд опаздывал…
Наконец обшарпанный репродуктор косноязыко объявил о прибытии восточного скорого, и в конце платформы показался зеленый лоб тепловоза. Проплыли мимо номерные таблички головных вагонов, появился и нужный седьмой.
Сергей знаком пригласил следовать за собой стоявшего рядом шофера, ухватясь за поручень, прыгнул на ходу в открытую дверь.
— Товарищ моряк! — укоризненно воскликнула проводница.
— Извините, милая девушка, — пробормотал Урманов, протискиваясь в коридор мимо выставленных рядком чемоданов, ящиков и корзин. Забыв постучать, откатил дверь купе.
Русаков-старший стоял в проходе между полками. Был он в штатском спортивного покроя костюме, густо посоленные сединой волосы, уложенные на пробор прической «внутренний заем», закрывали солидную плешь на затылке. Возле столика сидела его жена, Полина Никитична, дородная женщина с крупными чертами лица.
— Здравия желаю, товарищ контр-адмирал! — вскинул руку под козырек Урманов.
— Не надо, Сергей, — устало отмахнулся Русаков. — Я здесь не по службе.
— С приездом, Полина Никитична.
— Здравствуйте, Сережа. А где же Игорь?
— Он вас дома ждет. Прошу на выход, машина на вокзальной площади.
Урманов двинулся первым, подал руку жене адмирала, помог сойти с подножки. Шофер вынес из вагона два кожаных чемодана.
— Будь возле машины, Толя, — сказал ему Урманов.
— Ну так что ты на это скажешь?.. — сердито насупился Русаков, когда они остались втроем.
— Павел вам написал обо всем, Андрей Иванович, — опустил глаза Урманов.
— Павел Павлом, а ты? — в упор глянул на него контр-адмирал. — Или твое дело сторона?
— Я пытался его отговаривать, даже перевел на казарменное положение, но… таких законов нет, чтобы запретить офицеру жениться.
— Но есть командирский авторитет, весомое слово старшего!
— Коли уж родственники не сумели его переубедить, куда мне…
— Мы далеко, а ты каждый день рядом!
— Ты несправедлив к Сергею, Андрюша! — мягко возразила Полина Никитична. — Тебе прекрасно известен характер Игоря…
— Ладно, о нем потом, а кто же она?
— Работница завода, красивая женщина…
— Женщина? — замедлил шаг Русаков. — Разведенная жена?
— Нет, почему же, замужем она еще не была… — преодолел неловкость Урманов.
— Ах, Пашка, каков стервец! — желчно выдохнул Русаков. — Как икону расписал: и общественница она, и уважаемый на заводе бригадир!
— Все это верно, Андрей Иванович…
— Чего ж ты сам не женился на такой хорошей?
— Не в моем вкусе, да и не пошла бы она за меня…
— Ну, а если по совести? — Русаков властно взял Сергея за плечо, повернул к себе.
— Если по совести, то говорят о ней разное. Не знаешь, кому верить…
— Не приготовили они нам крестины сразу же после свадьбы? — нервно фыркнул Русаков. Сергей неопределенно передернул плечами.
— Не в том суть, какой она была, Андрюша, — подала голос Полина Никитична, — лишь бы теперь стала хорошей женой нашему Игорю. Да и поздно виноватых искать, свадьба через три дня. О том надо думать, чтобы по-людски ее справить.
— Об этом не беспокойтесь, Полина Никитична. Павел уже снял банкетный зал в ресторане «Парус». Игорь дал деньги моему помощнику по снабжению, тот закажет стол…
— А наряды свадебные у них есть, кольца обручальные?
— О чем ты талдычишь, мать? Думаешь, вчера только они сговорились? сердито глянул на жену Русаков.
Подошли к машине.
— Номер для нас забронировал? — спросил Русаков.
— Гостиница есть, Андрей Иванович, только Павел велел к нему вас везти.
— Никаких Павлов! Едем в гостиницу! — распорядился Русаков, усаживаясь на заднем сиденье «Волги».
— Где они жить собираются? — после долгого молчания осмелилась спросить Полина Никитична.
— У Кармен есть комната в заводском семейном общежитии, — машинально ответил Урманов.
— У кого, у кого? — пробасил сидевший до этого нахохлившись Русаков.
— Она что, цыганка?
— Простите, я оговорился. Это ее так подружки прозвали, на самом деле она Ирина…
— Кажется, украинка.
— Поехали к Павлу, Андрюша, — попросила мужа адмиральша, — там сразу с невесткой познакомимся.
— Нет, мать, — жестко отрезал Русаков, — не мы к ним, они к нам должны прийти.
Сергей сидел рядом с шофером, стараясь не глядеть в зеркало заднего вида, в котором видна была неподвижно застывшая, словно восковая, голова адмирала, и думал о том, насколько сродни морю характер этого человека. В хорошем настроении он благодушен и ласков, как штилевой бриз, зато, когда гневался, многие опасались попадаться ему на глаза. Чего греха таить, бывал Русаков и несправедлив в такие минуты, правда, остыв, находил в себе мужество извиниться перед напрасно обиженным. Припомнилось Урманову, как однажды и он угодил в яростную русаковскую бетономешалку…
Было это в одном из дальних походов. Головным в отряде кораблей шел эсминец «Летучий», которым тогда командовал Сергей, а возглавлял переход начальник штаба соединения капитан первого ранга Русаков. По старой морской привычке, а может, и потому, что не очень доверял молодому командиру корабля, начштаба почти круглые сутки проводил на мостике, подремывая в принесенном из кают-компании кресле. Урманова злила эта назойливая опека: он не чувствовал себя хозяином корабля даже тогда, когда слышал за спиной сладкое похрапывание Русакова.
Начштаба ушел вниз, только когда корабли легли в дрейф в точке встречи с танкером-заправщиком, который еще не подошел.
— Я сосну чуток, — сказал Русаков. — Разбудите меня перед швартовкой к заправщику.
— Есть, — буркнул Сергей, обиженный тем, что даже элементарный маневр ему придется делать под пристальным взглядом вышестоящей «няньки».
Танкер появился на горизонте буквально через несколько минут после ухода начштаба с мостика. Погода была сносной: полная видимость, почти безветренно, лишь небольшая зыбь плавно раскачивала эсминец.
«Поди, еще и разоспаться как следует не успел, — подумал Сергей о начальнике штаба. — Чего его будить? Вот подадим сходню на заправщик, тогда и скажу: „Пожалуйте, товарищ капитан первого ранга!“»
Урманов перевел машинный телеграф на «малый ход», корабль вздрогнул и стал разворачиваться против ветра. Вскоре он догнал танкер, уравнял с ним ход и начал постепенно сближаться.
Сергей до сих пор не понимал, отчего допустил тогда досадный промах: то ли не вовремя дал реверс, то ли танкер неожиданно для него повернул, однако нос эсминца резко пошел в сторону танкера, со свистом лопнул надувной резиновый кранец, затрещали смятые леерные стойки.
Сергей не успел еще как следует осознать происшедшее, как сзади раздалось:
— Болван! Мальчишка! Тебе мусорной баржой командовать, а не боевым кораблем! Вон с мостика!
Русаков стоял в шерстяном свитере и войлочных тапочках на босу ногу, лицо его исказила гримаса ярости.
Урманов поплелся было вниз, обреченно опустив голову, но на полпути остановился и негромко, но твердо сказал:
— Занесите в вахтенный журнал, товарищ капитан первого ранга, что вы отстранили меня от командования.
Его слова произвели неожиданное действие. Русаков как-то сразу успокоился и недовольно пробурчал:
— Ладно, оставайтесь на месте. После расследования решим, что с вами делать.
Последствия навала оказались пустяковыми. Пока принимали с заправщика топливо, масло и воду, сборная команда умельцев из обоих экипажей выправила и приварила смятые стойки, подкрасила разлохмаченную плешь на борту танкера, капитан которого беззлобно отшутился:
— Если бы все меня так целовали, я бы морскому черту свечку поставил. Иной раз так долбанут, что за неделю не расхлебаешься.
Урманов воспрянул духом, но все-таки с трепетом душевным ждал последнего слова начштаба.
Тот пригласил его к себе во флагманскую каюту.
— За болвана ты меня извини, — нахмурив кустистые брови, сказал Русаков. — А за неисполнительность и неграмотное маневрирование объявляю вам, командир, строгий выговор.
Вообще Сергею всегда казалось, что Русаков относится к нему предвзято. Другой командир на его месте за такой пустяковый навал отделался бы замечанием.
…Резко взвизгнув тормозами, машина остановилась перед светофором. Сергей видел в зеркале, как дернулась адмиральская голова, и на лице появилась недовольная гримаса. Очень уж не терпел любой непорядок Андрей Иванович Русаков.
— Как дела на корабле? — спросил он после затянувшейся паузы.
— Я только три дня назад посылал донесение…
— Бумага все вытерпит. Ты мне по совести обо всем доложи. Завод сроки выдерживает?
— Как будто бы да. Хотя бывают и срывы. Снимают людей на другие заказы.
— Ты Пашку почаще за галстук бери, пусть ушами не хлопает.
— Ему не позавидуешь, крутится, как тигр в клетке, рычать рычит, а укусить никого не может.
— Зубки бережет. Но ты и сам не стесняйся — начальников рангом повыше тереби.
— Теребим, товарищ адмирал.
— С дисциплиной-то как? У заводской стенки соблазнов уйма.
— Народ в экипаже подобрался сознательный, паршивых овец немного.
— Игорь среди них?
— Ну что вы, товарищ адмирал, — смутился Сергей. — Парень он с характером, но не разгильдяй.
— Неужто ни разу не наказал?
— Не было серьезного повода.
— На отца оглядываешься? Как бы чего не вышло! На его художества глаза закрываешь!
— Ну чего ты опять раскипятился, Андрюша, — усовестила мужа Полина Никитична. — Совсем заклевал парня.
— Об него клюв сломаешь, — пробурчал напоследок адмирал и снова монументально застыл.
В гостинице Сергей проводил чету Русаковых до двери номера.
— Спасибо вам за встречу, Сережа, — ласково улыбнулась Полина Никитична.
— Эти дни действуй по своему плану, мешать тебе не буду, — сказал Русаков. — Увидишь Павла, передай, что жду его здесь.
«Ну берегись теперь ты, братец, снимут с тебя стружку по-родственному», — мысленно посочувствовал Павлу Ивановичу Сергей, радуясь, что сам-то легко отделался. Но тут же вспомнил о предстоящем сидении на свадебном торжестве и затосковал.
Вряд ли сумел бы Урманов объяснить толком, почему так огорчила его женитьба Игоря Русакова, однако такого скверного настроения не бывало у него, пожалуй, с той давней поры, когда узнал он о замужестве Татьяны Русаковой. В запутанном сонме его переживаний, и тогда и теперь, верх брала не личная обида, а предчувствие беды, грозящей не только ему самому… В случае с Татьяной предчувствия эти, пусть через много лет, сбылись, а у Игоря все может произойти гораздо быстрее…
Как тонущий за соломинку, цеплялся Сергей за последнюю надежду, что контр-адмирал Русаков по каким-то причинам не сможет приехать на свадьбу, тогда бы и он увильнул под мало-мальски удобным предлогом.
Но и эта зыбкая надежда испарилась… Хорошо еще, что Татьяна сейчас далеко, для полного контражура не хватало лишь ее присутствия…
Среда и четверг растворились в заводской суете, наступила пятница, взбудоражившая почти всю кают-компанию «Горделивого».
Лейтенант Русаков пригласил на свадьбу даже тех, кому никогда не симпатизировал.
Ясность по составу приглашенных внес командир, оставивший в казарме руководство боевой смены во главе со старпомом. Урманова ничуть не тронуло затаенное недовольство остающихся: «Зачем, мол, такие драконовские порядки, корабль еще не в строю, хватило бы и дежурной службы…» Командир был убежден, что настало время приучать людей к боевой корабельной организации.
К ресторану «Парус» Урманова, Валейшо и механика Дягилева подбросил на своей машине Павел Русаков. После ухода Васи Хлопова он не стал брать нового шофера, а сел за руль персональной «Волги» сам. Сейчас Павел вел себя так, словно именно он сосватал новобрачных: довольно похохатывал, то и дело поправлял торчащую из нагрудного карманчика пиджака большущую белую махровую гвоздику. Сергея подмывало подпортить ему настроение вопросом о результатах объяснения со старшим братом, но присутствие в машине замполита и механика связывало его.
— До самого шабаша возле «Паруса» будут дежурить автобус и машина, которую выделили Андрюхе. Я свою коломбину ставлю в гараж и возвращаюсь на трамвайчике, — говорил Павел, небрежно одной рукой пошевеливая руль. Кроме того, заказано пять такси по вызову. Думаю, колес на всех хватит…
— Слушай, Павел, а почему Иван Егорович не приехал? — задал ему вопрос Сергей.
— Прислал телеграмму, что нездоровится, — сказал Павел. — Нелегко ему теперь разъезжать, за семьдесят перевалило… Зато явился нежданно-негаданно гостенек!
— Это кто? — поинтересовался Сергей, чувствуя, как болезненно екнуло сердце.
— Бывший зятек Илюша Юркевич…
Не зря заныло ретивое… Все минувшие годы Урманову хотелось взглянуть на человека, которого предпочла Татьяна, без ревнивой предвзятости оценить щедрость его характера, остроту ума, интеллект, чтобы уяснить наконец причины своего поражения. Сергею казалось, что он сумеет быть беспристрастным вопреки древней мудрости, которая гласит: «Забудь о справедливости, когда сравниваешь себя с соперником». Теперь представлялся такой случай, но судьба-индейка распорядилась по-своему, сделав их как бы сотоварищами по несчастью, и Сергею было неловко от мысли, что Юркевич может заподозрить злорадство с его стороны.
— Кто его пригласил на свадьбу?
— Он часто звонит Андрею, видно, тот и сообщил ему новость. Илья везет Димку обратно в Москву, к деду, вот и завернул сюда. Я-то смекаю, для чего он прискакал! Решил застать нас всех вместе и уговорить повлиять на Танюшку.
Летний ресторан «Парус» построен на свайном фундаменте у самого края набережной. Центральный его зал стилизован под корабельную рубку: продолговатые стекла окон, круглые плафоны электрических светильников на потолке, даже подвесные фестончики с кнопками для вызова официантов. Сергею доводилось бывать здесь раньше, и в антрактах шумного эстрадного оркестра он с большим удовольствием слушал шебуршание волн под полом.
На просторной веранде толпились приглашенные Отдельной компанией держались офицеры «Горделивого» с женами, поодаль от них сгрудились девчата-маляры, а у самого входа в ресторан собрались родичи новобрачных.
Валейшо с Дягилевым примкнули к своим, а Урманов, вынув из багажника «Волги» охапку цветов, направился к родственникам, среди которых, несмотря на штатский костюм, властной осанкой и военной выправкой выделялся Андрей Иванович Русаков. Об руку с ним в бархатном вечернем платье, сильно полнящем ее, стояла супруга, тут же была жена Павла — Александра Осиповна, рядом с дородной адмиральшей выглядевшая девушкой-горничной. Возле них притулилась еще одна моложавая женщина с лицом, показавшимся Сергею очень знакомым. «Да это же мать Кармен», — догадался он. Заметно было, что сватья чувствует себя неуютно среди важных родственников. А немного поодаль переминался с ноги на ногу мужчина в очках, среднего роста, с шапкой рыжих кудрей, прореженных со лба глубокими залысинами. На его полных, чуть выпяченных губах застыла вымученная улыбка.
— Капитан второго ранга Урманов, — официально представился ему Сергей.
— Юркевич Илья Борисович, — ответил тот, как шарик в милицейском свистке, прокатив в гортани букву «р». Собственно, Сергей с первого взгляда догадался, кто перед ним, однако не смог побороть смущения, услышав фамилию.
— Очень приятно, — выдавил он банальную фразу.
«Сомневаюсь, что очень», — колючим взглядом зеленоватых глаз ответил Юркевич.
«Красивый мужик и, видать, неглупый», — подытожил первое впечатление Сергей.
Мимо «Паруса» по узкому фарватеру прытко прошлепала какая-то посудина, под дощатым настилом веранды заухала, заколотилась взбудораженная вода, проплескиваясь в плохо зашпаклеванные щели. Дамы засуетились, спасая от брызг подолы длинных платьев.
Воспользовавшись суматохой, Урманов перекочевал к своим офицерам. И еще раз убедился, что не бывает худа без добра: когда бы еще привелось разом познакомиться с женами почти всех своих подчиненных.
Молодые женщины — заметно старше была лишь супруга Дягилева — с откровенным любопытством посматривали на отца-командира. Сергей не полагался на скромность своих офицеров и понимал, что их подруги знают о нем немало, причины для любопытства у них довольно веские.
Валейшо подвел к нему худенькую узкоплечую женщину:
— Рекомендую свою дражайшую половину, Сергей Прокофьевич, — чопорно произнес замполит, а жена его легонько наклонила гладко причесанную голову и назвалась:
— Лариса… — потом на секунду замялась и добавила: — Кузьминишна.
«Да, разница у них не меньше чем в полтора десятка лет», — подумалось Урманову.
Гости на веранде оживились, двинулись к входу: подкатывал разукрашенный гирляндами цветов и воздушных шариков свадебный кортеж. Лихо затормозив, шофер передней машины шустро вынырнул из кабины и церемонно распахнул дверцу.
Первым из машины выбрался Игорь Русаков и протянул руку невесте. Когда она распрямилась, отбросив упавшую на лицо фату, Сергей чуть не ахнул от изумления: так хороша была эта смуглолицая женщина в белом наряде.
Навстречу молодоженам спешил официант с хлебом-солью и двумя бокалами шампанского на червленом подносе.
Игорь осушил свой до дна, затем хватил бокал об пол, сыпанув под ноги гостям хрустальные осколки. Ирина лишь пригубила, осторожно поставила бокал обратно на поднос и гордо вскинула голову, словно приглашая всех полюбоваться ею.
По иронии судьбы чуть наискось от Сергея за столом оказался Юркевич, который тоже не сводил глаз с молодоженов, поднимая единственный раз налитую рюмку и нетронутой ставя ее обратно возле пустой тарелки. «Вспоминает, верно, свою свадьбу», — подумал Урманов.
Сергею рассказывали, что свадьбу с Татьяной они сыграли по-студенчески скромно в красном уголке общежития, были только сокурсники по институту да родственники. Татьяна выглядела очень счастливой, много смеялась, танцевала и пела. Вряд ли она в тот вечер хоть раз вспомнила о нем.
А Сергей в тот вечер сидел один за пнем-столиком в полупустом загородном ресторане, прозванном «шайбой», лил себе водку в фужер, но никак не мог захмелеть. Когда его выпроводили после закрытия, он всю ночь бродил по сырой осенней степи, с трудом волоча облепленные мокрыми штанинами ноги в пудовых от налипшей грязи ботинках…
На невысокой эстраде заиграл небольшой, но слаженный оркестр.
Жених с невестой первыми вышли на круг. Чтобы не остаться один на один с тоскующим Юркевичем, Урманов встал и пригласил одну из подружек невесты. Миловидное скуластое лицо девушки просияло, она с готовностью поднялась ему навстречу.
— Вы знаете, товарищ командир, — говорила она, озорно прищурившись, мы всей бригадой в вас влюблены!
— Всей? — невольно усмехнулся Сергей. — А как же она? — кивнул он в сторону вальсирующей невесты.
— И она тоже… пока этот мальчик не подвернулся.
Оркестр переменил мелодию. Звонко вывел руладу саксофон, загремел, выбивая залихватскую дробь, барабан, малиновым звоном поддержали его медные тарелки.
С эстрады в зал полетели слова разудалой старинной песни:
По обычаю петербургскому,
Отдавая дань духу русскому,
Мы не можем жить без шампанского
И без табора без цыганского!..
Глава 11
Лишь на третьей неделе плавания приноровилась Татьяна к ритму судовой жизни. До этого же сознание ее обреталось как бы в двух измерениях: в зримом и ясном до мельчайших деталей прошлом и в зыбком, страшащем, необнадеживающем будущем. Настоящего как бы не существовало. Почти каждую ночь снились ей отцовский кров то в Севастополе, то в Москве, симферопольское студенческое общежитие и даже мужние хоромы в Куйбышеве. Сны были объемными, цветными и даже пахучими.
Как-то ей пригрезилась унылая желтая пустыня без единого человеческого следа. Откуда-то из-за колышущихся барханов доносился отчаянный Димкин крик: «Мама! Ма-мочка!» Она бросалась на помощь сыну, но тут же увязала по пояс в сухом хрустящем песке, а Димкин зов доносился уже совсем с другой стороны…
Она вскочила с койки в липком горячечном поту, дрожащими пальцами кое-как застегнула платье, простоволосая и нечесаная опрометью бросилась в радиорубку. Больно ударилась ногой о желтовато мерцающую в свете ночника ступеньку трапа.
Юра Ковалев никак не мог взять в толк, чего она хочет.
— Радиограмма… сын… мой Димка… — словно спьяну бессвязно выкрикивала Татьяна.
— Что с вами, Татьяна Ивановна? Успокойтесь, вот выпейте воды, наконец сообразил радист. — Никакой радиограммы мы для вас не получали.
Она приняла из его рук наполненный стакан, с жадностью отхлебнула глоток.
— Ради бога, Юра, пошлите запрос о здоровье моего сына! Он тяжело заболел, я это знаю, я чувствую!
— Но в Москве сейчас полночь, телеграмму вряд ли доставят. Погодите до утра, доктор.
— Пошлите любую, срочную, «молнию»! Иначе я с ума сойду!
— Хорошо, давайте московский адрес.
Спать Татьяна больше не могла, страшилась вновь увидеть ту ужасную желтую пустыню, еще раз услышать рвущий сердце Димкин вопль. Она обреченно брела по тускло освещенному коридору и в конце его чуть не столкнулась с Яном Томпом. Тот едва успел придержать ее своими большущими руками.
— Татьяна Ивановна, что с вами? — озабоченно спросил Ян. — На вас лица нет.
— Извините, Ян, у меня дома, должно быть, случилась большая беда. Такой страшный сон!
— Всего-навсего сон? Какой сейчас день недели? Понедельник? Моя мама говорила: в понедельник сон бездельник. Не берите в голову, ничико не произойдет, честное слово, Татьяна Ивановна!
«Ничико ни произойдет» — только эти три слова остались в сознании Татьяны из всей горячей тирады Томпа, и они подействовали на нее, как струя свежего ветра в застоялой духоте. Она благодарно взглянула на зеленоглазого великана.
— Пойдемте в кормовую рубку, Татьяна Ивановна, оттуда чудесный вид, предложил Ян.
— Но вы только что с вахты, вам отдыхать надо, — возразила было она, но Томп решительно взял ее за локоть.
— Я и так многое в своей жизни проспал, — добродушно рассмеялся он.
Ночь была светлой, через широкие иллюминаторы лунные блики падали на линолеум палубы, расчертив ее, словно шахматную доску, на квадраты. В иллюминатор была видна приподнятая кормовая надстройка, а за ней, на темно-зеленой поверхности воды, как спина неведомого морского чудовища, выгибалась белесая полоса кильватерной струи — следа от винта.
Судно шло под ветром, потому создавалась иллюзия тишины и спокойствия.
Пожалуй, впервые за весь рейс видела Татьяна океан таким умиротворенным, казалось, он устал от собственного буйства и теперь отдыхает, глубоко дыша пологой зыбью.
— Вы знаете, — заговорил Ян. — Самовнушение страшнее морской болезни. Несколько лет назад был у нас в экипаже один слесарь. Умный парень, книжки любил читать, анекдотов знал жуть сколько. Где ни присядет, вокруг него сразу матросы, от хохота переборки дрожат. Так вот втемяшилось как-то слесарю, что не сходится арифметика между его рейсами и рождением дочки. Почернел слесарь, товарищей стал избегать, забился как рак в свою слесарку. Доктор наш — тогда с нами Пал Сергеич плавал, фельдшер по образованию, — целую лекцию прочел слесарю, что, мол, бывают и ранние роды, и поздние. А тот уперся: пока, говорит, она не докажет, что дочь моя, говорить с ней не о чем. Весь рейс самоедством занимался, а пришли домой — списался и больше в море не ходит. Вот до чего самовнушение довело. Совсем как у Некрасова:
Мужик, что бык, втемяшится
В башку какая блажь,
Колом ее оттудова
Не выбьешь…
«Вот и я в такого блаженного мужика превращаюсь, — слушая Томпа, горько размышляла Татьяна. — Правильно, видимо, говорят, что море — не женская доля…»
— Красивая ночь, правда, Татьяна Ивановна? — снова подал голос Ян. В такие ночи рождаются поэты… И вы знаете, я тоже балуюсь стихами… Только по-эстонски.
— Прочтите мне что-нибудь свое, Ян, — попросила Татьяна.
— Но вы же не знаете нашего языка.
— Все равно читайте, я слушаю.
— Хорошо. — Ян на минутку задумался, сосредоточиваясь, пригладил ладонью белесые вихры.
Татьяна слушала мягкие гортанные фразы Томпа, и ей казалось, что это волна накатывается на отлогий галечный берег, потом с шипением откатывается назад, оставляя после себя влажные кружева водорослей, битый перламутр ракушек, ноздреватую янтарную крошку…
— Это стихи о море? — спросила она, когда тот замолк.
— Да, вы угадали. В них говорится о старом шкипере, который вернулся на родину с далекой чужбины, возвратился больным и с опустошенной душой. Теперь он сидит на берегу острова своего детства возле разбитого полусгнившего баркаса, такого же, как он сам, и просит прощения у моря, у неба, у тоскующих чаек, в которых переселились души почти всех его сверстников.
— Это очень грустные, но, видимо, хорошие стихи, Ян. В них есть главное — чувство. Наверное, вы настоящий поэт!
— О, вы слишком великодушны, Татьяна Ивановна! Я давно, с детских лет на море, а моряки — все немного поэты. Вот и я просто моряк и немного поэт.
— Кто-нибудь переводил ваши стихи на русский?
— Я пытался сам, но в переводе теряется вся гармония, слова выходят гладкими, как обкатанная галька…
— Скажите, Ян, как вы написали первое в своей жизни стихотворение? Что побудило вас к этому? Первая любовь или восторг перед чем-то необыкновенным?
— Ни то и ни другое, — застенчиво улыбнулся он. — Как раз все наоборот…
— Расскажите, если можно, мне очень интересно, — попросила Татьяна.
— Мне было тогда четырнадцать лет, я пошел в седьмой класс. Как-то раз в воскресенье дядя Юхан взял меня в свою лодку. Стоял октябрь, а осенние штормы внезапны и безжалостны, как фашистские воздушные налеты…
Ян неожиданно замолк, его мысль перебили внезапно нахлынувшие воспоминания. Барабанные перепонки заныли от рева моторов «юнкерсов», идущих в сторону полуострова Сырве бомбить советские береговые батареи. Обратно они возвращались пустыми, но часто, забавы ради, снижались над эстонскими селениями и поливали улицы свинцовым дождем. Иногда сбрасывали листовки на эстонском языке: «Если хотите выжить, заставьте русских убраться с вашей земли».
Остров Сааремаа, тогда он назывался Эзелем, был бельмом в фашистском глазу. С его аэродромов до самого начала сентября 1941 года взлетали наши самолеты дальней морской авиации, беря курс на Берлин, а береговая артиллерия держала под прицелом Ирбенский пролив — ворота обширного и стратегически важного Рижского залива.
«При первой возможности следует совместными усилиями соединений сухопутных войск, авиации и военно-морского флота ликвидировать военно-воздушные базы противника на островах Даго и Эзель…» — требовало от своих генералов немецко-фашистское верховное командование.
Но малочисленные, экономившие каждый снаряд и каждый патрон защитники островов несколько раз сбрасывали в море морские десанты фашистов.
Эзель пал лишь в начале октября. И долго потом на мызах и лесных кордонах прятали эстонцы раненых краснофлотцев…
— Что же вы замолчали, Ян? — осторожно спросила Татьяна.
— Ах, да! Простите, я задумался… — виновато улыбнулся он. — Так вот, далеко от берега налетел жестокий шквал, лодку швыряло на волнах как арбузную корку. Потом скис и заглох мотор. Мы взялись за весла, но что могли сделать четыре человеческих руки против стихии? Вскоре я упустил свое весло, а потом стал коченеть в полузатопленной лодке. Дядя Юхан греб один, откуда только брались у него силы.
В те первые послевоенные годы мы питались почти одной рыбой… Я метался на дне лодки как в полусне, в голове проносилась короткая мальчишеская жизнь, скорее бессвязные обрывки прошлого. Мне представилось, будто я совсем крошечный малютка, мама держит меня на руках, а я, озябший, прижимаюсь к ее теплой ласковой груди…
Потом я увидел себя в лесу возле трескучего костра, откуда-то задул холодный ветер, и я придвинулся совсем близко к жаркому огню… Потом все кончилось, и я провалился в темную сырую яму…
Нас обнаружил и подобрал военный корабль. Первый раз в жизни я хлебнул глоток чистого спирта и обжег себе всю гортань. Самое удивительное, что я не получил даже насморка, а вот дядя Юхан долго и тяжело болел. Вот и все.
— Как же все, Ян? А стихи? — напомнила Татьяна.
— Стихи? Я как раз пересказал содержание своего первого стихотворения, вернее, маленькой поэмы. Она называлась, как бы это сказать точнее по-русски: «Благодарность»… Нет… «Благодарение теплу».
— Меня вот что удивляет, Ян, — после небольшой паузы заговорила Татьяна. — Как это вы, еще в детстве пережив такое, не испугались моря?
— Такое у нас на Сааремаа испытывал почти каждый мальчишка, усмехнулся механик. — Море меня вовсе не испугало, а только разозлило. «Посмотрим, кто сильней!» — сказал ему я и после окончания школы поступил в мореходку. В этом нет ничего удивительного, Татьяна Ивановна. Вы, конечно, знаете миф об Антее, силу которому давала земля, а вот у нас издавна говорят другое: тому, кто родился на острове, силу дает только море.
— Вы бы нашли общий язык с моими братьями, Ян, — сказала Татьяна. Они оба с детства тоже бредили морем. Особенно старший, Андрей. Земля для него только место для передышки перед новым плаванием.
— О да! Я очень быстро подружился с вашим братом Павлом. Хоть мы люди разной национальности, но группа крови у нас с ним одна! — оживился Ян.
— Павел осел на берегу, стал земным человеком, а вот Андрей, видно, до старости будет скитаться по морям, по волнам…
— Нынче здесь, завтра там! — подхватил Ян. — А разве это не здорово всю жизнь познавать мир? Вот и вы походите с нами годок-другой и тоже на всю жизнь заболеете морем.
— Вряд ли, Ян… В моей жизни это плавание — случайный эпизод. Я женщина, и мне надо воспитать своего сына. Хотя я ничуть не жалею, что оказалась здесь, среди вас…
В рубку кто-то заглянул, но, увидев их, поспешно ретировался. Стало совсем светло, и поблекло зеленоватое сияние шкал на приборах. Океан тоже заметно переменился: из темно-зеленого стал серым с рыжими прожилками, зыбь почти улеглась.
— Что это там, на воде? — удивленно воскликнула Татьяна.
— Водоросли. Мы подходим к знаменитому Саргассову морю. Пять веков назад оно сильно удивило моряков Колумба, и они назвали его «Сьенага-гранде» — громадным болотом.
— Оно мелководное?
— В том-то и фокус, что глубины здесь приличные. Водоросли плавающие. Причиной цветения является здешний микроклимат: ужасно повышенная влажность, парилка какая-то. Поднимется солнце, и вы увидите сплошное сизое марево над горизонтом. И теплым дождичком нас прополощет…
— Большое спасибо вам, Ян, и за утешение и за просвещение, — сказала Татьяна после паузы. — Вы успокоили мою душу, теперь я сама верю, что ничего с моим Димкой не случится. А сейчас давайте вздремнем до завтрака.
— Слушаю и повинуюсь! — шутливо вытянул руки по швам Томп.
…Проснулась Татьяна от какого-то странного шума. Иллюминатор каюты захлестывало водой, словно кто-то, балуясь, направил сюда струю из пожарного шланга, за бортом слышен был сплошной невообразимый гул шторма, но судно совершенно не качало.
«Тропический ливень!» — догадалась Татьяна. «Так, наверное, начинался всемирный потоп» — пришла в голову странная мысль.
Она быстро оделась и выбежала наверх. Но едва попыталась приоткрыть надстроечную дверь, как ее обдало фонтаном брызг. С палубы слышны были веселые выкрики матросов, подвахта наслаждалась естественным душем.
«Ах, была не была!» — озорно подумала Татьяна, решительно перешагнув комингс.
В ту же секунду на нее обрушился теплый водопад, такой густой, что перехватило дыхание. Жгучие струи били по голове и по плечам, словно хотели свалить с ног. Татьяна перестала ощущать на себе одежду, ей показалось, что она, нагая, стоит на виду у резвящихся под дождем матросов.
— Зачтите этот дождь за два банных дня, товарищ доктор! — весело закричал ей Гешка Некрылов, лежавший невдалеке в одних плавках в пенном потоке, клокочущем между контейнерами. Он напомнил ей об одном из судовых порядков, с которым Татьяне нелегко было примириться, — о жесткой экономии пресной воды. Однажды, когда она, намыленная, стала под лазаретный душ, струя в нем вдруг съежилась и иссякла. Пришлось ей вытирать мыльную пену полотенцем, а голову домывать из графина. А вот теперь дефицитная влага неисчислимыми тоннами лилась со щедрых небес. «Неужели никто не догадается запастись дождевой водой?» — невольно подумала Татьяна.
Среди бледнокожих дикарей, отплясывавших под дождем что-то вроде ритуального танца, Татьяна различила Томпа, он выделялся среди других ростом и шириной плеч, рельефом мышц на могучем торсе. Ему бы сейчас тюрбан из орлиных перьев на голову и копье в руку — получился бы один из тех гордых индейских вождей, что сражались с испанскими конкистадорами.
Ян тоже увидел ее и заторопился навстречу.
— Вот видите, Татьяна Ивановна, как я обещал: теплый привет Саргассова моря! — выплевывая воду, сказал он.
На завтрак в кают-компанию половина комсостава пришла с влажными волосами.
Первый помощник, наблюдавший сцену купания с мостика, сказал, как бы размышляя вслух:
— На военном корабле никогда бы не позволили устроить такой шабаш на верхней палубе…
Услышав его слова, капитан Сорокин отодвинул в сторону чашку с кофе и с улыбкой оглядел сидящих за столом.
— А вот я жалею, что была моя вахта, не то бы с таким удовольствием поплескался. Вспомнил бы детство. «Дождик, дождик, пуще, посильней, погуще!» — забавно выпятив губы, пропел он, затем остановил свой взор на Татьяне: — А как с точки зрения сангигиены, полезно такое мероприятие или нет?
— Медицина вполне одобряет подобные купания, особенно с учетом экономии пресной воды.
— Я вижу, доктор, вы уже по-настоящему вникаете в суть наших судовых проблем, — улыбнулся капитан. — Похвально, весьма похвально!
— Эх, сейчас бы в солому и вздремнуть минут шестьсот! — мечтательно вздохнул секонд Рудяков.
Стукнула входная дверь, вошел Юра Ковалев с листочком бумаги в руке. При виде его у Татьяны тревожно екнуло сердце.
— Вам ответная телеграмма, Татьяна Ивановна.
«Внук здоров, собирается возвращаться в Москву. Андрей в следующую субботу женит сына. Желаю счастливого плавания. Целую, папа», — прочла Татьяна аккуратно отстуканный на машинке текст.
Глава 12
Форму одежды на пробный выход Урманов объявил парадную. Для всего экипажа, за исключением машинной команды.
— Чего ты выпендриваешься, Серега? — ворчал Павел Русаков. — Канал все равно закроют, ни встречных, ни поперечных не будет.
— Первый выход — для корабля праздник. Вам ли это объяснять, товарищ инженер-капитан третьего ранга!
— Запаса… — уточнил Павел.
— Сегодня запас, завтра у нас!
— Вот когда стану твоим подчиненным, тогда и будешь из меня веревки вить…
Внешне все выглядело обычным. И реденький строй швартовых команд в носу и на корме, и небольшая группа провожающих на причале, и два обвешанных автопокрышками, похожих на ощетинившихся ершей буксирчика, которые уже натянули упругие лесы стальных канатов. Но Урманов, смотревший на все это с внушительной высоты ходового мостика, заметно волновался. В голове роились напыщенные мысли об исключительности нынешнего события и о своей причастности к истории. Разве всякому выпадает честь выводить в море головной корабль новейшего проекта?
С причала и сам командир, одетый в черные брюки и белую тужурку, с большим призматическим биноклем на груди, выглядел эффектно. Почувствовав внимание, Урманов поднес к глазам бинокль, навел его на провожающих.
У самой воды стояли девушки-маляры во главе со своей бригадиршей. Урманов немного подкрутил тубус резкости бинокля, и лицо молодой женщины придвинулось совсем близко. Надменно застыли серповидные брови, легкая улыбка шевелила ярко накрашенные губы. В отличие от подруг, одетых в спецовки, Кармен была в ярко-малиновом брючном костюме, плотно облегающем ее фигуру.
Сергей невольно залюбовался ею, потом, спохватившись, опустил бинокль в перешел на другое крыло мостика.
Примерно через полмесяца после свадьбы он случайно встретился с Ириной на палубе. Коротко поздоровавшись, хотел быстро пройти мимо, но невольно остановился под ее пристальным взглядом.
— Вы пореже ставьте в наряд моего мужа, товарищ командир, — с усмешкой произнесла она. — Все-таки у него медовый месяц.
Сказав это, она повернулась и мигом скрылась в ближайшем люке, а он продолжал стоять, обалдело смотря ей вслед…
Ни к одной женщине не испытывал Урманов такого двойственного чувства: коробила ее внешняя развязность, и вместе с тем развязность эта иногда казалась Сергею нарочитой, Ирина словно бравировала ею.
Во время свадьбы невеста была так хороша, держалась с таким скромным достоинством, что оттаял даже грозный свекор Андрей Иванович Русаков. Когда поздно вечером молодых проводили из ресторана, он придержал Урманова за локоть и сказал вполголоса, чтобы не расслышали другие: «Слушай, Сергей, похоже, у нашего Гошки губа не дура?» Урманов тогда молча кивнул в ответ.
А потом стало заметно, как переменился Игорь после женитьбы: отутюженная форма, сдержанность в отношениях с сослуживцами. Только что из динамика корабельной трансляции прозвучал его уверенный доклад: «Первая стартовая батарея к бою и походу готова!»
«Надо вызвать Игоря наверх, — словно оправдываясь перед самим собой, подумал Сергей. — Пусть с женой попрощается…» Хотя в прощании не было нужды, выход рассчитан всего лишь до вечера, да и то если все механизмы окажутся в порядке.
— Лейтенант Русаков приглашается на мостик, — включив тумблер, сказал в микрофон командир.
Вскоре на трапе послышались торопливые шаги, в ходовую рубку вбежал запыхавшийся Игорь.
— По вашему приказанию… — начал было он, но Урманов жестом остановил его.
— Станьте на правое крыло мостика, Игорь Андреевич, и проследите за отдачей швартовых. Будете докладывать расстояние до причала.
— Есть, стать на правое крыло… — недоуменно пробормотал Игорь.
Урманов тут же перешел на противоположное крыло ходового мостика, стал смотреть, как попыхивают длинными трубами закопченные до самых кончиков мачт портовые буксирчики.
Наверх поднялся взъерошенный, как всегда, Павел Русаков в расстегнутом пиджаке, похожем на разлетайку.
— У меня все в норме! — радостно воскликнул он. — Можно отходить!
Урманов вопросительно глянул на стоящего рядом портового лоцмана. Как ни заедало самолюбие, но Сергей понимал, что подлинным командиром «Горделивого» на пробном выходе являлся этот грузноватый пожилой человек в совторгфлотской тужурке с тремя шевронами. Но фамилия лоцмана нигде не будет значиться, кроме вахтенного журнала, в истории останется фамилия первого командира крейсера.
— Можно сниматься, — вынул изо рта прокуренную трубку лоцман.
— Отдать кормовые! — торжественно, как на параде, скомандовал Урманов.
— Кормовые на борту! — опередив командира швартовой команды, доложил лейтенант Русаков.
Ближний к корме буксирчик выпустил шапку серовато-бурого дыма и натужливо двинулся вперед.
— Отдать носовые! — дал команду на бак Сергей.
Стальная громадина бесшумно отделилась от причала и боком поплыла к середине ковша.
— Носовые на борту! — снова послышался голос Игоря Русакова. — До стенки пятьдесят метров!
Буксиры, радостно попыхивая трубами, вывели крейсер на осевую линию фарватера и застопорили ход. Отсюда, с заводского ковша, должно было начаться первое в его жизни самостоятельное плавание.
Было тихое солнечное утро. Искрилась чуть подернутая маслянистой пленкой вода, словно вся была засыпана серебристой рыбьей чешуей. Неподвижно застыли зеленые липы в небольшой рощице на противоположном берегу, и, словно поддавшись всеобщему оцепенению, дремали тысячи лошадиных сил в многоярусном чреве «Горделивого».
Урманов трепетными руками, будто совершая некое таинство, перевел рукоятки машинных телеграфов на «товсь», мелодично тенькнули сигнальные звонки совместившихся стрелок — из машины мигом отрепетовали команду. Командир снова глянул на лоцмана, тот согласно кивнул, и Урманов поставил оба телеграфа на «малый ход». Ему почудилось, что по всему огромному телу корабля пробежала нетерпеливая дрожь, словно по спине призового скакуна, которому отпускают поводья. Крейсер легонько качнулся и послушно тронулся с места. Мелкая волна легкими разводьями обтекала его острый свежевыкрашенный форштевень.
— Поехали! — радостно воскликнул Павел Русаков, вытирая носовым платком вспотевший лоб. — С тебя бутылка коньяка, Серега!
Урманов не ответил. Вцепившись обеими руками в шершавый поручень, он зачарованно смотрел на ласково журчащую вдоль борта волну, переводил взгляд на медленно плывущие назад низкие, опушенные зеленью берега канала, и всем его существом владело горделивое чувство первопроходца. Жалел только о том, что не видит его в эти минуты отец.
— Вправо помалу, — негромко произнес невозмутимый лоцман. Главный старшина Хлопов чуть пошевеливал рычажок манипулятора, такой непривычный на месте традиционного, обшитого медью рулевого колеса с отполированными матросскими ладонями рукоятками.
На поднятой осанистым крейсером волне покачивались навигационные вехи, приветливо взмахивая цветными голяками. Немного поодаль выпрыгивали из воды любопытные рыбешки, оставляя на поверхности быстро гаснущие оспины.
Мерно гудели, постепенно набирая силу, машинные вентиляторы, над палубными надстройками вращались распахнутые раковины антенн, встречный ветерок старался развернуть на гафеле алое полотнище государственного флага.
Смотря на мачту, Сергей Урманов думал о том, насколько символично, что на испытаниях корабль носит государственный флаг. Ведь строила «Горделивый» буквально вся страна: он напичкан от киля до клотика продукцией великого множества заводов со всех краев и весей нашего необозримого государства.
В ходовую рубку поднялся заместитель командира капитан третьего ранга Валейшо.
— Сергей Прокофьевич, — вполголоса обратился он к командиру. — Может, просьба моя не совсем уместна, но надо, чтобы вы сказали хоть несколько слов экипажу… Поздравили всех с первым плаванием… Ведь такое не повторяется…
— Понял, комиссар, — согласно кивнул Урманов. — Сейчас, только повернем на новое колено…
Чуть погодя он подошел к трансляционному щитку и включил тумблеры на щитке внутрикорабельной трансляции.
— Товарищи матросы, старшины и офицеры! Товарищи рабочие, инженеры и техники! — поднеся ко рту микрофон, медленно и раздельно произнес он. — В нашей с вами жизни происходит сейчас знаменательное, неповторимое событие. Мы выводим в море новый могучий корабль советского Военно-Морского Флота! Корабль, которому будут подвластны любые штормы и ураганы, доступны самые дальние дали Мирового океана. Корабль, который будет вызывать восхищение каждого настоящего моряка, гордость наших друзей и зависть недругов. Нам с вами выпала огромная честь вдохнуть в него душу, стать хозяевами и повелителями всех его сложнейших устройств, оружия и механизмов. Так пусть каждый из нас оправдает высокое доверие, оказанное нашим народом, его Коммунистической партией и Советским правительством. Поздравляю вас, мои боевые друзья.
Валейшо стоял неподалеку, слушал Урманова и представлял себе, как сейчас в каждом отсеке, в каждом помещении, в каждой рубке крейсера с затаенным дыханием внимают командиру. Голос первого человека на корабле не часто звучит по циркулярной трансляции. Но коли уж командир обращается к экипажу, значит, возникли исключительные обстоятельства. И тогда, напрягаясь, слушают его в машинном отделении, наполненном грохотом и дрожью мощных двигателей, слушают в радиопосту, убрав на время с висков черные лопухи наушников, слушают на камбузе, не обращая внимания на подгорающие котлеты…
«Говорит командир!» На море к этой фразе относятся с не меньшим уважением, чем на суше к звучащим в эфире словам: «Говорит Москва!»
— Спасибо! — поблагодарил замполит, когда Урманов, выключив трансляцию, положил микрофон.
— Лучше выдумать не мог, — улыбнулся ему командир и спросил: — Ну как там внизу народ?
— Наши все пишут, — ответил Валейшо.
Его слова услышал Павел и тут же ввязался в разговор:
— Какую-то чиновничью канцелярию сделал ты, Серега, из крейсера. Сто пудов бумаги понапрасну переведешь…
— Погоди, ты нас еще будешь благодарить за эту порчу бумаги, усмешливо глянул на него Урманов.
Дело было в том, что накануне пробного выхода командир велел выдать на каждый боевой пост по ученической тетради и предложил вести короткие записи о действии механизмов. По возвращении в затон офицеры должны были проанализировать все записи и выработать рекомендации для завода по регулировке барахлящих устройств. Инженер-механик Дягилев горячо поддержал эту идею.
Вообще Урманов давно уже знал, что между Дягилевым и Павлом Русаковым существует ревнивое соперничество. Главному строителю не нравилась компетентная въедливость корабельного инженера. За глаза Павел окрестил его «хазаром». Поводом для такого прозвища явились, видимо, скуластое, чуть узкоглазое лицо Дягилева и его непробиваемое упрямство.
— Опять твой хазар акт ревизии компрессора не подписывает, — обидчиво говорил Урманову главный строитель. — Прокладки, видишь ли, ему не понравились! А что такое прокладки? Мусор! Выбросил и поставил новые!
— А ты так и сделай, — спокойно посоветовал Павлу командир, который в большинстве случаев принимал сторону своего инженера-механика.
— Разве тебя убедишь, — безнадежно махал рукой Павел, — ты свои куркульские интересы блюдешь…
— Мы с тобой оба государственные интересы защищаем. Не понимаю, чего же ты хочешь?
— Я хочу, чтобы вы мне палки в колеса не совали. Не лезли туда, где ни черта не понимаете.
— Напрасно ты думаешь, что мы зря казенные харчи переводим, — пытался урезонить его Урманов.
— Вы по полпуда каши, а мы по сто пудов соли на этом деле съели! вскипал главный строитель. Но в конце концов ему приходилось уступать требованиям корабельных специалистов.
— Сейчас будет крутой поворот канала, — вынув изо рта трубку, подсказал Урманову лоцман.
— Ясно, — откликнулся командир и передал по трансляции в машинное отделение: — Приготовиться работать обеими машинами враздрай!
— Ты с реверсами-то полегче, Серега, — обеспокоенно попросил Павел Русаков, и полы его разлетайки мелькнули уже у выхода из рубки.
— Разрешите и мне спуститься в машинное? — подал голос Валейшо.
— Идите. Предупредите там Дягилева, чтобы наши смотрели в оба.
— Стопорите правую машину, — подсказал лоцман.
Урманов перевел рукоятку машинного телеграфа на «стоп», почти одновременно скомандовав на бак:
— Правый якорь к отдаче изготовить! — Это для страховки, если вдруг что-то случится с машинами и крейсер останется без хода. На тот же случай следом за «Горделивым» шли оба портовых буксира, которые выводили его из затона, шли, почтительно поотстав, как две вышколенные собачонки за хозяином.
— Давайте правый задний, — сказал лоцман.
Корма корабля мелко заколотилась, будто в ознобе, а нос его послушно завернул в нужную сторону.
«Прав был Георг Оскарович Томп, когда утверждал, что корабль будет управляться легко, как китайская джонка, — невольно подумал Урманов. Жаль, он сам не видит первых эволюций своего детища».
Несколько дней назад главного конструктора с почечной коликой увезли в больницу. Позавчера вечером Урманов с Валейшо навестили старика в больничной палате. Он лежал в постели бледный, с отекшим лицом, но старался не выказать своих страданий, шутил с гостями. Когда же речь зашла о пробном выходе, Георг Оскарович посерьезнел, стал озабоченно перечислять:
— Линии валов надо проверить на вибрацию, обязательно реверсивные муфты на заклинивание, следить за температурой подшипников, за точностью изменения шага винта…
Он бы наговорил еще с три короба, но вошла дежурная медсестра и попросила гостей не утомлять больного.
— Семь футов вам под килем, — пожелал напоследок Томп, потом неловко заерзал головой по подушке. — У меня большая просьба, — пробормотал он. Попросите директора, ну и всех остальных… Пусть ничего не сообщают Яну о моей болезни. Не надо волновать парня, рейс у него дальний…
Всякий раз, когда Томп заводил речь о сыне, Сергей невольно думал о Татьяне. Он сам не знал, почему, но в его сознании оба этих человека, близкий когда-то до боли и совершенно незнакомый, постепенно соединились. Он мог побиться об заклад, что Ян Томп увлекся Татьяной, не удивился бы даже, если бы узнал об их супружестве.
Со слов старшего Томпа ему было известно, как много места в письмах, а значит, и в жизни Томпа-младшего занимает судовой врач Русакова. И странное дело, если поначалу разговоры главного конструктора на эту тему были неприятны Урманову, то теперь он слушал их почти равнодушно…
— Товарищ командир, — послышался из динамика голос инженера-механика Дягилева, — греется опорный подшипник правой линии вала. Прошу сбавить обороты…
— А я прошу не сбавлять! — перебил его Павел Русаков. — Сейчас поднимусь в рубку и все объясню.
Несколько минут спустя главный строитель гулко протопал по трапу и, переводя дыхание, возмущенно забубнил:
— Опять твой хазар воду мутит! Температура на ноль целых шиш десятых выше нормы, а он чуть не требует машину остановить!
— Вы о ком это, товарищ Русаков? — нарочито громко перебил его Урманов. — Человек с такой фамилией в моем экипаже нет.
Он видел, как прячет улыбку рулевой Хлопов, услышал приглушенное хмыканье Игоря Русакова, который дублировал теперь вахтенного офицера, и понял, что прозвище Дягилева на корабле ни для кого не секрет.
— Если будем вокруг каждой ерунды бучу поднимать, то мы корабль до нового потопа не сдадим! — продолжал возмущаться Павел Русаков.
— Вам, товарищ главный строитель, — спокойно парировал командир, абы заказ с рук сбыть, а нам в океанах плавать, где ни заводов, ни вашей милости не будет. Потому мы должны быть уверены в надежности техники. Так уж постарайтесь, пожалуйста, чтобы поменьше всяких ерундовин.
— Да вся причина в том, что смазку густую зашприцевали! Вот разжижеет, и все будет в норме.
— Ну что ж, поплаваем — увидим, а пока обороты придется сбавить… Береженого, как говорят, бог бережет…
— Влево помалу, — скомандовал тем временем рулевому лоцман.
Берега канала неожиданно раздались, словно отступили в стороны, и впереди показалась ограниченная лишь голубоватой полоской горизонта открытая вода.
— Салют морю! — воскликнул Урманов. Всколыхнув тишину, раздался длинный, торжественный гудок корабельной сирены — и помчался вдаль.
Глава 13
После полудня капитан пригласил Татьяну на ходовой мостик.
Семен Ильич обрядился в тропическую форму: он был в белой полотняной рубашке с короткими рукавами и крохотными погончиками, на худых бедрах пузырились кремовые шорты.
— Вам известно, доктор, где мы сейчас идем? — хитровато прищурясь, спросил он.
— В Саргассовом море, или Сьенага-гранде, как его называли первые испанцы.
— Ого, да у вас блестящие познания в истории мореплавания! — сделал большие глаза Семен Ильич. — Все это верно, однако мы пересекаем очень загадочное место. Вам приходилось слышать о Бермудском треугольнике?
— Я больше возилась с загадками человеческих недугов, — в тон ему ответила Татьяна.
— Давайте заглянем на секунду в рубку, я покажу вам на карте, предложил капитан. — Вот посмотрите, — открыв атлас на карте Атлантики, ткнул он пальцем в небольшую группу островов, — это и есть Бермуды, мы оставили их слева. Так вот, коли их соединить напрямую с Флоридой и островом Пуэрто-Рико, получится этот самый Бермудский треугольник. Лет эдак четыреста с гаком моряки утверждают, что здесь происходит всяческая небывальщина… Первому что-то померещилось испанцу Хуану Бермудесу, и он назвал архипелаг Островами дьяволов…
— Нас тоже сегодня удивили дождичком, — улыбнулась Татьяна, — лично я такой водопад видела впервые в жизни.
— Что дождик! Дождик — это сущие пустяки, — снова воодушевился Семен Ильич. — Тут бесследно пропадали корабли! Или еще хуже — корабли оставались целехонькими, а бесследно исчезали люди, целые экипажи, до единого человека! Потом здесь стали обнаруживать взлетающие и садящиеся тарелки, и появилась гипотеза, что все бермудские чудеса — дело рук инопланетян…
— А вы, Семен Ильич, в который раз здесь плывете? — поинтересовалась Татьяна.
— Я уже трижды пересекал эти места туда и обратно.
— Ну и сталкивались сами с чем-нибудь таинственным?
— В первый раз нас тут зацепил краешком тайфун. Забыл, как его потом назвали — Кэри или Клара?.. Дал он нам тогда прикурить, даже один палубный контейнер смыло… А вот в позапрошлом году была тихая погода, как сейчас, и видимость стояла приличная. И вдруг мы заметили на горизонте серебристое пятно. Облако не облако, для облака слишком правильная форма, да и скорость движения велика. Мы даже локатор включить не успели, хотели проверить — материальное ли это тело, как пятно, прочертив дугу, исчезло…
— Вы думаете, это была летающая тарелка?
— Кто его знает, скорее всего какое-то оптическое явление. Нас тогда пятеро стояло на мостике, и все видели примерно одно и то же.
— Как интересно, Семен Ильич! Вот бы нам что-нибудь углядеть!
— Нет уж, избави нас судьба от всяческих чудес. Боюсь, что многих тут погубило любопытство, — суеверно отмахнулся капитан.
Татьяна с интересом посмотрела на него. От отца и братьев она наслышалась о традиционном суеверии моряков. Раньше, говорят, на судах не было тринадцатой каюты, была 12-а, или вообще роковой номер пропускался. А женщина на корабле? Сколько с этим суеверием связано былей и небылиц!
Татьяне запомнилась история, рассказанная ей когда-то Сергеем Урмановым. Будто бы императрицу Екатерину Вторую, посетившую Таврию, князь Потемкин пригласил на парусное учение. Корабль для высочайшего посещения выбрали самый лучший, матросы на нем взлетали на мачты как обезьяны и работали там, как теперешние циркачи; особенно лихим марсофлотом был старик боцман — как полагается, с большущей серьгой в ухе и с прокуренной трубкой на гайтане.
Князь Потемкин, разумеется, дал соответствующий инструктаж и начальнику эскадры, и командиру корабля, но примета есть примета — хоть сама императрица на корабле, но все одно женщина. Кресло ей поставили на самом видном месте, и, как только она дала знак платочком, учение началось.
Матросы кинулись вверх по вантам, корабль стал окутываться белыми облачками парусов. На двух мачтах мигом спроворили свое дело, а на третьей что-то заело. У князя Потемкина единственный глаз из орбиты полез, командир стоит белый и дар речи потерял. Только боцман не растерялся, вскинул над головой кулаки, выдал на басах такую виртуозную руладу, в которой помянул всех святых, святителей и апостолов в придачу. Это мигом подействовало на нерасторопных, тут же исправили промашку.
Потемкин в расстроенных чувствах пошел объясняться с матушкой-императрицей, а та, оказывается, ничего не заметила, так заслушалась боцмана, что взгляда на мачту не подняла. Прячет лукавую улыбку и спрашивает своего всесильного фаворита:
«Скажи, Григорий, на котором языке сей шкипер изъяснялся, на русском или голландском?»
«На матерном, матушка-императрица!» — брякнул рассерженный князь.
Размышления Татьяны прервал голос капитана:
— Ага, вот еще одна жертва дьявольских козней! Гляньте, доктор, справа по курсу болтается шип. — Семен Ильич протянул Татьяне бинокль. На мачте у него сигнал, который означает «не управляюсь». По флагу это панамец, но я сомневаюсь, что флаг настоящий. Наверно, конфинанс какой-нибудь…
В той стороне, куда показывал капитан, Татьяна углядела небольшой пароход с ярко раскрашенной трубой и с похожими на паучьи ноги стрелами.
— А что такое конфинанс?
— Так называют суда, плавающие под удобными флагами. Маленькие хитрости капиталистов: чтобы поменьше платить налогов, они переводят свои суда под флаги «щедрых» в кавычках стран: Панамы, Либерии, Ливана. Платят этим странам небольшую деньгу, а выгоду в итоге получают приличную… Надо запросить капитана, нуждается ли в помощи, — сказал Семен Ильич, торопясь в ходовую рубку.
Татьяна осталась на мостике одна, с биноклем в руках, который оставил ей капитан. Еще раз навела бинокль на чужое судно, которое быстро увеличивалось в размерах. На палубе его не чувствовалось признаков катастрофы. Наоборот, вид у конфинанса был вполне благополучный, два полуголых матроса даже ловили с борта рыбу, спокойно подергивая невидимые в оптику лесы. Заметив идущее вблизи судно, они приподнялись и приветственно помахали зажатыми в кулаках беретами.
— Этот из тех, что тонуть будет, а помощи не примет, — презрительно хмыкнул вернувшийся на мостик капитан. — Копейка ему дороже собственной жизни. Боится, что сдерем такой презент, которого ему хозяева не простят…
— Он что, не верит в бескорыстие? — еще раз с любопытством глянула на конфинанса Татьяна.
— Видите ли, доктор, — посерьезнел Семен Ильич, — это не тот случай, когда следует показать традиционное наше благородство. Останавливаться и терять время за спасибо в данной ситуации мы не можем. Мы с вами торговый флот, потому обязаны думать о выгоде и давать прибыль государству. Но ведь и он, — капитан кивнул вслед скрывающемуся за кормой судну, — не был бы в убытке. Я уверен, у него инструмента приличного нет, а у нас — первоклассная мастерская. С тем, что мы бы сделали ему за несколько часов, он промордуется сутки, а то и больше… Хорошо, если еще погода будет к нему милостива, здесь она может перемениться в одночасье. Вот и сообразите, доктор, выгадал он или прогадал, отклонив наше предложение…
— Да вы настоящий коммерсант, Семен Ильич, — улыбнулась Татьяна.
— А как же иначе? Экономические расчеты — серьезная часть капитанских обязанностей. И это не все! Мне, если хотите знать, приходилось выступать и в роли дипломата. Так, в прошлогоднем рейсе мне удалось в Лагосе обскакать кое-кого из чужих и наших капитанов, на полмесяца раньше стать под разгрузку. — Семен Ильич приосанился, чувствовалось, что воспоминания приятны ему самому. — Вы не представляете, доктор, какое это мучение неделями болтаться бессмысленно и бестолково на рейде! Тут как зверь от тоски завоешь или заплачешь как дитя…
— Каким же образом вам удалось других перехитрить? полюбопытствовала Татьяна.
— Очень просто: нашел общий язык с капитаном порта и со стивидором. Стоило всего две ночки не поспать…
На мостике появился старпом Алмазов, щурясь на ярком солнце, замурлыкал любимый мотивчик:
Король лакея своего
Назначит генералом,
Но он не может никого
Назначить честным малым…
— Из Беранже, — пояснил он, отвесив церемонный поклон Татьяне, потом сладко зевнул, прикрыв рот ладонью, и обратился к капитану:
— Предлагаю, кэп, расшевелить народ. Погода балует, многих в сон стало клонить. Позвольте сыграть пожарную тревогу?
— Хорошо, чиф, — повернулся к нему Семен Ильич, — только после смены вахты.
— Понятно, — сказал Алмазов и, еще раз поклонясь Татьяне, исчез.
Она же продолжала открывать для себя новые истины. И в Куйбышеве и в Москве перед ее глазами проходили десятки, а может, и сотни людей, но в ее сознании они обезличивались, группируясь в общую категорию — больные. Как ни странно, но симптомы их недугов запоминались больше, чем сами эти люди. А теперь, совсем за недолгое время, Татьяна убедилась, что за каждым человеческим лицом стоит особенный, неповторимый характер. Взять хотя бы капитана и старшего помощника.
Ян Томп рассказывал ей, что Семен Ильич Сорокин капитанит в два раза дольше, чем плавает Алмазов; начинал он с портовых буксиров, таскающих на рейд обшарпанные баржи-грязнухи. Генрих Силантьевич Алмазов начинал плавать в военном флоте, быстро вырос до командира тральщика, но попал под сокращение, обменял диплом и стал штурманить на большегрузных океанских судах торгового флота.
Если Семен Ильич подолгу упорно одолевал каждую ступеньку трапа, ведущего на капитанский мостик, то Алмазов перепрыгивал через одну. Зато, осилив новый судоводительский рубеж, Сорокин по-хозяйски прочно закреплялся на нем, а Генрих Силантьевич мог запросто кубарем скатиться вниз.
Несколько последних лет Алмазов ходил в вечных старпомах. «У вас сплошные достоинства, — сказал ему один кадровик, — только единственный недостаток — легкомыслие…»
Ян утверждал, что при всем при этом «человек с драгоценной фамилией» слыл в пароходстве толковым судоводителем, умеющим ладить с людьми, потому его охотно брал к себе любой капитан, а вот молодые штурманы шли к Семену Ильичу Сорокину без особой радости.
«Кому понравится, коли кэп сутками торчит за спиной в рулевой рубке», — комментировал этот факт Алмазов. Сам же он так представлял свое будущее капитанство: «Вышколю своих штурманов и буду весь рейс заниматься в каюте самообразованием…»
Ян говорил также, что на вахте старпома капитан почти никогда не появляется на мостике.
— Вы знаете, доктор, в чем мы принципиально расходимся со старпомом? — словно прочитав ее мысли, спросил Семен Ильич и тут же ответил на свой вопрос: — В комплектовании экипажа, особенно женской его части. Я считаю, что на должности поварих, буфетчиц, дневальных надо брать пожилых женщин. Опыта побольше и соблазна для экипажа поменьше… А вот Генрих Силантьевич убежден, что надо, наоборот, брать молодых и красивых. Они, мол, всех подтягивают, а кой-кого и вдохновляют на доблестный труд…
— Интересно, а я по чьей мерке прохожу, по вашей или по старпомовской? — улыбнулась Татьяна.
— Вы особая статья, вы комсостав, — ловко выкрутился капитан. — А вот наша Лида — протеже чифа. Зато Варвара Акимовна — мой кадр.
— Но Варвара Акимовна почти двадцать лет плавает. Начинала тоже молодой и красивой.
— Не знаю, не знаю, в ту пору я с нею не служил…
На горизонте вдруг заклубилась голубовато-серая дымка, длинные языки ее поднимались все выше и выше. Тотчас же на мостике потянуло сырым ветерком. Татьяне показалось, что ветер оставляет на ее оголенных до локтей руках мокрые следы.
— Кажется, шквальчик идет, — забеспокоился капитан. — Штурман! окликнул он стоявшего вахту Рудякова. — Быстро уберите всех с палубы!
Еще через несколько минут хмарь заволокла солнце, сделав его тусклым медным пятаком, на который можно было смотреть простым глазом. Спокойное пока море приняло зеленовато-угрюмый оттенок. Потом налетел другой, более сильный порыв ветра и как плугом взрыл все пространство. Следующий порыв растрепал макушки мелких крутобоких волн, погнал, словно перекати-поле, крупные хлопья бурой пены.
Татьяна выросла у моря, любовалась не раз штормовыми накатами, но впервые видела такую пену, бурую, как в красильном котле. Она догадалась, что ветер захватил частицы водорослей, которые придали пене такую странную окраску.
А от горизонта стремительно мчались навстречу «Новокуйбышевску» полчища растерзанных туч, словно сказочные чудища, на лету проглатывая друг друга.
— Не завидую я давешнему конфинансу, если он не сумел отремонтировать машину, — сказал Семен Ильич, зябко поеживаясь в своей тропической форме. — Идемте в рубку, доктор, — предложил он, — не то нас мигом просифонит…
В ходовой рубке среди бела дня был полумрак, и вахта включила освещение приборов.
— Карту погоды принимали? — спросил капитан у вахтенного штурмана.
— Только что приняли, Семен Ильич, в нашем районе ни одного паука, ответил Рудяков.
Татьяна уже знала, что пауками на морском жаргоне называются графические изображения циклонов.
— Как барометр?
— Держится.
— Значит, в вороночку угодили, — сделал вывод капитан. — Везучий, видно, этот конфинанс…
«Дался ему злосчастный панамец, — мысленно усмехнулась Татьяна, задел какую-то больную струнку капитанского самолюбия».
Ясность внес сам Семен Ильич:
— В сорок девятом в Каттегате мы тоже потеряли управление. Лопнул штуртрос. Штормишко был приличный, потому я попросил встречного шведа подержать меня буксиром на волну, пока я цепочку склепаю. Охотно, стервец, согласился, держал-то всего ничего: полчаса вместе с заводкой буксира. А потом шведы прислали нам счет за спасение судна от гибели… Мол, когда б не они, русский пароход выбросило на камни острова Лесе. Сумма, разумеется, сногсшибательная. Судиться пришлось. Хорошо, что штурмана у меня были толковые, вахтенный журнал оформили как следует. Присудили шведам ноль целых хрен десятых от того, что заломили…
Судно стало заметно покачивать, а из сгрудившихся над мачтами туч ударил дождь похлестче утрешнего. Тот был почти в безветрие, а сейчас шквал удесятерил силу дождевых струй, и они стучали в рубочное стекло будто пулеметные очереди.
— Вот тебе, чиф, и пожарная тревога, — сказал капитан поднявшемуся на мостик Алмазову. — Тут в пору водяную объявлять…
— Человек предполагает, а стихия располагает, — резюмировал старпом, в тоне которого не чувствовалось огорчения. — Доктор, — обратился он к Татьяне, — вас помпа ждет в кают-компании.
— Кто ждет? — переспросила она.
— Кузьма Лукич, первый помощник. Работу вам какую-то нашел.
Татьяна торопливо сбежала вниз.
Воротынцев был не один, рядом с ним сидел председатель судового комитета электромеханик Александр Александрович Сидорин, очень степенный и немногословный человек средних лет, которого в экипаже уважительно звали Сан Санычем.
— Извините, доктор, что потревожили вас, — с затаенной насмешкой глянул на нее помполит. — Однако вы сегодня достаточно отдохнули, приняли водные процедуры, солнечные ванны. Пора и за работу…
— Кто-то заболел? — встревожилась Татьяна.
— Нет, у вас по-прежнему два пациента — Томп с бессонницей и Рудяков с травмой…
«Так вот кто заглядывал в кормовую рубку, — сообразила Татьяна. Интересно, отчего ему самому не спится?»
— Надеюсь, вы знаете, что по функциональным обязанностям вам положено следить за порядком в каютах членов экипажа?
— Но здесь не детский сад, Кузьма Лукич… — начала было Татьяна, но помполит остановил ее.
— Во-первых, товарищ первый помощник, а во-вторых, не мы с вами выдумывали функциональные обязанности, не нам с вами их нарушать… Чтобы вам не было неловко, мы с товарищем Сидориным составим вам компанию… Начнем с ваших, Александр Александрович?
Предсудкома неопределенно передернул плечами, вряд ли ему нравилась затея помполита.
Татьяна сделала новое открытие: стандартные каюты отличаются одна от другой характерами и склонностями их хозяев. В каюте одного из электриков она увидела небрежно заправленную постель, оборванные петли альковной занавески. Из плохо закрученного крана сочилась тоненькая струйка воды. Даже портрет Блока на переборке был немного перекошен. Татьяна припомнила матроса — резкого, нетерпеливого, вечно куда-то спешащего. Вот уж не подумала бы, что тот увлекается поэзией.
В каюте самого предсудкома был идеальный порядок. Белая полоска простыни поверх одеяла, аккуратно взбитые подушки. На полке выстроенные по ранжиру книги, а над столиком множество семейных фотографий. Во всем чувствовалась степенная предусмотрительность.
— Что за почтенная компания? — послышался в коридоре голос Яна Томпа.
— Комиссия по проверке порядка в жилых помещениях, — пояснил Воротынцев.
— Тогда прошу в гости! — распахнул дверь каюты второй механик.
Татьяна даже немного растерялась, перешагнув порог. На множестве прилаженных к переборке полочек стояли диковинные раковины и кораллы, с подволока на шнурке свешивалось круглое чучело рыбы-ежа. Рыба легонько покачивалась, и казалось, она парит в воздухе на расправленных плавниках. Между полок закреплена перламутровая рамочка с женским портретом. Татьяна взглянула и поняла — это мать Яна. Постель была смята, на ней недавно лежали поверх одеяла.
— Ну и сколько паллов поставит мне комиссия? — добродушно улыбнулся Ян. Его забавное «паллов» вызвало ответную улыбку Татьяны.
— У вас здесь что, филиал музея? — спросила Татьяна.
— Передвижная выставка, — подыграл ей Томп.
— А как называются ваши раковины?
— Вот это кассис или зубатка, это стромбус гигантус, у нас его называют крылаткой, это рог тритона…
— Спасибо за лекцию по океанологии, — перебил его помполит, — но нам надо продолжать осмотр кают…
Он повернулся и вышел в коридор. Раздосадованной Татьяне пришлось последовать за ним.
Глава 14
После пробного выхода крейсер встал на ревизию механизмов, а Сергей Урманов получил команду срочно оформляться в отпуск.
В медсанотделе ему предложили одну-единственную путевку в дом отдыха Дивноморск, бывший Фальшивый Геленджик. Сергей был наслышан, что место это довольно скучное, из удовольствий — купание и рыбалка.
«Давно не держал в руках удочки», — подумал он и согласился.
Сдав дела старпому Саркисову, Сергей в тот же день сел на поезд. Ехать он решил до Севастополя, там остановиться, побывать на могиле отца, навестить знакомых, а затем теплоходом махнуть до Новороссийска.
Соседями по купе у него оказались три разговорчивые старушки; чтобы избежать их докучливых расспросов, Сергей светлое время проводил в коридоре и в ресторане, где, на удивление, всю дорогу было свежее пиво.
Домой с вокзала Урманова подбросил «левак», очередь на такси оказалась, как всегда, безнадежно длинной.
— С морей или в моря, командор? — спросил шофер, наметанным глазом опознав в нем моряка.
— В отпуск, — коротко ответил Сергей.
— Отпуск — доброе дело, — заметил шофер и тоже замолчал.
Возле своего дома на Корабельной стороне Урманов протянул ему трешку, но шофер обиженно оттолкнул протянутую руку.
— Со своих не беру, — обнажил он в ухмылке два моста золотых зубов. Сам четыре года на «кривой грубе» служил.
Благородный «левак» развеселил Урманова, которому довелось в курсантские времена побывать на линкоре «Севастополь», прозванном на флоте «кривой трубой». С этим, некогда грозным кораблем, давно уже переплавленным, связывали десятки забавных историй.
Одна из них случилась якобы, когда еще линкор был броненосцем и носил андреевский флаг. Однажды на корабль прибыла важная комиссия во главе с армейским генералом. Человек педантичный, он, ложась почивать, выставил свои сапоги с бутылочными голенищами за дверь каюты, дабы к утру их почистили. Когда же его превосходительство проснулось, то сапог за дверью не обнаружило, а перепуганный вестовой лишь беспомощно разводил руками.
На броненосце произвели повальный обыск, но имелось в его чреве столько шхер и укромных закутков, что не только сапоги — живую корову можно было спрятать. Расстроенный командир долго и бесполезно оправдывался перед разъяренным начальством.
Другой такой пары генеральских сапог во всем Гельсингфорсе не оказалось, и пришлось важному чину сидеть в войлочных тапочках до тех пор, пока расторопный сапожник-финн не стачал новую пару. Пропажа нашлась год спустя в кожухе знаменитой кривой трубы за фок-мачтой, но от высокой температуры сапоги скукожились и превратились в мумии…
Правда, всему флоту известны были и славные страницы биографии корабля-ветерана. И единоборство со страшным декабрьским ураганом в 1929 году, и губительные удары главным калибром по занятому фашистами берегу в Великую Отечественную…
В кают-компании линкора висела большая картина. Среди бушующих волн, страшно накренясь и отчаянно дымя трубами, «Парижская коммуна» («Севастополем» линкор стал в 1943 году) шла через «кладбище кораблей» так еще в парусном флоте прозвали Бискайский залив.
В конце сороковых годов на корабле еще оставалось несколько сверхсрочников — свидетелей памятного перехода вокруг Европы с Балтики на Черное море. Самым приметным из них был мичман Выхристенко, коренастый, почти квадратный здоровяк с выпирающим из-под кителя животом и сивыми прокуренными усами.
«Нас тогда так дюже расштивало, — рассказывал он курсантам, — что потом даже в Бресте возле причала наша „Парижанка“ долго еще трусилась. А в Бискайе волны, чертовки, трохи в трубы не заплескивались, шлюпки разбило и за борт смыло… Но мы не перетрухали, неньку ридну звать не стали! Меня тогда в самую лютую годыну приняли в нашу большевицкую партию… В тот ураган тьма-тьмущая судов загинула, а вот мы сдюжили…
Во французском Бресте подлатались и снова двинулись через тот бисов Бискайский залив. А он, видать, не совсем дурной, геройство ценить умеет, ластился на этот раз к бортам, что твоя кошка… Прошли мы под прицелом английских пушек Гибралтар-проливом и через неделю дивились уже италийским мистом Неаполем, что лежит под вулканом Везувием… Потом мы ездили на остров Капри, где была у нас зустричь с письменныком Максимом Горьким…»
Урманов невольно улыбнулся, вспомнив осанистого мичмана, которого матросы любовно окрестили «дядькой Тарасом».
— Вы помните мичмана Выхристенко? — спросил он водителя.
— Моржа-то? — живо откликнулся тот. — Кто ж его не помнит!
— Он еще жив?
— Что ему сделается! Он как дуб мореный. Вот услышите, в полдень пушка бабахнет, так знайте, это дядька Тарас палит. Можете часы проверять, будет секунда в секунду двенадцать…
В отцовской квартире проживала теперь Софья Ниловна Урманова — тетка Сергея, старая дева, шустрая и сноровистая женщина, за которой водился единственный малый грешок: даже после шестидесятилетия она не рассталась с косметикой.
Сергей любил свою тетушку, только стеснялся с ней под руку ходить, казалось, что прохожие усмехаются.
По всегдашнему обычаю он заявился без телеграммы, повергнув Софью Ниловну в смятение.
— Опять ты как снег на голову, Сержик! — восклицала она, оставляя на щеках племянника следы яркой помады. — А у меня, как на грех, холодильник совсем пустой!
— Пустяки, тетя Соня, — успокаивал он ее. — Надеюсь, не все рестораны Севастополя на ремонте…
— Не люблю я общепитовские харчи, — притворно вздыхала тетушка, но Сергей знал, что его предложение принято с удовольствием, Софье Ниловне нравилось бывать на людях.
В первый же день они поехали на морское кладбище.
Как только юркий морской трамвайчик выгреб за Павловский мысок, на высоком берегу Северной бухты открылась кладбищенская часовня со сбитым бомбой куполом, и сердце Урманова тоскливо сжалось. Он вырос без матери, она осталась осенью сорок первого на потопленном фашистами госпитальном судне, потому отец был дорог ему вдвойне. На отца Сергей равнялся, отцом гордился.
Он никогда не спрашивал отца, почему тот не женился снова, но догадывался, что сам тому причиной. Домашнее хозяйство вела Софья Ниловна, которая после войны навсегда перебралась в Севастополь, чтобы быть рядом с братом и племянником.
— Дальше поедем на автобусе или пешком пойдем, Сержик? — спросила тетушка, когда трамвай ошвартовался к пристани.
— Как вам лучше, тетя Соня, — ответил Урманов. Раньше они всегда ходили на кладбище по тропке через каменистое взгорье холмов по-над бухтой.
— Ты что, совсем в старухи меня записал? — деланно возмутилась Софья Ниловна. — Я еще могу козой припустить вприпрыжку!
Она на самом деле выглядела молодо, худощавая, в белой блузке и черном платке, наброшенном на узкие плечи.
Сергей, поддерживая за локоть, помогал ей взбираться по крутым галечным осыпям, терпеливо ждал, пока она отдышалась на самом взлобке.
Они вышли не к центральным воротам кладбища, а к боковой калитке, за которой была большая братская могила экипажа корабля, погибшего в Севастопольской бухте.
— Молоденькие-то какие все были… — вздохнула Софья Ниловна, прочитав надпись на пирамидальном обелиске.
Пройдя мимо обросших мхом могил участников первой обороны Севастополя, Урманов с теткой подошли к ограде из якорной цепи, внутри которой стоял памятник в виде маленького маяка.
Софья Ниловна отворила тихонько дверцу ограды, вошла и расслабленно опустилась на колени.
— Братец мой любимый, — негромко запричитала она. — Сына я к тебе привела, кровиночку твою единственную, а ты не встанешь нам навстречу, не откроешь свои глазоньки…
— Тетя, милая, успокойтесь, — тронул ее за плечо Сергей, сам едва сдерживая слезы. Он вынул из дорожной сумки чуть примявшийся букет роз, фляжку с водой, наполнил вкопанную возле памятника банку, поправив цветы, установил букет.
Седьмой год пошел с того дня, как под траурный залп салюта опустили в могилу накрытый военно-морским флагом гроб отца, но в сознании Сергея он оставался живым, часто слышался его бодрый даже во время смертельной болезни голос: «Сыновья должны идти дальше отцов… Не успокоюсь до тех пор, пока не увижу тебя адмиралом!..» Насчет адмирала еще вилами по воде писано, но как бы порадовался отец, увидев его командиром лучшего корабля флота…
Двумя днями спустя Софья Ниловна провожала племянника на морском вокзале.
— Вот уже и сединки у тебя появились, Сережка, — вздохнула она, трогая пальцем его висок. — А знаешь, чем ты старше становишься, тем больше походишь на Прошу. Смотрю вот на тебя, и кажется мне, что сейчас не шестьдесят шестой год, а тридцатый и провожаю я брата на далекий его Дальний Восток…
Ты уж черкни мне иногда весточку, Сержик, не обижай. Мы же с тобой самые близкие люди на этом белом свете…
Он пристыженно отвел глаза. Это было его слабым местом; не любил писем, без того хватало писанины — уйма разных журналов, отчетность по стрельбам и минным постановкам, ремонтные ведомости, донесения, рапорты, акты…
Рейс Одесса — Батуми со всеми заходами в промежуточные порты совершал теплоход «Петр Великий» — один из ветеранов Черноморского пароходства, небольшой, но ладный, с компактными надстройками. По летнему времени он был загружен под завязку, верхняя палуба пестрела от пассажиров. С трудом Урманов раздобыл билет в трехместную каюту вместо положенного ему первого класса.
Он взбежал по трапу, когда теплоход дал первый отходной гудок. Постоял возле борта, помахал рукой вытирающей глаза платочком тетушке, а уж потом спустился в каюту.
Открыл дверь и обалдело замер у порога: в кресле, возле откидного столика, сидела Кармен. Только несколькими секундами спустя сообразил, что обознался, но до чего же незнакомая женщина походила на Ирину Снеговую, ныне Русакову! Такая же смуглая, глазастая, гибкая. «Ну, старик, — придя в чувство, подумал Урманов о себе. — Плохи твои дела, коль стало мерещиться…»
В каюте был еще один пассажир, военный летчик с погонами старшего лейтенанта. Чуть погодя Сергей понял, что его попутчики — муж с женой.
— Алла, — представилась женщина.
— Леня, — поднялся с кресла ее супруг.
— Сергей Прокофьевич, — назвался Урманов.
— Вам никогда не приходилось бывать в Сен-пенске? — спросила Алла, когда прошла неловкость первых минут знакомства.
— Бывал, и не раз, — ответил Урманов, вспомнив маленький пыльный городок на побережье.
— Ну и как там? — заинтересованно потянулась к нему женщина. Понимаете, мы служить туда назначены…
Сергей только одобрительно улыбнулся на это ее «мы служить» — так говорят все офицерские жены, извечный удел которых — отдаленные точки, тюленьи губы да медвежьи углы.
— Как и везде, — сказал он. — Друзей заведете — не соскучитесь.
— Значит, жить можно? — обрадованно тряхнула пышными волосами Алла. Особым женским чутьем она поняла, что спрашивать попутчика о ценах на частное жилье и продукты питания бесполезно.
Едва теплоход вышел на внешний рейд, как его стало заметно уваливать. Урманов еще на причале обратил внимание на то, что погода свежеет.
— Палубных пассажиров просим уйти во внутренние помещения, озабоченно пророкотал спикер.
— Будет шторм, да? — испуганно пробормотала Алла.
— Ветер усиливается, — сказал Урманов.
— Вы, наверно, моряк? — с завистью в голосе спросила женщина.
— Станет укачивать, ложитесь на койку, — посоветовал Сергей. Старайтесь отключиться, ни о чем не думать и заснуть.
— Спасибо, — прошептала она.
Муж ее сидел безучастно, но побледневшие щеки и пот, выступивший на лбу, выдавали первые признаки морской болезни.
Урманов знал, что многие летчики не переносят корабельную качку, как и некоторые моряки неуютно себя чувствуют при воздушной болтанке.
Он поднялся и вышел, чтобы дать им возможность раздеться и лечь, а заодно решил заскочить в буфет попросить парочку лимонов для своих попутчиков. Фруктов не оказалось, зато бармен продал ему увесистую копченую скумбрию. Попутно прихватил Урманов столовый нож.
Из бара выбрался на шлюпочную палубу, непривычно пустую, лишь возле дымовой трубы валялась забытая кем-то игрушка — резиновый крокодил. Сергей поднял его, сунул в карман, надеясь возвратить маленькому хозяину.
Сизые брюхастые облака почти цеплялись за мачты «Петра Великого», разбойничьи посвистывал разгуливающийся мордотык — северо-восточный ветер, гнал по морю стада пенных барашков. Урманов послюнил и поднял вверх большой палец, подержал на ветру, но палец так и остался влажным. То была старая верная примета на усиление непогоды.
Он усмехался в ответ на разглагольствования некоторых мариманов, называвших Черное море «мандариновым», ибо знал коварный норов бывшего Понта Эвксинского. Здесь на памяти людской разыгрывались такие трагедии, которым могут позавидовать и буйная Атлантика, и Великий, но отнюдь не Тихий, океан. Вспомнить, к примеру, черную пятницу 24 ноября 1854 года. Тогда невиданный ураган разметал и потопил возле Балаклавской бухты тридцать кораблей союзного флота, доставивших подкрепления, боеприпасы и провиант войскам, осаждавшим Севастополь.
Спускаясь вниз по внутреннему трапу, Сергей снова услышал хрипловатый голос по спикеру:
— Товарищи пассажиры, из-за штормовых условий захода в порт Ялта не будет. Следующим до Ялты предоставят автобусные билеты из порта Феодосия.
«Вот шутники, — недоуменно размышлял Урманов. — Не могли отправить ялтинцев автобусом из Севастополя. Петуху на плетне было ясно, что надвигается шторм».
Соседи по каюте тихонечко лежали в своих койках, последовав его совету. Зашторенный иллюминатор создавал иллюзию сумерек. Поддавшись этой иллюзии, Сергей тоже разделся и зарылся в чистые, чуть влажные простыни.
Сны подступили морские. Он увидел себя на мостике «Летучего», который, оправдывая свое название, птицей взлетал на гребни бушующих волн, острым форштевнем распарывая их надвое. Все вокруг ревело и выло, а он стоял в рубке, чуть расставив ноги, и насвистывал:
Будет буря — мы поспорим,
И поборемся мы с ней…
Очнулся он вмиг от тревожного предчувствия. Раскачиваясь на волнах, старый теплоход ухал и скрипел, словно трещали все его ребра-шпангоуты, вдоль борта с шумом прокатывались злобные валы. В каюте стоял резкий запах сырости.
Сергей рывком отшвырнул простыню, свесил ноги с койки. Спросонья сначала не мог понять, что за странная фигура на откидном столике возле иллюминатора. Но, сообразив, одним прыжком перемахнул полкаюты. Просунув руки в иллюминатор, сжал голову женщины и вызволил ее из круглой дыры.
— Сумасшедшая! — заорал он. — Что вы делаете!
Она обмякла на его руках. В чем был, босой, Урманов помчался со своей ношей в лазарет.
Судовой врач, усатый пожилой мужчина, не потребовал объяснений. Разорвав тесный ворот ситцевого платья, он приник ухом к груди женщины.
— Жива, — облегченно выдохнул врач. — В обмороке.
— Она не захлебнулась? — спросил Сергей.
— Не успела, просто нервы не выдержали…
Усач отбил горлышко какой-то ампулки, набрал полный шприц.
— Помогите, — приказал он Урманову. Сделав укол, поднес к носу пациентки склянку с нашатырем.
Она зашевелилась, обеспокоенно подняла голову с кушетки.
— Где я?
— Вы в корабельном лазарете, — успокоил ее усач. — А я доктор.
— Почему я здесь? — снова простонала она, поправляя рукой оторванный клок платья на груди.
— Потом, потом, милочка, — склонился над ней врач. — Пока полежите тут у меня, оклемайтесь немножко.
— Нет, нет! — запротестовала она, поднимаясь и садясь на кушетке. — Я хочу домой, к мужу…
— Как хотите, — равнодушно буркнул усач. — Только не делайте больше глупостей.
— Я отведу ее, доктор, — сказал Урманов.
— Можете даже отнести, — хмыкнул врач, казалось, совсем потерявший интерес к происходящему. — Только наденьте мои тапочки.
— Мне ужасно, просто нестерпимо захотелось глотнуть свежего воздуха, — объясняла в коридоре Алла. — Я отвинтила крантик, открыла это круглое окошко, высунулась… и дальше ничего не помню.
— Но вам запросто могло срезать голову, — поддерживая ее на трапе, укоризненно сказал Сергей.
— Срезать голову? Водой? — удивилась она.
— Вот именно. Вы не видели, как эта вода разрывает и скручивает в бараний рог корабельное железо.
— Ой, мне снова плохо, — хватаясь за него, простонала женщина. Скорее ведите меня в кровать…
Но сразу уложить ее в постель не удалось. В каюте было по щиколотку воды, мокрый Леня вычерпывал воду пепельницей в раковину умывальника.
— Откуда ты в таком виде? — недобро глянул он на жену. — И кто открыл иллюминатор?
— Леня, Ленечка! — с плачем кинулась ему на грудь она. — Сергей Прокофьевич жизнь мне спас!
Когда ясность была внесена и общими усилиями каюту осушили, летчик рассказал Урманову о происшедших без него событиях. Старшего лейтенанта окатило таким душем, что он пробкой вылетел из постели. Решил поначалу, что теплоход тонет. Потом возле иллюминатора его вторично обдало с головы до ног. Только когда заделал «пробоину», обнаружил исчезновение жены и соседа.
— Вы не думайте, Сергей Прокофьевич, ничего плохого мне в голову не пришло, — смущенно оправдывался Леня. — Просто растерялся: где вы можете быть ночью и в такую погоду?..
Жена не слышала его объяснений, она заснула прямо на мокрых простынях, при ярком свете каютного плафона. С лица ее исчезла страдальческая гримаса, черты его сгладились, просветлели, и она снова очень напомнила Урманову Кармен.
— Мы теперь на всю жизнь вам обязаны, — продолжал говорить старший лейтенант. — Адреса у нас пока нет, но когда у нас будет дом, двери его открыты для вас, как для родного… Знаете, у меня в чемодане есть бутылка спирта. Вы пьете спирт?
— Приходилось, — усмехнулся Сергей.
— Давайте по такому случаю…
Спать они так больше и не легли. Захмелев, летчик порозовел и перестал обращать внимание на качку. Под скрип и скрежет старого теплохода он рассказывал о детстве, которое прошло в таежном сибирском селе.
— Представьте, самолеты я видел только в кино, а чуть ли не с пеленок решил стать летчиком. В школе налегал на математику, физику, астрономию. Вступительные экзамены в Ейское авиационное училище сдал на пятерки… А какое чувство я испытал, когда первый раз взлетел в небо, мне и не пересказать. Два раза в жизни я был так идиотски счастлив, в тот раз и еще когда Алла, — он нежно поглядел на спящую жену, — согласилась выйти за меня…
Урманова хмель не брал. Он слушал откровения старшего лейтенанта Лени и в глубине души завидовал ему. Парню лет двадцать пять, не больше, а у него все уже устроено как надо. Любимое дело, красавица жена, похоже, кого-то третьего ожидают в недалеком будущем… «А у тебя, — иронизировал он над собой, — у тебя виски седеют, и до сих пор ни кола ни двора. И вряд ли когда-нибудь заведешь семью, потому что уводят невест из-под твоего носа другие. Хотя, шалишь, счастливый Леня, что касается любимого дела мы с тобой потягаемся! Не знаю, кем ты будешь в мои годы, но крейсер приравнивается к пехотной бригаде!»
— Вы, случаем, не вертолетчик? — спросил он растрогавшегося попутчика.
— Нет, я морской разведчик. А что?
— Взял бы на свой крейсер, у меня будет палубный вертолет, — не выдержав, похвастался Сергей.
— Так вы командир крейсера? — округлил глаза старший лейтенант. — А я с вами этак вот запросто…
— Бросьте условности, Леня, — усмехнулся Сергей.
Качка между тем заметно приутихла, теплоход перестал стонать и жаловаться на старость, слышен стал мерный шум машины, который раньше забивался скрипом и скрежетом.
— Похоже, прошли Киик-атламу, — сказал Урманов, отшторивая иллюминатор. — Скоро и Феодосия.
За круглым стеклом занималось серое дрожащее утро. Возле борта мирно колыхались зыбкие валы, растерявшие неистовую свирепость.
Небо было хмурым, но среди свинцовых туч белесыми озерками маячили первые прогалины. За кормой теплохода на воду садились чайки.
— Если чайка села в воду — жди хорошую погоду, — сказал Леня.
Еще через час «Петр Великий» пришвартовался к внутренней стенке Широкого мола Феодосийской гавани.
Подали трап, и на берег жиденькой цепочкой потянулись измученные качкой пассажиры.
Палубная команда теплохода спешно вооружала пожарные шланги для окатывания водой коридоров и надстроек.
А в трехместной каюте разыгрался новый акт маленькой драмы. Алла наотрез отказалась плыть дальше на теплоходе.
— Лучше пешком по берегу пойду, — заявила она. — И детям закажу подальше держаться от моря…
На прощание молодая женщина так крепко поцеловала Сергея в губы, что у него перехватило дыхание.
Глава 15
Среди ночи «Новокуйбышевск» миновал Багамские острова. Татьяна сожалела, что не удалось увидеть их, уж очень завлекательно звучали названия: Эльютера, Нью-Провиденс, Андрос, Большой Абако… Веяло от них романтикой Стивенсона и Джозефа Конрада.
Масла в огонь подлил Ян Томп своим рассказом о рыскавших в этих местах корсарах, пиратах и флибустьерах с «Веселым Роджерсом» — флагом с черепом и перекрещенными костями — на мачтах кораблей.
Запомнилась Татьяне байка о некоем Гаспарилле, который дерзко грабил испанские купеческие галеоны, набитые золотом и серебром. Гаспарилла был умен и удачлив, потому долго оставался безнаказанным, пока губернаторы американских колоний не назначили за его поимку мешок золотых дублонов, равный весу его буйной головы. Это добавило прыти испанским капитанам, они стали еще усерднее охотиться за неуловимым флибустьером. И вот однажды отвернулось капризное счастье, в Мексиканском заливе его настигли два военных корабля. Отчаянно дрались «джентльмены удачи», не желая болтаться на реях в королевских ошейниках, их меткие залпы изрешетили паруса и борта преследователей. Но силы были неравными, после двухчасового боя корабль Гаспариллы на полном ходу зарылся носом в волны и был проглочен пучиной.
Победители же взяли курс на Сант-Августин во Флориде, где рассчитывали получить обещанный презент. Каково же было их удивление, когда, принявшись шпаклевать пробоины, они обнаружили в некоторых из них золотые и серебряные слитки! Видимо, у флибустьеров кончился запас ядер и они бросали в раскаленные жерла пушек драгоценную добычу.
«Там, где блещет золото, всегда рекою льется кровь, — утверждает старинная мексиканская песня. — Золото и кровь всегда рядом, как любовь и ненависть, как добро и зло, как жизнь и смерть…»
Томп пропел этот куплет по-испански, а уж после перевел на русский язык. Татьяна знала, что механик больше года провел на Кубе, помогал бывшим бородачам-барбудос осваивать судовые двигатели.
— В Гаване у меня много друзей, — говорил он Татьяне. — Я вас с ними обязательно познакомлю.
— Только друзей? — с улыбкой взглянула на него Татьяна. — А мне говорили, что на Кубе очень красивые девушки.
— Самые красивые девушки на острове Сааремаа, — смущенно улыбнулся Томп.
Утром в лазарет к Татьяне заглянул второй помощник Рудяков. Дня два назад она сняла секонду швы и вместо повязки пришлепнула круглую наклейку. Сегодня она убрала и наклейку, внимательно рассмотрев синевато-розоватый шрамчик на тыльной стороне ладони Рудякова.
— Вы не находите, доктор, — игриво подмигнул ей секонд, — что мой шрамчик напоминает след поцелуя? Всю жизнь он будет памятью о вас!
— Только не сознавайтесь своей жене, Марк Борисович, — усмехнулась Татьяна.
— Ей говори не говори, все равно будет ревновать даже к мачте! отшутился он.
— Ревнует — значит, любит.
— Жена — мой главный выигрыш в жизненной лотерее, — сказал Рудяков, обретая свой всегдашний невозмутимый вид.
Выпроводив пациента, Татьяна раскрыла взятую из судовой библиотечки книгу — томик стихов Николаса Гильена, открыла на заложенной бумажкой странице.
Исхлестана злыми валами и легкою пеной украшена, качается Куба на карте: зеленая длинная ящерица с глазами, как влажные камни…
Прочла и еще раз оценила ажурную образность и мелодичную прелесть стиха. Мысленно поблагодарила Яна Томпа, по совету которого она открыла для себя Гильена, и вообще Ян помаленьку приобщал ее к поэзии.
Но ты, у берега моря стоящий на крепкой страже морской тюремщик, запомни валов нарастающих грохот, язык языков пожара и ящерицу, что проснулась, чтоб вытащить когти из карты!
Вчера помполит провел беседу об острове Свободы, на землю которого они вскоре должны были ступить. Татьяна слушала его и думала о многострадальной истории живущего посреди моря небольшого народа. Почти триста лет грабили его богатства потомки испанских конкистадоров, потом на смену им пришли еще более алчные захватчики — североамериканские империалисты. Они подчинили себе экономику страны, навязали ее народу ненавистный компрадорский режим… Татьяна улыбнулась, вспомнив, с каким смаком произносил Воротынцев звучные чужеземные слова: «конкистадоры», «компрадорский», «гирильерос», «мамби»… И в самом деле, слова эти, дома прозвучавшие бы манерно и выспренне, здесь были как нельзя более кстати.
В открытый иллюминатор ворвался вдруг близкий рокот авиационного мотора. Татьяна захлопнула книгу и поспешила наверх. Выбежала на левое крыло мостика, по которому озабоченно прохаживался старпом Алмазов.
— Над нами пролетел самолет? — спросила его Татьяна.
— Американец, — буркнул старпом. — Едва мачту не снес. Экономическая блокада Кубы в действии. Пужают, нервы наши испытывают. Гляньте вон туда, — протянул он ей бинокль, — два серых волка зубы скалят…
Татьяна навела бинокль в указанном направлении и увидела хищные силуэты двух военных кораблей со скошенными назад трубами, они неслышно двигались, окутанные белыми полосками бурунов, словно действительно крались за добычей.
— Отсалютовать флагом! — подал команду Алмазов. Алое полотнище на мачте медленно скользнуло вниз, секунду задержалось на половине и снова заплескалось вверху. Пестрые, как пижамы, флаги военных кораблей даже не дрогнули.
— Спесивые невежи, — презрительно бросил старпом. — По международному праву нам положено салютовать первыми, — пояснил он Татьяне.
— Но мы же торговое судно, — сказала она. — Чего они следят за нами?
— Заявят потом, что мы везли в трюмах ракеты, — усмехнулся Алмазов.
Один из преследователей заметно прибавил ходу, так что пенные усы вспухли возле его носа. Из трубы вырвалась в небо шапка бурого дыма.
— Топлива не жалеют, — сказал старпом.
Американец стремительно приближался. Уже стал слышен надсадный свист его вентиляторов.
Возле репитора гирокомпаса, напряженно согнувшись, замер помполит Воротынцев, судорожно сжав пальцы на рукоятках пеленгатора, словно на пулеметной гашетке. Губы его беззвучно шевелились…
А Татьяна не отрываясь смотрела на догоняющий их серый корабль, и ей казалось, что вот-вот спустит он полосатый, похожий на пижаму флаг, и на мачте взовьется черный, с черепом и костями…
Сторожевик настиг «Новокуйбышевск», пошел с ним борт в борт, держась на расстоянии полутора кабельтовых.
Простым глазом было видно людей, стоящих на крыле ходового мостика. Вместо пиратских шляп и пестрых балахонов на них были военные фуражки с большущими козырьками и легкие регланы с откинутыми на спину башлыками.
Пушки и торпедные аппараты военного корабля были развернуты в сторону мирного советского судна.
— Будет останавливать? — встревоженно спросил помполит.
— Не думаю, — ответил капитан Сорокин. — Мы же, кажется, не воюем с Соединенными Штатами Америки.
Сторожевик вдруг снова увеличил скорость, резко отвернул вправо.
— Желают счастливого плавания! — сообщил из радиорубки Юра Ковалев. Дали по международке.
— Ну нет, — грозя кулаком в сторону уходившего американца, сердито рявкнул Алмазов. — Будь я командиром военного корабля, посмотрели бы, чьи нервы крепче!
— Нельзя поддаваться на всякую провокацию, — уже спокойно заметил Сорокин.
— Но и хвост поджимать — мало чести! — огрызнулся старпом. — Мы слишком боялись дать повод к провокации в сорок первом, — многозначительно взглянул на капитана Алмазов. — А потом боком вышла нам эта осторожность, немало напрасной кровушки пролили.
— Вы-то, положим, пороху не успели понюхать, — попытался срезать его Воротынцев. — Но поверьте бывалым фронтовикам, если бы мы дали повод развязать войну годом раньше, было бы еще тяжелее.
— Куда уж больше! — буркнул Алмазов. — Двадцать миллионов положили…
Американские корабли, выполнив, свой психологический эксперимент, скрылись за горизонтом, море опять стало мирным и тихим, только большие черноголовые чайки с криком кружились за кормой «Новокуйбышевска».
— У меня такое чувство, — заговорил капитан, что сейчас не шестьдесят шестой год, а сорок первый. Получилось какое-то странное смещение времени и пространства. Будто мы не возле Кубы, а около Готланда на Балтике… Двадцатого июня нас там прихватили два немецких эсминца. Я тогда плавал грузовым помощником на старом пароходе «Вильянди», приписанном к Таллинскому порту. И экипаж у нас был на две трети из эстонцев, народ разный, малознакомый. Шлепали мы порожняком в ремонт, а перед этим неделю простояли в Бремерхафене, что в устье Везера, сдали партию зерна. Не стану врать, как некоторые, что почувствовали мы что-то особенное в отношении к нам портовой администрации, немцы к нам и раньше по-доброму не относились… Так вот, вышли мы в Балтику, тащимся почти по воздуху, едва винт водой прикрыт, парадным своим ходом шесть с половиной узлов, и вдруг нагоняют нас на всех парах немецкие корабли. Берут с двух сторон в клещи, играют боевую тревогу, пушки на нас наводят. А потом устремляются в самую настоящую торпедную атаку. Мы понять ничего не можем, застопорили ход, болтаемся как глыза в проруби, а они торпед не выпускают, просто пролетают один по носу, другой по корме. Кое у кого из наших нервишки не выдержали, сиганули они прямиком за борт, Пришлось потом шлюпку спускать и мокрых из воды вылавливать… Капитан наш, ныне покойный, хотел по приходе в Таллин официальный протест заявить, но пока мы туда пришлепали, жаловаться стало не на кого — война началась…
— А я ее встретил на Дунае, — после паузы вступил в разговор помполит Воротынцев. — Был заряжающим на зенитной батарее. Мы открыли огонь по врагу первыми, а отступили с границы последними. Мало кто теперь знает про то, что мы выполнили довоенный девиз: бить врага на его территории. В первые же дни войны захватили плацдарм на правом, румынском берегу. Нам посчастливилось увидеть, как смазывают пятки вражеские вояки. И первую пулю я получил в грудь там, на чужой земле…
Помполит говорил с нескрываемой гордостью, обратив взор на старпома. И Татьяна подумала, что очень хорошо, когда человеку есть чем гордиться.
— Ну а я на войну маненько опоздал, по пачпорту не подошел в солдаты, — не выдержав этого взгляда, шутливо развел руками Алмазов.
С левого борта открывалась группа зеленых коралловых островков, парящих над водой, словно зыбкое марево.
— Дабл-Ходед-Шот-Кис, — старательно выговаривая чужие слова, кивнул в их сторону старпом. — В переводе с английского острова Двойного Горячего Смертельного Поцелуя.
— Вот загнул! — добродушно хохотнул капитан. — Нашему молодцу везде чудятся поцелуи.
Помполит же нахмурился и покосился на Татьяну, словно она была причиной игривого старпомовского настроения. Уже не в первый раз Татьяна ощущала неприязнь этого сурового человека. Она пыталась говорить об этом с Томпом, но Ян ответил уклончиво: «Не берите в голову, доктор! Первый помощник новый человек на море, поплавает, пообвыкнет и обтешется. Море не любит угрюмых и нелюдимых!»
В последнее время Татьяна тяготилась вынужденным бездельем. После Рудякова к ней за все время обратились только двое матросов; один с чирьем, другой с ячменем. Снятие пробы на камбузе трижды в день выглядело баловством по сравнению с длинной очередью пациентов возле кабинета участкового врача.
Татьяна стала искать себе работу, предложила помощь коку Варваре Акимовне, но та деликатно отказалась: «Ты комсостав, Татьяна, стало быть, должна свой авторитет блюсти. Картошку и без тебя есть кому почистить».
Каждое утро, прежде чем отправиться в душевую, она смотрела на себя в большое зеркало, и ей казалось, что мышцы ее дрябнут, кожа теряет свою упругость и эластичность. «Все, — решила как-то Татьяна, — после сна физзарядка на палубе до седьмого пота и дневной рацион придется ополовинить».
Она удивлялась странной метаморфозе, случившейся в ее жизни. Если в Куйбышеве и Москве она ломала голову над тем, как выкроить часок, чтобы сбегать к портнихе или в парикмахерскую в суматошной толчее дней, то теперь она не знала, куда девать свободное время. Попыталась читать медицинскую литературу, но, во-первых, она захватила на судно всего несколько самых необходимых книг, а во-вторых, почувствовала схоластическую бессмысленность такого самообразования. Она стала частенько прогуливаться по палубным коридорам и трапам, поставив целью довести ежедневный счет шагам до четырех-пяти тысяч. Но и тут вскоре заметила, что кое-кто с удивлением посматривает на ее бесцельные, казалось, упражнения.
Сейчас, на мостике, она не выдержала и спросила капитана:
— Скажите, Семен Ильич, зачем на таком судне, как наше, врач? Здесь и медсестре делать нечего…
Сорокин ответил не сразу. Прошелся по мостику, вернулся обратно и ободряюще тронул ее за локоть:
— Видите ли, доктор, у поморов издавна бытует пословица: идешь в море на день, харчей запаси на месяц. Потому-то на каждом судне хранятся неприкосновенные запасы на всякий крайний случай. Считайте, что и вы у нас вроде НЗ.
— Неприкосновенная в каком смысле? — криво усмехнулась Татьяна.
— А в таком, что в океане всякое может случиться. Слышали мы не раз о судах, чьи экипажи косила дизентерия. Не в нашем, конечно, флоте, а у тех, кто копейку жалеет на медицину. Да и мы однажды прихватили на чужом берегу гонконгский грипп, пятеро матросов неделю маялись в лазарете. И когда б не ваш коллега-эскулап, кто знает, чем бы все кончилось…
— Дорогое удовольствие возить сотни врачей на всякий пожарный случай!
— Жизнь человеческая у нас дороже любых денег. А вы уже свой хлеб отработали тем, что продырявили наши шкуры, — озорно улыбнулся капитан. Теперь нам не грозят те страшные осложнения, о которых вы предупреждали.
Помполит Воротынцев сердито передернул плечами в знак того, что не одобряет подобный разговор, но Сорокин продолжил:
— Да, да, Кузьма Лукич, не крутите так носом. Нам, морякам, надо быть сильными во всех отношениях, чтобы выдержать конкуренцию с береговыми хлыщами. Поплаваете сами с наше, поймете. Так что, доктор, — обратился он снова к Татьяне, — будьте нашим ангелом-хранителем!
Татьяна почти не слушала капитана, захваченная неожиданно пришедшей в голову мыслью.
— А что, если бы организовать международную скорую медицинскую помощь на морях-океанах? — выпалила она. — Курсировали бы на самых оживленных путях госпитальные суда с вертолетами на борту. Где-то что-то случилось, самое ближнее судно поднимает вертолет с бригадой врачей, оказывает помощь на месте или забирает больного к себе. Такое ведь вполне возможно, зато сколько других врачей не будут терять квалификацию!
— Разрешаю вам, доктор, обратиться с этим предложением в Организацию Объединенных Наций, — рассмеялся капитан. — Там есть морская консультативная организация — ИМКО, она как раз и занимается спасением на море.
Глава 16
Заезд в доме отдыха был тем самым, который на курортном жаргоне называют лебединым озером. Большинство отдыхающих — девушки и молодые женщины подшефного флоту предприятия. Зато мужская часть гораздо солиднее по возрасту, с преобладанием ветеранов-отставников. Самый лад крутануть на все тридцать два румба, но что-то претили Сергею джазовый раскардаш и суета на танцплощадке, потому охотно примкнул он к компании пожилых рыболовов.
Верховодил здесь отставной инженер-капитан первого ранга Мирон Алексеевич Миронов, сухощавый высокий человек с бритой и загоревшей до ракушечного цвета головой. В столовой он всегда появлялся в костюме с пестрым набором орденских планок возле лацкана пиджака.
Познакомился с ним Урманов в прокатном пункте спортивных принадлежностей, когда выбирал себе складное бамбуковое удилище.
— Вы какую рыбу намерены промышлять, молодой человек? — деликатно осведомился Миронов.
— Ту, что плавает по дну, для престижа хоть одну! — шуточной поговоркой ответил Сергей.
— Тогда можете привязывать лесу к кочерге, — серьезно заметил собеседник. — А если отважитесь пойти на форель, то рекомендую вон то удилище с гибким хвостом.
Урманов видел форель только в жареном состоянии, но серьезный рыбак ему сразу понравился, и захотелось познакомиться с ним поближе.
Миронов самолично оснастил для Сергея удилище лесой и белым луженым крючком из собственных запасов, а затем предложил ему стать членом артели «Рыбак-здоровяк».
Вставали на зорьке, прилаживали за спины рюкзаки и отправлялись в Джанхотскую долину на одну из быстрых горных речушек.
Артельщики оказались неутомимыми ходоками, и Урманову, который был лет на двадцать моложе каждого из них, тем не менее поначалу приходилось туго. Когда поднимались в гору до уловистых омутов, майку приходилось выжимать. А затем начиналось занимательное представление: прыгание по скользким обеленным валунам вдогонку за шустрой и привередливой рыбкой с пятнистой спинкой. Первые два раза Сергей возвращался назад с пустыми руками, но не считал, что напрасно потерял время. В горах возле стремительных прозрачных струй и дышалось и думалось легко.
— Знаете, Сережа, — обратился к нему Миронов, когда артельщики отдыхали на берегу перед обратной дорогой. — Вы мне очень напоминаете одного давнего сослуживца, фамилия его, к сожалению, вылетела у меня из головы. Но вы очень на него похожи. Отец у вас, случайно, не моряк?
— Он был капитаном первого ранга.
— Был… — задумчиво повторил Миронов. — О скольких людях нашего поколения приходится уже говорить в прошедшем времени… А ведь они жили, радовались и страдали…
— Отец умер в шестидесятом.
— А ему не доводилось ходить Северным морским путем?
— В тридцать шестом году он прошел из Ленинграда во Владивосток на эсминце «Сталин».
— Ага! Значит, склероз еще не всю мою память съел! Он был флагманским минером?
— Кажется. Я в ту пору пешком под стол ходил.
— Да, да! Он тогда был гораздо моложе, чем вы теперь.
— Отец был девяносто восьмого года рождения.
— А вы, если не секрет?
— Тридцатого.
— Выходит, загнул я маненько. Но когда на склоне лет вспоминаешь былое, сверстники представляются юношами. Так вот, я служил на этом же «Сталине» младшим инженер-механиком. И очень хорошо помню, как ваш отец, Сережа, здорово выручил весь отряд, когда нас затерло в ледяных полях Карского моря. Он высадился с подрывной партией и скалывал лед вокруг кораблей мелкими толовыми зарядами.
— Он об этом никогда не рассказывал.
— Не придавал этому факту значения. У нас тогда каждый что-то изобретал. Еще на заводе инженер Шиманский предложил усилить корпуса эсминцев по ватерлинии распорной деревянной обшивкой, поверх которой пустить прочные стальные листы. Получилось нечто вроде ледового пояса. А в конце пути чуть не остались мы в штормовом Чукотском море без топлива, но старший инженер-механик «Войкова» Василий Федотович Бурханов внес фантастическое предложение: вдувать в топку вентилятором к одной работающей форсунке обычную ржаную муку! И что вы думаете: подняли пар до марки. Своим ходом пришли в бухту.
— Отец сохранил фотографию начальника Главсевморпути Отто Юльевича Шмидта с дарственной надписью.
— Карасакал — так мы любовно звали Шмидта — много сил приложил, чтобы доказать возможность проводки военных кораблей Северным морским путем. В Великую Отечественную опыт этот нам пригодился. А тогда, в тридцать шестом, полагаю, не без участия Отто Юльевича наших командиров орденами наградили. Во Владивостоке наши пути с вашим отцом разошлись. Я остался на прежнем месте, а его сделали командиром сторожевика и перед войной перевели на запад. Напомните мне его имя-отчество…
— Прокофий Нилыч.
— Верно! А фамилия у него была сибирская…
— Урманов.
— Точно. Я очень рад, Сережа, что дело своей жизни он передал вам, что не засохло древо его рода… — Миронов вздохнул.
— А у вас, Мирон Алексеевич, есть дети? — не почувствовав перемены его настроения, спросил Урманов.
— Были два сына: Леша и Антон, близнецы. В сорок третьем со школьной скамьи ушли на фронт, воевали в одном экипаже самоходки. А в сорок пятом под Кенигсбергом оба моих солдата в одночасье…
— Простите, Мирон Алексеевич… — растерянно пробормотал Урманов.
— Ничего, Сережа… Эту мою рану ни растравить, ни заживить уже нельзя…
На обратном пути Сергей намеренно приотстал, после рассказа Миронова хотелось побыть одному, подумать об отце.
В зыбком тумане пережитого растворились многие впечатления детства, но встречу кораблей, прошедших Северным морским путем, он помнил отчетливо.
Он стоял в толпе встречающих на причале, держался за руку матери, но ничего не видел, пока дядя Ваня Русаков, старый друг отца, не поднял его на плечи. Тогда разглядел Сережа подходящий к берегу большой бокастый корабль с рыжими потеками ржавчины и какими-то странными сараями на палубе. Уродливый пузатый корабль тогда ему не понравился, тем сильнее он удивился, когда полгода спустя вновь увидел этот эсминец и невольно залюбовался стройными его обводами, красивыми надстройками, за которыми притулились две высоких трубы. «Сталин» и «Войков» были из лучшей для своего времени дореволюционной серии «Новиков», и даже в конце тридцатых годов они сохранили свою внушительность.
Зато отец, одним из первых сбежавший по сходне на причал, восхитил Сережу бронзовым обветренным лицом, которое обрамляла светлая шотландская бородка, и рыжими собачьими унтами. «Ого, как ты вымахал, сынище!» воскликнул он, сильными руками подбросив сына над головой. И эта суровая отцовская ласка была для Сережи приятнее каждодневных маминых поцелуев.
Сергей и позже редко видел отца, тот без конца находился в море. Даже когда оставался спать дома, Сергей не был уверен, что увидит его утром, так часто вызывали отца на корабль в ночь — за полночь. Однажды, это было летом 1938 года, отец прибежал домой среди бела дня, пряча волнение, о чем-то пошептался с мамой, затем крепко обнял Сережу. «Ты уже большой, серьезно сказал он. — Будь помощником в доме».
А назавтра Сергей узнал, что японцы перешли нашу границу возле озера Хасан. И хотя бои шли на суше, он чувствовал: там не обошлось без его отца, и гордость распирала его детскую душу. Впоследствии оказалось, что так оно и было: сторожевик отца несколько раз проводил конвои транспортных судов с войсками и боеприпасами в залив Посьет, а обратно вывозил на Большую землю раненых бойцов. За умелые действия отца наградили тогда орденом Красного Знамени.
Осенью тридцать девятого уложили чемоданы и отправились обратным путем — из Владивостока в Ленинград, где отцу предстояла учеба на Высших командирских курсах ВМФ. Жилье получили в общежитии — бывшей фабричной казарме с громадным коридором, ребятишки лихо раскатывали по нему на трехколесных велосипедах.
Время наступило чудесное: отец после занятий каждый вечер проводил с семьей, часто они все трое гуляли по улицам легендарного города, который заезжие туристы величали Северной Пальмирой, продавались даже папиросы с такой маркой. Отец же называл город ласково — Питером. Рассказывал о том далеком времени, когда молодым парнем протирал подметки на плацу Кронштадтского флотского экипажа, здесь же примкнул к большевикам, но штурмовать Зимний дворец ему не довелось, весной 1917 года его с маршевой ротой послали на Сибирскую флотилию.
Накрепко врезались в память Сергею слова отца, когда стояли они на Дворцовой площади перед мрачноватой громадой здания с лепными фигурами на карнизах. «Отсюда начался отсчет новейшей истории мира, — задумчиво произнес отец. — Двадцать два года прошло, а кажется, все было только вчера…»
Слушая отца, Сергей не осознавал тогда еще всей быстротечности времени: все, что было до его рождения, казалось далекой стариной; не верилось, что отца водили на молитву во здравие царя и отечества, а после отец партизанил вместе с тем самым Сергеем Лазо, памятник которому стоит во Владивостокском сквере. Он закрыл глаза, представил, как бросают в огонь живого человека, и содрогнулся от ужаса. Ведь и отца могли сжечь в топке паровоза японцы вместе с Лазо и его боевыми товарищами…
Запомнилось Сергею, как прилаживали на окна общежития черные занавески, а малышня выбегала на улицу смотреть — не пробрезживают ли лучики света через плотную материю. Где-то неподалеку, в лесах Карельского перешейка, гремели бои с белофиннами, на этот раз без участия отца, хотя он вместе со всеми слушателями курсов просился на действующий флот. Но им велено было продолжать учебу.
За ту зиму несколько раз город будоражили сигналы воздушной тревоги, семьи командиров торопились в просторный сырой подвал соседнего дома, который ненадолго становился шумным цыганским табором. Тревоги оказывались невзаправдашними, вызывали веселое оживление, особенно среди мальчишеской братии. Но и взрослые не знали тогда, какие страшные, суровые испытания ждут Ленинград всего через два года…
Ну а в мартовский день пришла пьянящая радость победы, пока без салютных фейерверков. В этот день Сергею довелось впервые в жизни увидеть настоящего Героя Советского Союза. В гости к ним пришел старый знакомый отца, капитан третьего ранга Федор Григорьевич Вершинин, прославленный балтийский подводник. Как зачарованный глядел Сережа на Золотую Звезду и орден Ленина и удивлялся тому, какой обыкновенный, веселый и добрый человек дядя Федя.
Спустя много лет курсанту Урманову довелось изучать на лекциях по военно-морскому искусству вершининские артиллерийские удары по вражеским транспортам, которые в Великую Отечественную успешно повторил североморец Магомед Гаджиев. Опыт малой войны очень пригодился, когда разгорелась мировая.
В июле сорокового отец закончил курсы и получил назначение в Севастополь. Самым большим сюрпризом для Сергея оказалось то, что в одном доме, этажом ниже, жили Русаковы, их отца тоже перевели на Черноморский флот. Во Владивостоке Сергей не шибко ладил с Павлушкой Русаковым, тот дразнил его малявкой, теперь же они стали закадычными дружками. Вместе проводили остаток лета на пляже Приморского бульвара, азартно удили бычков с дощатого причала Артиллерийской бухты, а по вечерам забирали из детского сада младшую сестренку Павла Танюшку. Встречные улыбались, смотря на голоногую троицу, на беленькую, легкую, как одуванчик, девочку с большим розовым бантом на макушке.
В апреле сорок первого года Сергея принимали в пионеры. На торжественный сбор в школу пришли шефы — курсанты училища береговой артиллерии. Сергею повязал галстук Андрей Русаков, старший брат Павлушки, кумир всех мальчишек. Строгий, затянутый в морскую форму курсант был лучшим форвардом училищной футбольной команды — чемпиона флота. В дни ответственных матчей Андрей приносил целую горсть розовых служебных пропусков на стадион и щедро раздавал их пацанве. Пусть приходилось сидеть прямо на беговой дорожке за воротами, зато они видели, как их кумир с ходу впаивал мяч под верхнюю штангу.
И еще одна радость согрела в ту весну Сережкину душу — он получил путевку на вторую смену в знаменитый пионерский лагерь «Артек». С яростным нетерпением ждал он заветное 8 июля, не зная, не ведая, что не только его жизнь, но и судьбы всего народа перевернет роковой день 22 июня 1941 года…
Весь июнь отца не было дома, шли флотские учения. Да и город словно обезлюдел, непривычно было видеть вечерами его улицы без голубых матросских воротничков и белых командирских кителей. Лишь в пятницу двадцатого числа корабли возвратились в базу.
Отец же вырвался со службы только в субботу: у начальника штаба дивизиона дел всегда невпроворот. Но этим же вечером за ним прислали вестового. Сергей еще не успел заснуть и слышал, как тревожно заверещал электрический звонок, как отец перебросился несколькими фразами с пришедшим, потом мигом собрался и вышел, осторожно притворив за собой дверь. Во всем этом не было ничего необычного, потому вскоре Сергей уже сладко посапывал носом.
Разбудил его сильный взрыв, от которого вздрогнули стены дома и жалобно зазвенели стекла. Затем со стороны бухты донеслись частые резкие хлопки. «Пушки стреляют», — догадался Сергей, вскакивая с постели и натягивая штаны. Метнулся было к выходу, но его остановил строгий окрик матери: «Куда ты? Ночь еще!» — «Мама, я только с балкона посмотрю! взмолился он. — Интересно же!» В его мальчишеской голове не было даже мысли о том, что стреляют неспроста.
Через полчаса все жильцы дома были на ногах. Наспех одетые женщины высыпали во двор и подступили с расспросами к двум старикам, бывшим краснофлотцам: «Что случилось? Почему стреляли?» Те лишь недоуменно пожимали плечами.
Первые новости принесли вездесущие мальчишки, успевшие побывать на Приморском бульваре: «Немцы налетели! Бомбу сбросили на Примбуль! На Северной стороне парашютистов ищут!»
«Значит, война», — крякнул надсадно один из стариков, и во дворе стало тихо, словно внесли покойника. Потом послышались всхлипы, сморкания, пожилая женщина, не выдержав, истошно заголосила: «Не увижу я тебя больше, сыночек мой Петенька!» Сын ее служил на западной границе.
Позже, в училище, Сергей узнал, что самый первый доклад о нападении фашистской Германии на СССР поступил в Москву из Севастополя: командующий Черноморским флотом вице-адмирал Октябрьский сразу же сообщил об этом по прямому проводу высшему командованию и правительству. И сбрасывали фашистские самолеты не бомбы, а магнитные морские мины, которыми пытались заблокировать выход из бухты, чтобы затем разбомбить корабли возле причалов. Но подлый этот замысел черноморцы сорвали, корабельные пушки и береговые зенитные батареи дружно открыли огонь, не дали прицельно выставить мины и сбили один самолет.
В конце июля началась эвакуация гражданского населения. Уехали в Сибирь Татьяна Трофимовна Русакова с Павлом и Танюшкой, эвакуировались многие другие соседи. Сергей очень боялся, что скоро наступит их с матерью очередь. Но все обернулось совсем не так, как он предполагал.
Однажды отец, забежавший домой на минутку, позвал его в гостиную для серьезного разговора.
«Дело складывается так, сын, — сказал он, — что тебе придется временно пожить у тети Сони в Кургане…»
«А мама?» — по-щенячьи пискнул Сергей.
«Мама — врач. Она нужна здесь». — Отец посмотрел ему в глаза, а мать, молча сидевшая рядом, виновато потупилась.
«Тогда и я с вами!» — решительно заявил Сергей.
«Твое дело учиться, — строго отчеканил отец. — Мама тебя соберет, послезавтра выедешь, я нашел тебе попутчиков».
Маленький городок Курган, где вскоре оказался Сергей, находился за полторы тысячи верст от фронта, но и в нем чувствовалось зловещее дыхание войны. Почтальоны с виноватым видом разносили похоронки, в январе сорок второго года один из них принес горе в квартиру Урмановых. Сверстники Сергея теряли отцов, а он остался без матери. Хотя грех ему было обижаться на тетку, Софью Ниловну, которая относилась к нему словно к родному сыну. Горько плакала, провожая его в сорок четвертом на Кавказ, в Тбилисское нахимовское училище.
С отцом он увиделся в победном сорок пятом, когда тот приехал навестить сына.
Гордо ходил Сергей по улицам Тбилиси рядом с увешанным наградами капитаном второго ранга, самым близким в мире человеком. Не знал он тогда, что не меньше гордился и отец, шагая бок о бок с угловатым и нескладным нахимовцем.
Двое товарищей, окончившие нахимовское так же, как и он, с отличием, выбрали старинную кузницу морских кадров — училище имени Фрунзе в Ленинграде, он же подал заявление в Черноморское высшее военно-морское имени Павла Степановича Нахимова, чтобы жить рядом с отцом, который командовал подразделением кораблей.
— Где же вы, Сережа? — вернул его к действительности встревоженный голос Миронова. — Мы уже забеспокоились, не подвернули ли вы ногу, случаем. Остальные возле леска поджидают, а я вот решил вернуться…
— Спасибо, Мирон Алексеевич, со мной все в порядке. Просто задумался немного.
Глава 17
К рейду порта Гавана «Новокуйбышевск» подходил в полдень.
Ярко светило большущее оранжевое солнце, и под его лучами гребни мелких волн искрились и сверкали, словно обсыпанные слюдяными блестками.
Татьяна стояла на крыле мостика и, вытянув шею, смотрела в бинокль на поднимающуюся из воды первую в своей жизни заграницу. Возле нее опирался на поручень добровольный гид Ян Томп.
— Что это, памятник — высокая граненая стрела? — спросила Татьяна.
— Видимо, обелиск Хосе Марти, апостола революционной борьбы кубинского народа, — ответил Ян, у которого бинокля не было.
— А небоскреб с башенкой на крыше?
— Наверно, отель «Хабана Либре» — «Свободная Гавана».
— А что за статуя в стороне на высоком берегу?
— Благословляющий Христос. Его воздвиг последний диктатор Батиста, но господь не благословил его диктатуру, — усмехнулся Ян.
— А какие-то бастионы напротив, похожие на Севастопольские равелины?
— Это старинная испанская крепость Эль-Морро, осколок средневековой «империи незаходящего солнца» короля Филиппа.
— Взгляните, Ян, какой знакомый купол! Мне кажется, я его уже где-то видела, — сказала Татьяна, протягивая бинокль.
— Ну это уже век нынешний, — сказал Томп, посмотрев в указанную сторону. — Точная копия американского Капитолия. Янки построили ее на чужой земле, чтобы чувствовать себя как дома. Теперь это музей Национальной академии наук.
Загромыхала якорная цепь, судно разок-другой дернулось и остановилось, медленно уваливаясь кормой под ветер.
— Тэн тайм! — озорно подмигнув им, крикнул мелькнувший на мостике Рудяков. — Команде снимать штаны и жариться на солнце!
— Что он сказал? — не поняла секонда Татьяна.
— Он говорит, что мы встали в очередь к причалу, а пока будем загорать здесь, на рейде.
— И долго?
— Трудно сказать, — наморщил нос Ян. — Смотря сколько судов стоят сейчас под разгрузкой. У кубинских товарищей свой взгляд на некоторые проблемы. Они не спешат механизировать погрузочно-разгрузочные работы, чтобы занять побольше людей, дать им, как говорится, кусок хлеба. Революция у них молодая, проходит через болезни роста…
Часов в шестнадцать небо стали обкладывать невесть откуда взявшиеся грязно-серые облака, а чуть погодя хлынул тропический ливень. Он хлестал всего несколько минут, но успел остудить раскалившиеся на солнце судовые надстройки. Так же неожиданно, как и появились, облака растворились, и небо вновь засияло голубизной, по нему величаво катилось к волнам приостывшее солнце.
После ужина собрались на общесудовое совещание. В просторной столовой было прохладно, кондиционер трудился исправно. Ему помогали два больших вентилятора, закрепленные на подволоке, нагнетавшие в помещении легонький приятный ветерок.
— Поздравляю вас, товарищи, с благополучным прибытием, — сказал капитан Сорокин. — За кормой почти шесть тысяч миль, три недели плавания через Атлантику. Каковы же итоги? С погодой, надо сказать, повезло, она нас баловала. Механизмы работали надежно, груз доставлен в сохранности, все мы, — капитан сделал паузу и глянул на сидевшую во втором ряду Татьяну, — все мы живы-здоровы. Осталась разгрузка-погрузка — и айда дальше!
После капитана выступил помполит Воротынцев и подвел итоги соревнования за первый отрезок рейса. Под бурные аплодисменты «маслопупов» и шики недовольных вымпел победителя вручили второму механику Яну Томпу.
— У меня есть предложение, товарищи! — утихомирив аудиторию поднятой вверх рукой, сказал Томп. — Давайте передадим все наше сэкономленное топливо кубинцам! В порядке социалистической взаимопомощи!
— Было бы чего «перетавать купинсам», — передразнил его кто-то. — Это же капля в море.
— Для них каждая капля — капитал! У них экономическая блокада, покосился на крикуна Томп.
Первый помощник растерянно смотрел на капитана. Тот неторопливо поднялся из-за накрытого красным сукном стола.
— А ведь мысль очень правильная, — сказал Сорокин. — Когда-то и у нас каждый вагон угля, каждая тонна нефти были на вес золота. Думаю, в пароходстве нас поддержат…
После собрания в коридоре капитан тронул Татьяну за локоть.
— Ну что, доктор, к санитарной инспекции готовы?
— Вы же сами говорили: в экипаже все живы-здоровы, — улыбнулась она. — Только вот долго ли без дела простоим? Кто-нибудь может и расхвораться со скуки.
— Ничего, доктор, ваш капитан, чай, не первый год торчит на мостике. Утром спущу катер и пойду к портовым властям улаживать наши дела. Яна Томпа возьму с собой, у него здесь немало знакомых.
Назавтра возле борта затарахтел движок катера, по трапу в него спустились одетые в форменные рубашки с погонами капитан и второй механик.
— Привезу вам гостинец, доктор! — махнув Татьяне рукой, пообещал Ян.
Возвратились они на судно перед ужином, оба слегка навеселе, в руках у Томпа белел объемистый бумажный сверток.
Вскоре механик постучался в дверь лазарета.
— Презент специально для вас, — сказал он, кладя на стол два больших кокосовых ореха.
— Спасибо, Ян, — зарделась Татьяна. — Я даже не представляю, что с ними делать.
— Расколоть и выпить сок или натирать им лицо перед сном, говорят, кокосовый сок хорошо освежает кожу.
— А вы сами пробовали? — улыбнулась она.
— Мою дубленую шкуру уже ничто не размягчит, — рассмеялся Томп, потом, спохватясь, вынул из кармана два письма: — Это вам еще один подарок.
Татьяна схватила конверты и умоляюще глянула ему в лицо. Поняв, Ян торопливо вышел.
Отец писал, что Димка вернулся из Куйбышева повзрослевшим и окрепшим, теперь гарцует во дворе с московскими приятелями. На свадьбу племянника Игорехи отца приглашали, только приболел он в ту пору, оттого и не поехал. Невеста работает на заводе вместе с Павлом…
Другое письмо было от Ильи, послано оно было гораздо раньше отцовского. «Ты очень правильно поступила, что ушла в загранплаванье, писал бывший муж. — У тебя теперь есть возможность подумать обо всем, что произошло, и понять, что примирение — единственный путь к счастью нашего сына…»
Татьяна прочла письмо до конца лишь потому, что в конце листочка синели крупные Димкины каракули: «Мне у папы хорошо. Мамочка, я тебя очень-преочень люблю!» В порыве нежности она осыпала сыновние каракули поцелуями.
Спустя неделю «Новокуйбышевск» ошвартовался к одному из причалов порта, и на его палубе появились веселые кудрявые мулаты. Началась неторопливая разгрузка.
Стивидор, молодой парень в зеленой, выцветшей на плечах от пота гимнастерке, которого все называли по имени — Армандо, прилично владел русским:
— Коммерческий техникум, Ленинград, — любезно объяснил он Татьяне. Корабельный врач его явно заинтересовала, он часто стал попадаться Татьяне навстречу. — Если вам покрасить волосы, вы станете настоящей испанкой, польстил ей Армандо.
— Мне больше нравится быть русской, — улыбнулась Татьяна.
— Среди русских женщин тоже много настоящих красавиц! — показал ей все тридцать два перламутровых зуба стивидор.
Татьяна отметила, что почти все кубинцы большие любители поговорить. Стоило обратиться к любому из них, как он прекращал работу и охотно вступал в беседу. Исправно помогал общению докеров с экипажем «Новокуйбышевска» дождь, который ежедневно во второй половине дня прогонял всех с палубы.
Кубинцы собирались в судовой столовой, откуда-то появлялась видавшая виды гитара, ее сообща настраивали, и молодой гортанный голос заводил:
Беса ми, беса ми мучо,
Комо си фуэро еста ноче ла ультима бес…
Песню подхватывали остальные, притопывая в такт, в столовой затевался маленький концерт художественной самодеятельности.
Но ливень быстро прекращался, жаркое солнце выпаривало натекшие лужи, и смуглолицые докеры неохотно принимались за работу.
Где бы ни находился человек, мыслями он всегда дома, потому такими родными показались Татьяне серые воробьи, порхающие на кран-балках, захотелось подержать на ладони одну из шустрых пичуг. Только позже, приглядевшись внимательно, она установила, что у здешних воробьев более длинные хвосты.
Следующим утром на причал выкатился обшарпанный зеленый «форд» и огласил округу длинным веселым «бип-бип».
— А это — третий презент, — сказал Татьяне Ян Томп. — Мой добрый приятель компанейро Хименес Риверо покажет вам Гавану.
— Что ж вы меня не предупредили, Ян! — засуетилась Татьяна. — Я же не одета как следует…
— Здесь не приняты шикарные туалеты, этот сарафан вам очень к лицу.
Все же она спустилась в каюту, переменила сарафан на яркое ситцевое платье.
— Естой контента де верли, сеньора! — приветствовал ее худощавый кубинец, открывая дверцу машины.
— Хименес говорит, что рад вас видеть, — перевел Ян и представил спутницу.
— О, Татиана! — сверкнул жемчугом зубов Хименес. — Бьена имья!
— Компанейро Риверо демонстрирует свои познания в русском языке, похлопал его по плечу Ян. — Я пробовал его учить, но полиглот из него не вышел.
— Муи бьен, ир аль фондо![1]Все хорошо, идем ко дну! (исп.). — дружески ткнул Яна кулаком в бок Хименес.
«Форд» прыжком рванул с места, и, маневрируя между контейнерами и терриконами из ящиков и клетей, покатил к воротам порта. Стоящий возле них солдат с полуоткрытой кобурой на боку взял под козырек зеленого картуза.
Хименес Риверо был отличным водителем. Ловко объезжал сгрудившиеся возле обочин автомашины, в то же время поддерживал разговор, поминутно оборачиваясь к сидящим сзади. Ян Томп едва успевал переводить его эмоциональные тирады.
— Хименес рассказывает, что он — комбатиенте, воевал в Сьерра-Маэстра. Пришел в горы восемнадцатилетним пареньком, а вернулся в Гавану «барбудос» — бородачом. Потом побрился, чтобы девушкам не казаться старым. После победы многие его товарищи помолодели. Один Фидель остался бородатым, как Карл Маркс. Вожди нации не подвластны возрасту…
Татьяна слушала, кивала и украдкой поглядывала за окошко на аккуратные белые коттеджи, на высокие современные дома из стекла и бетона, возле которых как призраки притаились развалины старинных крепостных построек. Народу на улицах в этот утренний час было немного, и в одежде прохожих преобладал зеленый, или, как говорят у нас, защитный цвет. Даже молодые женщины шли в гимнастерках и юбках. Исключение составляли девушки-регулировщицы на перекрестках, одетые в пестрые форменные платья.
— Хименес жалеет, что мы немного опоздали, — продолжал добросовестно перетолмачивать Ян Томп. — Надо было приходить к 26 июля, к их национальному празднику. Мы бы увидели настоящий кубинский карнавал. Много музыки, много песен, много танцев. Днем и ночью гудит вся Гавана…
— Праздники — это хорошо. В праздники душа отдыхает, — почему-то вздохнула Татьяна.
— Праздники можно делать самим! — весело глянул на нее Ян. — Знаете, как говорят в сельдяном флоте: «Эхма, была бы денег тьма, будет и месяц праздников!»
Хименес Риверо сидел вполоборота, пытаясь уловить смысл сказанного ими, потом снова подал голос.
— Хименес говорит, что для кубинцев 26 июля 1953 года было тем же, что для нас 1905 год. А казарма Монкада в Сантьяго-де-Куба как наш Зимний дворец.
— Рихуэсел революшн, — вдруг повторил Хименес по-английски.
— Да, да, я поняла — репетиция революции, — откликнулась Татьяна.
— Компанейро Риверо прилично знает английский, — шепнул ей на ухо Томп. — Но сейчас этот язык здесь не в моде.
— Сеньора Татиана мугера касада? — вновь обернулся к ним водитель.
— Си, — ответил Ян и пояснил: — Спрашивает, замужняя вы или нет. Я ответил, что да.
Хименес громко прищелкнул языком и что-то произнес сквозь смех.
— Говорит, что ваш муж увел его невесту.
— Еще неизвестно, кому повезло, — усмехнулась Татьяна.
Риверо снова стал увлеченно рассказывать о доброй традиции, которая появилась недавно: первому младенцу, родившемуся 26 июля, дается имя одного из героев штурма Монкады. Конечно, родители мальчика хотят назвать его Фиделем, но нынче родилась девочка и получила имя Айде. Так зовут одну из женщин, участниц штурма. Теперь крестная мать малышки, Айде Сантамария, работает директором Дома Америк.
«Форд» между тем выкатил на широкую набережную, вдоль которой тянулись роскошные особняки, разительно отличающиеся один от другого.
— Набережная Малекон, — переводил Томп слова их веселого гида, — была самым аристократическим районом Гаваны. Здесь жили приспешники Батисты, американские толстосумы. Каждый строил дом на свой вкус и лад. Потому и похожи дома на своих хозяев. Правда, теперь сравнивать не с кем — все они драпанули во Флориду. Посмотрите вон там, впереди слева, дом с черными балконами, похожими на гробы. У его хозяина умер единственный сын, наследник капитала, и он захотел, чтобы весь мир знал о его трауре. Почему весь мир? Да потому, что на Кубу съезжались тогда богатеи со всего света! После победы революции в этот дом никто не захотел селиться…
Татьяна смотрела в окошко кабины на смуглых мулаток, на кивающие океанскому бризу махровые пальмы и думала о том, как далеко занесла ее судьба от Москвы. И все-таки она не чувствовала себя на чужбине. Хотя бы потому, что в порту, кроме «Новокуйбышевска», стояло еще одиннадцать советских судов, а на причалах разгружались наши тракторы, бульдозеры и самосвалы. И оттого еще, что живут на маленьком острове Свободы люди с большими добрыми сердцами, такие, как компанейро Хименес, как стивидор Армандо, как героиня революции Айде Сантамария и крошечная девчушка Айде, за будущее счастье которой отдали жизни тысячи кубинцев.
«Форд» затормозил возле стеклянного киоска. Риверо выпрыгнул из машины, сунул голову в защищенную козырьком амбразуру киоскера. Быстро вернулся и протянул Татьяне на ладони несколько маленьких значков. Один из них очень ее заинтересовал. На зеленом геральдическом щите стоял на хвосте крокодил с автоматом в передних лапах.
— Спросите, Ян, что это обозначает, — обратилась она к соседу, держа за иголку пятиугольный сувенир.
— Хименес говорит — это память о Плайя-Хирон. Когда в апреле 1961 года банды предателей-гусанос сунулись на Кубу, то они не только высаживались на берег с кораблей. Американские самолеты сбросили парашютистов. Часть из них угодила в крокодилье болото, и зубастые хозяева расправились с незваными гостями. Даже крокодилы встали на защиту революции! За трое суток наемники были наголову разбиты отрядами кубинских войск и народной милиции.
Вот оно что… Татьяна вертела в пальцах маленький эмалевый значок и вспоминала тревожные весенние дни пятилетней давности. Тогда на устах у всех был маленький остров в далеком Карибском море. Татьяна волновалась за старшего брата Андрея, который с отрядом советских военных кораблей находился в Средиземном море. Понимала, что наша страна не может оставить в беде кубинцев. Так оно и было. Хотя корабли не пошли через океан, но гнев народов и мудрая политика Советского правительства удержали американцев от расширения агрессии.
— Хименес был на Плайя-Хирон? — спросила Татьяна.
— Нет, он был тогда в Гаване. Рассказывает, что все ее жители высыпали на улицы с охотничьими ружьями, мачете и даже с кухонными ножами и кричали: «Американцы, попробуйте сунуться!»
— Куда же мы едем? — спросила Татьяна у Томпа, когда «форд» миновал окраины города.
— В Финха-ла-Вихия. Там усадьба-музей Эрнеста Хемингуэя, единственного янки, которого чтят на Кубе.
Хименес Риверо, услышавший знакомые слова, снова увлеченно заговорил, жестикулируя свободной правой рукой, руль он держал одной левой.
— Он рассказывает, что дон Эрнесто — так они величают Хемингуэя называл Кубу второй родиной. Он хорошо понимал свободолюбивый кубинский народ.
Впереди показался населенный пункт, очень похожий издали на старое украинское село: приземистые белые хатки, утопающие в зелени, только вместо верб в палисадниках голенастые пальмы.
— Кохимар, — пояснил Томп. — Теперь небольшое курортное местечко. Во времена Эрнеста Хемингуэя это была рыбацкая деревенька. Как раз в ней жил старик, который отправился в море за своей огромной рыбой и привез писателю звание Нобелевского лауреата. Почти каждого жителя Кохимара Хемингуэй знал по имени…
Машина затормозила перед высокой белой ротондой. Хименес вынырнул из кабины первым и открыл дверцу перед Татьяной. За колоннами она увидела высокий каменный постамент, а на ней бронзовый бюст писателя.
Хименес вынул из кабины несколько цветков, положил их возле косо срезанного плеча писателя и стал что-то взволнованно говорить, обращаясь к Татьяне.
— Компанейро Хименес рассказывает, что памятник поставили рыбаки Кохимара на свои трудовые гроши. Пустили шапку по кругу — и собрали необходимые средства. Недавно здесь была Мери Хемингуэй, вдова писателя, она со слезами на глазах благодарила жителей Кохимара за добрую память о ее муже…
Снова сели в машину, Хименес Риверо включил скорость, и через несколько минут «форд» вырулил на стоянку возле усадьбы-музея.
— Вы меня простите великодушно, — сказал Татьяне Ян Томп, когда они ехали обратно в Гавану. — Может, вам было неинтересно, может, зря я потащил вас в Финха-ла-Вихия? Но лично меня волнует судьба двух зарубежных писателей — романтических бродяг Эрнеста Хемингуэя и француза Антуана Сент-Экзюпери. Я нахожу у них родство душ, явное сходство судеб, хотя писали они по-разному и о разном…
— Напрасно вы извиняетесь, Ян! — перебила его Татьяна. — Я вам очень благодарна за эту поездку. И вообще вы у меня, как добрый джинн из сказки, — ласково взглянула она на Томпа.
— Глоток доброго джина пьянит, — грустно усмехнулся Томп, — а вы на меня смотрите совсем тресвыми гласами…
Она спрятала улыбку и действительно «тресвыми гласами» посмотрела на соседа. «Наверно, — подумала она, — не в одной Эстонии сохнут девушки по белокурому великану, который в прямом смысле носил бы свою жену на руках. Завидно, только сердцу нельзя приказать».
Потом она неожиданно задремала. Заметив это, спутники замолкли, компанейро Хименес перестал оборачиваться к заднему сиденью. А Татьяна склонилась к могучему плечу Яна, ей слышалась рокочущая музыка Баха, грезился в зеленом пламени деревьев высокий домик с башней и балкончиком, который вороньим гнездом прилепился на углу, домик такой же причудливый и странный, как фантазия его хозяина — великого духом писателя и слабого, мнительного человека.
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления